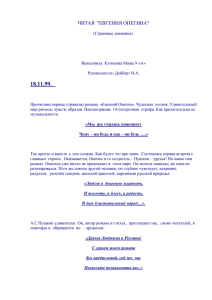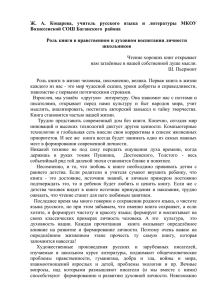А.С. ПУШКИНА «Евгений Онегин
advertisement
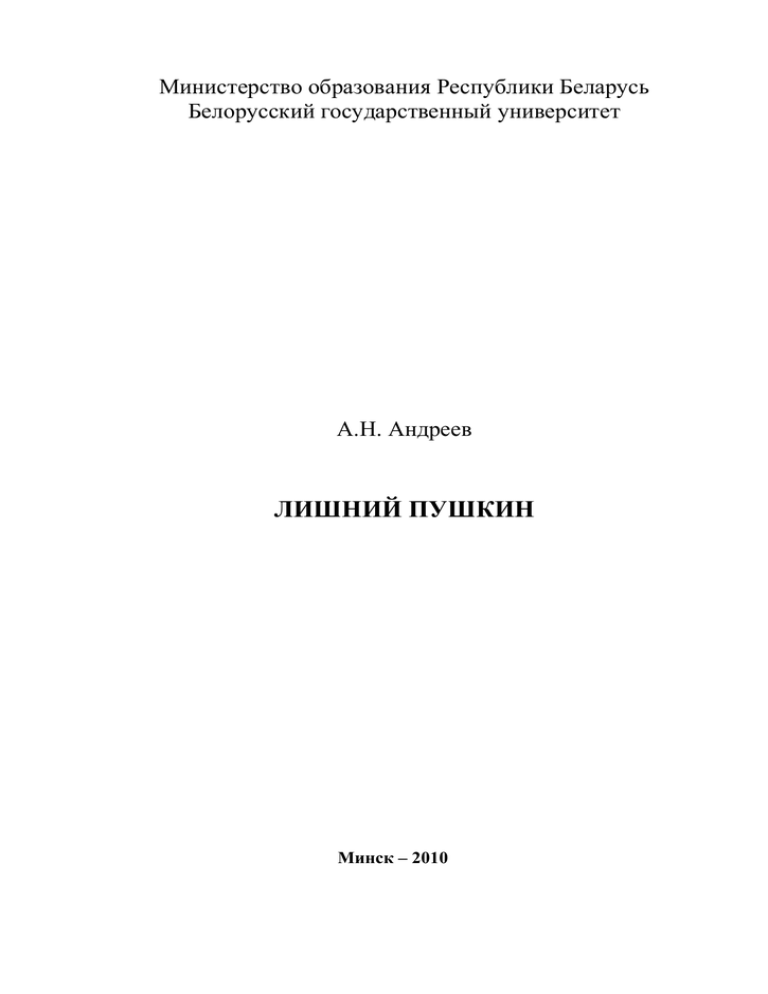
Министерство образования Республики Беларусь Белорусский государственный университет А.Н. Андреев ЛИШНИЙ ПУШКИН Минск – 2010 2 СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ................................................................................................................ 2 ПРЕДИСЛОВИЕ............................................................................................................... 3 1. КУЛЬТУРНЫЙ АРХЕТИП ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА (роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин») .......................................................................................... 7 2. «ЖЕНСКОЕ» КАК СТРУКТУРА ПЕРСОНАЖА В ЛИТЕРАТУРЕ (на материале романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин») ................................ 51 3. ЧИТАТЕЛЬ КАК ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ (на материале романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин») .................................................. 57 4. ШУТЛИВЫЙ ДИСКУРС КАК ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН (на материале романа в стихах «Евгений Онегин») .............................. 65 5. КОНЦЕПЦИЯ СУДЬБЫ В РОМАНЕ А.С. ПУШКИНА «Евгений Онегин» ...... 80 6. ФИЛОСОФСКАЯ СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА ................. 100 7. ВОСПРИЯТИЕ ТЕКСТА КАК ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕННОСТНЫХ ПАРАДИГМ (о том, как пророк Достоевский интерпретировал пророка Пушкина) ....................................................................................................................... 106 8. НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ ПИКОВОЙ ДАМЫ .......................................... 113 9. «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» А.С. ПУШКИНА: МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ . 121 10. УМНЫЕ ЧУВСТВА. Поэзия А. Пушкина и А. Рембо: опыт сопоставления .. 134 11. ЗАКОН КРАСОТЫ, или ДИАЛЕКТИКА ГЕНИЯ И ЗЛОДЕЙСТВА .............. 146 3 ПРЕДИСЛОВИЕ Содержание книги «Лишний Пушкин», на первый взгляд, имеет отношение к великому роману в стихах А.С. Пушкина, его стихам и пьесам, и не имеет отношения к философии литературы. На самом деле содержание пушкинских шедевров можно постичь только сквозь призму серьезной теории: в этом заключен эвристическо-методический потенциал книги. Все одиннадцать глав книги, обладая известной автономностью, вместе с тем образуют целостность. В попытке постичь духовно-эстетическую целостность произведения (любого, не только «Евгения Онегина»), целостность творчества гения (любого, не только Александра Пушкина) посредством литературоведческих категорий и заключена сверхзадача книги «Лишний Пушкин». Почему – «лишний»? Дело в том, что феномен Пушкина поражает прежде всего своей многогранностью, своей содержательностью и при этом уникальной выразительностью; даже на фоне немалых и, прямо скажем, также феноменальных достижений русской словесности «Пушкин», то есть творчество А.С. Пушкина, занимает совершенно особое место. Пушкин производит впечатление избыточно гениального, немыслимо гениального – словно бы «лишнего» творца, намного-намного опередившего не только свое время, но даже эпоху, обреченно-пророчески залетевшего из «культуры» в «цивилизацию» (употребляем эти термины как характеристику информационного развития человечества). Как некий херувим, Он несколько занес нам песен райских, Чтоб, возмутив бескрылое желанье В нас, чадах праха, после улететь! Вот почему «лишний Пушкин» как нельзя более подходит для серьезного разговора о литературе. Собственно, сами понятия «литература», «гносеологический потенциал художественности», «художественное совершенство», «гений», «жизнетворчество», «персоноцентризм» и формируются благодаря таким феноменам, как «лишний Пушкин». Мы говорим Пушкин – подразумеваем литература. Лишним, увы, Пушкин является сегодня еще и потому, что калибр существующих литературоведческих методологий фатально не соответствует масштабу его творчества. О Пушкине как-то не получается серьезного культурологического разговора; карикатурные панегирики типа «Пушкин – это наше все» только затемняют суть дела. Такому феномену, как Пушкин, нужны не комплименты и бездумное преклонение, выступающие знаками некой вежливой культурной капитуляции, а – понимание. Квалификация пушкиниста, если на то пошло, должна включать в себя не только непременное умение «по-французски изъясняться и писать», но, прежде всего, должна предполагать владение определенным уровнем философского 4 мышления. Именно в этом видится достоинство пушкиниста, а не в знании его «текстов», а также текстов по поводу его «текстов», а также текстов по поводу текстов, которые по поводу его «текстов». Надо стараться возвыситься до понимания его творений и воззрений, а не повально падать к стопам. Именно осмысление, философия Пушкина должны стать лучшим памятником его творчеству, да и вообще его многогранной фигуре. Художественные памятники, навеянные «художествами» Пушкина, – это как раз вполне в духе не склонной к мысли цивилизации; а вот адекватная культурологическая концепция – это совсем иное, это запредельный по нынешним временам культурный уровень. Разумный культ Пушкина возвеличивает и автора «Евгения Онегина», и пушкинистов; сотворение из Пушкина кумира унижает исследователей и превращает пушкиноведение в балаган. Кстати сказать, оборотной стороной бессознательной «кумиризации», сакрализации Пушкина выступает столь же бессознательная десакрализация его имени и наследия. Всевозможные прогулки с Пушкиным (и все под ручку, под ручку), разного рода амикашонство, шалости-игривости от его имении, дурного тона похождения «в духе гения» и с его именем на устах – это, в лучшем случае, способ избавиться от наваждения, имя которому Пушкин. Разумная цель-то ведь иная: посредством Пушкина познать себя. Коротко говоря, цивилизационный подход к Пушкину должен смениться подходом культурным. Вот почему Пушкин актуален прежде всего как «лишний Пушкин», как духовно-эстетическое, философско-художественное явление. Почему – Пушкин? Пушкин – это как раз не «под ручку», здесь в принципе нет ни коронации, ни фамильярности; Пушкин – это больше, чем Александр Сергеевич Пушкин, ибо Пушкин – это феномен жизни и творчества Александра Пушкина, гения русского и всемирного. Пушкин в таком своем качестве, если угодно, превращается в имя нарицательное. Разговор о Пушкине – это ответственно и сложно. Именно поэтому разговор о «лишнем Пушкине» необходим, и прежде всего в формате научном, а не «прогулочном». Вся загадка Пушкина заключается в его чуткости к персоноцентризму. Он выбирал сюжеты и коллизии, где градус персоноцентрической валентности был заметно выше того градуса, в котором жила эпохи. Не сюжеты сами по себе волнуют у Пушкина, а его обостренное отношение к проблемам личности. Возьмите всю хрестоматийную лирику, возьмите поэмы, возьмите «Маленькие трагедии», возьмите прозу, возьмите, наконец, «Евгения Онегина», – возьмите все это и уберите оттуда личность. И что же? И Пушкина не станет. Пушкин потому шире своей эпохи, что он умел говорить на языке вечности – на языке персоноцентрической культуры. 5 И больше нигде не ищите золота. Вся художественная гениальность Пушкина вырастает из аристократического интереса к собственной персоне. Из этих четырех слов ключевыми являются все. Уберите определение аристократический – и эгоистический интерес к себе обернется пошлостью; замените слово интерес на любое другое менее (или слишком) здоровое отношение – и вы столкнетесь со случаем классической патологии; абсолютизируйте понятие собственной – и вновь получите самый избитый сюжет в мировой культуре; уберите персону – и все предыдущие слова превращаются в пустую погремушку. Аристократический интерес – это гарантия того, что интерес к себе становится интересом к личности в себе, к личности как таковой. Интерес к личности себе был естественной потребностью Пушкина – вот что кажется непостижимым сегодня, в эпоху демократии. Пушкин отважился на своего рода древнегреческий трюк – обнаружить божественное начало в себе, – повторенный во времена, когда интерес к личности властями не возбранялся в силу его отвлеченности, следовательно, политической невостребованности, а интерес к демосу, к маленькому человеку воспринимался не столько как форма сочувствия к бесправному крепостному («права и свободы» могли ведь и насторожить), сколько как способ проявления все той же личности (сочувствие по отношению к «неаристократическому бытию» – это весьма аристократический жест): относись к другому так, как ты хотел бы, чтобы он относился к тебе. Пушкин прожил культурную жизнь, жизнь личности – это заметно даже по невинной «Золотой рыбке». Вот почему русскими он воспринимается как небожитель, как культурная точка отсчета (и это замечательно), а иностранцами – как маловразумительная экзотика (и это печально). Загадка русскости Пушкина в том, что русского как воспевания туземного, как абсолютизации местного колорита в нем, по сути, и нет. Если понимать русскость как стремление ко «всечеловечности», к универсальному в человеке, к личности – тогда Пушкин и весьма даже русский. В таком случае следует говорить не о загадке русскости Пушкина, а о загадочном отношении западной ментальности к Пушкину, о равнодушии «культурного» сознания по отношению к одному из самых впечатляющих проявлений культурного начала. Почему мировая культурная элита не изволит замечать сына гармонии? Да потому что Пушкин является «лишним» по мировым меркам. Да, Пушкин совершил невозможное – но не о титанических усилиях гения следует говорить в первую очередь (это миф бездарей: моцартианское начало пришлось очень даже кстати, оно не отягощало, а скрашивало судьбу), а о том, что ему удалось прожить жизнь личности. Аристократу духа сложно уцелеть, это вид, вечно находящийся на грани исчезновения. Прожить и не нарваться на катастрофу, хоть какое-то время полноценно существовать – это из области чудес. Своей судьбой и творчеством ему 6 удалось воспроизвести архетип существования Христа: вот что будоражит сколько-нибудь развитое сознание в фигуре Пушкина. Мы говорим об архетипе восприятия колоссальной культурно значимой фигуры, но совершенно не о сути Христа. Тайную жизнь духа Пушкин делал явной, а его хвалят и хулят совершенно не за его заслуги и прегрешения. Аристократическое презрение к тайнам, столь любезным черни, тщатся сделать самой большой тайной поэта. Пушкина чтят, преклоняются перед ним – и не понимают его. Но никаких тайн нет. Есть факт: сотворение невозможного. Строго говоря, интерес к Пушкину – это интерес не к сакральному, а к культуре; равнодушие к Пушкину – равнодушие к культуре, вызывающее волну интереса к непостижимому. Вот почему общение с Пушкиным – это общение с личностью в себе. Никаким властям, конечно, такое общение не нравится: оно отнимает время и энергию, принадлежащие, с точки зрения сильных мира сего, политике и экономике. Никаким властям, конечно, не нравится Пушкин. И вряд ли когданибудь понравится. Они боятся его, ибо не понимают, поэтому прикрывают свой страх ледяным почтением (в форме бронзовых цитат не к месту), на корню убивающим всякий интерес к творчеству поэта. Да не тут-то было: из Пушкина, вольно или невольно, уже вылепили эфиопское чудо, курьез, мегазвезду. И теперь светская чернь, меньше всего на свете интересующаяся собственной персоной, хочет сделать из него «демократически мыслящего» союзника. Из Пушкина. Из аристократа. Презиравшего всякого рода чернь еще двести лет тому назад. «Бог помочь вам, друзья мои», - как выразился однажды поэт. Только напрасно все это. Сегодня надо разглядеть в Пушкине эталон, образец. Нечто недоступное черни, взыскующей чуда. Это и будет тот самый памятник нерукотворный (не путать с нерукотворным ликом). Автор 7 1. КУЛЬТУРНЫЙ АРХЕТИП ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА (роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин») Человек – велик. Человек – комичен. Человек – трагичен. Велик – благодаря разуму, который выделяет человека из природы и отделяет от нее. Человек становится венцом творящей природы, ибо только ему дано с помощью сознания познать её законы. Комичен – вследствие своей фатальной подвластности природе, реализующей своё царственное воздействие на человека с помощью психического, чувственно-эмоционального (внесознательного) управления, базирующегося на инстинктивных программах. Трагичен – потому что вынужден носить в себе создавшие его непримиримые начала: величие и комичность, вынужден примирять два разрывающих его полюса, несмотря на то, что не в силах сделать это. Человек – целостен: велик, комичен и трагичен одновременно. Но по-разному. Разница заключается в том, хватает ли у него величия (способности осознавать), чтобы разглядеть свою реальную силу и слабость, или он мистифицирует, комически искажает столь же реальную зависимость от «сверхъестественных» «сил зла». Видеть свою комическую изнанку, осознавать себя как часть природы – тоже один из признаков величия. Быть нерассуждающим рабом природы, смиренно подчиняться тобой же со страху выдуманным богам и смирение это лицемерно ставить себе же в заслугу – вот высшая степень комизма. Соответственно трагизм, духовное родовое пятно личности, также приобретает величественный или комический оттенок. Такова одна из современных версий о духовной сущности и структуре личности – версия, вобравшая в себя по крупицам всё наиболее жизнеспособное в духовном плане, создававшееся веками и поколениями лучших умов человечества. Думается, есть все основания считать Александра Сергеевича Пушкина одним из тех, кто чувствовал и понимал глубину и величие этой версии и сотворил один из самых её впечатляющих художественных вариантов. В 1827 году, размышляя о феномене художественного «сплава» и составляющих его компонентах (следовательно, в определённом смысле – о природе художественного творчества), Пушкин замечает: «Есть различная смелость: Державин написал: «орёл, на высоте паря,» когда счастие «тебе хребет свой с грозным смехом повернуло, ты видишь, видишь, как мечты сиянье вкруг тебя заснуло». Описание водопада: Алмазна сыплется гора С высот и проч. Жуковский говорит о боге: Он в дым Москвы себя облек ... Крылов говорит о храбром муравье, что 8 Он даже хаживал на паука». [1] Далее, приведя характерные примеры из Кальдерона и Мильтона, иллюстрирующие ту же мысль, Пушкин обобщает: «Мы находим эти выражения смелыми, ибо они сильно и необыкновенно передают нам ясную мысль и картины поэтические». [2] Ещё один род смелости – употреблять до того не введённые в литературный оборот слова – Пушкин оценивает следующим образом: «Жалка участь поэтов (какого б достоинства они, впрочем, ни были), если они принуждены славиться подобными победами над предрассудками вкуса!» [3] Наконец, гениальный поэт, выступая в данном случае как безупречный аналитик, подводит итог: «Есть высшая смелость (здесь и далее в цитате выделено мной – А.А.): смелость изобретения, создания, где план обширный объемлется творческою мыслию, – такова смелость Шекспира, Dante, Milton'а, Гёте в «Фаусте», Мольера в «Тартюфе». [4] Итак, Пушкин различает смелость стилевую, новаторство образнопоэтического порядка, и смелость («высшую смелость») собственно содержательную, восходящую к более или менее развёрнутым представлениям о концепции личности. «Изобретение», «план обширный» – это не что иное, как порождённая творческой мыслью новая, гениально обобщённая до степени типа духовная программа. Причём приоритет духовно-содержательного компонента творчества, недвусмысленно выделенный Пушкиным, является для него же не беглым заметочным эпизодом, а тщательно продуманной принципиальной позицией. Это подтверждается и другими мыслями Пушкина, высказанными в разное время и по разным поводам. «Что такое сила (здесь и далее в цитате курсив Пушкина – А.А.) в поэзии? сила в изобретении, в расположении плана (т.е. в концепции личности – А.А.), в слоге ли?» «Гомер неизмеримо выше Пиндара; ода, не говоря уже об элегии, стоит на низших степенях поэм, трагедия, комедия, сатира – всё более её требуют творчества (fantaisie) воображения – гениального знания природы. Но плана нет в оде и не может быть; единый план «Ада» есть уже плод высокого гения. Какой план в Олимпийских одах Пиндара, какой план в «Водопаде», лучшем произведении Державина? Ода исключает постоянный труд, без коего нет истинно великого». [5] Речь, конечно, не о трактовке Пушкиным проблемы, традиционно обозначаемой как соотношение содержания и формы. Слишком общие высказывания мало что прояснят в этом смысле. Однако слова поэтатеоретика существенны в другом отношении (тогда, правда, они не несли того дискуссионного подтекста, который актуализировался в наше время, когда искусство вздумало начинаться «там, где кончается человек»): у него нет сомнений, что художественная ценность произведения тем выше, 9 чем более значима его духовная подоплёка, ставшая предметом художественного исследования. Именно внеэстетическая проблематика требует «единого плана», который следует понимать, конечно, не как собственно эстетический план, некую композицию себе, как таковую – а как отражение сопрягаемых мировоззрений героев, упорядоченную систему ценностей, организованную в иерархическую вертикаль. Создание подобной иерархии (единого плана) и требует «постоянного труда». Пушкин прекрасно отдавал себе отчёт в том, что «истинно великое» может быть только по человечески великое, но никогда – как собственно эстетическая, поэтическая смелость. Работать, творить – это значит прежде всего мыслить. Глубиной мысли измеряется духовная и творческая зрелость. Такой вывод находит подтверждение и в наблюдениях над собственным творчеством. Вот, в частности, строки из письма к Н.Н. Раевскому-сыну, свидетельствующие о чуткости Пушкина к «смутному» моменту превращения проблемы духовной в собственно творческую (письмо относится ко времени работы над трагедией «Борис Годунов» – произведению, в основу которого положен «план», плод собственного постижения философии власти): «Я пишу и размышляю. Большая часть сцен требует только рассуждения; когда же я дохожу до сцены, которая требует вдохновения, я жду его или пропускаю эту сцену – такой способ работы для меня совершенно нов. Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить» (выделено мной – А.А.). [6] Попытаемся с этих позиций взглянуть на роман в стихах «Евгений Онегин» и ответить на ряд вопросов: чем определяется его никем не оспариваемое «истинное величие»? Есть ли в нём «высшая смелость» – смелость «изобретения», творческий подвиг, реализовавшийся в «едином плане», и в чём, наконец, суть этого плана? Почему в качестве «теста» на духовную и художественную зрелость избран именно «Евгений Онегин»? Расчленение пушкинской творческой биографии на три этапа, три семилетия (ранний – 1816 -1823; зрелый – 1823 – 1830; поздний – 1830 – 1837) является в значительной мере условным. [7] Вместе с тем центральное место «Евгения Онегина», работа над которым хронологически совпадает со «зрелым» семилетием, в творческой и духовной судьбе поэта не вызывает сомнений. «Запечатлевшая процесс формирования пушкинской картины мира (здесь и далее в цитате выделено мной – А.А.), эта книга стала бесспорно вершинным явлением национальной поэзии, и в то же время она заложила основы и дала своего рода программу русского классического романа как центрального жанра нашей литературы; она в сжатом, свёрнутом виде предвосхитила основные узлы человеческой проблематики этой литературы; (...). Не будет ничего удивительного, если со временем обнаружится, что в 10 «Онегине» – заведомо исключающем возможность прямого следования его неповторимой «традиции» – содержится тем не менее также и программа русского литературного развития в целом (...)». [8] Роман в стихах «Евгений Онегин» и будет интересовать нас именно в данном, исключительном своём качестве – в качестве «программы русского классического романа», а также «программы русского литературного развития в целом». Основополагающее начало «программы» сосредоточено в «пушкинской картине мира», в которой особым образом проинтерпретированы «основные узлы человеческой проблематики». Иначе говоря, Пушкин чётко сформулировал (настолько чётко, что в характере постановки проблемы содержалось потенциальное решение), а затем и «решил» проблему, творчески воплотил, «изобрёл» свой «план», «картину мира», внутренне согласованную систему духовных ценностей в форме художественной модели. Познать же образную модель в отношении её «истинного величия» можно только одним способом: рационально-логически «разложить» её, выявить сущностное ядро. К сказанному следует добавить, что уникальность «Онегина», где, словно в зерне, в «свёрнутом виде» была заложена логика пути одной из немногих величайших литератур мира, видится ещё и в том, что общекультурное его значение выходит далеко за рамки национальной или, если угодно, цивилизационные (России как цивилизации). Духовноэстетический масштаб романа, его совместимость с разноуровневыми, разноплоскостными, разнородными измерениями и точками отсчёта, его предрасположенность к любой конструктивно, жизнеутверждающе ориентированной ментальной программе – его, коротко говоря, целостная природа, открытая законченность, которая является одновременно моментом целостности иных уровней и порядков (а потому способная репрезентировать свойства универсума) – требует многопланового контекста. «Евгений Онегин» – это явление и поэтики (стиля), и национального самосознания, и духовно-психологических архетипов homo sapiens'а, и спектра нравственно-философских смыслов, и «тайной» личной свободы, и явной общественной необходимости – и т.д. и т.д. Взаимные метастазы макро- и микроуровней с трудом поддаются умозрительному расчленению. И тем не менее мы, в свою очередь, попытаемся рассмотреть «Онегина» в таком ракурсе, который даёт возможность обнаружить «зерно» целостного произведения, ту «программу программ», которая определила духовный состав и поэтическую структуру (в широком смысле – форму) романа в стихах, и, далее, заложила потенциал эффективного воздействия на все стороны и уровни личного и общественного сознания. Пушкин счёл необходимым предпослать роману эпиграф, в котором заинтересованный читатель мог бы отыскать много любопытного: 11 «Проникнутый тщеславием, он обладал ещё той особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием как в своих добрых, так и дурных поступках, – следствие чувства превосходства, быть может мнимого. Из частного письма (франц.)». [9] Во-первых, он написан по-французски – на языке страны, славящейся своей рациональной культурой и высоко чтущей ее. Во-вторых, прозаический отрывок пронизан аналитизмом, направленным на выявление неоднозначного характера соотношений разных, даже противоположных качеств и свойств личности: тщеславие в сочетании с особого рода гордостью (следствие чувства превосходства, быть может мнимого), порождающей равнодушие в оценке своих как добрых, так и дурных поступков. Перед нами образец того, что можно назвать вмешательством ума в дела сердечные, или, как выразится чуть ниже романист, «ума холодные наблюдения». Иначе говоря, смысловой подтекст основан на разведении функций «ума» и «души». В-третьих, важно, чтобы сочинённый эпиграф был якобы извлечением из частного письма, что свидетельствует об исключительном внимании автора к частной, личностно ориентированной жизни (своеобразному культу личности), единственно достойной просвещённого интереса читателей. В-четвёртых, отметим духовную доминанту анонимно разбираемой анонимной личности (но по закону художественного сцепления ситуаций, эпизодов и фрагментов переносимой на героя одноимённого романа): чувство превосходства. Выделенность, суверенность личности – вновь на первом плане. В-пятых, проникновение подобных характеристик в частную переписку – свидетельство укорененности обозначенного типа личности в жизни, распространенности его и невымышленности. В-шестых, предпослание французского текста русскому роману наводит на целый ряд «сопоставительных» ассоциаций, среди которых выделим погружение «Онегина» в общеевропейский культурный контекст, связывающий главного героя частными, глубинными нитями с духовных климатом эпохи (эти ассоциации будут поддержаны и развиты в романе: вспомним, например, круг чтения, формировавший духовный кругозор Онегина, Татьяны, Ленского). Следующее за эпиграфом посвящение П.А. Плетнёву («Не мысля гордый свет забавить…»), закрепляет обоснованность противостояния личности («души прекрасной», способной оценить «поэзию живую и ясную», «высокие думы и простоту») и «гордого света». Несмотря на то, что «ума холодные наблюдения» и «сердца горестные заметы» подаются как не вполне достойный «залог» «души прекрасной, святой исполненной мечты», у читателя возникает двойственное впечатление: наблюдения и заметы вряд ли порадуют целеустремлённую, пристрастную «душу» прежде всего своей непредвзятостью; тем не менее автор не стремится разделить высокие, но, очевидно, иллюзорные идеалы, а отдаёт предпочтение реальной жизни. «Пристрастному» («рукой пристрастною 12 прими»), субъективному автор сознательно противопоставляет холодную беспристрастность, объективность. Вновь мы сталкиваемся с размежеванием, характерным для эпиграфа: «хотел бы я» разделить мечты и иллюзии с прекрасной душой, но ум (на основании «сердца горестных замет») заставляет видеть реальность такой, какова она есть. Душа приукрашивает жизнь (из лучших, надо полагать, побуждений), обитает в мире миражей, а ум адекватно отражает жёстокую реальность, развенчивая (тоже из лучших побуждений: из уважения к истине) «святые мечты», жить с которыми, возможно, и приятно, но которые не соответствуют действительности. Установка персонажа, которого принято называть «образ автора», вполне ясна. Характеризуя свой «залог» (роман) как «собранье пёстрых глав», повествователь комментирует далее пестроту, понимая её как разнородность (глав – «полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных»), спаянную тем не менее («собранье» глав) наблюдениями. Пёстрый контекст необходим, чтобы одну мировоззренчески весьма значительную фигуру, выросшую из «пестроты» и вступившую с ней в многосложные отношения, показать всесторонне. Такую установку следует оценить как диалектическую, способствующую созданию многоуровневой целостности произведения. Все указанные смыслы, смысловые цепочки и узоры, складывающиеся в смысловую тенденцию, обнаруженную в самом начале романа, можно было бы считать достаточно произвольными, если бы они не были актуализированы и детерминированы более общим, концептуальным контекстом всего произведения (именно на это ориентирует нас методология целостного анализа [10]). В эпиграфе или посвящении – моментах целого – ощутима логика всего целого. В этой связи интересно отметить ещё один штрих: «наблюдения» и «заметы» сам автор относит к возрасту, который называет «незрелыми и увядшими летами». Итак, «образ автора» (который, думается в данном произведении в равной мере можно считать как лирическим героем, так и повествовательным) поделился чрезвычайно ценной информацией: будущая мировоззренческая концепция и модель жизни – плод «незрелых», но уже «увядших» лет. Если незрелость поражена недугом увядания – следовательно, лирический герой духовно весьма близок Онегину, чья мировоззренческая траектория недвусмысленно очерчена в этих оксюморонных эпитетах (всё это потом в полной мере подтвердится в романе). Речь, конечно, не о том, что перед нами духовные близнецы или двойники. В дальнейшем повествователь специально подчеркнёт недопустимость и ошибочность отождествления, которое значительно обеднило бы роман, лишив его перспективы, восходящей категории высшей авторской нравственно-философской нормы: Всегда я рад заметить разность 13 Между Онегиным и мной. В чём-то они даже антиподы. Однако безвременно увядшие лета – слишком прозрачный намёк, чтобы им пренебречь. Духовное родство (родство по недугу) – это, с одной стороны, свидетельство уже заявленной типичности, невыдуманности Онегина, а с другой – залог глубокого, заинтересованного духовного исследования (как себя самого: есть личный мотив, личный интерес). Принцип параллельного героя – чрезвычайно ёмкий художественный принцип, очень удачно использованный Пушкиным. Указанный мотив родства имеет и ещё одну сторону. Пушкин сознательно и дерзко размывает грань, отделяющую личность писателя от личности вполне условного героя – «образа автора». В определённом смысле Пушкин делает себя (точнее, представление о себе, основанное на субъективной самооценке) почти персонажем художественного произведения. Тем самым он подчёркивает условность границ между жизнью и литературой. Такой демонстративно обнажённый вариант – достаточно редкий случай для классической литературы. На это способны только те, для кого главное в жизни не литература, а жизнетворчество, отражённое в литературе. Таким образом, Онегин становится модификацией того духовного типа, который воплощён и в образе автора, и, отчасти, в жизнетворчестве самого реального Пушкина. Эти ипостаси взаимно отражаются, подчёркивая и обогащая разнонаправленность тенденций, составляющих суть их базового архетипа. Онегина необходимо рассматривать и в данном «однородном», архетипическом контексте – в этом также проявляется свойство целостности, присущее взаимосвязанным обществу, личности художественному произведению. Между прочим, в проекции жизнетворчества на литературу (уже новейшую литературу, с богатейшей культурой взаимообщения и взаимообогащения духовного и эстетического) заключается смысл одной из заложенных Пушкиным «программ русского литературного развития в целом». Познание художественной целостности предполагает не просто многосторонний, многоаспектный аналитический обзор, но выявление внутренне упорядоченной, многоуровневой структуры (так сказать, познание законов органического взаимосочетания и взаимосочленения горизонтальной структуры с вертикальной). Смысловой центр (художественное ядро) разворачивается на всех остальных уровнях (содержательных и поэтических), и познание их специфических функций и свойств есть одновременно познание этого «ядра». Что же считать таким ядром в произведении (или, иначе сказать, что составляет сердцевину творческого метода писателя)? 14 Ответ на этот вопрос во многом содержится уже в первой главе, которая по отношению ко всему роману является тем же, чем роман – по отношению к русской литературе: именно здесь обнаруживается смысловой генетический код, семантический первотолчок, зерно концепции (зерно метода). «Первотолчок» этот облечён в явление, которое обозначено как «недуг», или, по-другому, внутреннее, экзистенциальное, как сказали бы сейчас, противоречие («русской хандры»), какие противоположные начала в сознании и душе Онегина вступили в конфликт – этот вопрос станет главным для всего романа. Намёки-сигналы, тревожные предвестники (или отголоски: это как посмотреть) конфликта в форме своеобразных смысловых вкраплений можно обнаружить уже в эпиграфе и посвящении. А далее – последовательно и целенаправленно отслеживается «странное», т.е. противоречивое, неподдающееся идентификации в рамках одномерной логики, поведение героя (сопровождаемое противоречивым отношением к нему повествователя), непосредственно подводящее к «недугу» и, по закону диалектической (целостной) обусловленности, само чреватое этим недугом (то же самое можно сказать и о «параллельном» отношении повествователя). Странный – ключевое для оценки героя слово. В самом конце романа, расставаясь с Онегиным, автор концентрирует своё отношение в итоговой характеристике: Прощай и ты, мой спутник странный... Едва успел читатель освоить элегантно оброненный полунамёк на родственность душ (см. посвящение), как тут же он должен как-то совместить авансом возникшую полусимпатию к герою с отношением, вызванным почти неприкрытым цинизмом, которым проникнут весь первый (и единственный в романе) внутренний монолог Онегина (1 строфа 1 главы). Как только воспринимающее сознание «приходит в себя» и вырабатывает адекватную оценку цинизма с гуманистической нравственностью определяемых позиций, вымышленный автор романа тут же, без всякого перехода берёт «циника» под моральную защиту («Онегин, добрый мой приятель»). Но и это ещё не всё: именно в этот момент мы узнаём, что к Онегину благосклонен не условный автор, а вполне реальный создатель «Руслана и Людмилы»: Друзья Людмилы и Руслана! С героем моего романа (выделено мной – А.А.) .............................................. Позвольте познакомить вас. Такая рекомендация рассчитана на то, чтобы обескуражить читателя. Активная нравственная поддержка персонажа, «награждённого» очевидным моральным изъяном, конечно, приводит в недоумение, вновь заставляет корректировать к нему отношение, идя вслед за автором и 15 Пушкиным. И это, безусловно, не столько формальное запутывание, имеющее целью раздразнить читательский аппетит, сколько апелляция к «толковому» читателю, содержащая серьёзный «знак»: не спешите судить, тут есть над чем подумать. Феномен Онегина подаётся как феномен большой человеческой загадки. Таким образом, роман начинается со смысловой антитезы, с противоречивой подачи, вероятно, противоречивого главного героя; в таком же ключе он продолжается. Метод, будучи основной стратегией художественной типизации, определяет художественные функции всех без исключения уровней стиля: от сюжетно-композиционного до ритмикофонетического. Анализ поэтики и должен служить всестороннему раскрытию, разворачиванию «генетического кода», осуществляемому непрерывными смысловыми приращениями и обогащениями, произрастающими, однако, из единого концептуального корня (разумеется, если мы имеем дело с художественным произведением высочайшего класса). Весь роман (и первая глава в особенности) буквально соткан из перекликающихся разноплановых противоречий – из, если так можно выразиться, «умных» противоречий, где теза и антитеза нуждаются друг в друге, проясняются благодаря своим взаимоисключающим потенциалам. Кстати, Пушкин осознавал противоречивость романа как некий творческий принцип и специально акцентировал на это внимание в заключительной строфе первой главы, словно предупреждая упрёки любителей трактовать противоречия как неувязку, как порок или изъян: Я думал уж о форме плана, И как героя назову; Покамест моего романа Я кончил первую главу; Пересмотрел всё это строго: Противоречий очень много, Но их исправить не хочу... «Форма плана» заключает в себе «очень много» противоречий, которые придирчивый автор видит, но не считает нужным исправлять. Чего ж вам больше? Перечислять противоречия, даже иерархически их располагая, нет никакой возможности, ибо мы утонем в эмпирике, ничего не поняв. Мы окажемся явно «глупее» романа. Постараемся постигнуть сам принцип взаимного сопряжения, приводящий к единству противоположностей. Будем стремиться к постижению сути «ядра» и остановимся только на том, что имеет отношение к нашему стремлению. В первой главе (которую, напомню, можно рассматривать как момент грандиозного целого, из коего целое вырастает и одновременно даёт смысл своему моменту) действительно противоречий очень много. «Ядро» сфокусировано в одном дне из жизни Онегина, и занимает этот 16 день центральную часть главы. «Ежедневный круг этой жизни состоит из семи фаз: первая из них – «Бывало, он ещё в постеле», последняя – «Спокойно спит в тени блаженной». Собственно же день Онегина – это пять фаз: гулянье – обед – театр – кабинет (переодеванье) – бал. Вторая и последняя фазы – обед и кабинет – как раз и дают нам центральный мотив, кристаллизирующий и источающий поэтику перечня. Этот мотив – стол». [11] Добавим только, что мотив стола, вначале обеденного, а потом – туалетного, осложняется обрамляющим день героя мотивом сна, придающего, казалось бы, однозначной картине роскошной жизни двойственный оттенок: такая внешне бурная и динамичная жизнь есть сон, Вещественный мир, столь тщательно выписанный в 1 главе, поглотил личность героя, растворил её в вещах (точнее, не дал из них выделиться). Внешний мир заслоняет и даже замещает внутренний. Торжество плоти – вот лейтмотив всего онегинского дня, т.е. целой фазы жизни героя, вплоть до внезапного и внешне неубедительного мотивированного поражения «недугом». Чередование столов также неслучайно и определено удивительно дальновидной внутренней логикой. Стол обеденный демонстрирует нам (начиная с «окровавленного» ростбифа, данного в «чужом» заморском написании, и кончая столь же экзотическим «золотым ананасом») гастрономическо-физиологический, примитивно потребительский ряд, служащий для удовлетворения одного из основных инстинктов. Изысканность стола заставляет вспомнить заповедь чревоугодников, осмеянную Сократом: не есть, чтобы жить, а жить, чтобы есть. Стол туалетный «примерного воспитанника мод» в свою очередь явно и вызывающе функционален. «Истинный гений» «науки страсти нежной» находится у себя в лаборатории, где после тщательных и долгих манипуляций над своей внешностью (надо действительно обладать энтузиазмом гения) он уподобляется «ветреной Венере» в мужском наряде. Наука страсти она и есть наука: весь лицедейский арсенал, вся палитра эмоций «влюблённого» («Как рано мог он лицемерить» и т.д.) – сплошная технология чувств, процесс, строго подчинённый конечному результату («И после ей наедине Давать уроки в тишине!»). Евгений, если уж быть совсем точным, является гением имитации нежных чувств – того, что должно напоминать любовь. Потрясающая технологическая оснащённость, отработанность навыков и артистизм исполнения в сочетании с практическим знанием мужской и женской природы сделали из Онегина образцового серцееда. Но каков был истинный побудительный мотив гения, что заставляло его так самозабвенно трудиться, совершенствуя свою многосложную науку? Страсть. Потребность в утолении другого «базового» инстинкта сделала туалетный стол вторым центром его жизни. (Кстати, вновь чуждый, лондоско-парижский косметический контекст стола наводит на 17 размышления: свою ли жизнь среди чужих вещей ведёт энтузиаст «неги модной», поклонник «чувств изнеженных»?) Перед нами – классический вариант «человека комического», человека психологического, который, говоря словами философа, «подчиняет действия потребности, но не располагает их в определённый порядок». [12] Приведённая цитата – замечательная формула, позволяющая чётко различать человека великого, комического и трагического. Онегин в «застольный» период своей жизни мало выделился из природы, подчиняя действия свои и образы жизни нехитрым (можно было бы сказать грубым, если бы ругать потребности не выглядело очевидной глупостью) потребностям. С мировоззрением как таковым мы пока не сталкивались, у нас нет оснований, чтобы говорить о каком-либо внутреннем порядке, о системе ценностей. Онегин, что называется, просто жил. Обратим внимание на очень существенный момент: его образ жизни (и, очевидно, сопутствующий образ мыслей) не был чем-то примечательным, особо выделяющимся, из ряда вон выходящим. Напротив: отличительная его особенность состоит в том, что он был как все. Онегин был прилежный «воспитанник» мод и света, естественно (не задумываясь) впитавший все культурные стандарты и нормативы среды. Значит ли это, что «свет» в целом, как и типичный его представитель с ярко выраженными общепризнанными «достоинствами», также является по преимуществу комическим? Судя по тому, как автор изображает свет, так оно и есть, Если молодой человек «совершенно» владеет французским, «легко» танцует мазурку и кланяется «непринужденно» (дан исключительно внешний ряд), свет прозорливо решает: «он умён и очень мил». «Умён» – ибо принял правила игры общества, стал как все. Отсюда и более чем благосклонная аттестация. Умён – звучит не только как убийственная ирония по отношению к свету, который по манерам и внешности судит об уме, но и как горькая ирония: действительно умные в глазах «людей благоразумных» тут же будут окрещены «сумасбродами», «притворными чудаками» и проч. (8 глава). До поры до времени Онегин был «примерным» человеком света – до той поры, пока им не овладел «недуг». Оценивая в 8 главе логику подобной метаморфозы, понимая, что только тот, кто «смолоду был молод», «вовремя созрел» и последовательно прошёл все фазы светом одобряемой и санкционируемой жизни («глядел на жизнь как на обряд»), может рассчитывать на общественное признание («О ком твердили целый век: N.N. (безликость – А.А.) прекрасный человек») – автор тем не менее делает свой выбор, обрисовывая альтернативу: Несносно видеть пред собою Одних обедов длинный ряд, (столы! – А.А.) Глядеть на жизнь как на обряд, 18 И вслед за чинною толпою Идти, не разделяя с ней Ни общих мнений, ни страстей. При этом несколькими строфами ранее автор-Пушкин признаётся: И я, в закон себе вменяя Страстей единый произвол, С толпою чувства разделяя, Я музу резвую привёл На шум пиров... (Заметим: там, где толпа – там столы и страсти.) В таком контексте «Блажен, кто смолоду был молод» читается не только в однозначноироническом плане, но и в плане естественно-жизнеутверждающем: как нормальный этап развития нормального человека (в «нормальности» автора к тому времени, когда он пишет эти исповедальные строки, сомневаться уже не приходится). Всё у Пушкина противоречиво в романе в стихах (кстати, тоже противоречие, к смыслу которого мы вернёмся позднее), всё надо оценивать в искусно сотканном контексте. И то, что в одном отношении оценивается как благо, в другом приобретает прямо противоположное значение. Пушкин мыслит контекстами, суммами смыслов, целостностями в целостностях (или, по-другому многоплановыми образами). Но это не означает, что подобное мышление в принципе утрачивает определённость. Дело в том, что определённость в силу противоречивости «природы вещей» – а именно так автор «глядит на жизнь» – сама приобретает амбивалентный характер. В неопределённости всегда у Пушкина сквозит высшая, целесообразная определённость, истолкованная не как божественная предопределённость, а как объективная «логика вещей», логика жизни, логика природы человека. Итак, первый этап «полусознательной» (лучше сказать, почти бессознательной) жизни Онегина сам по себе нормальный и естественный (и только в свете предстоящей эволюции получающий оценку как «растительный» и комический) заканчивается «странной» хворью – «русской хандрой»: Но был ли счастлив мой Евгений, Свободный, в цвете лучших лет, Среди блистательных побед, Среди вседневных наслаждений? ................................................ Нет: рано чувства в нём остыли. Странно, непонятно, противоречиво: если смотреть на жизнь «как на обряд», то весь набор блестящих стартовых условий, сулящих счастье, к услугам Онегина. Однако Евгений – несчастлив. Поэтому «недуг», «сплин», «хандра» – это, опять же, двойственная оценка: в глазах благоразумного света (толпы) он заболел, «к жизни вовсе охладел», 19 рискуя превратиться в «сумасброда»; с точки зрения автора, Пушкина и сумевших подняться до их уровня читателей – этот «недуг» есть своего рода симптом выздоровления, пробуждения ото сна, которым были охвачены дух и душа Евгения Онегина. Другое дело, что такое пробуждение, в свою очередь, как впоследствии выяснится, не принесёт счастья – но это уже особый разговор. В чём же «причина» нешуточного, просто опасного недуга, который, как говорится, чреват последствиями (одно из которых как наиболее вероятное – «захотеть застрелиться» – тут же упоминает автор)? Повествователь не только не вуалирует причину, но, напротив, настойчиво привлекает к ней внимание « просвещённого читателя», оставляя за ним право сделать два-три логически неизбежных хода, чтобы восстановить целостную картину «истории болезни». «Рано чувства в нём остыли», «к жизни вовсе охладел», «ему наскучил света шум», «условий света свергнув бремя», «томясь душевной пустотой», «томила жизнь», «сердца жар угас»... Вариации одного мотива: катастрофическое угасание прежних потребностей, на которых держалась жизнь-праздник, жизнь-наслаждение. Существует только одна радикальная причина, которая может помешать личности «подчинять действия» природным потребностям (в результате чего жизнь становится «однообразна и пестра», хаотична): причина эта – возникшая на основе природных собственно человеческая потребность «расположить действия в определённый порядок», устранить хаос и обрести разнообразие и многокрасочность в порядке. Потребность отдать себе отчёт в «порядке», в целесообразности действий, придать жизни смысл, вырвав её из бездумной колеи раз навсегда заведённого «обряда» – это значит начать рассуждать. «Отступник бурных наслаждений» впервые противопоставил «ум» – «чувствам», осознав фатальную, трагическую непримиримость этих двух сфер единого человеческого существа. «Остывание», «охлаждение», «угасание» чувств – это симптом пробуждения сознания. Онегин стал думать, мыслить, в нём в полную силу заговорило начало величественное противоположное комическому – вот главное событие духовной жизни героя, приведшее к благотворному в одном отношении и губительному – в другом внутреннему кризису. Именно в это время с ним подружился автор, дрейфующий параллельным жизненным курсом, которого впечатлил именно «резкий, охлаждённый ум» (в то время, правда, ещё в реликтовом сочетании с «невольной преданностью мечтам»). Условий света свергнув бремя, Как он, отстав от суеты, С ним подружился я в то время... ............................................... Обоих ожидала злоба Слепой Фортуны и людей 20 На самом утре наших дней. Пушкин гениально воспроизвёл ситуацию пробуждения Евгения ото «сна», подчеркнув одновременно монотонность однообразно-пёстрой жизни (чувственные потребности ориентированы на калейдоскопическую пестроту, но в основе её лежит однообразие: диктат потребностей) и назойливость монотонности, преобразующейся в тревожный сигнал, напоминающий звон недремлющего брегета. Стилевые возможности романа в стихах позволили сделать это с лаконичным изяществом. Весь «пёстрый» день Онегина сопровождается «однообразной» рифмой: Пока недремлющий брегет Не прозвонит ему обед, на котором: И трюфли, роскошь юных лет, Французской кухни лучший цвет. Продолжение обеда: Ещё бокалов жажда просит Залить горячий жир котлет, Но звон брегета им доносит, Что новый начался балет. Мотив настойчиво продолжается и в «уединенном кабинете»: Всё украшало кабинет Философа в осьмнадцать лет, где он Одет, раздет и вновь одет... Отголоском звучит: ... в цвете лучших лет Среди блистательных побед... [13] Но ситуация пробуждения была запрограммирована ещё раньше и на ином стилевом уровне: она содержится уже в семантике имени и фамилии главного героя, давших название всему роману. Вспомним: автор думал о том, как назвать героя в контексте размышлений о «форме плана» произведения (кстати, традиция выносить зерно определяющего противоречия в заглавие романа подхвачена будет в «Отцах и детях», «Войне и мире», «Преступлении и наказании»). Евгений в переводе с греческого означает «благородный», в имени просматривается тяготение к величественности. Онегин, как легко догадаться, – о-неженный, изнеженный, привыкший жить в неге баловень судьбы: здесь в противовес семантике имени подчёркнута подверженность низменному началу, т.е. всё тому же психо-физиологическому ряду. Человек «великий» и человек «комический» объединены, неразрывно слиты в герое, являясь разными полюсами одного и того же, что подчеркивается эстетически прихотливо сомкнутым звукорядом, созвучием двух слов. Евгений Онегин, как и роман в стихах, как и Татьяна и Евгений, Евгений 21 Онегин и Владимир Ленский и т.д. и т.д. – гибридное, противоречивое сочетание. Не случайно автор в пору разрыва Онегина с «бременем» прежней жизни и поиском нового порядка в космосе мироздания настойчиво называет героя Евгением («Но был ли счастлив мой Евгений», «И вас покинул мой Евгений»; вас – «красоток молодых»). Подчёркивая внутреннюю близость начала, семантически заключённого в имени героя, автор дважды называет Евгения «моим». Когда же активному повествователю понадобилось «заметить разность» между ним и «его» Евгением, он предпочитает называть близкого друга Онегиным: Всегда я рад заметить разность Между Онегиным и мной. Конечно, следует учесть и традицию, согласно которой обращение по имени «приближает» человека, а обращение по фамилии придаёт оттенок официальности, известной отчуждённости. И всё же: имя – это ты сам, фамилия – твой «родовой» признак. Искусству не надо было, как, скажем, философии, искать свою главную проблему, свой угол зрения на мир. Такой сверхпроблемой, сквозь которую рассматривались все иные проблемы, всегда был человек – его душа, думы, системы духовных ценностей. Все проблемы мироздания искусством изначально (что называется, по определению) воспринимались как проблемы человека. Такая декларация, однако, не несёт в себе желаемой полноты истины. Другая её сторона не менее важна: что считать главным в человеке, существе космобиопсихорациосоциальном? Его «душу» – всецело психологический феномен? Сознание? Какова природа духовности человека? Какой тип жизнетворчества наиболее органичен для человека? Пушкин велик не тем, что вышел на проблему человека, – а тем, как он её решил. Столкнув на «территории души» героя «страсти» и ум и, в результате, опустошив душу, Пушкин далее вдумчиво и целенаправленно (концептуально, согласно определённому плану и порядку) ведёт духовно близкого себе человека по жизни. (Почему ум так «охлаждает» чувства – это отдельный вопрос, к которому мы не раз ещё обратимся на протяжении нашего исследования.) Каковы были первые шаги, которые предпринял Онегин, чтобы выбраться из хандры? Прежде всего он попробовал писать – «но труд упорный Ему был тошен; ничего Не вышло из пера его». Что значит «труд упорный» с точки зрения Пушкина – нам уже известно. Онегин стал размышлять, однако ни навыков, ни опыта подобной духовной работы ещё не было в той степени, в какой требовало серьёзное отношение к возникшей экзистенциальной проблеме. А между тем он начинает осознавать свой недуг именно как мировоззренческий кризис, требующий не смены 22 развлечений, а изменения образа мыслей. Неукротимое стремление к «порядку», подвластному единственно сознанию, но не «игре страстей», влечёт Онегина к «похвальной цели»: «Себе присвоить ум чужой». Отрядом книг уставил полку, Читал, читал, а всё без толку: Там скука, там обман иль бред; В том совести, в том смысла нет; На всех различные вериги; И устарела старина, И старым бредит новизна. Как женщин, он оставил книги И полку, с пыльной их семьёй, Задёрнул траурной тафтой. Итак, ни «ум чужой», ни попытка жить своим умом не помогли Евгению, ориентированному на «совесть и смысл», радикально ликвидировать мировоззренческий вакуум, разобраться в себе, понять себя, выработать приемлемую жизненную стратегию, Онегин получил пока что отрицательный результат. Необходим был дальнейший поиск в многотрудном деле познания себя и других. Прежде чем идти дальше вслед за героями произведения, отметим совершенно уникальный характер общего смыслового и стилистического строя романа в стихах. Пушкин создал многочисленные образцы («Онегин» – в числе лучших) аналитической поэзии (т.е. как бы не поэзии), где мысль таится не в смутных образах-символах, а в чеканных образных формулах. Тяготение к ёмким словесно-художественным формулам, к «поэзии живой и ясной» – отличительная и достойная восхищения особенность первого российского поэтического гения. Общая концепция живёт и «сквозит» в афористически сжатых, точных по мысли и обманчиво простых поэтических строках. Именно за счёт «формул» создаётся эффект смысловой глубины, интеллектуальной насыщенности и вместе с тем простоты и «очевидной» доступности. Вот почему, в идеале, надо комментировать почти каждую строку, которые буквально пропитаны мыслью. Верная по отношению к реальной природе человека художественная установка Пушкина – видеть и ощущать диалектическое единство противоположностей – осуществляется сочетанием разнонаправленных стилевых приёмов, что придаёт пушкинским прозрачным формулам характер уникального сплава, который можно определить как общий идейно-эмоциональный тон или пафос повествования. В только что цитированной ХL1V строфе первой главы (как, впрочем, и во многих предыдущих и последующих), поэтически легко, непринуждённо и изящно обрисована трагическая ситуация. Ироническая интонация повествователя, поддержанная ритмом, явно противоречит серьёзности действительного положения дел, отражённых в точных формулировках: 23 И снова, преданный безделью, Томясь душевной пустотой, Уселся он – с похвальной целью Себе присвоить ум чужой. И т.д. Тут нет небрежности или непродуманности. Противоречие создаёт необходимый автору трагикомический (трагикосатирический или трагикоиронический) «сплав». Автор, как мы знаем, имеет моральное право «несерьёзно» отнестись (точнее, скрыть за иронией серьёзность, оберегая своё достоинство) к проблемам друга, ибо это были и проблемы автора. Если мы правильно оценим взятый лирическим героем псевдоигривый тон, мы верно оценим положение, в котором оказался Онегин. Он остался один на один с реальной проблемой (планируемое совместное путешествие – «Онегин был готов со мною, Увидеть чуждые страны» – оказалось бы классическим бегством от себя, в несколько романтическом духе), которая пока не стала вопросом жизни и смерти, однако, как и всякое противоречие, была обречена на эволюцию, определяемую внутренней логикой проблемы. Судьба уберегла Евгения от фальшивого жеста (бегства от себя) и развела его с автором «на долгий срок». («Судьба Евгения хранила», как мы помним, и в детстве; и сейчас он не оставлен её милостями: как нельзя более вовремя получает наследство презираемого им дяди.) Оставшись подчёркнуто одиноким, Онегин идёт своим путём. И путь его не случаен, а закономерен – тем и интересен автору. А пока что, в конце первой главы, Онегин довольствуется тем, «что прежний путь Переменил на чтонибудь»: стал «сельским жителем». «Кто жил и мыслил, тот не может В душе не презирать людей» – одна из очень ёмких и, конечно, противоречивых (т.е. по-настоящему глубоких) формул. (Ср. Х1V строфу второй главы: Хоть он людей, конечно, знал И вообще их презирал, – Но (правил нет без исключений) Иных он очень отличал И вчуже чувство уважал. Почти на каждую пушкинскую формулу в романе можно отыскать контрформулу, на цитату – контрцитату. Всё это лишний раз подтверждает относительный, конкретный характер авторских деклараций. Они всегда верны – но в строго определённом отношении: либо как правило, либо как исключение; и потому – неизбежно противоречивы.) Блестящие сентенции, будучи итоговыми «сгустками» смысла, почти всегда пропускают логические звенья, из которых складывается формула. Идентично, по сходной «технологии» выстраиваются и личности героев, формируются их духовные лики. С одной стороны, это вполне естественно: перед нами художественная 24 модель, а не трактат о душе. Однако модели бывают разные. Пушкин даёт нам лаконичный эскиз духовных обликов; анализируя итог, результат, мы можем лишь догадываться о процессе формирования эскиза, который (процесс) намеренно оставлен «за кадром». Иначе говоря, Пушкин демонстрирует модель, увиденную со стороны. Вот почему так важна субъектная организация романа в стихах: стихи придают художественной модели особый характер, заставляя сосредоточиться не на аналитическиразъясняющем начале (что было бы одновременным автокомментарием модели), а на целостности, внутренней полноте и самодостаточности; скупой автокомментарий, по закону художественной компенсации, требует развёрнутого комментария «со стороны». Этим и вызвана к жизни фигура почти реального автора. Кроме того, связка автор – герой, где система ценностей автора более универсальна, чем у героя, в сочетании с поэтической стихией даёт уникальные творческие возможности. В частности, Пушкин добивается ещё одного, крайне важного для него эффекта: герой подан как загадка, как тайна из области «быть или не быть». Скупой, избирательной информацией, явно не исчерпывающей сложность переживаемых проблем, автор как бы предостерегает читателя: об этом не болтают, это слишком серьёзно и больно. Это зона духовного риска. Такой подтекст вызывает ассоциации с могучим шекспировский бескомпромиссным правдоискателем – принцем Датским. Начав «мыслить» (заметим: не думать, рассуждать, размышлять и т.д., а именно «мыслить», философски пробиваясь к сути вещей) и, следовательно, получив достаточно оснований, чтобы «презирать людей», и, следовательно, презирать себя, поскольку ещё вчера был с ними заодно, «с толпою чувства разделяя», – Онегин решительно обращается лицом к природе. Это, конечно, не смена декораций, а смена ориентации. (Сюжетный ход внутренне логичен: он является симптомом интенсивного поиска; но, как обычно, мотивации «выпали» из круга внимания автора, который предоставляет читателю сотворчески восстанавливать недостающие звенья.) Отвергая социум, отвергая культуру, Онегин пытается противопоставить ей единственно возможное: натуру (природу). Правда, сам Онегин уже на третий день захандрил среди «уединённых полей», «прохлады сумрачной дубровы», «журчанья тихого ручья», отнесясь к смене места жительства, в конечном счёте, как к смене декораций. И всё же автор именно оппозицию «натура – культура» делает ключевой для всего произведения, видя здесь корни и хандры Онегина, и мировоззренческую альтернативу. Именно в отношении к природе автор «рад заметить разность» между ним и Онегиным. Во второй главе, которая тоже является моментом целого, непосредственно вытекающим из момента предыдущего, Пушкин приступает к последовательному развёртыванию, раскрытию противоречий, определяющих закономерности духовной жизни и героев романа, и, как постепенно выясняется, человека как такового. 25 Что делает скучающий Евгений? Если бы он довольствовался маской разочарованного, то о нём и не стоило бы писать роман, да он и не годился бы в герои столь сложно организованного романа. Преданный безделью («Чтоб толь время проводить»), Евгений вместе с тем пребывает в процессе активного духовного поиска. Симптомы его (взгляд со стороны видит лишь симптомы, по которым можно судить о процессе), тщательно отобранные и сопоставляемые, и составляют смысловой стержень второй главы. Сперва задумал наш Евгений Порядок новый учредить. Евгений (кстати: во второй главе наш герой преимущественно называется Евгением) уже – «наш», что надо считать не свидетельством бестактности автора, навязывающего нам «друга», а выражением доверия к проницательному и благосклонному читателю-единомышленнику, способному оценить незаурядную одаренность героя. Задуманный порядок, конечно, не является тем мировоззренческим порядком, о котором мы говорили ранее. Однако общая установка на порядок проявилась и в хозяйственно-экономических нововведениях, за что Евгений тут же поплатился, заработав репутацию «опаснейшего чудака», а затем «неуча» и сумасброда-отшельника. Мнение «всех» сельских законодателей столь же комично, как и вердикт столичного света, куда в своё время принимали Онегина; но тогда глупость людей была его союзником, теперь же он становится её жертвой. О человеке, если уж мы заговорили о симптомах, могут многое сказать его вещи, поступки, друзья. Принцип прост: скажи мне, кто твой друг (что ты читаешь, как ты ведёшь хозяйство, как ты одеваешься и т.д.) – и я скажу, кто ты. В друзья Онегину, что глубоко и тонко согласуется со всей концепцией романа, «достался» «красавец, в полном цвете лет, Поклонник Канта и поэт» (рифма, спешу заметить, оживляет закреплённый за ней мотив сонной, отвергнутой жизни). Владимир Ленский в известном смысле находится на том этапе духовного развития, на котором ещё вчера находился Онегин. Ленского не окружали «столы» (разве что письменный стол, о наличии которого можно лишь догадываться); однако в главном, определяющем он был человеком комическим, всецело подвластным «страстям», пусть и благородным. И мира новый блеск и шум Ещё пленяли юный ум. Очередная блестящая психоаналитическая формула: «Ум, ещё в сужденьях зыбкой» (развитие формулы), находится в плену «блеска и шума», в плену чувственно-эмоционального восприятия. Отсюда – многочисленные формулы страстей, вытекающие из главной: Он сердцем милый был невежда, Его лелеяла надежда ................................... 26 Он забавлял мечтою сладкой Сомненья сердца своего. ................................... Негодованье, сожаленье, Ко благу чистая любовь И славы сладкое мученье В нём рано волновали кровь. Творчество его, естественно, отражает Всегда возвышенные чувства, Порывы девственной мечты. И т.д. Это как раз те самые «различные вериги» (идеологические, конечно, вериги), та самая идеализация человека, когда желаемое искренне выдаётся за действительное; возможна она только при условии дремлющего, незрелого ума. Вместе с тем вериги (надежды и мечты), сильно греша против истины, всё же не могут не пленять своей наивной чистотой, являя нам, возможно, лучшие стороны человека. Лучшие – но «минутные», преходящие. Евгений, согласно тонкому комментарию автора, уложившего, разумеется, свои наблюдения в изысканные по простоте формулы, – наш Евгений блестяще разобрался во всей этой человеческой, насквозь противоречивой стихии: Он слушал Ленского с улыбкой. ..................................... Он охладительное слово В устах старался удержать И думал: глупо мне мешать Его минутному блаженству; И без меня пора придёт; Пускай покамест он живёт Да верит мира совершенству. Анализ начальной фазы отношений двух пустынников – одно из самых ярких свидетельств человеческой состоятельности Евгения Онегина, значимости его личности, глубины натуры. При желании этот анализ, если бы он не был настолько демонстративно анализом, можно было бы рассматривать как сдержанное признание в дружбе и любви третьего пустынника – автора. (В данном контексте вполне ясным становится смысл снисходительно-иронического авторского эпиграфа к первой главе, относившийся к Онегину, который во времена своей легкомысленной юности во многом напоминал теперешнего «страстного» Ленского: И жить торопится, и чувствовать спешит.) Но сам автор сочтёт более подходящим для откровенного признания другой момент. Сразу после трагической кончины Ленского (к которому 27 ещё совсем недавно с высшей степенью человечности отнёсся Онегин) автор проронил: «Хоть я сердечно Люблю героя моего..».. Странно, не правда ли? Как видим, Пушкин (конечная мировоззренческая инстанция) не просто обнаружил и противопоставил «ум» – «сердцу»; это и до него делалось многократно. Он показал, как одно вытекает из другого, он разъяснил, что одно без другого – не существует; он художественно доказал, что всё познаётся в сравнении и существует только в движении, в процессе развития. Всё рождается движением, есть момент движения и растворяется в движении. В человеке, особенно богато одарённом, нет «беспримесных» и неизменных качеств, поэтому противоречивое их отображение является одновременно адекватным отражением. Непротиворечивый же, идеальный взгляд на человека становится источником вериг независимо от чистоты намерений. Такова пушкинская модель человека, в которой благие намерения превращаются в вериги, проза – в стихи, пламень – в лёд, автор – в героя, дружба – во вражду, равнодушие – в любовь и т.д. Дав множество намёков, скрытых «противоречивых» ходов, Пушкин чем дальше, тем яснее обнажал оборотную сторону любого душевного жеста. Пусть бегло, вскользь, в скобках, но непременно будет указано (это делают герои-философы: автор и Евгений) на диалектическую изнанку состояния, намерения. Вот примеры из середины романа, из четвёртой главы: Чем меньше женщину мы любим, Тем легче нравимся мы ей; ..................... Где скучный муж, ей (жене – А.А.) цену зная, (Судьбу, однако ж, проклиная), Всегда нахмурен, молчалив, Сердит и холодно-ревнив! ..................... Враги его, друзья его (Что, может быть, одно и то же) Его честили так и сяк. В пятой главе автор, аналитически внедряясь в загадочную душу человека (в т.ч. в женскую душу), «роняет» коренную формулу, к которой восходят все иные формулы, применяемые к частным случаям. Пушкин обобщает: Что ж? Тайну прелесть находила И в самом ужасе она (Татьяна – А.А.): 28 Так нас природа сотворила, К противуречию склонна. Что же объединяет все названные (и, естественно, не названные, но присутствующие в романе) противоречия разных порядков и уровней? Вопрос может звучать иначе: что составляет суть недуга главного героя ключевого романа русской литературы? Все духовные противоречия являются модификациями, разными ликами одного кардинального противоречия – между психикой и сознанием (сердцем (душой) и умом в поэтической терминологии), делающим человека одновременно великим, комическим и трагическим. «Взаимная разнота» (творящая, добавим, целостную модель, держащуюся именно на противоречиях) психики и сознания в личности, личности и «толпы», личности и личности – вот истинный предмет Пушкина. Не Онегин его интересует, а сущность или природа человека, ярко и отчётливо проявившаяся в Онегине. «Взаимная разнота» – двигатель всего, поэтому у романа есть и космический план, вселенский подтекст, намёк на связь всего со всем (ритм времён года, высокая городская культура (от Гомера – до современного романа) и вечная природа, мужчина и женщина, мыслитель и поэт и т.п.). С этих позиций мы и будем оценивать все человеческие контакты Евгения, ставшие фактором его эволюции. «Склонность к противуречию» – это не просто «холодное наблюдение», но полнокровно переживаемое трагическое мироощущение, которое явилось следствием акта познания себя. Подобные открытия делаются в состоянии, которое Печорин, откровенно ведущий свою родословную от странного героя Пушкина, впоследствии удачно определил как «высшее состояние самопознания» («Княжна Мери»). Стихотворный роман, конечно, реалистичен, но реализм его видится прежде всего не в том, что ему удалось отразить «социальное разочарование» и всё углубляющийся «скептицизм» [14], что он верно отразил «социальную коллизию... эпохи» [15], а в том, что духовноидеологическое измерение человека показано в зависимости от витального и социального. Причём комплексное воздействие на человека показано всесторонне и в принципе не сводимо к социальной, да ещё понимаемой как классово-социальная, доминанте. Делать Онегина символом реакционного и прогрессивного противостояния конкретных социальных сил конкретной эпохи – значит безнадёжно обеднить реальное содержание романа, да к тому же существенно исказить суть великого конкретно-исторического принципа познания. Конкретноисторический – значит не только «классово-социально конкретноисторический» (подобная абсолютизация одной коллизии – ортодоксально идеологична), но и духовно-исторический, Вечно-духовное тоже всегда имеет конкретно-исторический облик. И гениальность художника 29 заключается в том, сумеет ли он разглядеть за коллизиями конкретноисторическими (социально-политическими, моральными, экономическими, религиозными и т.д.) вечную коллизию человека, сквозь преходящее – вечное. Что главное, какая система ценностей является определяющей? – вот в чём вопрос. Социальная коллизия в «Онегине» – второстепенна, хотя и вполне отчётливо ощутима. Глубина реализма заключается в степени приближения к действительной глубине и сложности природы человека, в степени овладения логикой генезиса, механизмами формирования и развития личности. С этой точки зрения и классицизм, и романтизм, и модернизм и т.д. – в известной (всегда разной) степени реализм, но реализм, сильно искажённый моноидеологией, отражающей только лишь одну из сторон многогранного человека. Всё это можно было бы назвать «идеологическим реализмом», учитывая то, что элементы реализма всегда присутствуют. Реализм как таковой тяготеет к внеидеологическому подходу или по крайней мере стремится выработать некую универсальную сверхидеологию, в рамках которой уживались бы и «снимали» противоречия идеологии, тенденциозно «сужающие» реального человека. Из-за опасной по отношению к идеолгии (как правило, господствующей идеологии) аналитической установки классический реализм короновали невиданным для искусства определением: критический. Степень реализма, как это следует из его разбора, т.е. степень его идеологической ангажированности, – всегда разная. Универсальная система ценностей, выстраиваемая как принципиально внеидеологическая система, в искусстве чрезвычайно редка. Такой подход – предел искусства – можно охарактеризовать как оптимальную абсолютизацию критическо-аналитической установки, т.е. установки собственно научной. Степень реализма пушкинского романа – беспрецедентна для мировой литературы. Активно скучающий Онегин, если угодно, ищет ту систему ценностей, которая могла бы хоть как-то удовлетворить критериям величия, соответствующим мере его понимания. Один из пиков духовного развития Евгения Онегина приходится на то памятное «северное лето», когда наш герой жил «анахоретом» (глава четвёртая). Он неоднократно «явил души прямое благородство»: и в отношениях с Ленским, и в отношениях с Татьяной Лариной, от которой получил письмо-признание в любви. Это был момент относительной гармонии и внутреннего равновесия, когда Онегин предался «беспечной неге». «Вот жизнь Онегина святая», – резюмирует автор. Однако «красные летние дни» мелькнули и сменились своей противоположностью: «И вот уже трещат морозы» (таково противоречивое единство мира). Онегин «вдался в задумчивую лень». Но 30 задумчивость эта не была ещё разрушительной ни для него, ни для людей его окружающих. Напротив: именно в эту зиму он был согрет дружбой Ленского. Евгений терпимо (до мудрости ему было ещё далеко) относился к людям, которые считали себя счастливыми, прекрасно осознавая подоплёку такого их душевного состояния. В заключительной строфе четвёртой главы Пушкин в своём неподражаемом художественноаналитическом стиле даёт сначала формулу-образ счастливца, а затем его антипода, терзающегося от комплекса «горе от ума»: Он (Ленский – А.А.) был любим... по крайней мере Так думал он, и был счастлив. Стократ блажен, кто предан вере, Кто, хладный ум угомонив, Покоится в сердечной неге, Как пьяный путник на ночлеге, Или, нежней, как мотылёк, В весенний впившийся цветок... Счастливое состояние Татьяны складывается из тех же извечных психологических (иррациональных) компонентов: – веры, надежды, любви: Ты в ослепительной надежде, Блаженство тёмное зовёшь, Ты негу жизни узнаёшь, Ты пьёшь волшебный яд желаний, Тебя преследуют мечты... (В заключительной сцене романа Татьяна скажет: «А счастье было так возможно, Так близко!.».) Онегин понимает, что счастье «преданных вере» и «ослепительной надежде» (реальность, как мы знаем, не соответствует из желаниями) – удел человека комического, слепо идущего на поводу у потребностей и видящих только то, что хочется видеть. Однако и человек мыслящий платит также по-своему роковую цену за «благо» прозрения: Но жалок то, кто всё предвидит, Чья не кружится голова, Кто все движенья, все слова В их переводе ненавидит, Чьё сердце опыт остудил И забываться запретил! Что значит «движенья» и «слова» в их «переводе»? И почему их надо «ненавидеть»? Перевод движений и слов души может быть только на язык мысли, которая безжалостно обнажает перед сознанием (решающим завоеванием культуры) «жалкий» механизм веры. Человек всякий раз вынужден признаваться себе, что он игрушка страстей, что он раб природы, которая 31 вуалирует жесткий диктат под «благородными порывами». Поэтому мыслящий человек обречён ненавидеть себя комического – и в этом он велик. «Ненависть» делает его в чём-то свободным от природы, ибо он «предвидит» порядок её действий; но он человек, и ничто человеческое ему не чуждо. В этом – источник его трагизма. Счастье возможно только в обмен на величие; великая, мыслящая, разумная личность – обречена на трагизм («жалок тот»). Если принять во внимание амбивалентную интонацию, совмещающую полярную семантику, то «жалок» – взгляд «стократ блаженных»; лукавый же авторский гимн «пьяным путникам на ночлеге» – на деле является убийственной характеристикой безмозглым, но безобидным, «мотылькам», порхающим по поверхности жизни. Пока ещё Онегин находился в стадии «мягкого» просветлённого, пусть и не оптимистического трагизма. Но это была зыбкая, неустойчивая доминанта его жизни. Далее начинается принципиальное расхождение с автором, избравшим, как мы убедимся, иной вариант развития той же ситуации горе от ума. Впрочем, нам неизвестно, удалось ли автору в возрасте и ситуации Онегина избежать его зигзагов, и не были ли именно эти зигзаги ценой очередного прозрения автора. В конце шестой главы автор, не осуждая впрямую своего любимого героя (тут мы вполне оценим реплики вроде следующей: «Сноснее многих был Евгений»), даёт, тем не менее (истина – дороже), свой, характерно пушкинский вариант прощания с юностью, которая кончилась, как и у Онегина, тогда, когда «сладкие мечты» сменились «хладными мечтами»: Мечты! Мечты! Где ваша сладость? Где, вечная к ним рифма, младость? Обратим внимание: нет ехидной вражды к комизму, похожей на самобичевание; есть естественное сожаление: Познал я глас иных желаний, Познал я новую печаль; Для первых нет мне упований, А старой мне печали жаль. И, наконец, отношение к неизбежному, примирение с непоправимым: Но, так и быть: простимся дружно, О юность легкая моя! Благодарю за наслажденья, За грусть, за милые мученья, За шум, за бури, за пиры, Благодарю тебя. Тобою, Среди тревог и в тишине, Я насладился… и вполне; Довольно! С ясною душою Пускаюсь ныне в новый путь 32 От жизни прошлой отдохнуть. «Новый путь», «новая печаль», «иные желания» – вот перспектива, исполненная разумно-оптимистического трагизма. Простившись с юностью, автор, понимая, что жизнь и глупость, младость и страсть – едины и неделимы, настойчиво заклинает «младое вдохновенье»: Не дай остыть душе поэта, Ожесточиться, очерстветь, И, наконец, окаменеть. Автор как бы вскользь (все серьезное в трагикомическом романе говорится бегло или в шутку) демонстрирует нам удивительное отношение, крайне редкое, хотя, в сущности, нормальное: с достоинством принимать естественный ход вещей и при этом называть вещи своими именами. Именно такое отношение позволяет ему не ронять нравственный свой авторитет, не боясь при этом признаваться в слабостях. Между прочим, впервые мотив должного отношение к «легкой юности» и понимания ценности комизма прозвучал еще в конце второй главы: Покамест упивайтесь ею, Сей легкой жизнию, друзья! Ее ничтожность разумею И мало к ней привязан я; Для призраков закрыл я вежды; Но отдаленные надежды Тревожат сердце иногда... Между прочим, тогда же, уйдя от «мятежной власти страстей», Онегин говорил о них «с невольным вздохом сожаленья». Однако всё меняется роковым образом в пятой главе. Многослойный смысловой контекст для последующего сюжетного хода выписан настолько тщательно и продуманно, что содержательность его гораздо более значительна, чем вмещает сюжетный ход как таковой. Ленский вызывает Онегина на дуэль из-за дерзкого и, как показалось влюблённому поэту, оскорбительного поведения Евгения на балу в честь именин Татьяны. Онегин принимает вызов и убивает друга. Внешне всё выглядит случайным и маломотивированным. И тем не менее «суммы смыслов» и в этом моменте целостного романа поражают целенаправленной сконцентрированностью. Прежде всего самим именинам и последующим событиям предшествует пророческий сон Татьяны. Сон, несомненно, художественно неоднозначен и многопланов, однако главное в нём лежит едва ли не на поверхности: он подчёркивает иррациональность, необъяснимость событий, их хаотическую импульсивность, неподвластную уму. Не мистическая предсказанность впечатляет более всего, а именно реализация нелепого, «чудного», «страшного» сна (вспомним, что означает жизнь есть сон). Что произошло? Что послужило первопричиной столь неожиданных событий? 33 Причина будет уяснена тогда, когда мы оценим момент судьбы Онегина в контексте его жизни как завершённого целого. Итак: Чудак, попав на пир огромный, (т.е. за стол – А.А.) Уж был сердит. «Траги-нервическая» реакция Татьяны ещё более раздосадовала «чудака»: Надулся он и, негодуя, Поклялся Ленского взбесить И уж порядком отомстить. Онегина, казалось бы, раз и навсегда избавившегося от «мятежной власти» страстей, вновь захлёстывает волна эмоций. Причём он попал под чары самых низменных, капризно-эгоистических (все страсти по природе своей эгоистичны) страстей. На смену хандре и скуке – взрыв агрессивных чувств. Где логика: за что надо «порядком» мстить несчастному Ленскому? За то, что тот за дружеским бокалом вина передал ему приглашение Лариных? Это, конечно, повод, нелепый, как сон, и только на первый взгляд имеющий логическую форму. Сам характер и, так сказать, стиль мести многое говорит об истинных причинах, вызвавших её. Сначала двусмысленный, «чудно нежный» взор очей в сторону Татьяны; потом, согласно «науке страсти нежной», по всем правилам флирт с Ольгой. Ленский мой Всё видел: вспыхнул, сам не свой; В негодовании ревнивом Поэт конца мазурки ждёт. Цепная реакция гибельных эмоций мгновенно докатилась до естественной своей высшей точки: «нетерпеливая вражда» неминуемо кончается взаимоистреблением. Пистолетов пара, Две пули – больше ничего – Вдруг разрешать судьбу его. Рецидивы страсти вновь превратили Онегина в человека комического, легко опрокинув уже сформировавшиеся представления о том, что значит быть «мужем с честью и умом». Причём в Онегине взыграло самое тёмное, животное начало (он «ощетинился как зверь»). Вдруг, внезапно, без видимой причины его взманило «смертельное». Невидимая же, подспудная причина (если мы правильно подобрали ключ к зоне, где формируются мотивы поступков) заключается в следующем. Очевидно, Онегин в тот период, в отличие от умудрённого автора, так и не смог найти формулу сосуществования и взаимообогащения «сердца» и «ума». «комизма» и «величия». Ум лишь выставлял Евгению человека в «идиотском» свете, компрометировал неразумную жизнь, только лишь «ненавидя» унижающие мыслящего 34 «мужа» уловки (мечты, надежду, веру, любовь, счастье), но не разглядел в глупой жизни союзника умному человеку. Онегин, иначе говоря, развёл психику и сознание (уже эта духовная вершина даётся очень и очень немногим: «Немногих добровольный крест»; понимая это, автор сполна воздаёт должное своему герою), но далее констатации «взаимной разноты» не пошёл. Он поставил психику и сознание к барьеру, видя в них непримиримые начала, не понимая того, что они могут ужиться в человеке и стать источником «новой печали». Величественная трагедия как норма (умножая мудрость – умножаешь печаль) – до этого наш герой, увы, ещё не дошёл. Глубинная ошибка Евгения, если уж нам, следуя авторской традиции, называть вещи своими именами, состоит в том, что он сделал ставку на интеллект, разочаровавшись в человеке комическом. Прозрение его приняло форму недуга именно потому, что он, обретя в разуме достоинство, поставил вопрос: или – или. Постигнув идею «порядка», он стал настойчиво искать разумную систему ценностей, которая могла бы привести его к счастью. Однако жизнь и судьба (а если уж быть точным – вся человеческая культура) предлагала ему, умному человеку, представление о счастье только в одной форме: в форме идеологии. Хочешь быть счастливым – верь в свои иллюзии, в «призраки». Ни одна идеология не устраивала героя. Более того: идеологический уровень сознания как таковой исчерпал свои мировоззренческие возможности, перестал быть генератором мировоззренческих стратегий. Идейный тупик был вызван не тем, что личность не смогла найти точку опоры в виде приемлемой идеологии, а тем, что «идеологическое мировоззрение» (верю, потому что мне так кажется) обнаружило свою комическую, психо-эмоциональную зависимость. «Ума холодные наблюдения» уже не могли уживаться с жалкими миражами. Позднее Онегин в письме к Татьяне признаётся: Я думал: вольность и покой Замена счастью. То есть счастья – нет. Само по себе изживание могло быть и благотворно (автор отсылает нас к универсальной точке отсчёта: своей судьбе). Однако на какой основе, с каких позиций отрицает Онегин «природного» человека? С позиций отчаяния, бесперспективности, неконструктивности. Онегин утратил (а может быть, так и не приобрёл) целостность человека. Потворствуя холодному уму, «честно» лишая себя малейших иллюзий, разоблачая «однообразие» страстей – он лишал себя жизни. Остывание, охлаждение чувств – симптом укрепления ума, противостоящего жизни. Таков классический, с точки зрения не доверяющих разуму, эффект «горя от ума», когда абсолютизированный ум несёт только горе живому человеку. (Обратный эффект, когда более взвешенное и менее 35 идеологизированное обращение с тем же коварным разумом помогает разогнать унизительные потёмки души и при этом умудриться не встать в оппозицию жизни – зрелое сознание интерпретирует психику как «сук», на котором он располагается и рубить который, естественно, противопоказано – не считается классическим в силу своей немассовости, штучности, а значит незаметности на фоне основного отрицательного эффекта.) Впоследствии это дало основание таким корифеям, как Толстой и Достоевский, страстно разоблачать разум как весьма несовершенную и сомнительную основу духовной гармонии. Ничего удивительного, что Онегин диалектически взорвался. Жизнь оказалась хитрее «голого» разума. Тщетно ожидая от ума жизненной подпитки, того порядка, который позволил бы естественно жить и эмоциональной сфере, натура властно отбросила враждебный «хлад» ума и ввергла вчерашнего философа-интеллектуала в пучину страстей: только таким способом можно было возвратить его к жизни. Умный человек должен искать спасения в глупости – до этой «высшей смелости» Онегину надо было ещё дойти. Такая смелость есть результат не просто логического хода – а особый этап духовного развития. А пока что все пробудившиеся силы души Онегин направляет на уничтожение ненавистной жизни: на уязвление любви, на разрушение чувств поэта. Ленский с его комплексом «младости» непереносим именно как символ вселенской глупости и одновременно торжества жизни. (Кстати, в этом Онегин был глубоко прав. Набрасывая два варианта духовной судьбы, автор в первом случае говорит о Ленском как о поэте, в ком «погиб животворящий глас», во втором – его ждал «обыкновенный удел»: как у всех. Оба варианта – разные стороны человека комического, в ком никогда не возобладает разум.) Характерна реакция на картель (т.е. письменный вызов): Онегин с первого движенья, К послу такого порученья Оборотясь, без лишних слов Сказал, что он всегда готов. Евгений не раздумывает. Между действием и душевным импульсом уже нет не то что рефлексии, но даже и элементарной цензуры здравого смысла. Философ Онегин не просто убивает поэта Ленского (дуэль происходила «как в страшном, непонятном сне»); он убивает (или пытается убить) Ленского в себе. И только после кровавой дуэли выясняется, что жизненное начало неистребимо и его невозможно компенсировать никаким пониманием, осознанием и т.д. Онегину остаётся только жестоко раскаиваться. Отношения Онегина с Татьяной также подчинены «плану», логике становления духа – самому главному и важному из всего, что происходит с человеком в жизни. Всякое значительное произведение искусства 36 (отдаёт себе автор в этом отчёт или нет) зиждется на серьёзной концепции. Разумеется, исследователя художественного произведения всегда подстерегает опасность увлечься «красотой» концепции (своим детищем) и подгонять под неё полифункциональную символику, жонглируя цитатами и контрцитатами. Однако коль скоро концепция всё же объективно присутствует в целостно организованном произведении, то обнаружение её становится первостепенной задачей, невзирая на возможные субъективные искажения исследователя. Иного пути постижения творений художника просто не существует. В данном случае отношения Онегина с Татьяной, вплетаясь оригинальным рисунком в бесконечный жизненный узор, непринуждённо и естественно «ложатся» в концепцию. Более того, их отношения можно считать центральным «узлом», требующим для раскрытия своей экзистенциальной глубины контекста всего романа. Взаимоотношения героев, если их принять за точку отсчёта при анализе целостного произведения, – загадка, которую разрешает весь роман. Но поскольку мы уже нащупали ключ к роману, то загадка так и не станет загадкой, придавая вместе с тем необходимую ясность, стройность, смысловую полноту и завершённость «воздушной громаде» (А. Ахматова). В предпоследней строфе произведения автор назвал Татьяну «мой верный идеал» и тем самым, казалось бы, противопоставил её своему беспутному другу, который в идеалы, конечно, не годится. Но ничто так не противопоказано роману, ничто не является менее органичным способом его постижения, нежели формальная логика. Какова рыба – такова должна быть и сеть. Простоту, изящество и «воздушность» формул следует рассматривать не только в ближайшем, локальном контексте, но и в контексте концептуальной «громады», придающей любому «летучему» смыслу бытийный, вечный оттенок. Любой пушкинский тезис, как уже было отмечено, чреват антитезисом. Причём верными (совмещение несовместимого) являются оба – но в разных отношениях. Так устроены универсум, жизнь, человек, роман в стихах, автор, читатель. Так и отнесёмся к «верному идеалу». В этой связи вспомним: кто есть главный герой романа? В шутливой форме, обыгрывая как искусственную дань классицизму (иначе говоря – маскируя серьёзность), автор сам позаботился о том, чтобы точно расставить акценты. В заключительной строфе седьмой главы, оставляя тему «милой Татьяны», как бы импровизирующий автор в очередной раз подтверждает, что он ни на мгновенье не отходит от громады концепции: И в сторону свой путь направим, Чтоб не забыть, о ком пою... ............................... Пою приятеля младого И множество его причуд. 37 Благослови мой долгий труд, О ты, эпическая муза! И, верный посох мне вручив, Не дай блуждать мне вкось и вкрив. ……………………… Я классицизму отдал честь: Хоть поздно, а вступленье есть. В шутке есть доля шутки, но обратимся к серьёзной её стороне. Никакого блуждания нет, есть строгий и продуманный курс. «Вступленье», то есть концептуальная установка, ощутимо присутствует везде и во всем. Настоящим идеалом (если это выражение в данном случае уместно) является Евгений Онегин – один из тех немногих, кто мужественно избрал путь разума. Татьяна никак не проявила себя в качестве человека, трагически обречённого в схватке двух стихий: чувства и интеллекта, жизни и смерти. Автор – честь ему и хвала – говоря о Татьяне, не умалчивает лицемерно о разноприродных духовных и жизненных функциях мужчины и женщины – но определённо подчёркивает необходимость дифференциации двух противоположных начал. О Татьяне Лариной автор говорит именно как об идеале женщины, В чём суть идеала? По-своему органично он проявился уже в Ольге, между прочим, родной сестре Татьяны. Расхожий типаж («кокетка, ветреный ребёнок» – замечание, точнее, как всегда у Пушкина, глубоко продуманная характеристика, тем более ценно, что вырывается из уст влюблённого Ленского), он важен именно тем, что это типаж: всецело комический человек, которому неведомы раздирающие душу противоречия сердца и ума, поскольку сердце женщины так устроено, что не допускает появления равновеликого оппонента. «Ум с сердцем не в ладу» (суть формулы «горе от ума») в женской интерпретации подвергается существенной корректировке: сердце всегда право (более фривольно, но не менее точно: если женщина хочет...). Разумеется, Татьяна не только не лишена своего «родового» признака, но он даже усилён совершенно особым, только ей присущим шармом. «Комизм» человеческой натуры если не абсолютизированно, то наиболее полно и глубоко проявляющийся именно в женщине (вспомним, кстати: Онегин в своё время был «подобен ветреной Венере»...), в Татьяне обрёл привлекательную цельность и гармоничность. Она – естественный продукт природы. «Всё тихо, просто было в ней»: даже высший свет своей культурой не изменил её натуры. Она – продолжение природы (ни больше, ни меньше: см. прописанные в деталях условия жизни и воспитания), её орган и наиболее восхитительное проявление: со стихийными зачатками величия (отсюда – недетская задумчивость, склонность к глубоким, «умным чувствам», потрясающая интуиция, 38 позволяющая выделить именно Онегина, и даже предчувствовать его судьбу). Ум же – дело сугубо мужское. Наделив Татьяну «недугом», автор сам бы развенчал свой идеал. Но умный автор этого не сделал. Общаясь с женщиной – общаешься с природой. Вот почему Онегин, отторгая природу, отверг и совершенства Тани. Дело не в том, что Онегин оказался не на должной высоте и недооценил Татьяну (он как раз знал ей цену: Нашед мой прежний идеал, (какое согласие с автором!) Я, верно б, вас одну избрал В подруги дней моих печальных...); дело в том, что он оказался не готов к союзу со своей собственной «комической» изнанкой, своей первой природой (и, разумеется, с возможной невестой). Кстати, автор и здесь (не без мягкой иронии) с ним согласен: Меж тем как мы, враги Гимена, В домашней жизни зрим один Ряд утомительных картин... Ирония относится вот к чему: на то же самое можно посмотреть иными глазами; правда, для этого надо стать иным (искушённый автор, как всегда, духовно опережает растущего Онегина). Преображение Онегина (возвращение к старому – на новый лад, что и является, собственно, полноценным обновлением) началось уже до дуэли; дуэль укоренила перелом; завершился же цикл становления духа в столице, в свете – там, где Евгения настигла хандра и вынудила покинуть город. Круговое построение сюжета, подобно диалектической спирали, символизирует целостность, завершённость, самодостаточность – и вместе с тем открытость, готовность к обновлению. Присмотримся к скупому, но информационно очень насыщенному авторскому комментарию возвращения к истокам. Появление блудного Онегина свет – неизменный, самотождественный, вечно комический свет( т.е. практически – все люди), не изведавший школы разума – встречает, как и следовало ожидать, «неблагосклонно». С точки зрения света, трагическое прозрение равнозначно шутовскому «корченью чудака». (Поистине свет сошёл с ума: всё поставил с ног на голову!) Настороженный приём спровоцировал пафосную тираду, где автор решительно встаёт на сторону друга, горько осознавая, насколько тот выше «самолюбивых ничтожностей и насколько трагически одинок по причине своего превосходства. Одинок – по одной-единственной, вечно злободневной причине: он, к счастью для себя как для личности, стремящейся к самореализации (через самопознание) и таким образом выполняющей свой высший гуманистический долг, и к несчастью для себя как для одного из «избранной толпы» – непростительно, вызывающе умён и, вследствие этого, ориентирован на высшую свободу. Его, светского человека, ум и одарённость перестают быть его личным делом, 39 поскольку предлагают иной взгляд на мир, иную систему ценностей, по сравнению с которой обычные люди «как вы да я, как целый свет», глядящие на жизнь «как на обряд», оказываются теми, кто они есть на самом деле: «посредственностями «. Онегин покушается на святая святых – на охранительную идеологию, вскрывая её насквозь комический, приспособительный характер. Онегин, скажем прямо, не просто захандрил, а стал угрожать основам жизни. Разумеется, такое не прощается. Это странно, ненормально, он «корчит чудака» или, наконец, «сатанического урода», даже «демона» (в святом деле защиты жизни в выражениях можно не стесняться). Витающая тень «сумасшедшего» Чацкого («Он возвратился и попал, Как Чацкий, с корабля на бал») подчёркивает архетипичность ситуации. В широком смысле на противостояние общества и Онегина, его продукта и антипода, можно посмотреть как на «поединок роковой» психики и сознания, натуры и рациональной культуры. Если в своём духовном хозяйстве Евгений навёл относительный порядок, подчинив мятежи страстей и иррациональных порывов логическому, умственному началу (он относительно познал себя, а значит всех остальных, человека как такового), и тем самым самоутвердился, вкусив от древа познания, отделился от природы, встал над ней и просто осмелился взять принадлежащее только человеку право (кому ж ещё?) мыслить, судить – то «с точки зрения» психики (и обожествляющего витальные потребности общества) он вскормил её «врага», нарушил извечный закон жизни, передав стратегические мировоззренческие функции не диктатуре тёмных страстей, а просветляющему душу рассудку. Слепые страсти регулируют жизнь (когда разум спит), а разбуженный ум объясняет глупость страстей: Онегин проник в потаённую «механику» жизни – и замер от дерзости прозрения: Дожив без цели, без трудов До двадцати шести годов, Томясь в бездействии досуга, Без службы, без жены, без дел, Ничем заняться не умел. Если приложить к герою не только иронически перечисленные мерки «обряда», но и критерии индивидуального эволюционного «темпоритма», то мы должны будем признать, что духовная содержательность жизненной паузы – отдадим должное сверхтонкости автора – несомненна. Жизнетворчество – вот чем занят бездействующий герой. Война, объявленная Онегину обществом – это война между человеком комическим (психологическим) и человеком величественным (разумным, а значит – трагическим). Эти две модели культурного человека различаются типом сознания, типом управления сложнейшим информационным комплексом под названием человек – следовательно, 40 типом духовности. Онегин впервые честно явил миру реальные проблемы реального человека, развенчав мифические достоинства мифического человека. Культуре чувств, страстей он противопоставил культуру холодных наблюдений, увенчанный идеей порядка, общей гуманистической концепцией. «Горе от ума» имеет много смыслов: в отношении личности ум создал предпосылки величия, тут же назначив за колоссальный прорыв не всем посильную цену: отныне – трагичен; в отношении к обществу наличие ума – достаточный повод объявить человека врагом или, что хуже, сумасшедшим (вот где дьявольский ход: мыслителя – отождествить с безумцем). Стоит или нет личность, сконцентрировавшая в себе главное противоречие человека и культуры (и осознававшая его как главное), того, чтобы стать героем «громадного» романа? Стоило или нет автору «Руслана и Людмилы» рискнуть репутацией и открыто встать на сторону духовности, реально освобождающей человека от миражей?? Сам факт такого романа говорит о разумной вере в безусловные достоинства и неискоренимую жизнестойкость человека. Сам роман – памятник человеку. Кстати, почему воздвигнутый «долгим трудом» памятник обрёл в конечном счёте форму романа в стихах? Пушкин прекрасно осознавал различие между романом и романом в стихах. Общеизвестная цитата из письма к П.А. Вяземскому (3 ноября 1823г.) давно стала приложением к «Евгению Онегину»: «Что касается до моих занятий, я теперь пишу не роман, а роман в стихах – дьявольская разница». Если ответить на вопрос так: Пушкин написал роман в стихах потому, что был поэт – то это будет ответ совсем не на тот вопрос, который нас волнует. Я бы даже сказал, это по-детски наивный уход от ответа. Объяснять целесообразность романа в стихах гибкостью, эстетической завершённостью онегинской строфы, способной вместить любое содержание – это тоже уход от ответа. Значит ли это, что романэпопея или «просто» роман менее предрасположены к гибкости, открытости к разнородному содержанию и проч.? Характеристика художественных возможностей строфы – тоже ответ совсем на другой вопрос. Да, генезис строфы, её впечатляюшие эстетические достоинства – всё это имеет не последнее значение. Однако это не объясняет главного: зачем писать непременно роман в стихах, если есть множество иных, не менее впечатляющих форм? Очевидно, избранная Пушкиным форма обладает такими уникальными возможностями и функциями (не в них ли сфокусирована та самая «дьявольская разница»?), которые идеально соответствуют уникальному материалу и ради которых имело смысл роману придать форму едва ли не антиромана. Функций таких, на мой взгляд, несколько. 41 1. Опоэтизировать уникальность онегинской «духовной породы». Ведь что получилось: Пушкин поэтизирует, т.е. возводит в ранг возвышенной, ситуацию горе от ума, которая по природе своей мало поддаётся взволнованному лирическому воспеванию. Однако именно это сверхзадачей и вдохновлён роман. Поэтизировать можно природу, чувства Татьяны, «милые мученья» Ленского и т.д. Аналитический же склад ума Онегина – не тот материал, который навевает вдохновенные пафосные строки. Пушкин пошёл, так сказать, косвенным путём, поэтизируя не саму ситуацию, а чувства ей сопутствующие: хандру, печаль, одиночество, трагическую опустошённость, переживание бесперспективности, безнадёжной любви. В результате поэт-мыслитель создал особый поэтический ряд, раздвинув его за счёт ряда аналитического. Таким образом, уникальность ситуации востребовала уникальную поэтическую форму, а не поэтические склонности автора создали ситуацию. Иное дело, что реализовать подобную ситуацию мог действительно выдающийся поэтический гений. 2. Выделить и усилить символичность, архетипичность «странного» человека, дать лаконичную и предельно ёмкую модель – из тех, что тяготеют к вечным образам. 3. Объективные особенности лиро-эпического рода дают возможность предельно сблизить лирического героя с Онегиным. Вернёмся к линии Татьяны, отношения с которой завершили облик Онегина, сделав его символом разочарованного и в счастье, и в покое и воле, и в чувствах, и в уме – символом человека, которому достало ума, чтобы преодолеть бессознательный комизм жизни и, обретя величие, испытать глубокий трагизм; но ему не достало того же ума, чтобы преодолеть трагизм. Возвратившийся Онегин, который странствовал «без цели, доступный чувству одному» (подвижное смысловое ударение переместим на слово чувство), при первой же встрече с Татьяной, блестящей светской дамой, был сражён в сердце. Далее автор перечисляет все те симптомы, которые ещё вчера так раздражали Онегина: Мечтой то грустной, то прелестной Его встревожен поздний сон. .................................. Что с ним? В каком он странном сне! Что шевельнулось в глубине Души холодной и ленивой? Досада? Суетность? Иль вновь Забота юности – любовь? Мотив «жизнь есть сон» причудливо меняет издевательскосаркастическую интонацию на страстно-серьёзную: жизнь тогда в радость, когда всё как во сне. Логика страсти заставляет Евгения совершить тысячу глупостей: 42 В тоске любовных помышлений И день и ночь проводит он. Ума не внемля строгим пеням... В конце концов, «он пишет страстное посланье». Собрав остатки разума, Евгений объяснился с хладнокровной и непроницаемой княгиней: Я думал: вольность и покой Замена счастью, Боже мой! Как я ошибся, как наказан. Счастье всё-таки есть, несмотря на то, что оно категория психологическая и не выдерживает критики разума. Онегин, подобно всем верующим, которые «ничтоже сумняшеся» выбирают Христа, а не истину, готов отказаться от постылого разума, «постылой свободы» в обмен на «блаженство», на жизнь. Ведь влюблённость Онегина, как и хандра его, больше чем влюблённости, а именно: возвращение к жизни, мировоззренческий прорыв, последствия которого ещё только предстояло осмыслить. А пока – пока прежние, испытанные средства против страстей утратили свою действенную силу. Онегин «своё безумство проклинает», и начинает читать «без разбора». И что ж? Глаза его читали, Но мысли были далеко; Мечты, желания, печали Теснились в душу глубоко. Он меж печатными строками Читал духовными глазами Другие строки. В них-то он Был совершенно углублён. Ум, оказывается, способен быть спасительно-бессильным перед «воображеньем» и «магнетизмом». «В тоске безумных сожалений» Евгений падает к ногам Тани (как выясняется, «прежней», «бедной Тани»), выслушивает её по-своему убедительный урок. Но ничего не меняется. И здесь героя моего, В минуту, злую для него, Читатель, мы теперь оставим Надолго... навсегда. В эту минуту Евгений Как будто громом поражён. В какую бурю ощущений Теперь он сердцем погружён! И всё же Евгений – сумел подняться; он готов стоя встретить любой каприз фортуны: Она ушла. Стоит Евгений и т.д. 43 Читателю, способному на разносторонний и «полномасштабный» диалог с Пушкиным, нет смысла задаваться вопросом: что же дальше будет с «неисправленным чудаком» (от которого и в самый отчаянный момент принципиальный автор и не думает отрекаться: Примчался к ней, к своей Татьяне мой неисправленный чудак. ................................ И здесь героя моего...)? Пушкин, вопреки собственно сюжетной логике, не оборвал роман на самом интересном месте, а продуманно завершил его – так, что практически любое продолжение будет выглядеть лишним, поскольку мало что добавит в уже законченную картину. Противоядие от страстей – нам известно, противовес уму – страсти. Сумеет ли Онегин открыть для себя источник духовной гармонии, как это удалось сделать автору, который и поведал нам сию в высшей степени поучительную историю, – это уже мало что меняет. Он в принципе может сделать это – вот что главное; и это известно читателю. В каком-то смысле так истолкованному финалу концептуально противостоит «урок» Татьяны. Она в полном соответствии с непротиворечивой цельностью своей прямой и неизменной натуры, взращённой на благородных и предсказуемых идеалах верности, покорности долгу-жребию, без всякого пафоса объявляет Онегину: Я вышла замуж. Вы должны, Я вас прошу, меня оставить; Я знаю: в вашем сердце есть И гордость, и прямая честь. Я вас люблю (к чему лукавить?), Но я другому отдана; Я буду век ему верна. Она не изменилась, она все та же. Однако и Онегин воспринят ею как «неисправленный» герой. Если для автора такая комплиментарная характеристика подразумевает вечную изменчивость, парадоксальность Евгения, его, на поверхностный взгляд, непредсказуемость (хотя на самом деле он верен себе: он послушник своеобразной, «лукавой» логики, согласно которой вполне естественно безумно влюбиться в однажды разумно отвергнутую женщину), то для Татьяны неисправленный означает: не изменился, не способен меняться в лучшую сторону. Вот почему Татьяна называет любовь Онегина «обидной страстью», отчитывает его, как ничтожного ловеласа: А нынче! – что к моим ногам Вас привело? Какая малость! Как с вашим сердцем и умом Быть чувства мелкого рабом? 44 Татьяна считает, что Онегин охотится за нею именно как светский лев, которому важна победа не над Лариной Татьяной, а над богатой и знатной княгиней, которую «ласкает двор» и позор которой – «соблазнительная честь» для неотразимого донжуана. Кстати, Онегин в своём письме предвидел подобные упрёки как вполне естественные для Татьяны: Боюсь, в мольбе моей смиренной Увидит ваш суровый взор Затеи хитрости презренной – И слышу гневный ваш укор. Как видим, поведение Онегина подтвердило мнение о нём, составленное (тогда, правда, не окончательно) в «келье модной», в «молчаливом кабинете» (хозяин в то время странствовал без цели), где Татьяна пыталась вникнуть в душу «чудака печального и опасного» по избранным, неслучайным книгам, которые тот внимательно читал: Ужель загадку разрешила? Ужели слово найдено? «Слово», т.е. определение, таково: Онегин лишь «пародия», «подражание» модным героям модных романов с их «безнравственной душой» и «озлобленным умом». Если Татьяна права, и маска Евгения действительно стала его второй натурой, то Пушкин напрасно затеивал роман в стихах. Если всё же прав Пушкин, и Онегин достоин того, чтобы стать героем его романа, – значит, никакой маски не было, и Евгений всегда оставался самим собой. Следовательно, неправа Татьяна. Позиция той, что названа была поэтом «мой верный идеал», по отношению к опекаемому автором же «моему Евгению» вполне понятна, но недостаточно гибка и излишне ортодоксальна. Будучи прямодушной, она, не мудрствуя, по себе судит о других. Ей непонятна логика эволюции Онегина, который по-разному ведёт себя в сходных ситуациях. Ей, неискушённой в диалектических коллизиях ума и души, неспособной «лукавить», непонятно, что можно было жить «холодным умом» и искренне пренебрегать чувствами; ей непонятно, что можно было на одну и ту же ситуацию смотреть разными глазами; у неё не укладывается в голове, как можно так радикально меняться и не предавать при этом ни себя, ни других, оставаясь честным в обоих случаях. Короче говоря, Татьяна всегда жила только девственно чистым сердцем, и она требует того же от Онегина (любое другое отношение в её случае было бы фальшью или слабостью), вкусившего, к его счастью и несчастью, от древа познания добра и зла. Кому горше в этой ситуации: «бедной Тане» или умудрённому жизнью чудаку – решать читателю. Что касается автора романа, то он задаёт обманчиво примирительный, компромиссный тон, легко вуалируя серьёзный 45 принцип оценки (которому трудно противопоставить что-либо более конструктивное): каждый судит в меру своего понимания. Кто бы ни был ты, о мой читатель, Друг, недруг, я хочу с тобой Расстаться нынче как приятель. Прости. ..................... Дай бог, чтоб в этой книжке ты Для развлеченья, для мечты, Для сердца, для журнальных сшибок, Хотя крупицу мог найти. «Разноуровневый» подход к роману позволит и оправдать Татьяну, и обвинить Онегина, и поменять их местами, и т.д. И только универсальный подход даёт возможность оставить за каждым читателем и героем его правду, не поступаясь при этом правдой высшей (и не делая вид, что её не существует). Для этого надо каждый фрагмент «воздушной громады» соотносить с её реально существующей целостной многоуровневой структурой. Истинная гениальность автора, позволившая достичь ему без преувеличения беспрецедентных интуитивных прозрений, заключается в том, что он видит трагически ясным взором относительную правду и Татьяны, и Онегина. Каждый сам по себе – они правы: вот в чём беда. Следующий, высший этап самопознания должен заключаться в том, чтобы совместить несовместимое, решительно сблизить относительность правд, понимая: ум без души – нежизнеспособен; душа без ума – жизнеспособна только в вечно комической ипостаси. И Онегин, «на мертвеца похожий», без ложного кокетства отсчитывающий свои последние дни, делает этот последний «безумный» шаг – то ли не веря, что он нашёл выход из безнадёжной ситуации «горе от ума», то ли сожалея, что это случилось слишком поздно... Онегин, признаваясь в своей любви, дозрев до любви, провозгласил тем самым «принцип дополнительности», поделился откровением, что человек един, несмотря на раздирающие его странную природу противоречия. Евгений своим безрассудным поступком очень даже философски замкнул круг – и придал новые измерения и собственной судьбе, и роману. Сначала он удалился от света – и это было благом в плане духовном: одиночество стало условием и предпосылкой дальнейшего развития, собственно, условием продления жизни. Но когда Онегин оказался совершенно, радикально одинок, когда он галантно отверг чувства Тани, затем хладнокровно убил на поединке влюбленного пиита, единственного друга, – одиночество превратилось в свою противоположность: стало проекцией смерти, новым недугом. Покой и воля – это что-то из области пугающей вечности. Кандидату в покойники ничего другого не оставалось, кроме того, что бессмысленно и безумно вернуться в свет, вклиниться в толпу и упасть к ногам Тани. 46 Невозможно жить только умом, нельзя быть умнее или выше жизни. Круг Онегина – это и форма некой духовной борозды или траектории, и символ целостности, примирившей (смирение паче гордости) разумное и неразумное в человеке, и способ эстетически завершить роман в стихах, объединить «стихи и прозу». Все смысловые линии замкнулись в некое единое человеческое пространство – и воздушная громада поплыла по этому, если хотите, мистическому, как минимум, экзистенциальному кругу – символу бесконечности, неисчерпаемости, вечности… «Куда ж нам плыть?» Автор, нелогично завершая роман, возносит своего героя, делая последний его шаг кульминацией всего тщательно продуманного произведения. Кто знает (думается, данный жизненный узел намеренно не прояснён), возможно, автор многим, очень многим обязан именно беспутному Евгению, открывшему совершенно новые, неизведанные духовные горизонты. Иначе зачем было посвящать роман своему «странному спутнику»? Возникает вопрос: неужели А.С. Пушкин отдавал себе отчёт, осознавал, какой глубины идейная концепция лежит в основании его, созданного великим трудом, художественного творения? Можно даже заострить вопрос: способен ли был Пушкин в абстрактно-логической форме изложить и концептуально увязать (просопрягать, как сказал бы Л.Н. Толстой) те истины, которые он «оживил» художественно? Эта проблема – вечный пробный камень для литературоведа. При ответе на вопрос хотелось бы избежать туманности, проистекающей, как правило, от собственной запутанности, но не впасть при этом в определённость столь жёсткую, которая в свою очередь явилась бы формой заблуждения. Необходима «свободная определённость», которая заведомо не блокирует «фантазию сознания» (интеллектуальную интуицию), направленную на обнаружение богатства и многообразия смысловых оттенков и переходов в восприятии проблемы, как бы мерцающей неопределёнными смыслами (за которыми, тем не менее, сквозит недвусмысленная определённость), Хотелось бы быть определённым в ситуации, к определённости не располагающей (если не сказать – отторгающей её) в силу своей «двойной» природы. Нет и ещё раз нет: Пушкин не мог осознавать в полной мере значения той художественной модели, той громады, которая сотворена была его гением. Значит ли это, что поэт не ведал, что творил? Ещё более категоричное – нет. Чтобы понять логику ответов, надо разобраться (хотя бы вкратце, на уровне тезисов, которые, кстати, многое должны прояснить и в содержании самого романа) в природе художественного сознания. [16] 47 Существует два типа сознания: моделирующее и рефлектирующее. Первое способно образно-модельно воспроизводить мир, в бесконечных вариантах и вариациях реализуя свою творческую природу. Такое сознание «мыслит» наглядно-конкретными моделями, и оно призвано не понимать и объяснять, а именно моделировать, т.е. «показывать» целостные, неделимые клубки смыслов, выводимые из моделей-картин. Второе сознание – ничего не создаёт, оно исключительно анализирует (т.е. умозрительно разлагает всевозможные «модели» на элементы с последующим умозрительным же синтезом). Именно это сознание и «выводит» смысли из моделей, выявляя их внутреннюю согласованность, доходящую порой до степени концепции. В «чистом виде» эти два типа сознания не пересекаются, однако в чистом виде они на практике и не существуют. В различной степени одно сознание присутствует в другом. Это возможно потому, что рефлектирующее сознание возникло на основе моделирующего. Конкретно-образное мышление с течением времени становилось символическим (символ – уже обобщение целого класса предметов и явлений); символ же, в свою очередь, смог превратиться в нечто себе противоположное: в абстрактное понятие. Символический образ и понятие – это не просто два различных способа мышления; они выполняют совершенно разные функции. Отсюда – абсолютно разные возможности в отражении и познании мира. Творческий гений может изобразить всё – не обязательно при это осознавая и понимая (отдавая себе отчёт, т.е. рефлектируя – смысловую логику картин. Интуитивно поставленные в определённую зависимость отношения внутри художественно модели создают впечатление мощи интеллекта. На самом деле – это прежде всего изобразительновыразительная мощь, креативные потенции моделирующего сознания, часто беспомощного в объяснении того, что оно «натворило». Таковы психологические предпосылки всякого значительного художественного феномена – вопрос, относящийся к философии и психологии творчества. Если иметь в виду специфику моделирующего сознания, можно понять, как молодой человек сумел интуитивно «постичь» сложнейшие смыслы бытия. Моделирующее сознание подспудно вбирает в себя логику взаимоотношений разных сторон жизни, пропитывается ею, а потом умеет ярко воспроизвести её, Такое сознание «чувствует» и «ощущает» гораздо больше того, что оно «понимает». Жадно напитываясь картинами и образами, творческое сознание может «взорваться» и породить самые глобальные модели. В этом и состоит отличительная черта художественного слова. Рефлективный же комментарий модели уже вскрывает и объясняет как суть изображаемых феноменов, так и суть самого творческого процесса изображения. 48 Остаётся добавить, что моделирующее сознание функционирует на базе психики, рефлектирующее – сознания как такового. Вот почему именно «включение» рефлектирующего сознания помогает человеку понять себя (т.е. своё же собственное, тёмное, невнятное моделирующее сознание) и тем самым обрести величие. И Татьяна, и Ленский, не говоря уже обо всёх остальных героях романа (за исключением, разумеется, повествователя и Онегина), как тип личности были порождены сферой моделирующе-психологической. Уже в силу этого они счастливо избежали «недуга». Горе от ума им не грозило, поскольку трагической внутренней ошибке попросту неоткуда было взяться: не возникло достаточной разницы умственно-душевных потенциалов. Они – «комические» люди: не столько в том смысле, что непосредственно вызывают смех, сколько в смысле органической растворённости, невыделенности из природы. А духовные ценности, выстроенные исключительно на природном фундаменте, не могут не вызывать улыбки человека разумного, видящего за неубедительной идеологической ширмой подоплёку элементарных инстинктивных программ. На таком фоне контрастом выделяется величественная фигура Онегина (чем более он велик – тем более трагичен). Между прочим, в самом конце романа, развиваясь в сторону гармонии, понимаемой как диалектическое примирение противоположностей, он едва «не сделался поэтом» (в начале романа, как мы помним, склонный к «сухой теории» поклонник Адама Смита – вот она, генетическая предрасположенность к «хандре»! – «не мог... ямба от хорея... отличить» и «бранил Гомера, Феокрита»). Образ автора требует отдельного обширного исследования. В процессе анализа романа мы убедились, что автор духовно сумел пойти дальше Онегина. Весь живой и, если так можно выразиться, сбалансированный тон романа, созданный поэтом-мудрецом, заставляет нас сделать вывод, что присущий автору здоровый комизм уживается в нём с нескрываемым величием, а всё это вместе взятое соседствует с вовсе не надуманным трагизмом. Только так, в высшей степени диалектически, понятая жизнь, могла породить фантастическую по своим художественным достоинствам модель. Автор как незримая точка отсчёта в иерархически упорядоченной пушкинской модели, где одно сознание вмещает в себя другое, одно – более универсально по отношению к другому, автор выступает как некое сверхсознание, которое и придало качество целостности роману, вместившему «энциклопедию жизни». Сам автор как наиболее полное воплощение особой модели культурного человека (человека рационального, сумевшего не истребить в себе человека психологического, но в то же время вырваться из под его власти) заслуживает, конечно, обстоятельного культурологического и литературоведческого анализа. 49 Итак, трёхликость человека – вот истинный предмет Пушкина. «Ум с сердцем не в ладу»: диагноз Грибоедова был развёрнут и углублен до такой степени, что стал приговором не лишнему человеку, а целому свету, обществу. Художественно проанализировав хрестоматийную формулу «горе от ума» (которая, как и «лишний человек», была интуитивной догадкой, не более), Пушкин показал, что трагедия мудреца вовсе не в том, что он слишком много понимает. Суть проблемы заключается в том, что мыслительная деятельность, рефлексия как таковая противостоит жизни, с которой совместима только обслуживающая её (и противостоящая истине) психоидеология. Чтобы понять это, надо осознать «дьявольскую разницу» между психикой и сознанием – разницу, лежащую в основе особой концепции личности. Пушкин, конечно, не философ-психоаналитик, а всего лишь художник. Тем более впечатляет его безукоризненная с научнофилософской точки зрения модель, позволяющая сделать вывод: психика (душа) бессознательно приспосабливает, а сознание (ум) анализирует, разъясняет механизм приспособления. Вооружаясь умственно, личность обезоруживается в ином, не менее (если не более) важном отношении: ум обнаруживает иллюзорность психологической защиты, тем самым резко снижая её эффективность. Лишний человек уходит из-под власти и защиты веры, надежды и любви и остаётся один на один с реальным миром. Начинается поиск новой, более совершенной (и, заметим, более достойной) интеллектуальной защиты (где не обойтись, само собой, без элементов иррационально-психологических). Вот то зерно, откуда повелась «литературная евгеника». Сквозь призму такой концепции личности видна генетическая связь «Евгения Онегина» с романами и героями Лермонтова, Тургенева, Гончарова, Толстого, Достоевского, Чехова и др. Именно подобная концепция личности и ничто иное позволило пушкинскому роману стать точкой отсчёта: программой русского классического романа и программой русского литературного развития в целом. Н.В. Гоголь (кстати, наименее следовавший указанной пушкинской программе, однако не избегнувший чести быть последователем иных традиций великого поэта и прозаика) сделал пророческий и вместе с тем утопический прогноз: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет». [17] Если Гоголь прав, то слова его надо понимать как желание увидеть русского человека – образцовым человеком, лишним человеком, сверходарённым во всех смыслах и успешно реализующим свои задатки. Никогда такой человек, разумеется, не явится, ибо когда все станут лишними, тогда просто некому будет жить. Оценим другое: Пушкин в своём лице и в облике русского дворянина Евгения Онегина явил миру современный 50 гармонический идеал человека как такового, что без всякой ложной скромности следует признать значительнейшим завоеванием духа человеческого. Таковы истинные масштабы Александра Сергеевича Пушкина – масштабы личности, предопределившей многие художественные открытия одной из самых оригинальных и развитых литератур мира. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10т. /Изд-во АН СССР. – М.-Л., 1951. –Т.7, с.66-67. Там же. Там же. Там же. Там же, с.41-42. Там же, т.10, с.776. Непомнящий В.С. Поэзия и судьба. – М.: Советский писатель, 1983. – С.253-258. Там же, с.258-259. Здесь и далее текст романа «Евгений Онегин» цитируется по изданию: Пушкин А.С. Собр.соч.: В 6т. /Изд-во «Правда». – М., 1969. – Т.4. (курсив автора, жирный шрифт мой – А.А.). Андреев А.Н. Целостный анализ литературного произведения. – Минск: НМЦентр, 1995. – 144 с. Непомнящий В.С. Поэзия и судьба, – М.: Советский писатель, 1983. – С.262-263. Егоров А.В. Психика, сознание, религия // Чалавек. Грамадства. Свет. – 1997. – Вып.7. – С.68. Непомнящий В.С. Поэзия и судьба. – М.: Советский писатель, 1983. – С.263-264. Поспелов Г.Н. «Евгений Онегин» как реалистический роман // Вопросы методологии и поэтики: Сб. Статей. – М.: МГУ, 1983. – С.284. Там же, с.282. Андреев А.Н. Личность и культура. Культурология. – Минск: Дизайн ПРО, 1997. – 180 с. Гоголь Н.В. Собр.соч.: В 4т. /Изд-во «Правда». – М., 1968. – Т.4, – С.27. 51 2. «ЖЕНСКОЕ» КАК СТРУКТУРА ПЕРСОНАЖА В ЛИТЕРАТУРЕ (на материале романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин») Все «лишние люди», которые являются вовсе не лишними, а даже обязательными персонажами литературы как формы культуры (ибо лишние представляют собой модус функционирования личности в современном типе социума), так или иначе показаны в отношениях с женщинами. Лишний и любовь – понятия почему-то неразделимые. Почему? Потому что отношения женщина – мужчина представляют собой модус отношений психика – сознание, натура – культура. Выявление сущности культуры наиболее эффективно при контакте с ее противоположностью – натурой. Вот откуда эти бесконечные rendez vous, эти испытания любовью. Любовь любовью, однако не это делает роман романом, вопреки распространенном заблуждению, будто любовь и есть едва ли не решающий романный признак. Что стоит за любовью? Если за любовью не просматривается некий смысловой остаток, а ощущается только горькосладкий осадок, то перед нами не роман. Главная интрига романа, собственно, романный строительный материал, – это логика духовного становления человека (в «Евгении Онегине», в частности, – это логика духовного становления Онегина). А логика эта неумолима и неотменима (объективна), ибо она отражает закон: духовное становление – это путь от психического (бессознательного) освоения мира к сознательной – концептуальной, философской – регуляции. Внутренний сюжет романа, содержание (в точном смысле этого понятия) сводится к тому, что Онегин превращается из человека в личность, из нерассуждающего дамского угодника в умудренного философа. Способ такого превращения – мысль, умение думать, идти от частного к общему, от общего – к универсальному. В этом контексте любовь может представлять собой подлинно культурный сюжет (в основе которого – «воспитание чувств», где роль воспитателя, конечно, отводится разуму), ту самую интригу превращения человека в личность, а может так и остаться изящным «описанием чувств» разной продолжительности и интенсивности (то есть так и не стать проблемой разумного существования). Любовь любви рознь; любовь как проявление мужского начала в корне отличается от любви как способа женского существования. Тем не менее любви покорны не только все возрасты, но и натура, и культура, и мужчина, и женщина. Именно любовь выступает связующим звеном в жизни человека, трагически «поделенного» на мужчину и женщину, и вместе с тем стремящегося к спасительной целостности. Если присмотреться, как духовно (и, следовательно, эстетически) выстроен «мыслящий» герой А.С. Пушкина Евгений Онегин, то с удивлением можно обнаружить, что момент бессознательного (женского) играет в становлении умного персонажа едва ли не решающую роль. Почему Онегин так поклонялся «науке страсти нежной»? 52 Почему он вдруг перестал ей поклоняться, почему им вдруг «овладел» «недуг» («которого причину», если сознательно отнестись к «недугу», «давно бы отыскать пора»)? Почему он, покинув Петербург, отправился в деревню? Почему он, «философ», «сошелся» с поэтом Ленским? Почему он напросился в гости к Лариным, хотя прекрасно понимал бессмысленность этой затеи? Почему он с таким раздражением возвращался из гостей, вымещая свое забавное недовольство на ни в чем неповинном Ленском (между ними состоялась, по сути, микродуэль, своеобразная репетиция последующей гибельной дуэли)? Почему откликнулся на письмо Татьяны и добровольно поехал к ней на «исповедь» (поступая, между прочим, «очень мило»)? Почему он жил в деревне «святой» жизнью «анахорета»? Почему как-то раз зимой, обедая с Ленским, Онегин вдруг вспомнил о «соседках», о сестрах Лариных, причем первой назвал Татьяну? «Ну, что соседки? Что Татьяна? Что Ольга резвая твоя?» Почему вновь согласился «заглянуть», «заехать» к ним (повод – именины Татьяны), хотя прекрасно отдавал себе отчет, чем должен закончиться этот странно мотивированный визит? Почему он, «попав на пир огромный, уж был сердит»? Почему «взор очей» Евгения, который «молча поклонился» имениннице, «был чудно нежен»? Почему он вновь назначил виноватым в своей злобной хандре Ленского? Почему «отмстил» своему другу так жестоко и легкомысленно? Почему так глупо принял его глупый вызов на дуэль? Почему, понимая всю глупость положения, не исправил его (хотя мог бы)? Почему нажал на курок? Почему убил? Почему Ленского? Почему уехал? Почему вернулся? Почему в Петербург? Почему «дожив без цели, без трудов до двадцати шести годов, томясь в бездействии досуга, без службы, без жены, без дел, ничем заняться не сумел»? Наконец: почему вдруг влюбился в замужнюю Татьяну? И вдруг ли? Почему пишет ей письмо, понимая всю бессмысленность, «безумство» отчаянного жеста? Почему поехал к ней, выслушивать ее «исповедь», хотя, как всегда, «предвидел все»? Почему? Собственно, «мыслить» означает не что иное, как формулировать вопросы, намеченные безъязыким бессознательным, и пытаться на них ответить, чтобы тут же сформулировать новые вопросы. Мыслить – общаться с бессознательным; сознательно же общаться с бессознательным означает выяснять отношения между натурой и культурой. 53 Вот почему мыслящий герой все время ставит себя в тупик, то и дело задает себе трудноразрешимые загадки. Человек как дитя природы является загадкой для себя как личности, продукта культуры. Собственно, только этим он и интересен; только это может превратить его в субъект и объект эстетического познания – в героя романа, проще говоря. Вот и получается, что можно считать структурой персонажа ответы (потому что, потому что – и так далее), увязанные в систему, а можно – системно организованные вопросы (почему? почему?). В идеале, конечно, одно порождает, дополняет другое и, что принципиально, одно сливается с другим. Сознательное сливается с бессознательным; одно осознается как момент другого. Возникает целостно организованная информационная модель. Почему Онегин так поклонялся «науке страсти нежной»? Потому что в целостной системе «тело – душа – дух» начало витальное, психофизиологическое, информационно пока что довлело, временно главенствовало над ментальным, над духовно-психологическим. Почему Онегин вдруг перестал поклоняться «науке страсти нежной», почему им вдруг «овладел» «недуг» («которого причину», если сознательно отнестись к «недугу», «давно бы отыскать пора»)? Потому что он научился формулировать вопросы к себе, осознал, что он живет как существо бессознательное. Казалось бы, осознал и осознал. Однако существует закон сохранения информации, согласно которому, в частности, «кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей». Мыслишь, следовательно, презираешь существование без мысли; следовательно, презираешь себя самого, гения «науки страсти». Вот причина недуга. А следствия, вытекающие из этой «метафизической» причины, становятся причиной несчастий, вполне сопоставимых с катастрофой. Жить сознательно – значит, по определению, существовать автономно (личность – всегда отдельная единица в социуме, где счет идет на классы, касты и целевые аудитории). В психологическом плане жить сознательно – быть одиноким, в плане социальном – лишним. А вот существовать бессознательно – значит, по определению, тянуться к людям, жить совместно, семейно, не автономно. Татьяна, живущая, как и «все», жизнью бессознательной, может принять автономность Онегина только как «пародию», как бессмысленное чудачество, как временную моду на умонастроение. Онегин ее понимает, она его любит (любовь – это высшее проявление натур, чуждых сознательной регуляции). Отношения Онегина и Татьяны – это эталонные отношения эталонных мужчины и женщины. «Он» мыслит, и вследствие этого становится одиноким и лишним; «она» думает, что думает, и потому по себе судит о тех, кто способен мыслить. С ее точки зрения, «он» – жалкий путаник и беспринципный человек, «раб» «мелкого чувства»; с его точки зрения, «она» права уж тем, что является женщиной, от которой мысли может 54 требовать только дурак. Они фатально не могут быть вместе, однако они фатально обречены вечно тянуться друг к другу, как это делают ум и душа. Концовка экзистенциального сюжета романа в стихах далеко не случайна. «Недуг» определил судьбу. Почему он, покинув Петербург, отправился в деревню? Потому что в городе, столице, где, казалось бы, разум и культура должны определять жизнь духа, на самом деле люди живут страстями (хорошо, если «нежными»), думают желудком. Выбор деревни в этой ситуации становится жестом личности, формой протеста: лучше жить на природе, в природе и честно быть некультурным, естественным, чем делать вид, что ты выделился из природы и стал культурным. Такой выбор переводится на язык мысли следующим образом: в городах, где должна процветать культура, культуры не больше, чем в глухой деревне. Культура слаба; возможно, ее в принципе нет. Жест человека, не верящего в культурную природу человека, становится культурным по сути: перед нами уже сознательная регуляция поведения, противостоящая бессознательной. Онегин находится в культурном поиске, хотя и скрывает это от самого себя. Почему он, «философ», «сошелся» с поэтом Ленским? Потому что противоположности («противуречия», как сказано в романе) притягиваются друг к другу, сходятся. Это общая посылка (философская, однако, по своей сути: вот она, точка отсчета в модели мира, представленной в романе). В более конкретном плане союз философа и поэта – это модус единства ума и сердца, психики и сознания, культуры и натуры. Почему Онегин напросился в гости к Лариным, хотя прекрасно понимал бессмысленность этой затеи? Потому что сердцу не прикажешь: невозможно ограничить жизнь духа только функционированием мысли. Мыслить и, следовательно, презирать – недостаточно. Душа, пусть и мужская, требует любви, нравится это умуразуму или нет (уму, кстати, это не может не понравиться, что в романе и произошло). Онегин рвется к Лариным – к любви, хоть ему самому и неприятно это осознавать. И так далее. Подобная структура, подчеркнем, особенно важна для героя самостоятельно мыслящего, «самодостаточного» (автономного), отдающего себе отчет в том, как его сознание зависит от психики, мысли от чувств. Герой же приспосабливающийся, не способный к познанию и самопознанию, ограничивается только «вопросами», которые даже не осознаются как вопросы. В жизни и судьбе такого героя (а чаще – героинь) констатируется наличие какой-то вездесущей данности, присутствие некой скрытой логики, а какой – Бог весть. Сущность таких персонажей проявляется через обстоятельства, но не формируется «на глазах» у читателя; сущность эта, очевидно, задана априори. Если и происходят события, то они затрагивают не духовную вертикаль (отражающую движение от психики к сознанию), а духовную горизонталь: переживания, даже страсти-мордасти, так и не 55 трансформируются сначала в «мысль», а затем в «презрение» – чтобы вновь обострить «уже более глубокую мысль» и заставить ее принять «любовь» (чувства!) как одну из высших культурных ценностей. «Она была девушка, она была влюблена» (эпиграф к главе третьей, пер. с фр.): вот и вся сущность Татьяны Лариной. Так сказать, ларчик просто открывался. Получается, что любовь Онегина – это культурная ценность, а любовь Татьяны – проявление натуры. Не совсем так. Это сильное упрощение и искажение сути дела. Сердце Лариной – ларец! – таило в себе подлинные сокровища, которые помогли Онегину совершить культурные открытия. Без любви Татьяны не было бы любви Онегина; без женщины не появился и не состоялся бы мужчина. Строго говоря, вопрос, не требующий ответа (ибо подразумевается: любой ответ не исчерпает глубины вопроса), уже фактически есть культ мистического, иррационального, мягко говоря – чудесного, культ веры и надежды, культ женского (природного) начала в противовес мужскому (культурному). Либо мужское (философское) начало становится точкой отсчета в романе, модели универсума, либо женское (поэтическипсихологическое). Или сознание познает психику (персонаж мыслит) – или психика угнетает сознание (персонаж утопает в бессмысленных переживаниях). Роман как литературный жанр – это всегда роман (тип отношений) психики и сознания, содержание которого – любовь, тот сознательно-бессознательный симбиоз, где пересекаются и тщетно, но с предельной человеческой самоотдачей, пытаются «сплавиться» психика и сознание, нуждающиеся друг в друге. «Он» и «она» перестают быть вселенскими сиротами, однако цена за это единение – трагическое разочарование, цена за которое – моменты космической гармонии. Пушкин недвусмысленно назвал свой роман в стихах (вновь бессознательный призыв к гармонии, результату сознательного отношения!) «Евгений Онегин», однако заставил своего героя общаться с поэтами и женщинами, так сказать, искать счастья не только в культурно-философской, но и в природно-поэтической среде. В этом контексте Татьяна важна не сама по себе, а как объект отношений, характеризующих главного героя. Татьяна не претерпевает духовную эволюцию, равно как и Ольга, родная сестра Татьяны. Татьяна не мыслит, не познает. Она «выше этого»: она приспосабливается – с большим чувством такта и достоинства (можно сказать проще: с большим чувством). Если в романе главное путь от человека к личности, то следует сказать со всей определенностью: женщина не может быть героем, субъектом романа. Женщина не решает романные (культурные) задачи. Женщина нужна в романе постольку, поскольку там присутствует культурный герой – мужчина, стремящийся стать личностью. Мужчина – это причина, женщина и любовь – следствия, а роман – причинно-следственный дискурс. Отсюда – известные схематизм, заданность и одномерность женских образов (поскольку женское начало детерминировано натурой жестко и однозначно), всех, подчеркнем, 56 образов, в том числе (и прежде всего) таких хрестоматийных и «полнокровных» образов, какими являются в мировой литературе женские образы Тургенева и Толстого, восходящие к классической Татьяне Лариной. Женщина, реализующая свою природу во благо культуре, может быть только такой, и никакой иной. Собственно, это и есть «женщина на все времена». В этой связи отметим: образ женщины – это всегда образ психологически аранжированной пустоты, ибо это образ чувства, но не образ смысла. Что касается образа мужчины, образа личности, то он также многообразен и бесконечен в рамках жесткой культурной схемы: личность всегда решает универсальные задачи, стоящие перед человеком. Все мы в той или иной степени Евгении Онегины, нравится это кому-то или нет. Если ты не Евгений Онегин – значит, Татьяна Ларина; если не мужчина-личность, значит, женщина в облике мужчины. Третьего не дано. Чтобы не обвинять мужчин (писателей и литературоведов), времена или нравы, следует опять же не упускать из виду причину причин. Все дело в том, что сама литература как вид искусства строго специализируется относительно культурных функций. Истину ищет философия, оформляя свои поиски в виде универсальных законов; литература является культурно ориентированной в той мере, в какой она вмещает в себя потенциал философии. Литература, как и любовь, – маргинальна. Иными словами, «мужчины» и «женщины» как разные информационные комплексы, образующие единый космос, целостное человеческое, гуманитарное и философское пространство, – это язык литературы. Свобода творчества сводится к дилемме: или не замечать этой «обидной» зависимости, попадая в рабство к бессознательному (началу женскому), или подчиняться ей, обретая свободу выбора (выбор в культурном, а не в психологическом смысле, заметим, – это стремление лишить себя выбора, стремление выбрать закон, а не иллюзорную свободу от закона, это мужское дело). Закон, закрепощая, – освобождает; чувство независимости, освобождая, – закрепощает самым унизительным образом, ибо оставляет в дураках. Литература как форма культуры – стремится к закону, хотя делает вид, что избегает его. Вот почему в литературе мало культурных героев, и много героев, противостоящих культуре, как мужчин, так и женщин. Много пустоты, то есть бессознательного. Вместе с тем именно литература является способом преодоления этой пустоты, является связующим звеном между натурой и культурой, психикой и сознанием, мужчиной и женщиной. 57 3. ЧИТАТЕЛЬ КАК ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ (на материале романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин») Проблему читателя как предмета литературоведческого познания для начала можно приблизительно очертить с помощью комплекса вопросов (что само по себе свидетельствует о наличии читателя как актуальной, далекой от окончательного решения проблемы). В процессе аналитической работы это позволит перейти к определениям или компактным словесным формулировкам. 1. Можно ли рассматривать читателя как самостоятельный субъект сознания, реально структурирующий художественность произведения (то есть отчасти формирующий концепцию личности – ценностную систему отсчета – в произведении и, соответственно, стиль) и в этом смысле являющийся литературоведческой категорией? 2. Если да, то каково место читателя в системе автор (писатель) – повествователь (образ автора) – рассказчик – лирический герой (иначе говоря, в системе выявленных субъектов сознания)? В контексте целостной методологии сформулированные вопросы позволяют дифференцировать читателя как воспринимающее сознание (вполне автономное по отношению к художественности произведения) и читателя как воспринимающее сознание («запрограммированное» писателем!), которому отводится структурообразующая роль в художественном континууме. Итак, читатель интересует нас как компонент художественной структуры, и, соответственно, как литературоведческая категория. Однако, повторим и подчеркнем, мы можем изучать и читателя-реципиента – как специфического потребителя литературно-художественной информации. В этом случае мы меняем предмет познания, и даже саму науку: читатель становится предметом исследования социологии литературы, психологии, педагогики и, соответственно, превращается из литературоведческой в социологическую (педагогическую, психологическую и так далее) категорию. Проблема читателя связана с целым комплексом гуманитарных проблем: с психологией восприятия произведения, проблемами воспитания, образования, поведения. Следует иметь в виду подвижность границ исследуемого объекта, возможную (иногда невольную) переакцентировку, вызывающую подмену или размывание предмета изучения. В таких случаях следует называть вещи своими именами: читатель как воспринимающее сознание и читатель как категория литературоведения – это разные категории разных наук. Таким образом, читатель-реципиент представляет собой субъект сознания, воспринимающего произведение (сложно организованную информационную единицу – художественную целостность) извне; читатель является субъектом сознания, формирующим художественность произведения изнутри. 58 Как ни парадоксально, читатель-реципиент вынужден воспринимать читателя как носителя концептуальной информации, как компонент художественности. У читателя с читателем могут сложиться, а могут и не сложиться отношения. Обратимся к хрестоматийному во многих отношениях «Евгению Онегину», в том числе в отношении структуры субъектов сознания (так называемой субъектной организации произведения, которая представляет систему точек зрения на мир). Вот необходимый нам момент художественной целостности. (Текст цитируется по изданию: Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10 томах. Т. IV. – М., «Правда», 1981; жирным шрифтом выделено мной – А.А.) Гл. VIII, строфа XLIX Кто б ни был ты, о мой читатель, Друг, недруг, я хочу с тобой Расстаться нынче как приятель. Прости. Чего бы ты за мной Здесь ни искал в строфах небрежных, Воспоминаний ли мятежных, Отдохновенья ль от трудов, Живых картин, иль острых слов, Иль грамматических ошибок, Дай бог, чтоб в этой книжке ты Для развлеченья, для мечты, Для сердца, для журнальных сшибок Хотя крупицу мог найти. За сим расстанемся, прости! Автор (писатель), тоже, между прочим, понятие из арсенала литературоведческих категорий [1], достаточно четко формулирует свое отношение к читателю. Принципиально важно, что читатель видится писателю либо как друг, либо как недруг. (Это сделано, заметим, в самом конце произведения, однако в соответствии с логикой художественной в высококлассном произведении невозможно начало, которое не было бы промаркировано смысловыми вкраплениями, предвосхищающими «конечный результат»; и наоборот: концовка, как правило, проясняет начало; можно сказать и так: начало и конец могут в известном смысле меняться местами – в зависимости от избранной точки зрения на художественный космос, целостность.) В этой связи писатель обращается к читателю: 1) как к сокровенному субъекту диалога, читателю-другу, союзнику, единомышленнику; 2) как к субъекту-антагонисту, читателю-недругу. Образ читателя-друга обозначен еще в самом начале романа в стихах (что, как видим, уместно вспомнить в конце): 59 Гл. I, строфа II Друзья Людмилы и Руслана! С героем моего романа Без предисловий, сей же час Позвольте познакомить вас: Онегин, добрый мой приятель, Родился на брегах Невы, Где, может быть, родились вы Или блистали, мой читатель; (…). В конце романа писатель переходит со «своим читателем» на ты. Они сошлись. Что послужило причиной сближения? Обратим внимание: писатель на ты не только со своим читателем, но и с Онегиным, своим добрым приятелем. В этом контексте приятельские отношения разборчивого писателя-автора с читателем-другом не выглядят случайными. В «Евгении Онегине» чрезвычайно важен писательский прием, который становится способом сплести воедино интересы писателя и читателя, способом вовлечь одну сферу интересов в другую. Я имею в виду так называемые отступления (отступления от чего? от генеральной концептуальной линии произведения? но ничто так последовательно не раскрывает концепцию, как пресловутые отступления), которые представляют собой неотступное следование за неким законом личности, являются непосредственным посылом к читателю-другу (и, соответственно, способом завоевать нерасположение читателя-недруга, читателя-потребителя развлекательной информации). Отступления как нечто лишнее по отношению к стволовой сюжетной конструкции концентрируют в себе самое главное (что соотносится с философией романа: главным героем здесь становится очень умный, следовательно, лишний, с точки зрения социума-толпы, человек). Вот образчик общения писателя и читателя посредством отступления. Гл. I, строфа XXVIII Вот наш герой подъехал к сеням; Швейцара мимо он стрелой Взлетел по мраморным ступеням, Раправил волоса рукой, Вошел. Полна народу зала; Музыка уж греметь устала; Толпа мазуркой занята; Кругом и шум и теснота; Бренчат кавалергарда шпоры; Летают ножки милых дам; По их пленительным следам Летают пламенные взоры, 60 И ревом скрыпок заглушен Ревнивый шепот модных жен. XXIX Во дни веселий и желаний Я был от балов без ума... И далее в строфах XXIX – XXXIV первой главы (всего шесть строф) дается знаменитое отступление, посвященное «ножкам милых дам». После этого отступления – «вперед, вперед, моя исторья!» – вновь возвращение к Онегину: Что ж мой Онегин? Полусонный В постелю с бала едет он. При чем здесь ножки? Начнем с вольного обращения писателя «наш герой», особенно ценного потому, что это слово-воробей невольно, однако же естественно, слетело с уст («Вот наш герой подъехал к сеням»). Чей это «наш», спрашивается? «Наш» в контексте повествования – значит, добрый приятель писателя Пушкина, писателя-автора романа, читателя-друга, читателя-друга. Поскольку писатель уже отделен от писателя («всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной»: это, строго говоря, принцип размежевания родственных субъектов сознания в романе), последний может позволить себе порезвиться, поимпровизировать. Тем самым достигается, с одной стороны, эффект дружеской беседы, когда добрые приятели веселятся в тесном кругу («люблю я дружеские враки и дружеский бокал вина»), а с другой – история писателя как бы является продолжением истории Онегина, вплетается в нее, что вновь позволяет увидеть связь между теми, которых роднит сама «разность». Само игривое «отступление» посвящено тому периоду в жизни писателя, когда он весьма напоминал теперешнего Онегина («Во дни веселий и желаний Я был от балов без ума: Верней нет места для признаний И для вручения письма»). Ножки становятся символом «веселий и желаний», то есть бездумного отношения к жизни – той самой первой фазы жизни лишнего, когда он еще не замечает разности между собой и всеми, толпой, а все, естественно, принимают его за своего (ибо он, Онегин, «умен и очень мил», «как ты да я, да целый свет»). Вот при чем здесь ножки: они не при чем, не в них дело – дело в духовной близости тех субъектов сознания, которые способны сплотиться вокруг другого символа – Онегина. Писатель и читатель как родственные души находят друг друга в отступлении: это их автономизированная территория, их ареал обитания. Вот почему писатель с читателем на ты: они одной крови, одной духовной породы. Читатель становится проекцией писателя, в известном смысле превращается в его альтер эго. Так «мы» духовно размножаемся, 61 «нас» становится больше. До толпы, которая прирастает огромным количеством нулей, «нам» далеко, однако сам факт того, что Онегин не феноменально единичен, не фатально одинок (одиночество – это отчетливый символ смерти), должен убеждать читателей в том, что лишние жизнеспособны, – этот факт должен превращать некоторую часть читателей в читателей. У незримого читателя есть еще одна неявная, однако же обременительно-ответственная функция. Разделяя читателей на «друзей» и «недругов», писатель, тем не менее, обращается к ним скорбно-иронично «о мой читатель», то есть объединяет их своим обращением. Почему? Дело в том, что любой романтически возвышенный панегирик, адресованный читателю, одновременно представляет собой язвительнную филиппику, адресованную читателю. Идея единства противоположностей, которая своим философским светом буквально пронизывает роман от начала до конца, сквозит и в этом приеме. «Мой читатель» – это художественный модус единства противоположностей, это раздвоение субъекта сознания, которое, с одной стороны, объединяет писателя и читателя-друга перед лицом читателя-недруга, а с другой – заставляет искать духовных союзников именно среди недругов, среди кого же еще. Иного источника пополнения лишних попросту не существует. Писатель нуждается в читателе каким бы он ни был, кто б ни был он! Массовый читатель, скорее всего, его не поймет, однако писан писан все же для читателя, для кого же еще. Отсюда насмешливая и вместе с тем горькая интонация – неповторимая мелодия и несравненное достоинство пушкинского шедевра, которое превращает его в библейское по масштабам воздействия на воспринимающее сознание творение. Блистательное начало Главы восьмой – реакция на возвращение Онегина писателя и читателей – в этом отношении является своеобразным отступлением отступлений (строфы VII-XII). Гл. VIII, строфа IX - Зачем же так неблагосклонно Вы отзываетесь о нем? За то ль, что мы неугомонно Хлопочем, судим обо всем, Что пылких душ неосторожность Самолюбивую ничтожность Иль оскорбляет, иль смешит, Что ум, любя простор, теснит, Что слишком часто разговоры Принять мы рады за дела, Что глупость ветрена и зла, Что важным людям важны вздоры, И что посредственность одна Нам по плечу и не странна? 62 Далее – иронический панегирик (строфа X, «Блажен, кто смолоду был молод»), а всед за этим – романтическая филиппика (строфа XI, «Но грустно думать, что напрасно Была нам молодость дана»). Амбивалентность текста позволяет адресовать его любому читателю, ибо социоцентрическая составляющая является оборотной стороной персоноцентризма, и наоборот. Такие признаки читателя, как «благоразумие» (строфа XII, «Предметом став суждений шумных, Несносно (согласитесь в том) Между людей благоразумных Прослыть притворным чудаком, Или печальным сумасбродом, Иль сатаническим уродом, Иль даже Демоном моим») превращают его в оппозиционного читателя, читателя-недруга, своеобразный собирательный комический (сатирический) персонаж (которого мы видим, конечно, глазами читателя-друга). А вот если читатель разделяет мнение, согласно которому Несносно видеть пред собою Одних обедов длинный ряд, Глядеть на жизнь как на обряд И вслед за чинною толпою Идти, не разделяя с ней Ни общих мнений, ни страстей – то такой читатель референтен страстному тандему писатель – Онегин. Вот еще один образец тонкого объединения-размежевания, шутка, адресованная одновременно читателю-другу и читателю-недругу, каждый из которых, надо полагать, будет «судить» шутку в меру своей духовноэстетической подкованности. И вот уже трещат морозы И серебрятся средь полей… (Читатель ждет уж рифмы розы; На, вот возьми ее скорей!) (IV, XLII) По форме это обращение к читателю, который ориентирован на банальность, на «обряд», на внешнее, поверхностное восприятие – к читателю-недругу. «Возьми скорей» не только банальную, ожидаемую рифму; в «нашем» контексте провокация писателя прочитывается как «возьми свою правоту, не стесняйся, смело по себе суди о романе, с высоты своего низкого вкуса потешь себя, приятель, все равно ты возьмешь не то» – то есть писатель в свою очередь ожидает предсказуемой, банальной реакции. Все неожиданное в романе, внутренне противоречивое, подлинно глубокое адресовано читателю-другу, способному оценить, например, пассаж о розах и в таком парадоксальном ключе: если бы даже после морозов последовали розы безо всякого авторского иронического комментария, то надо же «взять» во внимание, что банальная рифма вовсе не банально поддерживает скрытое противостояние, пронизывающее весь роман: жизнь – смерть, эрос – танатос. Вот они, чудеса писательской подачи материала. И нашим, и вашим… Таким образом, читатель читателю рознь. Читатель как субъект сознания может выполнять разные функции. Сатирически изображенный 63 читатель становится характеристикой безликой толпы, а читатель-друг – это характеристика личности. Мнения читателя, каким бы он ни был, включаются в художественный дискурс, собственно, становятся им. Ответ на вопрос «а зачем, собственно, писателю (а также писателю) вводить образ читателя?» видится таким. Во-первых, это делается далеко не в каждом произведении – как правило, в тех, где главный герой-бунтарь, личность, противостоит серому социуму, и именно образ читателя, избранного или заурядного, помогает сориентироваться в расстановке сил; во-вторых, образ читателя (элемента социума) становится важной нюансировкой в ментальной палитре: это способ подчеркнуть одиночество героя (или, если угодно, воздать герою должное – поставить его на недосягаемую высоту, на персональный пьедестал); в-третьих, читатель – это способ обратиться к читателю, который появляется там, где эстетическое воздействие художественного произведения превращается в духовное, и тем самым попытаться разорвать порочный круг «горе от ума». Иными словами, сложность отношений личности с социумом и человеком (в том числе человеком в себе) представляет собой сложность таких порядков, которая требует ансамбля субъектов сознания. Все упирается в личность, в информационую сложность личности. Таким образом, читатель, равно как и писатель, – инструмент не всякой, а лишь персоноцентрически ориентированной литературы. В заключение последнее соображение, которое касается отношений читатель – литература. Художественная литература, ставшая предметом познания, описывается как сложная система систем (целостность), ключевые параметры которой можно обозначить следующим образом. Литература, художественность, стиль, писатель, проза, талант, книга, читатель, персона: это формы, в которых осуществляется культурная деятельность человека. Читатель в данном контексте, то есть читатель, друг читателя, – это культурный статус. Чтиво, автор, книга, потребитель: сегодня это формы невежества, противостоящие культуре. Субъектом литературы является личность, субъектом чтива – человек бездуховный (который в литературе коронован определением маленький человек – читатель-недруг, в нашей терминологии). Формами проявления личности являются писатель и читатель-друг, а формами проявления агрессивной бездуховности человека – читатель-недруг и потребитель. Выражение «скажи мне, какую литературу ты читаешь, и я скажу, какой ты читатель» сегодня в буквальном смысле становится инструментом духовной диагностики. ЛИТЕРАТУРА 64 1. Андреев А.Н. Автор (писатель) как литературоведческая категория // Андреев, А.Н. Теория литературы: личность, произведение, художественное творчество. Учебное пособие. В 2 ч. Ч. 2. – Минск, БГУ, 2004. – С. 14-19. 65 4. ШУТЛИВЫЙ ДИСКУРС КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН (на материале романа в стихах «Евгений Онегин») 1 Великую литературу от просто литературы, гениальную от просто хорошей, отличают три обстоятельства. 1. В плане содержательном великая литература отличается тем, что подлинным предметом изображения писателя становится процесс превращения человека в личность. Нет этого процесса – нет великой литературы. Такая литература превращается в способ «духовного производства человека». «Личность», с точки зрения духовноинформационных возможностей, отличается от «человека» количеством и качеством потребляемой и обрабатываемой духовной информации: в первом случае мы имеем дело с регуляцией процесса жизнедеятельности от «ума», с управлением сознательного типа, во втором – с регуляцией всех отношений с миром, в том числе с собой, от души, от психики (бессознательный тип регуляции). Разумеется, «человека» невозможно оторвать от «личности»: эти стороны человека, становящиеся функциями культуры, следует не только диалектически развести, но и диалектически увязать друг с другом, продлить одно измерение в другое. И все же в плане принципиальном, в плане различий между психикой и сознанием (становящихся, в свою очередь, проявлением различий между натурой и культурой), разграничения между разными субъектами культуры – налицо. В литературе заурядной главным героем становится по преимуществу «человек», в литературе великой (которая и является, собственно, художественной) – «личность». Итак, человека от личности отделяет способ управления духовной информацией. Способом превращения человека в личность выступает умение мыслить. Именно конфликт типов управления информацией и является объектом изображения в литературе, ибо все духовные коллизии человека коренятся в информационной природе конфликта. 2. Для того чтобы изобразить личность, требуются совершено особые навыки (здесь от плана содержания мы переходим к плану выражения, так сказать, от вещества художественности к ее технологии). Приращение смысла в произведении, организованном по законам художественности, происходит не по «частям» и не по «кусочкам», из которых лепится целое, а с помощью «единиц», которые можно назвать «моменты целого». Океан набирается из отдельных капель, которые содержат в себе все свойства океана. Гениальные романы, несмотря на свой чудовищный по художественным меркам объем состоят из фрагментов, которые так или иначе содержат в себе целое (например, «Война и мир», где каждая строка, реплика, каждый образ, каждая глава мало того что выверены и «отделаны», 66 они еще занимают строго отведенное им место в структуре целого, и самим местоположением – то есть сопряжением со всеми иными строками, репликами, образами, главами – концентрируют, «распределяют» и упорядочивают смыслы). Причем чем более качественных характеристик целого содержит отдельный фрагмент, тем он более индивидуален и выразителен – с одной стороны; а с другой – именно из уникальных в своей выразительности моментов структурируется то самое художественное целое. Собственно говоря, в этом и заключена природа художественности, природа мышления образного, оперирующего суммами смыслов, умеющего через «одно» (конкретное, единичное, уникальное) передавать «все» (абстрактное, общее, универсальное). Высшее, родовое проявление художественности – это когда в «одном» непременно отражается «все», и это «одно» направлено на воплощение личности. Для этого и только для этого необходим стиль. Стиль, иначе говоря, рождается там, где присутствует художественность, ибо это способ воплощения художественности. Таким образом, быть великим писателем – дело достаточно простое, за исключением того пустячка, что стать им невозможно: надо им родиться. (То же самое, кстати, следует сказать и в отношении литературоведов.) 3. Стиль, с помощью которого художественно передаётся процесс превращения человека в личность, неизменно стремится к тому, чтобы так или иначе реализовать свойства шутливого дискурса, ибо именно такой дискурс становится способом художественного существования сложнейшего философского материала (концептуального, внутренне противоречивого). Для демонстрации трех – триединых! – указанных фундаментальных положений мы обратимся к анализу излюбленного пушкинского стилевого приема – к шуткам, шутливым пассажам, в которых доля шуточного только увеличивает их серьезность (не лишая при этом прелести комического). Для начала улыбнемся совершенно неприметной, «проходной», на первый взгляд, шутке (не исключено, что многие и вовсе не разглядят здесь шуточного умысла), взятой из гениального романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (конец Главы четвертой, строфа XLVIII. Текст цитируется по изданию: Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10 томах. Т. IV. – М., «Правда», 1981). Чтобы понять и оценить весь ее смысл, надо воспринять ее в контексте целого, чрезвычайно сложно устроенного, романа. Итак, «беседуют друзья», Евгений Онегин и Владимир Ленский. Начинает Евгений (действие происходит в деревенской глуши, в имении Онегина, зимой, за обедом, у камина, в тот час, когда «вечерняя находит мгла»). «Ну, что соседки? Что Татьяна? Что Ольга резвая твоя?» - Налей еще мне полстакана… Довольно, милый… Вся семья Здорова; кланяться велели. Ах, милый, как похорошели У Ольги плечи, что за грудь! 67 Что за душа!.. Когда-нибудь Заедем к ним; ты их обяжешь; А то, мой друг, суди ты сам: Два раза заглянул, а там Уж к ним и носу не покажешь. Да вот… какой же я болван! Ты к ним на той неделе зван! На самом деле перед нами не два, а три участника беседы: кроме Онегина и Ленского «незримо присутствует» еще и автор-повествователь, иначе никакой шутки (которую мы выделили курсивом) и не получилось бы. Да вот, еще предполагается наличие читателя, но в каком качестве и на каких правах он будет участвовать в беседе, зависит от него. Читатель «зван», приглашен – он как субъект восприятия постоянно находится в поле зрения автора, является своего рода «обузой», с которой приходится считаться творческому сознанию (иначе сказать, читатель – «Кто б ни был ты, о мой читатель, Друг, недруг» – отчасти является действующим лицом произведения); если читатель («друг», личность) поймет и оценит всю глубину шутки, то будет «избран» – улыбнется вместе с повествователем, станет соавтором шутки, а если поймет неправильно, то попадет в число тех, над кем повествователь посмеивается – в число «недругов», не личностей. Шутки в гениальных произведениях – дело серьезное. По крайней мере, двое из участков беседы, повествователь и Онегин, относятся к тому крайне редкому роду людей, который мы квалифицировали как личность. Владимир Ленский явно не попадает в этот разряд: он всего лишь «простодушный» поэт, простой человек. Комизм ситуации в том, что он «проговаривается». Владимир сказал правду, но ту правду, которую ему, как поэту, говорить было не к лицу, так сказать, не по чину. Ведь «Он пел разлуку и печаль, И нечто, и туманну даль, И романтические розы»; «Он в песнях гордо сохранил Всегда возвышенные чувства»; «Он верил, что душа родная Соединиться с ним должна». Он был уполномочен, призван заботиться именно о душе (ибо он разделял миф о поэтах и поэзии). Поэт специализируется на неземном. И вдруг запросто признался, что все это шелуха, что на самом деле его интересуют в Ольге плечи и грудь, то есть начало телесное, вовсе не возвышенное. Он выболтал тайну, которую скрывал прежде всего от самого себя. Потом спохватился и вспомнил о душе, вспомнил о приличиях и о «чине». Но слово не воробей… Разумеется, это вызывает улыбку. Но это только первая, видимая часть шутки, выставленная на всеобщее обозрение. Главная (и подспудная) заключается в том, что представления Ленского о душе условны, фальшивы и мало чем отличаются от впечатлений, полученных от тех же «плеч», и это как никому другому известно Онегину. Онегин исходит из другой, вовсе не поэтической, философии человека. Для него, кроме души и связанных с нею чувств, самым ценным в человеке 68 является ум, разум. Нам (читателям) известно, что Онегин, когда ему было столько же лет, сколько «шутнику» Ленскому, сполна отдал дань чувствам, страстям – даже «науке страсти нежной». Нам известен также результат: «Кто жил и мыслил, тот не может, В душе не презирать людей». Собственно, это, умение мыслить, и есть начало зрелости человека. Евгений давно понял, что душа, то есть чувства, это способ завуалировать потребности тела, и цинично эксплуатировал это свое раннее знание («Как рано мог он лицемерить» и т.д.) – до тех пор, пока не осознал свою зависимость от тела, от телесных удовольствий как унизительную в духовном отношении. Философ Онегин живет умом, выстраивает свои отношения с миром на основе понимания. А поэт Ленский, который «сердцем милый был невежда», живет надеждами, «мечтою сладкой» (уже догадываясь, как видим, что поэзия – только флер, скрывающий нечто малопоэтическое, душевногрудное). Шутка обнажила иллюзорную природу душевно-поэтического отношения. Онегин Слушал Ленского с улыбкой. Поэта пылкий разговор И ум, еще в сужденьях зыбкой, И вечно вдохновенный взор, – Онегину все было ново (…). Евгений думал: Пускай покамест он (Ленский – А.А.) живет Да верит мира совершенству; Простим горячке юных лет И юный жар, и юный бред. Итак, шутка состоялась сразу в нескольких отношениях: она одновременно адресована тем «людям», тем читателям, которые, в принципе, находятся на стороне (и на уровне) Ленского, «верят мира совершенству», надеются и мечтают, – и тем, кто относится к «горячке» и «бреду» «с улыбкой». Первые никогда не поймут вторых, вторые никогда не разубедят первых. Если вы уловили только первую, «внешнюю», часть шутки, то не вы смеетесь последним, ибо вы поддались на поэтическую провокацию и не прошли тест на «философа»: вы также разделяете наивные взгляды Ленского, согласно которым в человеке есть тело и душа, а душа и есть тот самый дух, который вселяется в личность; вы попадаете в число тех, над кем смеется повествователь вместе с Онегиным. Строго говоря, даже если бы Ленский начал не с плеч, а с души, – все равно было бы смешно. А так – смешно вдвойне. Утешить вас может лишь то, что смех «приятелей» («Онегин, добрый мой приятель») не издевательский, а, скорее, горький: ведь такой смех – вариант проявления горя от ума. 69 Но и это еще не все. В шутке содержится романное пророчество: «резвая» Ольга, как известно, быстро забудет погибшего поэта, павшего от руки философа, лучшего своего друга (если не шутка, то ирония, причем, двойная), и выскочит замуж за улана. Мой бедный Ленский! изнывая, Не долго плакала она. Увы! Невеста молодая Своей печали неверна. Другой увлек ее вниманье, Другой успел ее страданье Любовной лестью усыпить, Улан сумел ее пленить, Улан любим ее душою… Променять поэта на улана. Что за душа! Ее не сразу разглядишь за грудью и плечами. Владимир (владеющий миром: этот мир создан явно не для одиноких евгениев, величественно-благородных гениев) Ленский верит в совершенства, но не умеет разбираться в людях, ибо он не умеет мыслить. Он проговаривается дважды. Он горько подшутил над собой, и, конечно, не заметил этого. А вот Онегин улыбнулся и по этому поводу. Если уж говорить о душе, то первой в этой связи следовало бы упомянуть Татьяну (что, собственно, Онегин и сделал: «Что Татьяна?»). Реакция Татьяны на проводы «молодых», Оли и улана, подтверждает, что ее душа тонко, чутко и глубоко отзывается на несовершенства мира: «Но Таня плакать не могла; Лишь смертной бледностью покрылось Ее печальное лицо». Не там, не там искал поэт душу, пылко озабоченный душевными проблемами. Еще один повод продлить горькую улыбку. Поэт ничего не понимает в душе, которую он поэтизирует, ибо понимание души предполагает умение мыслить, «жить и мыслить», влекущее за собой, в частности, такую неприятную вещь, как «презрение к людям» и проч. 2 Весь роман (и Глава первая в особенности) буквально соткан из перекликающихся разноплановых противоречий – из, если так можно выразиться, «умных» противоречий, где теза и антитеза нуждаются друг в друге, проясняются благодаря своим взаимоисключающим потенциалам. Кстати, Пушкин осознавал противоречивость романа как некий творческий принцип и специально акцентировал на это внимание в заключительной строфе Главы первой, словно предупреждая упрёки любителей трактовать противоречия как неувязку, как порок или изъян: Я думал уж о форме плана, И как героя назову; Покамест моего романа 70 Я кончил первую главу; Пересмотрел всё это строго: Противоречий очень много, Но их исправить не хочу... (Курсив мой – А.А.) «Форма плана» заключает в себе «очень много» противоречий, которые придирчивый автор видит, но не считает нужным исправлять. Что это: шутка? Кстати, а что такое шутка? Это способ существования противоречий, это некая внутренне противоречивая смысловая единица, которая и возникает как целостность благодаря «разрывающим» её изнутри противоречиям. Говорить шутками – значит, изъясняться противоречиво, и при этом серьёзно настаивать, что противоречия более, чем уместны, и не подлежат исправлению. Чего ж вам больше? Можно ли более определённо высказать своё отношение к шуткам? В этом контексте следующая шутка (опять же – просто набор противоречий) обращает на себя особенное внимание (IV строфа I главы). Он (Онегин – А.А.) по-французски совершенно Мог изъясняться и писал; Легко мазурку танцевал И кланялся непринужденно; Чего ж вам больше? Свет решил, Что он умен и очень мил. Обратим внимание на очень существенный момент: образ жизни молодого повесы (и, очевидно, сопутствующий образ мыслей) не был чем-то примечательным, особо выделяющимся, из ряда вон выходящим. Напротив: отличительная его особенность состоит в том, что он был как все. Онегин был прилежный «воспитанник» мод и света, естественно (не задумываясь) впитавший все культурные стандарты и нормативы среды. Если молодой человек «совершенно» владеет французским, «легко» танцует мазурку и кланяется «непринужденно» (дан исключительно внешний ряд), свет прозорливо решает: «он умён и очень мил». «Умён» – ибо принял правила игры общества, стал как все, не стремится быть умнее других. Отсюда и более чем благосклонная аттестация. Умён – звучит не только как убийственная ирония по отношению к свету, который по манерам и внешности судит об уме, но и как горькая ирония: действительно умные в глазах «людей благоразумных» тут же будут окрещены «сумасбродами», «притворными чудаками» и проч. (VIII глава). До поры до времени Онегин был «примерным» человеком света, можно сказать, образцом светских добродетелей – до той поры, пока им не овладел «недуг», а именно: стремление мыслить (недуг, который, оказавшись формой прозрения, окончательно излечил его от недуга «быть никем»). Вот когда он стал «жить и мыслить», перестал быть «как все», Все дружбу прекратили с ним. «Сосед наш неуч, сумасбродит, 71 Он фармазон; он пьет одно Стаканом красное вино; Он дамам к ручке не подхлодит; Всё да да нет; не скажет да-с Иль нет-с». Таков был общий глас. (Глава II, строфа V) Автор-повествователь шутит – только вот где начинаются его шутки и где они заканчиваются? Критерием выступает не «чувство юмора», а умение «чувствовать» общую концепцию романа (то есть, соотносить каждую шутку-каплю с «океаном»), реализованную через шутливый дискурс, который отражает процесс превращения человека в личность. Шутка становится инструментом мышления. Только и всего. 3 А вот и вовсе детская шутка – простой, но, как мне представляется, убедительный пример превращения художественного текста из предмета школьного (в широком смысле: не научного) анализа в предмет исследования литературоведческого (философского – следовательно, целостного, то есть научного). Отрывок из «Евгения Онегина» (начало Главы пятой). I В тот год осенняя погода Стояла долго на дворе, Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе На третье в ночь. (…) II Зима!.. Крестьянин торжествуя На дровнях обновляет путь; Его лошадка, снег почуя, Плетется рысью как-нибудь; Бразды пушистые взрывая, Летит кибитка удалая; Ямщик сидит на облучке В тулупе, красном кушаке. Вот бегает дворовый мальчик, В салазки жучку посадив, Себя в коня преобразив; Шалун уж заморозил пальчик: Ему и больно, и смешно, А мать грозит ему в окно… 72 III Но, может быть, такого рода Картины вас не привлекут: Все это низкая природа; Изящного не много тут. (…) Отрывок из романа «Евгений Онегин» («Зима!.. Крестьянин торжествуя…») изучается в школе, в пятом классе, в разделе «Писатели о природе» под рубрикой «Стихотворения русских поэтов XIX века о природе», наряду со стихотворениями Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова (к которым по праву можно присовокупить стихотворения Вяземского, Баратынского). Фрагмент романа изымается из сложнейшего семантического контекста, который способен уяснить себе далеко не каждый взрослый (роман до сих пор в должной мере не понят и не оценен «прогрессивным человечеством», не говоря уже о средней школе) и превращается в «пейзажную лирику», которая, в принципе, понятна и ребенку. Пушкина интересует не природа, а природа человека – не натура, а натура, становящаяся культурой. В школе же изучается не отрывок из романа «Евгений Онегин», не пушкинский художественный текст, а некий совершенно условный «веселый» «текст» про крестьянина и лошадку, мальчика и жучку, напрочь лишенный философской нагрузки, собственно, и делающей этот текст высокохудожественным. Парадокс, однако, заключается в том, что, убрав из «текста» все пушкинское, все «лишнее» (информация о «лишних людях» до сих пор воспринимается как лишняя), мы получаем нечто «выразительное о зиме», вполне пригодное для изучения в школе. Формально автором текста, обладающего эстетическим измерением, является великий А.С. Пушкин. Таким образом, социальная и эстетическая нагрузка текста становятся важнее художественно-философской. Это просто беда гуманитарных наук: не замечать главного. Природа, «низкая природа», описанная столь поэтически, если не возвышенно (роман в стихах предоставляет такую уникальную возможность), станет, в конце концов, для мыслящего, и потому сторонящегося «низких» проявлений природы Онегина («Кто жил и мыслил, тот не может, В душе не презирать людей»: мыслить – значит, к сожалению, презирать), необходимым компонентом счастья, войдет в состав жизнеспособного типа духовности. Мыслить – значит, к счастью, не презирать то, что, казалось бы, заслуживает презрения. Таков многомерный симфонический концептуальный контрапункт отрывка «про жучку». Обратим внимание: сначала лошадка везет крестьянина, а потом мальчик, «себя в коня преобразив», – собачку. Люди и животные запросто меняются местами, без проблем «понимая» друг друга. Человек, простой, нерассуждающий человек не выделился из природы, он весьма напоминает 73 «братьев своих меньших» – и в этом есть своя прелесть, эти «низкие» радости (крестьянин «торжествует», шалуну-мальчику «и больно, и смешно») тоже возвышают человека. Человек устроен сложнее, чем думалось на тот момент Онегину. Он, человек, не раскладывается на мысль и чувство, на высокую культуру и низкую натуру. Он един. Ему и больно, и смешно – и при этом он способен мыслить. В этом фрагменте повествователь противостоит Онегину («Всегда я рад заметить разность Между Онегиным и мной») – человеку редкой духовной породы, имя которой личность, человеку, который мыслил настолько глубоко, что, наконец, перестал унижаться до презрения. Мыслящий Онегин оказался в состоянии дойти до той степени зрелого ума (разума), с которой начинается мудрость: он влюбился, разрешил себе «торжествовать», открыто проявлять чувства. В этом контексте противостоять Онегину – значит, в конце произведения пожать руку главному герою, «приятелю младому», именем которого назван роман в стихах. Для Онегина, пребывающего на той стадии активной духовной эволюции, на которой он находился в начале Главы пятой, для героя, отвергшего чувства Татьяны (любовь, что ни говори, – это в значительной степени проявление «низкой природы»), для «чудака», который вскоре убьет своего друга-поэта на дуэли (поэт, что ни говори, – это культ чувств в ущерб культу мысли, то есть все тот же диктат все той же «натуры»), – для Евгения поэтическая сторона «низкой природы» была пока что роковым образом недоступна. Татьяна, кстати, «С ее холодною красою Любила русскую зиму», повествователь – тоже; если уж на то пошло, все люди любят и ценят красу природы. Онегин же скучал – и зимой, и летом (вспомним: «Деревня, где скучал Евгений, Была прелестный уголок»). Любовь, природа, поэзия, чувства, в том числе (и прежде всего) собственные чувства – все это проявления натуры, которая, с точки зрения незрелой культуры, с позиций «мыслящего» интеллекта (некоего абстрактно-теоретического, логического расклада), заслуживает презрения. Натура как «прелестная» составляющая культуры – это уже задачка не для интеллекта, а для разума, «задачка», с которой Онегин в конечном счете справился. Те же, кто не равнодушен к прелестям «пейзажной лирики», кто в восторге от проказ мальчика и его жучки, как правило, Онегина не слишком жалуют. Разве это не смешно? Кроме того, «предостерегая» от одномерности восприятия собственно поэтического, не романно-поэтического, Пушкин продолжает в шутливом тоне (отсылая читателя к стихам «другого поэта», Вяземского, и к «певцу финляндки» Баратынскому – к поэтам, коллегам Ленского по «цеху задорному»): Согретый вдохновенья богом, Другой поэт роскошным слогом Живописал нам первый снег И все оттенки зимних нег; Он вас пленит, я в том уверен, 74 Рисуя в пламенных стихах Прогулки тайные в санях; Но я бороться не намерен Ни с ним покаместь, ни с тобой, Певец финляндки молодой! Скрытый смысл шутки в том, что на поэтически описанную зиму в контексте романа нельзя смотреть как на законченное стихотворение (автор «бороться не намерен» с поэтами); это не просто описание зимы, а описание зимы повествователем, оппонирующим Онегину (которого он, тем не менее, восхищенно «поёт»): дьявольская разница. Это поэтический намек, понятный лишь принципиально не поэтически (а эпически) устроенному сознанию. Ау, читатель, «друг»! Таково философское содержание пушкинского текста в целом и, в частности, того «отрывка», который в качестве образца «пейзажной лирики» представлен чутким пятиклассникам. 4 Вот шутка иного рода, где литературные аллюзии также присутствуют, однако они выполняют совершенно другую функцию (последняя, LV строфа предпоследней, VII главы). Но здесь с победою поздравим Татьяну милую мою (она завоевала сердце «важного генерала» - А.А.) И в сторону свой путь направим, Чтоб не забыть, о ком пою… Да, кстати, здесь о том два слова: Пою приятеля младого И множество его причуд. Благослови мой долгий труд, О ты, эпическая муза! И, верный посох мне вручив, Не дай блуждать мне вкось и вкрив. Довольно. С плеч долой обуза! Я классицизму отдал честь: Хоть поздно, а вступленье есть. «Хоть поздно, а вступленье есть» – это, конечно, пародийное обыгрывание поэтической нормативности классицизма – той нормативности, которая заставляет трактовать человека как свод условных добродетелей или пороков; узор и кладезь таких добродетелей, увы, Татьяна Ларина (ларец!), «в стороне» от которой – опять же, увы, – пролегает магистральное русло романа. 75 А теперь представим себе, что все, выделенное авторским курсивом, – это действительно вступление. Поместим его в начало романа – скажем, вслед за первым вступлением (посвящением П.А. Плетнёву «Не мысля гордый свет забавить»). В таком случае функция второго, «замаскированного» вступления меняет свой вектор на противоположный (фокус, трюк – лучше сказать, шутка): это не столько «отдание чести классицизму», сколько в самом что ни на есть реалистическом ключе продолжение диалога с вдумчивым читателем, для которого все шутки – культурный код, культурный язык, но вовсе не забава. Перед последней, восьмой, главой автор «шутливо» напоминает искушенному читателю (дав понять, что сам постоянно держит это в голове: «обуза»!): не питайте иллюзий, не блуждайте: главный герой моего романа – противоречивый отнюдь не в духе одномерного классицизма, и потому по-человечески содержательный Евгений Онегин (но никак не статичная, и потому по-женски симпатичная, Татьяна), да, да, тот самый «неисправленный чудак», а не «мой верный идеал», как могло бы показаться. Где тут шутки? До слез не смешно. 5 И под конец совсем уж не смешное, к чему привели, однако, шуточки автора. Отношения Онегина и Татьяны – это языком искусства представленная версия сосуществования культуры и натуры, в образах воплощенная попытка культурного существа, мужчины, жить в любви и согласии с женщиной, жить одновременно по законам и культуры, и натуры, не унижаясь при этом до отрицания последних, но и не скрывая, что культура, будучи высшей духовно-информационной инстанцией, вовсе не собирается играть в прятки с натурой. Пушкин показывает: умный мужчина должен дозреть до любви, тонкая женщина раскрывает свою тонкость в любви. Но это отнюдь не означает, что любовь непременно станет способом их существования (хотя, конечно, помогает им стать теми, кем они способны стать). Мужчина и женщина не только тянутся, притягиваются друг к другу – но и отталкиваются друг от друга, демонстрируя невозможность слияния субъектов разной информационной природы: натура берет свое, а культура противостоит натуре. Непреодолимое притяжение и одновременное взаимоотторжение: не смешно? В этой «шутке» – голая правда чувств, «честно» обслуживающих императивы натуры, и умных чувств (тоска, отчаяние, боль, разочарование), появившихся в результате функционирования сознания. И смех, и грех. Вот почему глубокий драматизм, граничащий с трагизмом (для краткости будем называть этот симбиоз трагизмом: это не совсем верно, но, надеюсь, более понятно), неизбежный трагизм в любви становится наиболее 76 адекватной и впечатляющей формой сосуществования натуры и культуры. Есть, конечно, и иные формы; например, вариант тотального подчинения женского начала – мужскому (любовь как составляющая по-своему гармонических героических отношений), или мужского – женскому (своего рода комическая гармония). Однако свободное волеизъявление мужского (культурного) и женского (природного) начал неизбежно приводят не только к глубине и высшей гармонии, но и к трагизму. Похоже, отменить этот закон не представляется возможным. Закон любви становится одним из проявлений универсального закона сохранения информации. Можно сколько угодно причитать по поводу того, что любовь, дескать, это чудо из чудес и вечная загадка, практически – тайна величайшая, и умом ее не понять; что невозможно алгеброй поверить чувства, что логика чувств неподвластна никаким законам, несоизмерима с понятием «познание». Аргументов из арсенала формальной логики Татьяны – не счесть. Однако и на стороне Онегина есть неотразимый аргумент: если бы в любви невозможно было обнаружить закон, жить было бы по-настоящему скучно. А так – жить можно. Вот какого порядка рассказана нам история про мужчину и женщину. Тут уже не сила чувств впечатляет, как, скажем в «Ромео и Джульетте», пьесе ощущений, а обнаруженная закономерность несовпадения чувств зрелого мужчины (личности) и зрелой женщины (человека, неспособного стать личностью). В романе нет проблемы силы чувств, проблемы контроля над страстью; роман о человеке, в котором проснулась личность, роман о романе натуры и культуры. Таким образом, любовь – это всегда испытание, всегда культурный вызов: жизнеспособность любви зависит от того, найдена ли гармония между чувством и умом. Если найдена, увы, тут уже рукой подать до трагизма, чреватого комизмом. Сам роман, согласимся с повествователем, есть не что иное, как «Ума холодных наблюдений И сердца горестных замет». Любовь должна стать способом реализации (проявления) личности, в противном случае она неизбежно превратится в способ деградации личности. Союз мужчины и женщины вполне может существовать и без любви («я другому отдана; Я буду век ему верна»: Татьяна, созданная для любви, вовсе не собирается без любви умирать); присутствие любви в отношениях становится фактором духовнообразующим – пока что, увы, факультативным для людей. В романах, подобных «Евгению Онегину», несчастная концовка становится вариантом трагически счастливой комбинации (ведь смешно же, если разобраться), а счастливая концовка выглядела бы откатом на позиции доличностные (что, согласимся, смешно вдвойне). Цена несчастной (счастливой) концовки в культурном смысле очень высока. Итак, культурно содержательны лишь отношения умного мужчины (субъекта сознания) и тонко чувствующей женщины (субъекта 77 высокоорганизованной психики); все остальные отношения – это наивные попытки завуалировать главные отношения, отношения сознания и психики. А отношения стремящихся навстречу друг другу «ума» и «чувства» – всегда смешны, как и все то, что обречено на очевидный провал; однако при всей нелепости благородного побуждения «а давайте совмещать несовместимое! давайте жить дружно, стремиться к счастью!» в отношениях этих нет ни капли смешного: это форма существования трагического. Именно так. Само по себе трагическое непременно включает в себя момент иронии. Получается: тот, кто не делает смешной, обреченной на неудачу попытки, тот попросту не живет. Тот самый смех и грех: смеяться грешно, а не смеяться – глупо. Вот почему шутки являются оборотной, комической стороной трагического: и там, и там с экзистенциальным скрипом происходит сочетание несочетаемого, трагикомедия (современная форма трагедии) становится эстетическим модусом «единства противоположностей» – собственно, художественной диалектикой во плоти. Шутка становится симптомом присутствия диалектики в художественной ткани. Вот почему шутливый тон как форма существования невозможного как бы самим фактом своего присутствия в тексте «доказывает», внушает надежду, что мужчина и женщина могут быть вместе, должны быть вместе – именно потому, что это невозможно. Шутливый прием нагружен философией до такой степени, что смешного в романе практически нет ничего. Смешно, не правда ли? Таким образом, мы видим, что в шутках, ставших поэтической тканью романа в стихах, меньше всего шуточного. Зубоскальство убого смешно тогда, когда оно глупо, одномерно (да и то для тех, кто не понимает; для умного человека появляется повод горько посмеяться над теми, кто никогда не смеется последним); если же шутка серьезна, то за смехом всегда стоят «невидимые миру» слезы. Хочешь говорить о серьезном – говори смешно, иначе вся серьезность станет напыщенной, смешной, культурно бессодержательной. Именно смешное наиболее адекватно серьезному. Серьезная шутка – это по-настоящему не смешно: в этом и соль шутки, над которой хочется смеяться всегда. Именно такие шутки стали способом подачи «громадного» философского материала, в чем и заключается одна из особенностей «воздушного» стиля «Евгения Онегина». Весь роман, собственно, состоит из подобных шуток, реплик, от строфы к строфе превращаясь в одну божественную шутку по поводу законов сочетания духа, души и тела. Доступен ли такой роман «простым людям»? Это, конечно, шутливая постановка вопроса. Ответ хорошо известен. 6 78 А теперь зададимся вопросом: каков художественно-эстетический механизм шутки, понимаемой не только как «противоречивый», диалектический «инструмент мысли», но и как вариант синтетического «пафоса», как вариант мировоззренческой матрицы? Почему именно шутка становится в информационном отношении максимально насыщенной единицей, максимально содержательным моментом целого? Для ответа на этот вопрос необходимо хотя бы бегло, так сказать, в рабочем порядке, обратиться к теории пафоса. Теория эта, рассмотренная нами как момент если не универсальной, то «генеральной» литературной теории (см. Андреев А.Н. Теория литературы: личность, произведение, художественное творчество. В двух частях. Часть 1. Теория литературнохудожественного произведения. – Минск, БГУ, 2004.), позволяет, во-первых, поставить вопрос именно в такой плоскости, в которой он поставлен, и, вовторых, искать ответ именно в контексте пафосной стратегии произведения. Если согласиться с тем, что в истории культуры существуют, по большому счету, два идеала личности, тяготеющих к двум типам гармонии, социоцентрическому и персоноцентрическому, то идеалы эти легко принимают параметры духовно-эстетической парадигмы, которая может быть представлена в виде двух триад. Первая, социоцентрическая: комическая ирония (граничащая с трагической) – сатира – героика – трагизм – трагическая ирония (переходящая в комическую); вторая, персоноцентрическая: саркастическая ирония (граничащая с романтической) – юмор – идиллия – драматизм – романтическая ирония (переходящая в саркастическую). Из этого следует, что, с одной стороны, сатира содержит в себе все содержательные признаки героического и трагического (серьезного, не шутливого), а с другой – и трагизм, и героика при всей своей принципиальной «неулыбчивости» предрасположены к игровому, сатирическо-ироническому взгляду на мир. Именно поэтому и героика, и трагизм адекватно (всесторонне, целостно) выражаются посредством комического. Именно так: начало сатирическое является имманентным признаком начала героико-трагического. То же самое следует сказать и в отношении юмора как вида пафоса, который содержит в себе все признаки идиллического и драматического (опять же – серьезного, фундаментально-концептуального), а с другой – и драматизм, и идиллия при всей своей научности и системности принципиально не отгорожены от игрового, юмористическо-иронического взгляда на мир. Начало юмористическое является имманентным признаком начала идиллико-драматического. В широком смысле начало комическое (шутливое) не существует без героического и трагико-драматического (серьёзного). Вот почему, затронув юмор, мы вынужденно касаемся всей персоноцентрической парадигмы (и отчасти, разумеется, парадигмы 79 социоцентрической, которые не изолированы друг от друга). То же самое, с соответствующей содержательной поправкой, можно сказать и по поводу сатиры: сатирический взгляд на вещи является не целостным и самодостаточным мировоззренческим отношением, а моментом предельно серьезной социоцентрической идеологии. С другой стороны, «чистая героика» – это наивно, и потому, увы, грустно и смешно; то, что начинается как героика, не может не продолжаться как сатира и трагизм, ибо: сатира, героика и трагизм – это модусы социоцентрического отношения. Содержанием комического (сатиры, юмора, иронии) становится трагикодраматическое и героико-идиллическое начало; содержанием шутки становится концептуально выстроенное мировоззрение, научно-философское по своему характеру. Таким образом, «давайте шутить, играть давайте» становится не легкомысленной рекомендацией, а художественным императивом: если писатель не шутит – это совсем не смешно; это значит – писателя не существует. Игровая природа искусства сказывается и в том, что оно «выдумывает» образы, за которыми стоит невыдуманное отношение, и образы, воздействуя на психику (чувства) и сознание (абстрактнологическую область ментальности) одновременно, «маскируют» серьёзный (то есть познавательный) концептуальный посыл за смехом и слезами – за шуткой (мэссиджэм психологически-приспособительным). Получается буквально: в каждой шутке есть доля шутки. Разумеется, сказанное не означает, что каждый шутник и остроумец по определению становится писателем. Шутить, не шутя, – это высокое трагикодраматическое искусство, а остроумие – всего лишь лучший способ скрывать свою глупость. Всё зависит от доли шутки – то есть от доли серьёзного отношения. 80 5. КОНЦЕПЦИЯ СУДЬБЫ В РОМАНЕ А.С. ПУШКИНА «Евгений Онегин» 1 Завершить великий роман счастливой любовной развязкой – мучительно серьезная ответственность для писателя, гораздо большая, нежели трагически оборвать отношения героев или разлучить их, оставив им надежду на «встречу». Счастливая концовка – это ведь не просто эпизод, но и точка отсчета, откуда просматривается перспектива, берущая начало в недрах романа. Концовка – это момент художественного универсума, такой же, как и завязка, кульминация. Возможность счастья должна быть подкреплена всем строем романа: это не абстрактный шанс для героев, а закономерный итог. Закон художественности гласит: концовка, будучи моментом целого, не может быть произвольной, зависящей от каприза автора. Ее функция – более или менее удачно завершить художественное целое. Пушкин, как известно, в романе в стихах «Евгений Онегин» избрал иной тип финала, несчастливый. В связи с этим зададимся вопросами: что стоит за этим сюжетным ходом, который является одновременно завершением структуры персонажей и концепции романа в целом? Или: отчего в пушкинском романе в принципе не могло быть счастливой концовки? Ответ придется искать в том, как Пушкин трактует природу человека (мужчины и женщины). Для этого он использует, в частности, даже не мотив, а – концепцию судьбы (своеобразный эквивалент закона жизни, если угодно), проверенный и надежный инструмент «духовного производства» личности. Слово «судьба» встречается в романе около тридцати раз. Кроме того, вполне судьбоносными являются такие синонимические понятия, как «высший совет», «воля неба», «слепая фортуна», «рок», и их невозможно исключать из контекста «концепция судьбы». Мне кажется, вполне возможно, но непродуктивно рассматривать пушкинскую концепцию судьбы как некий закон необходимости или предопределения – закон мироздания, находящийся в таком ряду как Бог, Абсолютный дух или иные трансцендентные сущности. Контекст идеалистического мировоззрения, оформленного как философская система, здесь мало что прояснит: это не пушкинская философия. В данном случае не «философско-эстетическая основа» концепции судьбы волнует повествователя и его мыслящего героя, а некая эмпирическая, рабочая концепция (версия), имеющая отношение к сопряжению сознательного и бессознательного начал в жизни человека. Поэтому нас не будут интересовать тонкости идеалистических учений, философских систем (Канта, Шеллинга, Гегеля и др.), «растворенных» в тексте романа; нас вслед за Пушкиным будет интересовать судьба как момент (компонент, даже 81 инструмент) жизнетворчества. Нас будет интересовать судьба как понятие, проясняющее природу человека – но не абстрактно философское при этом, отвлеченно-эмпирейное, а жизненно-философское, практическифилософское. Для Онегина философия судьбы – это, собственно, проблема его личной жизни. Разумеется, это также особого рода философия, и прежде всего философия человека (и, заметим, в значительной степени оппозиционная сумраку идеалистических трактовок: к чему лукавить?), однако в качестве таковой она разработана еще явно недостаточно для того, чтобы можно было помещать смысловой космос «Евгения Онегина» в соответствующий ему культурфилософский контекст. Кратко обозначим философские параметры концепции, без которых невозможно обойтись в разговоре о судьбе личности. 2 Природа человека (или его информационный космос) достаточно четко подразделяется на три уровня: телесный, душевно-психологический, духовно (разумно)-психологический. Тело – душа – дух. Это объективно существующие информационные инстанции. В связи с этим все существующие этические и мировоззренческие – гуманистические – ценности имеют три измерения (в этой фразе все слова ключевые; но ключ ко всем ключам – маленькое неприметное слово «все»). Взять затасканную несчастную категорию «счастье». Вследствие своего умственного бессилия те из людей, кто призван рассуждать (а у людей призваны рассуждать, как правило, способные делиться мироощущением: поэты, писатели, художники, верующие, а также философы), эту категорию объявили непознаваемой, то есть перевели в разряд «ощущений». Счастье как ощущение – мимолетно, мгновенно. Форма существования счастья – миг. Тут понимать ничего не надо, это миллиарды раз доказано эмпирически. Это подтвердят те из живущих и живших, кто испытывал ощущения (а кто их не испытывал, если он жил?). Отсюда и философия счастья: оно непостоянно, кратковременно, не имеет ничего общего с продолжительностью и абсолютно связано с чувствами. Например, счастье – это любовь. Или вера (во что угодно). Или надежда. Собственно вера, надежда и любовь – и есть три измерения счастья (комплекса ощущений). Кончилась любовь – прощай, счастье. Счастье ценно именно тем, что его мало. Считанные мгновения на всю жизнь. Это, так сказать, большое счастье. А есть еще маленькое счастье. Если вам, простому смертному, повезло, если вдруг показалось солнце – вот вам и счастье, зашло (какое невезение!) – и счастье исчезло. Выпил стакан вина – счастье, увидел девушку, прокатился на лошади, искупался – счастье. Не хочу сказать, что не слышал большей глупости за свою жизнь. Хочу лишний раз подчеркнуть, что это образцовая, эталонная глупость из разряда 82 аксиом-ощущений. Здесь не о чем спорить. Отвергать изложенную «философию счастья» все равно что отвергать «философию» жизни, фундамент которой – глыбы ощущений. Оспаривать ценность жизни – несерьезно, это чувствуют все. Счастье непосредственно связано с жизнью, есть атрибут жизни, следовательно, прекрасно как сама жизнь, состоящая из ощущений. Иными словами, счастье, по логике чувств, которая выдается за логику мысли (как и свобода, любовь, достоинство, истина, добро, красота – все существующие этические и мировоззренческие – гуманистические – ценности), становится категорией, обозначающей ряд ощущений – категорией натуры, но не культуры (где мироощущение начинает уже зависеть от мировоззрения, где само непосредственное ощущение становится вторичным в акте познания и не определяет уже философию). И это так, да не так. В контексте культуры, принципиально ином информационном контексте по сравнению с натурой, «любовь», «счастье», «свобода», «гармония», «истина» (этот экзистенциальный ряд легко продолжить и, в принципе, исчерпать) – понятия близкородственные, расположенные в одной плоскости, каждое из которых может становиться либо «частью» другого «целого» (например, любовь – необходимая составляющая счастья), либо в свою очередь выступать «целым», превращая иные составляющие в «моменты» своей структуры – что, конечно, не проясняет саму суть «счастья» (любви, гармонии) как категории культуры, духовной категории, имеющей непосредственное отношение к натуре, категории бездуховной. Существует «счастье» на уровне тела, душевно-психологическое счастье (в том числе его социально-психологическая проекция) и, наконец, счастье порядка духовного (информационная основа которого – разум, а форма – философия). Если мы говорим о счастье телесно-психологическом, о «витальном» состоянии человека, то оно, действительно, непосредственно связано с чувствами, с жизнью, с натурой. Поскольку vita brevis, то и счастье тоже brevis. Не имеет ничего общего с вечностью. Говоря о счастье, приходится оперировать особой единицей измерения времени – мгновениями. Если мы связываем счастье с культурой, с личностью, с ментальным уровнем витальности, все резко усложняется, и миллиарды людей, увы, почувствуют не только краткость, но и принципиальную неполноту своего счастья. Почувствовав это, они с еще большим энтузиазмом станут цепляться за доступное им счастье «быть человеком» – за счастье «натуральное», сердечное, простое. Культура становится угрозой их счастью – то есть в полном смысле несчастьем, ибо счастье для них есть отсутствие несчастья. Одна маленькая традиционная методологическая ошибка – всего-то абсолютизация ощущений! – и ты счастлив. Исправишь ошибку – окажешься на пути к счастью подлинному, многомерному, продленному в культурное измерение, – на пути к несчастью, по убеждению «счастливцев». 83 Не хочется никого огорчать, не хочется быть врагом ничьему счастью, однако глупые люди фатально разведены с категорией счастье (собственно, со всеми существующими гуманистическими ценностями). Они не могут жить счастливой жизнью; они могут испытывать (или не испытывать) удовольствие, кайф. Если счастье определяется не только качеством ощущений, но и качеством мышления, то и описывается (измеряется) оно в контексте мировоззренческих категорий. Счастье немыслимо вне достоинства, свободы, духовной реализации, жизнетворчества, истины; дополняющей стороной этих категорий, духовно-эмоциональной составляющей, выступают любовь, вера, надежда (все, что связано с мироощущением). Счастье становится многомерным: мировоззрение реализуется через мироощущение; мелкое (маленькое, ощущенческое) счастье уже не устраивает умного человека, ибо становится формой несчастья. В подобном же ключе следует интерпретировать и понятие свободы. Комплекс свободы завершается свободой духовной (или начинается с нее: точка отсчета здесь подвижна). Человек, который ощущает свободу только как потребность в душевно-телесном комфорте, как волю, является рабом природы. Его свобода ограничивается заточением в телеснопсихологическую оболочку. Если человек свободен духовно, то есть в состоянии познать (осознать) свою информационную природу в полном объеме, свобода «душевная», в том числе политическая и экономическая, становятся условием реализации главной свободы. Политическая и экономическая свобода становятся для личности фоном, вторичной потребностью (важной, безусловно, но не главной: вот что главное). Свобода душевно-психологическая (воля) часто выражается как нежелание осознавать себя личностью. Именно такие люди политически наиболее активны. Чем меньше человек свободен разумом, тем больше он выступает за свободу на уровне политическом. Такова плата глупца за свободу выражать свою зависимость от брюха. Беда в том, что наша цивилизация культивирует свободу исключительно как свободу двух низших порядков, свободу телесно-психологическую. Какова свобода – таково и счастье. Глупый человек не может быть свободным или счастливым, но хочет им казаться. Все лозунги цивилизации рассчитаны на свободных дураков, сама цивилизация есть продукт глупости, находящейся в свободном полете к счастью. Абсолютизация политической составляющей свободы – это ставка на порядочность неразумных людей. Выбор, например, между либералами и консерваторами – это умный вариант глупости. Выбор культуры (ставка на гармонию) – это глупость и сумасшествие в контексте нынешней цивилизации, но это подлинно умный шаг. Свобода личности подразумевает свободу дистанцироваться от политики и экономики (настолько, насколько это возможно в реальной жизни). Способность быть адекватным природе человека в полном объеме – вот 84 что такое свобода (в аспекте информационном). Свобода тела и души – это замечательно; однако без свободы разума они превращаются в ловушку и тюрьму для человека. Свобода – вот фундамент счастья для умного человека. Пушкинский Онегин говорит в письме к Татьяне: Я думал: вольность и покой Замена счастью. Боже мой! Как я ошибся, как наказан. Онегин «думал» (принимая императив «познанной необходимости»): «вольность и покой» (результат умственного – но пока еще не разумного! – отношения: свобода как плод уже сознательного выбора) замена «счастью» (то есть в его тогдашнем понимании свободе телесно-психологического, бессознательного порядка). Но Онегин ошибся – и в этом глубоко прав автор. На самом деле все с точностью до наоборот. Где свобода – там и счастье. Нельзя противопоставлять «свободы» разных уровней; и реализация высшего уровня свободы, пусть высшего, но одного, – это еще не счастье. Счастье – это не «замена» одной свободы другими аспектами свободы, а их полноценное присутствие в том модусе, который называется гармония. Свобода, реализованная в рамках познанных законов, в том числе закона любви, – это счастье умного человека. Любовь рассматривается как духовный закон для личности. Поэтому справедливо и такое утверждение: любовь – это счастье умного, следовательно, свободного, человека. Формой существования счастья становится не миг жизни, а краткая, словно миг, жизнь, прожитая по меркам вечности. В таком своем качестве и любовь, и свобода, и счастье превращаются в категории культуры – и противостоят «любви» (страсти), «свободе» (воле), и «счастью» (удовольствию), которые по сути являются категориями натуры. В контексте культуры – в целостном информационном контексте – и свобода, и достоинство, и любовь, и все на свете обретают свой завершенный человеческий (гуманистический) облик. Вот где подлинный выбор и подлинная свобода: человек или личность? Мироощущение или миропонимание? Кайф или счастье? Цивилизация (натура) или культура? А еще точнее и адекватнее так: попытаться совместить (гармонизировать) цивилизацию и культуру (человека и личность) – или «свободным» волеизъявлением выбрать ценности цивилизации, которые ее же и загубят? В культурном, весьма диалектическом контексте вернемся к феномену счастья (со-частья, целого, состоящего из частей, измерений). Кратко его можно определить следующим образом: это удовлетворение (относительное) высших потребностей тела, души и духа в результате свободного волеизъявления. Свобода в этом контексте становится инструментом (или способом) достижения счастья; отношения счастья и свободы становятся отношениями стратегии и тактики: счастье – цель, а свобода – средство. 85 Высшая потребность духа – познание (в том числе и самопознание). Отсюда следует, что душевно-психологический состав счастья – это комплекс эмоций и переживаний, связанный с процессом познания, и чем реальнее и глубже акт познания – тем ярче и содержательнее переживания. Что касается телесного аспекта счастья, то тут вопрос упирается в то, что личности далеко не безразлично, каким образом удовлетворяются ее базовые телесные (человеческие) потребности. Можно вкусить счастья способом традиционным: «пожрать и поспать» (как все, «как ты да я, да целый свет»); а можно, отдавая должное хлебу, то есть, понимая: не хлебом единым! – жить в любви и согласии (в соответствии с неочевидными законами «целого света»). Жизнь тела становится интегрирована в жизнь духа: не в здоровом теле здоровый дух (этот «дух» может быть и не духом вовсе, лишь психологической проекцией все того же тела), а, скорее, наоборот: здоровый дух становится определяющим для телесного здоровья. Понятно, что в таком контексте счастья не бывает не только без философии и без свободы, но и без любви. Кстати сказать, «структура» счастья (философия – свобода – любовь) – это, с одной стороны, проекция общей информационной структуры человека (тело – душа – дух), а с другой – проекция «части» структуры, «духа» (истина – добро – красота). Счастье – целостно, будучи моментом целостности иного порядка. 3 Напомним себе: природа человека (или его информационный космос) достаточно бесспорно подразделяется на три уровня: телесный, душевнопсихологический, духовно (разумно)-психологический. Тело – душа – дух. Это объективно существующие информационные инстанции. В связи с этим мужчина – это также три измерения. На уровне телесном – это мускулатура, физическая мощь и совершенство; на уровне душевнопсихологическом – это все те же сила и харизма (морально-волевые компоненты: воля, целеустремленность, склонность к лидерству, решительность и т.п.); наконец, на уровне собственно духовном комплекс маскулинности предполагает способность мыслить, познавать с помощью разума. Понятно, что высший уровень определяет низший, а не наоборот. Не мускулатура и воля (то есть природные данные), в конечном счете, делают мужчину мужчиной, а наличие ума (уже культурной составляющей). Обратим внимание: ума (разума), но не интеллекта. Интеллект, будучи инстанцией, которая контролируется душой, не становится еще фактором культурным в полном и точном смысле этого понятия. «Интеллектуальная духовность» – это разновидность душевно-психологической маскулинности, высшая форма бездуховности (или низший уровень высшей духовности, кому как нравится). «Интеллектуальную» и «разумную» духовность легко спутать, однако они различаются качественно: типом управления 86 информации: разумным или все же психологическим (пусть даже интеллектуализированным). Сила есть – ума не надо: это карикатура на мужчину, поскольку абсолютизация телесно-психологическая ипостаси мужчины – это типичный комплекс самца. С другой стороны подстерегает иного рода крайность: ум есть – обойдемся без таких мелочей, как характер и физическая форма (которые, собственно, и помогают реализовать умные начинания). Это даже не шутка, это глупость, вещь, невозможная при наличии ума. Разум не может не заботиться о характере и качестве телесной оболочки. Естественно, у мужчины умного (который руководствуется разумом, но не интеллектом) понятие «мужской характер» становится не самоцелью, а инструментом достижения мировоззренческих, философских вершин. Здоровье и тело, кстати сказать, – тоже. Характер и тело обслуживают потребности духа, а не игнорируют или, того хуже, порабощают их. Таким образом, полноценного мужчины без ума не бывает. Если нет ума, приходится компенсировать его отсутствие изобилием природной мощи. Мужчина превращается в «качка» (в широком смысле этого слова). В этом случае бедный мужчина нарывается на парадокс: чем больше мужчины – тем он больше похож на женщину. Тем мужчины меньше. Три женских измерения, разумеется, те же, что и у мужчин, однако как существо духовно-информационное женщина весьма отличается от мужчины. Это легко понять, хотя с этим нелегко смириться, особенно тем, кто не понимает разницы между разумом и интеллектом (а это, увы, сплошь интеллектуалы). Наличие сферы телесно-психологической буквально роднит женщину с мужчиной. Они родом из природы. Адам и Ева. Здесь вполне уместно говорить о равноправии – по отношению к природным характеристикам. Однако все меняется, когда мы обратимся к измерению высшему, духовному. Только ментальное измерение завершает целостный облик и придает содержательность низшим информационным этажам. Мужчину мы оцениваем по качеству духовных программ; к женщине мы предъявляем несколько иные требования. Разумных женщин не бывает. Разумная женщина, если использовать это выражение как метафору, – это женщина с высоко развитым уровнем интеллекта, который позволяет ей понять, что ее духовные качества определяются не потребностями познания, а потребностями приспособления к субъекту познания – к тому, кто способен познавать. Иными словами, именно женщина становится гением приспособления, в том числе и к самой себе, к своим скромным познавательным возможностям (которые, кстати, элементарно можно выдать за сакральные «интуитивные» прозрения). Главным в жизни женщины – объективно – становится мужчина (субъективно женщина может считать главной саму себя). Следовательно, любовь. Семья. Дети, будущие мужчины и женщины. Будущее мужчины и 87 женщины. Объективно именно здесь сосредотачивается духовный резерв и перспектива женского типа освоения жизни. И никто не в силах отменить природу женского счастья. Понятия «женщина», «женственность» становятся инструментом достижения женских духовных вершин. С точки зрения умного мужчины, это самое главное в женщине. А ему, разумному, виднее. Женщина же, которая выстраивает тип личности по мужскому, то есть разумному, типу, попадает в глупое, двусмысленное, маргинальное положение. Невозможно реализовать чужую природу, даже если ты при этом решила отказаться от своей. Мужчины и женщины стоят друг друга. Никто не лучше и не хуже. Просто у них разная природа, которая определяет набор и содержательность достоинств. Женщине мужские достоинства ни к чему, своими бы распорядиться по назначению; мужчина, чрезмерно облагороженный женскими достоинствами, – смешон. Самым главным и важным в жизни является не мужчина или женщина, а гармония между мужским и женским комплексами. По отношению к этой гармонии сила мужчины не в разуме как таковом, и не в том, чтобы подчинить женщину, а в том, чтобы прожить счастливую жизнь с любимой женщиной, оставаясь при этом мужчиной. Разумность мужчины становится абстрактным качеством, если он не рассматривает любовь как высшую ценность. Следовательно, к женщине он относится как к высшему проявлению натуры (в том числе высшему проявлению натуры в себе, ибо: каждый мужчина вырастает из женщины, навсегда сохраняя в приобретенном мужском врожденное женское начало), по отношению к которой выстраиваются все высшие культурные ценности. Добытое разумом делится на двоих, непременно принадлежит двоим, поскольку разум – это, по большому счету, не женское и не мужское качество, даже не человеческое; это качество – культурное. Надприродное. Условием существования которого, однако, становится натура, женская по своей сути. Не стоит женщине ревновать мужчину к разуму. Если женщина заинтересована в увеличении разумного присутствия в жизни (а умная женщина в этом, безусловно, заинтересована), то она будет всячески способствовать тому, чтобы мужчина стал мужчиной, ибо разум проникает в жизнь через мужчину. Разум – гарант того, что женщина будет счастлива, ибо разумное существование предполагает, что женщина с триумфом реализует себя как женщина. От рода человеческого пока что мужчина делегирован в культурное измерение. Это не предмет для гордости или культивирования комплекса превосходства (оборотной стороны комплекса неполноценности); это констатация положения вещей. Это истина, добытая разумом. А с истиной нельзя кокетничать, ею нельзя манипулировать. Она вообще не для телеснодушевного потребления. Ее можно понимать (либо, увы, не понимать). 88 Или относиться к ней по-женски: понимать, что есть вещи, недоступные твоему пониманию, без которых, однако, не прожить. В отношении истины «мужская» и «женская» суть в принципе не «делится», не раскладывается по полюсам «негатив» – «позитив»; на уровне разумном, духовном, полюса осознаются всего лишь разные качества жизни, одинаково для нее важные. «Женское» и «мужское» дифференцируются и кокетливо противопоставляются на уровне социально-психологическом и природно-психологическом, на радость умным феминисткам и глупым мужланам-шовинистам. Большой соблазн, объявив мужчину и женщину «человеками», спутать, перестать различать и, в конце концов, отождествить «мужское» и «женское». Придать миру женское лицо: это благородный, хотя и комичный, императив природы. Иными словами, проблема женского и мужского в актуальном для социума виде, – это проблема не разума, а души. Это женская проблема, которую никак не могут решить мужчины. Именно так: все проблемы этого мира – женские; быть мужчиной – значит уметь решать их. 4 А теперь самое время вернуться к роману, где предложенная «отвлеченная» философия (система концепций) реализована на уровне таких образно воплощенных категорий, как счастье, судьба, воля, чувства, ум, идеал. И эти категории, заметим, становятся, с одной стороны, структурными элементами произведения (в плане содержания), а с другой – категориями литературоведческого анализа. Понятие «судьба», как мы уже сказали, в романе встречается более тридцати раз. При этом употребляется оно в разных значениях, основные из которых легко раскладываются по полюсам «судьба как нечто независящее от воли человека» (рок, подавляющий любые персональные усилия) – и «судьба как результат реализованной воли личности» (воля к жизни и познанию, к жизнетворчеству, воля как ощущение собственной креативной мощи – воля человека земного как таковая, единственное, что можно противопоставить всесильному року). Вот примеры «рокового» отношения к судьбе. (Роман цитируется по изданию: А.С. Пушкин. Собр. Соч. в шести томах. Том 4. – М., Издательство «Правда», 1969 г.) Глава I: «Судьба Евгения хранила» (с. 7); «Обоих (повествователя и Онегина – А.А.) ожидала злоба Слепой Фортуны и людей На самом утре наших дней» (с. 23); «Но скоро были мы (повествователь и Онегин – А.А.) судьбою На долгий срок разведены» (с. 25). Обратим внимание: в данном случае отношение к судьбе характеризует (как бы – невольно выдает) мировоззренческие установки повествователя, одного из главных субъектов сознания в романе. 89 В Главе II к этому мнению присоединяется Ленский (впрочем, при посредничестве все того же повествователя): «Он верил, что (...) есть избранные судьбами» (с. 33); далее инициативу трактовки судьбы повествователь опять берет в свои руки: «Судьба и жизнь в свою чреду, Всё подвергалось их (Онегина и Ленского – А.А.) суду» (с. 36); «И, сохраненная судьбой, Быть может в Лете не потонет Строфа, слагаемая мной (повествователем – А.А.)» (с. 46). Уже в ином ключе разворачивается отношение к судьбе в Главе III. «Быть может, волею небес, Я (повествователь – А.А.) перестану быть поэтом, В меня вселится новый бес. И, Фебовы презрев угрозы, Унижусь до смиренной прозы» (с. 52). С одной стороны, «волею небес» и в «меня вселится» (активность субъекта традиционно игнорируется на корню), а с другой – «Я ... Фебовы презрев угрозы, Унижусь», то есть, все же речь идет о сознательном выборе личности и о вполне своевольном отношении к «воле небес», к тому, что, казалось бы, не обсуждается. Это еще не бунт, но уже далеко не безропотное отношение к воле извне. Татьяна, казалось бы, разделяет судьбу тех, кто существует «волею небес»: «Ты в руки модного тирана Уж отдала судьбу свою» (с. 53), восклицает повествователь. При этом смущает один нюанс: посланником небес, выступающим от имени судьбы, оказывается не кто иной, как Онегин, «модный тиран». В письме Татьяны к Онегину этот мотив развивается: «Быть может... Суждено совсем иное... Но так и быть! Судьбу мою отныне я тебе вручаю» (с. 62). С другой стороны, Татьяна и думать не смеет о том, чтобы возроптать против судьбы: «Но вы, к моей несчастной доле Хоть каплю нежности храня, Вы не оставите меня» (с. 61); «То в высшем суждено совете... То воля неба: я твоя» (с. 61). В Главе IV, наконец, свое отношение к судьбе пытается определить Онегин (с ведома повествователя, разумеется). В разговоре с Татьяной он излагает выношенную концепцию, с которой сжился: Когда бы жизнь домашним кругом Я ограничить захотел; Когда б мне быть отцом, супругом Приятный жребий повелел Обратим внимание: «когда бы я захотел», тогда бы я принял «приятный жребий»; но я не хочу – и жребий мне не указ. Это уже иная философия судьбы, иная фортунология, где на первом месте недвусмысленно оказываются желания и воля того, кто без особого трепета и церемоний относится к воле неба. Онегин продолжает (строфа XV, с. 71): Что может быть на свете хуже Семьи, где бедная жена Грустит о недостойном муже, И днем, и вечером одна; Где скучный муж, ей цену зная 90 (Судьбу, однако ж, проклиная), Всегда нахмурен, молчалив, Сердит и холодно-ревнив! Онегин сам предсказывает свою судьбу (запросто при этом «проклиная» глупую, не устраивающую его волю небес); более того, он сам творит свою судьбу, выступая именно Творцом (sic!) по отношению к собственной жизни (см. строфу XIV, с. 71). Все верно: отрицающий наличие предопределенности (не только духовной, но и социальной), обрекает себя на то, чтобы самому стать хозяином своей судьбы, высшим субъектом ответственности в мироздании. Иногда такого «сверхчеловека», то ли из почтения, то ли из страха, называют Богочеловеком; но проще и точнее называть умного человека – личностью. При этом он бросает замечание Татьяне: «Ужели жребий вам такой Назначен строгою судьбой?» (с. 72). В переводе с языка фортунологии на язык житейский этот тезис звучит следующим образом. Вы, в отличие от меня, отчего-то не вольны выбирать своего жребия (судьба? не судьба?); неужели я, непокорный жребию, и есть ваш неприятный жребий? Это сурово – но судьба чаще всего строга с теми, кто ей не возражает. Увы... Ленский, прямая противоположность Онегину, выстраивает отношения с судьбой на прямо противоположных основаниях. При внешней активности (формально именно он инициатор дуэли, хотя по существу ее спровоцировал Онегин) – «Выходит, требует коня И скачет. Пистолетов пара, Две пули – больще ничего – Вдруг разрешат судьбу его» (Глава V, с. 105) – он способен лишь пассивно, покорно, созерцательно ожидать (Глава VI, с. 113): Что день грядущий мне готовит? Его мой взор напрасно ловит, В глубокой мгле таится он. Нет нужды; прав судьбы закон. Паду ли я, стрелой пронзенный, Иль мимо пролетит она, Все благо... Далее дуэль, где понятия «лотерея, жребий, удача, фортуна» актуальны как нигде, развивается не без вмешательства судьбы. Казалось бы, по ее сценарию, под ее диктовку. Свой пистолет тогда Евгений, Не преставая наступать, Стал первый тихо подымать. Вот пять шагов еще ступили, И Ленский, жмуря левый глаз, Стал также целить – но как раз Онегин выстрелил... Пробили Часы урочные: поэт Роняет молча пистолет. 91 Собственно, дуэль и является инструментом судьбы. Однако активность Онегина, который постоянно стремится опережать события, если угодно, диктовать свою волю, брать судьбу в собственные руки, нельзя не замечать. У Онегина (уж не по велению ли повествователя?) складываются сложные отношения с судьбой. Он поочередно выступает то баловнем судьбы («Судьба Евгения хранила» – во времена легкомысленной юности, когда он был еще как «все», когда он еще не мыслил, вел бессознательное существование, следовательно, был полностью во власти судьбы: Онегин был онежен, изнежен, обласкан судьбой), то ее орудием (по отношению к ее жертвам, Татьяне и Ленскому), то совершенно неожиданно, в финале, едва ли не сам превращается в жертву (об этом речь впереди). Однако в этих отношениях есть логика: судьба становится «слепой», «строгой», «властной», «блуждающей» только по отношению к тем, кто слепо (бессознательно) живет по законам натуры, но не культуры; как только человек начинает мыслить («Кто жил и мыслил, тот не может В душе не презирать людей» (Глава I, с. 23), подданных судьбы – следовательно, отчасти и ее саму), он уже если не «презирает» «судьбы закон», то перестает его обожествлять. При этом судьба в романе – и тут повествователдь неколебим – связана с жизнью. «За могилой, в пределах вечности глухой» (Глава VII, с. 128) – присутствия судьбы не обнаруживается. «Так! равнодушное забвенье За гробом ожидает нас» (там же). В Главе VII звучат уже хорошо знакомые «роковые» мотивы, однако звучат они уже в ином контексте, следовательно, наполнены иным смыслом. Повествователь, предвосхищая события Главы VIII, подчеркивает: судьба присутствует в жизни не только женщин, Ольги и Татьяны (Ольга «судьбою вдаль занесена», с. 129; Татьяна «начинает понемного понимать» «того, по ком она вздыхать Осуждена судьбою властной», с. 133), и поэтов-мужчин, похожих на женщин, но и в жизни самого повествователя, во многом разделяющего судьбу Онегина. Прости ж и ты, моя свобода! Куда, зачем стремлюся я? Что мне сулит судьба моя? (с. 135) Как часто в горестной разлуке В моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе! (с. 139) Это уже почти признание: с помощью воли можно противостоять судьбе (року), можно даже изменить ее – но ее невозможно отменить. Следовательно, судьба существует? В Главе VIII Онегин углубляет и обогащает подобный поворот мысли. Теперь уже он пишет письмо отвергнутой им Татьяне (чем не ирония судьбы?), в котором открыто, с принципиальностью, граничащей с вызовом, раскрывает карты: Чужой для всех, ничем не связан, 92 Я думал: вольность и покой Замена счастью. Боже мой! Как я ошибся, как наказан! (с. 162) Кем, спрашивается, наказан? «Боже мой», конечно, надо понимать не в буквальном смысле, однако контекст восклицания весьма красноречив. «Я ошибся», и наказан за свою ошибку, за своеволие. Наказан «логикой вещей», объективным законом мироздания, «законом судьбы» – судьбой, если не лукавить и принять эту метафору. Отсюда следующее признание: Мне дорог день, мне дорог час: А я в напрасной скуке трачу Судьбой отсчитанные дни... (с. 162) И наконец: Но так и быть: я сам себе Противиться не в силах боле; Все решено: я в вашей воле И предаюсь своей судьбе. Татьяна, жертва судьбы, должна выступить орудием судьбы по отношению к Онегину, признавшему себя побежденным в борьбе с судьбой же? Так есть судьба или нет? Да или нет – это не ответ в масштабах предложенной философии романа. Суть вопроса не в том, существует ли она, а в том, как в «Евгении Онегине» трактуется судьба. Понятие «судьба» в романе совмещает в себе, как мы уже сказали, понятия «рок» и «воля». Рок можно трактовать как надличную, независящую от воли личности составляющую судьбы; рок и есть чистейшее выражение фатализма. Воля – это возможность человека влиять на то, на что повлиять, казалось бы, совершено невозможно; это способность противостоять року. Отсюда такое сочетание: «жизнь и судьба» («Судьба и жизнь в свою чреду, Всё подвергалось их суду»). Жизнь тогда получает измерение судьбы, когда перестает быть всецело бессознательной, когда слепому року противопоставлена разумная личная воля (имеющая, конечно, концептуальную, мировоззренческую основу). Результат подобной борьбы личного и безличного (культуры и натуры) и есть судьба. В таком контексте судьба в определенном смысле превращается в инструмент достижения счастья. Человек с помощью разума начинает управлять судьбой, а не судьба – неразумным человеком. В этой связи любопытно задаться вопросом: есть ли судьба у Татьяны? На первый взгляд, конечно, есть. Она часто обращается к этому понятию, как мы убедились. Обратим внимание, совсем еще юного, несмышленого Онегина «судьба хранила». Но когда герой романа возмужал, окреп духом (разумом), то 93 первое, что он сделал, – бросил вызов судьбе. Ведь его знаменитый «недуг» («которого причину Давно бы отыскать пора», Глава I, с. 21: повествователь с ним заодно) есть косвенное выражение недовольства «судьбой», которая определила амбициозному молодому человеку быть «как все». Онегин начинает сопротивляться безликому закону – и в значительной степени корректирует намерения слепой фортуны. Вот эти его личные усилия и привели в дальнейшем к трагедии. Кому выпало счастье прожить судьбу, тот, к несчастью, не избегнет трагедии. Онегин культурно, духовно подкрепил ту позицию, которую интуитивно (во многом бессознательно) заняла Татьяна: любовь является высшим мерилом человеческих отношений. Она говорит много верных вещей. Однако вскользь при этом замечает: «Но я другому отдана; я буду век ему верна» (Глава VIII, с. 169). Хотя еще совсем недавно она почти бунтовала в своем письме: «Другой!.. Нет, никому на свете Не отдала бы серце я!» (с. 61). А теперь покорно принимает вариант жизни без любви. Такова женщина, продукт натуры. Она «отдана», ее никто и не спрашивал. Взяли – и отдали некие внешние «нехорошие» силы, которые действовали вразрез с ее собственным желанием («Я вас люблю (к чему лукавить?)» (с. 169). А где же активность субъекта? Онегин сражается за счастье, тогда как Татьяна его ждет: случится? не случится? Судьба «печальной» Татьяны – слепа. Роковое стечение обстоятельств, когда «для бедной Тани Все были жребии равны» (с. 169), – это еще не судьба. Это именно рок. Судьба для Онегина – это возможность сражаться за счастье, что делает он сам и никто вместо него сделать это не может. В таком контексте «Я ошибся» означает: я не в силах изменить природу человека, мужчины и женщины. Я думал обойтись без любви – но это невозможно. И не нужно. Это мировоззренческая ошибка. В этом смысле «я ошибся» означает: я понял, в чем я заблуждался. Я прозрел. Я победил. Татьяна, напротив, убеждена, что она не ошиблась. Она все делала правильно, разве что несколько «неосторожно». Просто дело не в ней. Дело в судьбе-роке, которая, к несчастью, никогда не ошибается. А счастье было так возможно, Так близко! Но судьба моя Уж решена. Неосторожно, Быть может, поступила я: ...для бедной Тани Все были жребии равны. (с. 169) Роковая судьба рано или поздно сводит мужчину и женщину, судьба изначально определяет природу мужчины и женщины. Но счастье зависит не от судьбы. Оно зависит от своевольного мужчины. Почему же достойный счастья Онегин оказался несчастным и одиноким? 5 94 По существу противостояние натуры и культуры в человеке сводится к оппозиции одиночество или любовь. Если человек делает ставку на культуру, он ориентируется на духовное общение (классика которого – любовь и дружба); если он не дотягивает до уровня культуры, то остается тотально одиноким, ибо все социальные связи, в том числе родственные, являются лишь суррогатом духовности. Таким образом, общение по своей основной функции может быть либо социальным (что лишь подчеркивает одиночество человека в духовном смысле), либо духовным (что, как правило, подчеркивает одиночество в смысле социальном: личность становится лишней). Что в таком случае является проявлением силы: любовь и дружба – или суровое экзистенциальное одиночество, своего рода символическая смерть? Для Онегина выбор любви – это разумный выбор культурного человека (у которого, строго говоря, нет выбора, ибо «познанная необходимость» задает параметры и свободе, и самой истине). «Покой и воля» в этом контексте становится формулой одиночества, эквивалента смерти, немого, докультурного существования. «Счастье» (сочастье, состоящее из частей целое) – это формула жизни в духовном пространстве. Что выбрать? Пресловутая «свобода выбора» – это проблема человека неразумного, духовность которого принципиально бездуховна. И фактическое одиночество Онегина в финале романа уже не является аргументом в пользу «покоя и воли». Все с точностью до наоборот. Закон сосуществования мужчины и женщины (натуры и культуры) – любовь: вот какая банальность обнаружена в романе. Но закон этот применим далеко не ко всем (см., например, линию отношений Ольга Ларина – Владимир Ленский), а те, к кому он может быть применим, настолько сложны и противоречивы («Так нас природа сотворила, К противуречию склонна», Глава V, с. 89), что свести их с друг с другом не под силу даже судьбе. Что же это получается: любовь вполне может противостоять судьбе? Может быть даже сильнее судьбы? Любовь – лишь другое имя «воли»? Во всяком случае, роман «про любовь» оказался о самом главном в человеке. Любовь – разумное, культурное чувство, и зарождается она в сердцах людей мыслящих. Зачем повествователь столько своего драгоценного внимания уделяет линии Ленский – Ольга? Функций у этих образов, взятых отдельно и в разных отношениях, много, однако именно любовная линия Ленский – Ольга важна как альтернатива и контрапункт, обогащающий (культурно оттеняющий) линию Онегин – Татьяна. Сопоставление этих линий приводит к выводу: в жизни бывает либо как у Ленского и Ольги (где в безликих парах «мужчина – женщина» в принципе нет незаменимых особей, что блестяще и убедительно доказала Ольга: она быстренько нашла свое новое «счастье» с уланом), либо как у 95 Онегина и Татьяны, где любовь возможна только как уникальная любовь неповторимого Евгения и исключительной Татьяны. Ленский – Ольга представляют собой образец типичных взаимоотношений полов; отношения Онегина и Татьяны – это начальная фаза реализации наивысшего союза между мужчиной и женщиной. При этом даже духовный союз Евгения и Татьяны на наших глазах способен трансформироваться в банальный союз Ленского и Ольги, и причиной тому – Татьяна, которая покорно принимает свою судьбу («Я вышла замуж. Вы должны, Я вас прошу, меня оставить», с. 169). И при этом неизвестно, насколько жизнеспособен мог оказаться союз Онегина и Татьяны как брачный союз, а не как перспективное совмещение оптимальных природно-культурных потенциалов. Как модель высших отношений между мужчиной и женщиной, как тип отношений, который называется любовь, – этот союз возник и состоялся. А вот как новый тип отношений, который должен существовать в рамках брачной культуры цивилизации, – это загадка с большими неизвестными. Семья как структурный элемент социума не может не быть способом порабощения личности. Иное дело, если отношения в семье, ячейке общества, становятся способом духовной реализации всех ее членов. Тогда на первый план выдвигаются все те же любовь и дружба. Но жизнь такой, персоноцентричной, семьи не стала еще фактом общественной, следовательно, и литературной жизни. Итак, сказать, что роман в стихах «Евгений Онегин» о любви, – ничего не сказать или сказать очень многое. Это как посмотреть. Перед нами роман об истине, которая может реализоваться через свободу и счастье, не мыслимых в свою очередь, без любви. Именно в такой ценностный ряд следует поставить любовь: истина, свобода, счастье, гармония, любовь, судьба... Вот она, цепь, которой прикован к жизни и смерти свободный и разумный человек. И любовь – слабое звено в этой цепи, образующей экзистенциальный круг. Дело в том, что любовь не просто точка, где один человек, мужчина, встречается с другим, женщиной; это еще и точка непосредственного соприкосновения в жизни натуры и культуры. И личность в своем противостоянии человеку здесь весьма зависима и уязвима. Онегин не может изменить Татьяну (он может только разбудить ее космический потенциал); но и без нее вся его «цепь» утрачивает полноту, экзистенциальную фундаментальность и в каком-то смысле теряет смысл. Все в жизни становится хрупким, эфемерным, неподконтрольным человеку – хотя и понятным. Человеческий фактор способен воспрепятствовать торжеству самой истины. Вот оно, жутковатое дыхание трагизма... С другой стороны, осознать, что трагизм есть, увы, момент счастья, – это тоже счастье, как ни горько это звучит. Ибо все «это», что можно назвать «духовным извлечением», входит в состав истины. Именно трагизм оказался свидетельством, косвенным доказательством того, что Онегин был прав. Он сумел «покой и волю» сделать моментом «счастья». Чего ж вам больше? 96 А хочется больше. И слово, кажется, найдено: трагизм. Какое отношение имеет он к природе любви? Есть амплитуды колебаний мужской и женской линий жизни. Он – достоин любви, она – тоже. Однако линии их судеб роковым образом не пересекаются. Это похоже на закон. Какой? Роман Пушкина «Евгений Онегин» велик тем, что он не «мысль народную» поставил превыше всего, а нечто лежащее в основе этой, казалось бы, самоценной мысли народной (точка отсчета углубилась, приблизившись к сути) – отношения мужчины и женщины. В романе Пушкина «Евгений Онегин» герой занят не интеллектуальной софистикой, умело задрапированной неумеренными переживаниями (можно ли убивать «по праву» «ответственно мыслящего», даже если преступаешь сакральноиррациональное «не убий»?), софистикой, которая призвана стать бесполезным инструментом, определяющим меру гуманности; эта «безмерная глубина» в контексте отношений мужчины и женщины оборачивается псевдоглубиной. Отношения Онегина и Татьяны – это языком искусства представленная версия сосуществования культуры и натуры, в образах воплощенная попытка культурного существа, мужчины, жить в любви и согласии с женщиной, жить одновременно по законам и культуры, и натуры, не унижаясь при этом до отрицания последних, но и не скрывая, что культура, будучи высшей духовно-информационной инстанцией, вовсе не собирается играть в прятки с натурой. В подобном контексте даже «мысль народная», вкупе с загадочным желанием убивать «по праву», выглядят как варианты уклонения, отклонения от культурной магистрали. Ибо: культурно содержательны лишь отношения умного мужчины (субъекта сознания) и тонко чувствующей женщины (субъекта высокоорганизованной психики); все остальные отношения – это наивные попытки завуалировать главные отношения, отношения сознания и психики. Пушкин показывает: умный мужчина должен дозреть до любви, тонкая женщина раскрывает свою тонкость в любви. Но это отнюдь не означает, что любовь непременно станет способом их существования (хотя, конечно, помогает им стать теми, кем они способны стать). Мужчина и женщина не только тянутся, притягиваются друг к другу – но и отталкиваются друг от друга, демонстрируя невозможность слияния субъектов разной информационной природы: натура берет свое, а культура противостоит натуре. Непреодолимое притяжение и одновременное взаимоотторжение: здесь нет ни капли мистики, здесь голая правда чувств, «честно» обслуживающих императивы натуры, и умных чувств (тоска, отчаяние, боль, разочарование), появившихся в результате функционирования сознания. Вот почему трагизм, неизбежный трагизм в любви становится наиболее адекватной и впечатляющей формой сосуществования натуры и культуры. Есть, конечно, и иные формы; например, вариант тотального подчинения 97 женского начала – мужскому (любовь как составляющая по-своему гармонических героических отношений), или мужского – женскому (своего рода комическая гармония). Однако свободное волеизъявление мужского (культурного) и женского (природного) начал неизбежно приводят не только к глубине и высшей гармонии, но и к трагизму. Похоже, отменить этот закон не представляется возможным. Закон любви становится одним из проявлений универсального закона сохранения информации. Можно сколько угодно причитать по поводу того, что любовь, дескать, это чудо из чудес и вечная загадка, практически – тайна величайшая, и умом ее не понять; что невозможно алгеброй поверить чувства, что логика чувств неподвластна никаким законам, несоизмерима с понятием «познание». Аргументов из арсенала формальной логики Татьяны – не счесть. Однако и на стороне Онегина есть неотразимый аргумент: если бы в любви невозможно было обнаружить закон, жить было бы по-настоящему скучно. А так – жить можно. Вот какого порядка рассказана нам история про мужчину и женщину. Тут уже не сила чувств впечатляет, как, скажем в «Ромео и Джульетте», пьесе ощущений, а обнаруженная закономерность несовпадения чувств зрелого мужчины (личности) и зрелой женщины (неспособной стать личностью). В романе нет проблемы силы чувств, проблемы контроля над страстью; роман о человеке, в котором проснулась личность, роман о романе натуры и культуры. Таким образом, любовь – это всегда испытание, всегда культурный вызов: жизнеспособность любви зависит от того, найдена ли гармония между чувством и умом. Если найдена, увы, тут уже рукой подать до трагизма. Сам роман, согласимся с повествователем, есть не что иное, как «Ума холодных наблюдений И сердца горестных замет» (с. 5). Любовь должна стать способом реализации (проявления) личности, в противном случае она неизбежно превратится в способ деградации личности. Союз мужчины и женщины вполне может существовать и без любви («я другому отдана; Я буду век ему верна»: Татьяна, созданная для любви, вовсе не собирается без любви умирать); присутствие любви в отношениях становится фактором духовнообразующим – пока что, увы, факультативным для людей. В романах, подобных «Евгению Онегину», несчастная концовка становится вариантом трагически счастливой комбинации, а счастливая концовка выглядела бы откатом на позици доличностные, на которых покоится вся наша цивилизация. Цена несчастной (счастливой) концовки в культурном смысле очень высока. Было бы неверно сказать о романе, что он – о несчастной любви. Ведь путь к счастью все же был открыт – и значит, оно в принципе возможно. Но счастье, будучи ценностью личности, не является постоянной («вечной») метафизической величиной, пусть и фундаментально эфемерной. Оно, 98 будучи «звеном цепи», включено в процесс познания, казалось бы, умозрительный, но вместе с тем изумительно реальный в отношении чувств, самочувствия. Человек ищет, находит относительную истину, какое-то время обладает ею – а потом вновь теряет «себя» («законную» систему координат), и вновь продолжает поиски, уже обогащенный опытом обладания и утраты, опытом «наблюдений» и «замет». Счастье человека точнее представлять не как вершину пирамиды, а как вершину, состоящую из пирамиды пирамид. У счастья много кульминаций. И есть одна непременная примета: личность, пока она жива и духовно организована как личность, не может не стремиться к счастью. Жить – значит, находиться на пути к счастью или даже быть счастливым. Не желать счастья – значит, перестать жить. Если взять «линию Онегина», его роман с самим собой (выражением которого стал роман с Татьяной), духовную интригу, то траектория этой линии универсальна и проста: от «науки страсти нежной» – к любви, от чувственности (натуры) – к высокой страсти (культуре). От натуры – к культуре. А возможно ли путь самопознания пройти без любви? Самопознание пусть бы себе состоялось – но чтобы при этом любви и связанных с нею переживаний и прозрений, ума холодных наблюдений, как-нибудь избежать? Такое трудно себе представить. Мне кажется, это не только неверно, но и попросту невозможно. Дело в том, что самопознание предполагает: мужчина дорастает до любви, любовь и есть выражение самопознания. Вот почему роман о духовном становлении – это любовный роман (хотя, конечно, не всякий любовный роман – это роман о духовном становлении; точнее было бы сказать, что не не всякий любовный роман – это роман о любви). В заключение два тезиса. Первый. Готов согласиться: предложенная трактовка в известном смысле тенденциозна, она не обусловлена очевидной для всех объективной логикой (чаще всего роман анализируется с позиций, которые занимает Татьяна: это тоже объективная реальность, к которой близок «онегинский» взгляд на вещи). И тем не менее у нас есть основания трактовать роман именно в таком ключе. В противном случае понадобится иная философия человека. Какая, было бы интересно узнать? Второй. Невнятный по смыслу «Евгений Онегин» изучается, тем не менее, в школах и университетах, и общественное сознание (или коллективное бессознательное, что одно и то же) не сопротивляется активно, казалось бы, сомнительному обаянию романа, где все так неоднозначно. Возможно, дело как раз в том, что интуитивно, бессознательно наиболее чуткие и образованные слои общества чувствуют гуманистический потенциал трагической любовной истории, ощущают, что самый светлый гуманизм не бывает без трагического оттенка. Убери трагедию – нарушится гуманистическая гармония. Появится ложь (нечто объективно несовместимое с истиной). По формальным признакам фигуру «модного тирана» давно бы надо оградить от «тлетворного» воздействия на умы и души молодых 99 поколений, всегда находящихся, подобно Онегину и Татьяне, в духовном поиске. Но по сути непознанный пока Онегин способен подарить надежду тогда, когда, казалось бы, ее совсем не остается. Более того: если не Онегин – то кто же? Необходимо понять: роман Пушкина – одно из первых впечатляющих выражений заката (деградации) цивилизации как высшей стадии натуры. Он же – одно из первых впечатляющих свидетельств того, что без культуры цивилизация просто погибнет. 100 6. ФИЛОСОФСКАЯ СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 1 Что мы анализируем, когда анализируем «художественный текст»? Что конкретно становится предметом исследования? Мы анализируем: 1) «смысл» (план содержания); 2) способы его передачи, «стиль» (план выражения); 3) способ передачи стиля (лингвистическую составляющую художественного текста). Если мы анализируем – вынося культурную оценку! – выделенные уровни текста сознательно, то рано или поздно мы ощущаем потребность в научно-философски обоснованной методологии. Если мы ограничиваемся «вольной» и «ничем не ограниченной» интерпретацией, то вполне достаточно ни к чему не обязывающего «филологического» подхода, где «смысл» становится факультативным (не определяющим) признаком качества текста. Анализ смыслового, семантического, философского ядра художественного текста (включающего в себя мировоззренческие ориентиры, как-то: систему высших культурных ценностей (Истина – Добро – Красота), в частности, гуманистическое измерение – Истину, онтологически содержащую в себе направленность на Добро) невозможно считать «филологическим», поскольку философия не познается средствами филологии, хотя и существует, реализует свой бесконечно диалектический дискурс благодаря филологии. Вот почему «филологический анализ» (словосочетание, прижившееся в последнее время в литературоведении) – это в первую очередь лингвистический анализ, и в последнюю – литературоведческий. Анализ стиля (включающий, разумеется, элементы лингвистического анализа), анализ плана выражения – это уже переход к анализу «смысла», анализу в принципе нефилологическому, философскому. Поэтому корректнее называть литературоведческий анализ целостным, а не филологическим. Филологический в современном контексте – значит, не претендующий на целостный (каким по определению является анализ литературоведческий). Филологический – следовательно, не литературоведческий, локальный, усеченный до лингвистического, ибо если все же литературоведческий, следовательно, отчасти философский. За терминологическим буреломом скрывается природа художественного текста – амбивалентная, совмещающая в себе свойства Истины, которая обладает эстетическим (стилевым) измерением (Красотой), закрепляемым в лингвистической реальности текста. Подобная – целостная, не системная! – структура художественного текста делает попытки его не целостного (в частности, филологического) рассмотрения обреченными на неудачу по той простой причине, что не целостный подход меняет предмет (объект) исследования. При целостном подходе любой лингвистический феномен рассматривается как способ 101 выражения высшего (и в масштабах данного произведения, и по шкале универсальных – высших культурных – ценностей) смысла; филологический анализ, по существу, исследует не «художественный текст», а «текст с филологическим уклоном» или текст, имеющий отношение к художественности. Внутренние связи «художественного текста» и «текста с филологическим уклоном» принципиально разные: в первом случае целостно организованные, методологически выстроенные с помощью тотальной диалектики, во втором – системные, сопряженные по законам формальной логики. Вот и получается: текст один, на русском языке, «Евгений Онегин», а предметы исследования разные. Теперь вернемся к структуре термина «смысл», который метафорически описывается с помощью еще более невнятных «терминов», таких как Истина, семантическое ядро и т.п. Строго говоря, смысл – это всегда тяготение к высшим философским обобщениям, это философское содержание (нефилософского содержания в культуре не существует). Отсюда неизбежно появление обозначенного аспекта: философская структура художественного текста. Философия, «любомудрие» – это прежде всего любовь и почтение к иерархической структуре, где универсальное определяет содержание «не универсальных», частных, по отношению к универсальному, уровней. Если говорить о великой литературе, то предметом ее пристального внимания, ее содержанием (философски и эстетически структурированным) становится процесс превращения человека в личность. На самом деле надо выразиться еще более точно и конкретно: один информационный комплекс, телесно-психологический, известный нам под названием человек (индивид), на наших глазах превращается в другой, духовно-психологический, имя которому – личность. Меняется тип управления информацией, меняется способ мышления – в результате меняется система ценностей, система мотивов поведения – следовательно, меняются типы конфликтов, типы и системы персонажей. Именно конфликт типов управления информацией и является предметом изображения (подлинным содержанием) в литературе, ибо все духовные коллизии человека коренятся в информационной природе конфликта. От натуры – к культуре (от приспособления – к познанию): это и есть подлинно культурный путь человека, который (путь) посредством образов (если говорить о языке литературы как виде искусства, виде художественного творчества), закрепляемых в стиле, в частности, в сюжете и лингвистических составляющих стиля (если говорить о способах выражения образа), отражается в литературе. Это и есть один-единственный предмет литературы: духовное производство человека. Других попросту нет, им неоткуда взяться. Полюсато в духовном пространстве всего два: психика и сознание. Два полюса связывает один сюжет. Идти можно только в одном направлении, снизу вверх (осуществляя процесс познания), от натуры к культуре, проходя при 102 этом неизбежные и, в общем, известные ступени (тело – душа – дух). Если путь к личности состоялся, прямая, та, которая «снизу вверх» (обозначающая процесс познания), смыкает конец с началом, образуя круг. Личность – это целостность, единство «низа» и «верха». Графический эквивалент целостности – это круг. Не следует забывать, что сюжет, равно как и все лингвистические «приемы и средства», – всегда способ передачи содержания, но не само содержание. От натуры к культуре: это и есть содержательная, внутренняя сторона сюжета, внешнее выражение которой – ряд событий, окончательно воплощенный в слове. Если писателя интересует, скажем, процесс деградации, обратный процесс от культуры к натуре, «сверху – вниз», то это является формой выражения все той же закономерности: точка отсчета в духовном мире человека, культура, никуда не исчезает, именно она структурирует духовность. Разница в том, что теперь перед нами уже процесс приспособления, отрицающий процесс познания, противостоящий ему. Однако художников слова интересуют не просто духовные проявления человека, не просто процесс его окультуривания, но поэтизация (эстетизация) этого процесса. Сам факт того, что «путь к личности» (или бегство от личности) становится фактом (предметом) искусства, свидетельствует о том, что подобные духовно-идеологические коллизии канонизируются, отбираются и закрепляются в качестве образцовых, многократно усиливая свое воздействие на умы и души читателей. Таким образом, литература отражает бессознательную духовность человека, не столько анализирует, сколько моделирует путь («снизу – вверх»), который принято называть «поиски истины». Целостный же анализ направлен на то, чтобы придать человеку измерение личности, литературе – измерение культуры, выявить в тексте философское содержание, масштабность которого далеко не всегда ясна и самому творцу. «Филологический анализ» в данном контексте становится методическим средством, реализующим возможности целостной методологии. 2 Вот простой, но, как мне представляется, убедительный пример превращения художественного текста из предмета филологического анализа в предмет исследования литературоведческого (философского – следовательно, целостного). Отрывок из «Евгения Онегина» (начало главы пятой). I В тот год осенняя погода Стояла долго на дворе, Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе 103 На третье в ночь. (…) II Зима!.. Крестьянин торжествуя На дровнях обновляет путь; Его лошадка, снег почуя, Плетется рысью как-нибудь; Бразды пушистые взрывая, Летит кибитка удалая; Ямщик сидит на облучке В тулупе, красном кушаке. Вот бегает дворовый мальчик, В салазки жучку посадив, Себя в коня преобразив; Шалун уж заморозил пальчик: Ему и больно, и смешно, А мать грозит ему в окно… III Но, может быть, такого рода Картины вас не привлекут: Все это низкая природа; Изящного не много тут. (…) Отрывок из романа «Евгений Онегин» («Зима!.. Крестьянин торжествуя…») изучается в школе, в пятом классе, в разделе «Писатели о природе» под рубрикой «Стихотворения русских поэтов XIX века о природе», наряду со стихотворениями Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова. Вот необходимый теоретический (филологический, конечно) инструментарий, с помощью которого предлагается анализировать текст (цитирую Программу по русской литературе): «Пейзажная лирика. Изобразительно-выразительные средства художественной речи в пейзажной лирике: эпитет, сравнение, олицетворение. Звуки и краски в лирической поэзии». Таким образом, отрывок из романа изымается из сложнейшего семантического контекста, который способен уяснить себе далеко не каждый взрослый (роман до сих пор в должной мере не понят и не оценен «прогрессивным человечеством», не говоря уже о средней школе) и превращается в «пейзажную лирику», которая, в принципе, понятна и ребенку. Пушкина интересует не природа, а природа человека – не натура, а натура, становящаяся культурой. Кстати сказать, в распространенном «термине» «пейзажная лирика» кроется двойная ошибка: во-первых, в «стихотворениях о природе» предметом изображения является не природа, а чувства и мысли 104 (мироощущение), навеянные природой; во-вторых, чувства, как правило, умные чувства, – это уже параметр «человеческого измерения», и в качестве такового они являются предметом философского, а не филологического, рассмотрения. В данном случае двойная ошибка приводит к тому, что в школе изучается не отрывок из романа «Евгений Онегин», не пушкинский художественный текст, а некий совершенно условный «текст» про крестьянина и лошадку, мальчика и жучку, напрочь лишенный философской нагрузки, собственно, и делающей этот текст высокохудожественным. Парадокс, однако, заключается в том, что, убрав из «текста» все пушкинское, все «лишнее» (информация о «лишних людях» до сих пор воспринимается как лишняя), мы получаем нечто «выразительное о зиме», вполне пригодное для изучения в школе. Формально автором текста, обладающего эстетическим измерением, является великий А.С. Пушкин. Таким образом, социальная и эстетическая нагрузка текста становится важнее художественно-философской. Соответственно, филологический анализ – актуальнее литературоведческого. Филологически любой фрагмент романа в стихах Пушкина анализировать невозможно, точнее, некорректно, ибо фрагмент целостно организованного полотна выявляет свою значимость только в контексте целого. Природа, «низкая природа», описанная столь поэтически, если не возвышенно (роман в стихах предоставляет такую уникальную возможность), станет, в конце концов, для мыслящего, и потому сторонящегося «низких» проявлений природы Онегина («Кто жил и мыслил, тот не может, В душе не презирать людей»: мыслить – значит, к сожалению, презирать), необходимым компонентом счастья, войдет в состав жизнеспособного типа духовности. Мыслить – значит, к счастью, не презирать то, что, казалось бы, заслуживает презрения. Таков многомерный симфонический концептуальный контрапункт отрывка «про жучку». Обратим внимание: сначала лошадка везет крестьянина, а потом мальчик, «себя в коня преобразив», – собачку. Человек, простой, нерассуждающий человек не выделился из природы, он весьма напоминает «братьев своих меньших» – и в этом есть своя прелесть, эти «низкие» радости (крестьянин «торжествует», шалуну-мальчику «и больно, и смешно») тоже возвышают человека. Человек устроен сложнее, чем думалось на тот момент Онегину. Он, человек, не раскладывается на мысль и чувство, на высокую культуру и низкую натуру. Он един. Ему и больно, и смешно – и при этом он способен мыслить. В этом отрывке повествователь противостоит Онегину («Всегда я рад заметить разность Между Онегиным и мной») – человеку редкой духовной породы, имя которой личность, человеку, который мыслил настолько глубоко, что, наконец, перестал унижаться до презрения. Мыслящий Онегин оказался в состоянии дойти до той степени зрелого ума (разума), с которой начинается мудрость. В этом контексте противостоять Онегину – значит, в 105 конце произведения пожать руку главному герою, именем которого назван роман в стихах. Для Онегина, пребывающего на той стадии активной духовной эволюции, на которой он находился в начале Главы пятой, для героя, отвергшего чувства Татьяны (любовь, что ни говори, – это в значительной степени проявление «низкой природы»), для «чудака», который вскоре убьет своего друга-поэта на дуэли (поэт, что ни говори, – это культ чувств в ущерб культу мысли, то есть все тот же диктат все той же «натуры»), – для Евгения поэтическая сторона «низкой природы» была пока что роковым образом недоступна. Татьяна, кстати, «С ее холодною красою Любила русскую зиму», повествователь – тоже; если уж на то пошло, все люди любят и ценят красу природы. Онегин же скучал – и зимой, и летом (вспомним: «Деревня, где скучал Евгений, Была прелестный уголок»). Любовь, природа, поэзия, чувства, в том числе – и прежде всего – собственные чувства – все это проявления натуры, которая, с точки зрения незрелой культуры, с позиций «мыслящего» интеллекта (некоего абстрактно-теоретического, логического расклада), заслуживает презрения. Натура как «прелестная» составляющая культуры – это уже задачка не для интеллекта, а для разума, «задачка», с которой Онегин справился. Те же, кто не равнодушен к прелестям «пейзажной лирики», кто в восторге от проказ мальчика и его жучки, как правило, Онегина не слишком жалуют. Таково философское содержание пушкинского текста в целом и, в частности, того отрывка, который в качестве образца «пейзажной лирики» представлен чутким пятиклассникам. 106 7. ВОСПРИЯТИЕ ТЕКСТА КАК ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕННОСТНЫХ ПАРАДИГМ (о том, как пророк Достоевский интерпретировал пророка Пушкина) Знаменитая речь Достоевского о Пушкине, в которой Федор Михайлович хвалит и ругает Александра Сергеевича вовсе не за то, за что он заслуживает хулы и похвалы, сама, в свою очередь, интересна вовсе не тем, что сделало ее знаменитой. Она заслуживает внимания как событие знаковое – но в культурном контексте, который мы постараемся поставить с головы на ноги. Все перепуталось в культуре, и речь мэтра стала великолепным образцом вселенской путаницы. Хотелось бы начать с того, как были восприняты пророчества Достоевского. Вот цитата из письма Достоевского своей жене, которое он написал вечером того дня, когда была произнесена эпохальная речь. «Зала была набита битком… Когда я вышел, зала загремела рукоплесканиями и мне долго, очень долго не давали читать… Наконец я начал читать: прерывали решительно на каждой странице, а иногда и на каждой фразе громом рукоплесканий. Я читал громко, с огнем… Когда же я провозгласил в конце о всемирном единении людей, то зала была как в истерике, когда я закончил – я не скажу тебе про рев, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить. Порядок заседания нарушился: все ринулись ко мне на эстраду: гранд-дамы, студентки, государственные секретари, студенты – все это обнимало, целовало меня… Все буквально все плакали от восторга» (Полн. собр. соч., т. 30 (1), с. 184). Чему же так восторженно рукоплескала просвещенная Москва? Речь Достоевского (в письменном варианте – это очерк «Пушкин»), если отвлечься от пафоса эмоционального, от «грома и огня», достаточно проста по мысли (как и все, созданное великим романистом). Ее можно свести к нескольким опорным тезисам. 1. «Пушкин есть пророчество и указание» в том смысле, что он предвидел (угадал?) ценностные ориентиры как для России, так и для всего человечества. Здесь стоит особо отметить социоцентрический характер идеалов оратора: сначала Россия, человечество, и только потом – личность. (Очерк «Пушкин» цитируется по изданию: Достоевский Ф.М. Избр. соч. – М., Худ. лит., 1990. – с. 535 – 547.) 2. Ориентиры эти точнее, глубже и убедительнее всего с художественной точки зрения «прописаны» в «поэме» «Евгений Онегин», анализ которой и занимает центральное место в пламенной речи. 3. Главным противостоянием в «поэме», источником конфликта было признано пророческое противостояние «нравственного эмбриона» Онегина и Татьяны, которая является «апофеозой русской женщины», «типом положительной красоты» и «главной героиней поэмы», носительницей и хранительницей социоцентрического начала (в отличие от Онегина, героя 107 отрицательного и второстепенного, потому как исповедовавшего персоноцентризм). 4. «В «Онегине» (согласно мнению Достоевского, роман только по недоразумению носит имя «русского скитальца», а не имя той, кто «высказывает правду поэмы» и называет «скитальца» «пародией» - А. А.), в этой бессмертной и недосягаемой поэме своей, Пушкин явился великим народным писателем, как до него никто и никогда». Народность: вновь главенствует социоцентризм. 5. А стать русским – значит, «стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите». «Всемирность» и «всечеловечность» гения Пушкина, по Достоевскому, как раз и указывала пророчески на эту, социоцентрическую по сути своей, тенденцию. Все. Чтобы понять, какого пророка из Пушкина творил Достоевский, надо четко представлять себе, из какой системы ценностей исходил благородный Федор Михайлович. Дело не в «западниках» и «славянофилах», как могло бы показаться; эти условные значки – всего лишь социальная оболочка совершенно иного, автономного и самоценного, конфликта. Какого? Если правильно ответить на этот вопрос, мы поймем, почему Достоевский не сумел прочитать роман в стихах «Евгений Онегин». Он прочитал иной текст – некую «поэму», в которой даже не заметил главного героя. Речь Достоевского интересна прежде всего тем, как воспринимает человечество (в лице своих гениальных представителей!) шедевры, когда смотрит на них снизу вверх, «чувственно» интерпретируя феномены сознания, а думает – что сверху вниз, что точкой отсчета является именно сознание, а не чувство. Модель восприятия одним культурным сознанием ситуации, сотворенной сознанием принципиально иным, – вот что такое речь Достоевского о Пушкине. И закономерности подобного восприятия стоят того, чтобы о них задуматься. Мне уже неоднократно приходилось писать о романе в стихах «Евгений Онегин». Вот несколько тезисов, которые понадобятся нам в разговоре о взаимодействии разных ценностно-культурных ориентаций. 1. Главный герой романа Евгений Онегин является концентрированным (потому как художественным) выражением той тенденции (или модели) культуры, которую можно назвать персоноцентричной. Он не пришибленный «скиталец», а личность, отважившаяся жить своим умом в мире, где все тянутся к всечеловечности, народу, почве, пытаясь раствориться там с помощью чувства. Жить умом в мире, где принято жить чувством, – значит, быть «скитальцем», «пародией», «лишним», заслуживающим в качестве наказания не только «горе от ума», но и отлучение от всех типов социума. Не такой как все – оставайся один. (Достоевский в данном случае поддержал мнение «толпы», ничего не понимающего в литературе и культуре «народа».) 2. Роман в стихах не случайно назван именем Евгения Онегина, ибо бесспорно Евгений является главным героем романа, но никак не Татьяна, 108 которая является поэтическим выражением другой, социоцентричной тенденции. (Достоевский вновь допустил принципиальную ошибку.) 3. Проблема Онегина состояла не столько в том, что он жил умом, сколько в том, что он не сумел с помощью ума вовремя найти точки соприкосновения с тем миром, олицетворением которого являлась Татьяна. Она – «верный идеал» и повествователя, и Онегина (с некоторой долей иронии и, к сожалению, вовсе без иронии). «Ум» (Онегин) и «душевность» (Татьяна, но не только) – вот конфликтообразующая среда романа. (Достоевский не заметил конфликта двух языков культуры, психики и сознания, в романе.) 4. Утверждать, что в романе в стихах «Евгений Онегин» Пушкин явился великим народным писателем, значило бы не замечать масштаба личности главного героя, который (масштаб) становится всеобщим культурным аршином. (Достоевский, ставя народ выше личности, прочитал не тот роман, который был написан Пушкиным.) Нетрудно сделать вывод, что роман, написанный с позиций гибкого ума, был прочитан корифеем Достоевским с твердой платформы чувства и всеобщей несгибаемой морали. Иными словами, Достоевский прочитал роман с тех позиций, которые активно развенчиваются в «Евгении Онегине», которые стали фактором и «почвой» трагедии главного героя. Ничего не поделаешь: ты читаешь роман, а роман читает тебя. Достоевский читал роман, в котором точкой отсчета, по его, «всечеловека», разумению (которое совпадает с мнением всех нормальных, то есть религиозных, людей), является Бог; Пушкин написал роман, точкой отсчета в котором является человек разумный, то есть принципиально нерелигиозный. В перевернутой с ног на голову гуманистической «системе отсчета» Достоевского Онегин самым естественным образом является «пародией» на «библейского» человека в принципе, и, в частности, пародией на Раскольникова, ставшего всего лишь жалкой копией Онегина. Однако дело даже не в том, что Достоевский не прав; дело в том, что он свято убежден в своей правоте – и по-своему действительно прав (как была, к сожалению, права Татьяна во взаимоотношениях с Онегиным). Дело в том, что он не видит и не может увидеть правоты Онегина (которому недвусмысленно протянул руку повествователь – Пушкин, пользуясь терминологией Достоевского). Дело в том, что роман Пушкина читали и читают с позиций социоцентрических, прибегая к аргументам исключительно психологического, неразумного свойства. И Достоевский здесь не первый, и не последний. Он не просто по-своему прочитал и проинтерпретировал роман Пушкина; он с большим чувством, весьма душевно отмел персоноцентричную тенденцию в культуре как абсолютно бесперспективную. Вот чему громогласно аплодировала просвещенная Москва, вот по поводу чего «зала была как в истерике». Бедный Онегин! Вон из Москвы 1880 года. Здесь ему нет места, как не нашлось места и в Петербурге начала XIX века. 109 К сожалению, и в Москве XXI века, в 2007 году «вечный скиталец» никому не нужен. Речь Достоевского в определенном смысле канонизирована. И это уже не игрушки. Человечество перестало понимать само себя: вот что напророчил Достоевский. Мы живем в реальной ситуации двух культур: одна из них создана при решающем участии сознания, другая – психики, души. Сплошь и рядом мы имеем дело с критериями социоцентрическими (душевно-иррациональными), распространенными на иную, персоноцентричную, разумом «спроектированную» культурную парадигму, и наоборот. Результат печален: каждая из позиций претендует на универсальность, обвиняя оппонентов то в глухоте душевной и черствости разума, то в глупости. Проблема же в том, что универсальной позицией является диалектически интерпретированный персоноцентризм (поскольку именно он выстроен «от сознания»), но это невозможно доказать противникам, на стороне которых «народ» (то есть – все), «всемирное единение» и «братство» людей, нечеловеческая (в смысле всечеловеческая) отзывчивость, евангельский закон… А «онегиных» определили в «лишние». Народ с недоумением смотрит на полоумных «скитальцев». Разное качество мышления разных по информационной природе субъектов пришло в убийственное противоречие. В двух культурах появились разные породы людей. Глашатаи, громко призывающие ко всемирному единению на почве заскорузлой моральной оседлости, не слышат и не могут услышать «скитальцев», великолепно понимающих, почему их в упор не слышат глашатаи. Ситуация трагической обреченности – вот магистральный излом сегодняшней культуры (разумеется, невидимый тем, кто специализируется на всякого рода «единении», ведущем к истреблению личности). Мы и смерть примем от тех, кто, рыдая, принесет ее нам из благих побуждений. В этом нет никакого сомнения. Роман в стихах «Евгений Онегин» пока не прочитан – не прочитан с позиций, разделяемых повествователем и самим Онегиным, хотя минул двухсотлетний юбилей со дня рождения Пушкина. И это, к несчастью, нормально: вот о чем роман Пушкина. В этом смысле роман можно считать пророческим. Пушкин как пророк нового типа заглянул в бездну природы человека, а не в кофейную гущу евангельского закона. «Так нас природа сотворила, к противуречию склонна»… Так Пушкин вслед за Онегиным вышел к барьеру. По другую сторону барьера стояла толпа. Достоевский сказал: «Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем». Для человека, написавшего «Евгения Онегина», нет тайн в том смысле, о каком пророчествовал Достоевский. Татьяна – не тайна, и даже Онегин не тайна. Тайна, понимаемая как легко объяснимая, но абсолютно неприемлемая, самоубийственная линия поведения, может заключаться в том, что «все» в упор не замечают очевидной для умных людей трагедии, с неистребимым пафосом продолжают менять местами Онегина и Татьяну. Бедный Пушкин! 110 Роман в полном смысловом, и, следовательно, художественном, объеме может быть не прочитан никогда. В лучшем случае его прочитают как поэму«апофеозу» Татьяне. Да и то – элита. А больше читать некому. Если уж Достоевский говорит о «всемирности и всечеловечности его (Пушкина – А.А.) гения», если отечеством Пушкина является Россия как часть мира, то к месту было бы вспомнить, что нет пророка в своем отечестве. Стоило ли писать роман? Если бы проблема ограничивалась интерпретацией «Евгения Онегина», то на этом можно было бы поставить точку (то есть большой и грустный вопросительный знак). Однако проблема совмещения ценностных парадигм относится ко всем без исключения шедеврам мировой художественной (а также научно-гуманитарной) культуры. «Татьяна» и «Онегин», символы разных отношений – приспособления и познания, в разных своих ипостасях так или иначе присутствуют везде (это свидетельство глубокой архетипичности воспроизведенной Пушкиным ситуации: в этом смысле гений Пушкина, конечно, всемирен). Не с Пушкина ведь началась трагикомедия перехода от натуры (приспособления) к культуре (познанию), трагикомедия взаимодействия психики и сознания. Пушкину удалось – в силу гениальности, имеющей философско-информационную природу, – ярко воплотить этот экзистенциальный конфликт, воплотить настолько выпукло, впечатляюще и доходчиво (хотя и поэтически конспективно), что он угодил сразу всем – и тем, кто любит любящую Татьяну, и тем, кому близки позиции страдающего от понимания Онегина, и тем, кто понимает, что неправы ни первые, ни вторые. Правда, сам факт раздельного существования первых двух «лагерей», а также сам факт отсутствия в культуре интерпретации «третьей силы», силы разума, свидетельствует о том, что «роман плодотворного, но рокового взаимодействия» прочитан только как «роман фатального противостояния». Угодил сразу всем – и никому. И все же: если роман личности о личности написан, может быть, стоит попытаться дать ему универсальную (всемирную) интерпретацию – с точки зрения все той же личности? А то нехорошо получается: памятник Пушкину поставили, истерику закатили – а роман, за который поставлен был памятник, так и не прочитали. Чтобы не заканчивать на пессимистической ноте, закончим на еще более пессимистической (или, если угодно, углубим понимание сути проблемы). Дело, разумеется, не ограничивается неправотой или относительной правотой Достоевского; дело в принципе несводимо к отдельным точкам зрения, поскольку речь идет о законе, которого как бы нет, но который был обнаружен Пушкиным. Автор «Онегина», разграничив женское и мужское начала в культурном плане, с одной стороны, подвел черту под наивной мифологической трактовкой героев и героинь, а с другой – положил начало пушкинскому этапу в развитии литературы (скажем осторожнее: в развитии русской литературы, со времен Пушкина выдвинувшейся в авангард мировой). После Пушкина именно противостояние психики и сознания в 111 качестве решающего фактора художественности неизменно находится в центре внимания литературы как таковой и обуславливает содержательную структуру великих творений русской (и мировой) литературы. Позволим себе концептуальный набросок пунктиром. «Мертвые души» Гоголя выстроены на отсутствии (подразумеваемом принципиальном присутствии) душ «живых», то бишь оживленных умом; при этом «мертвые» – весьма и весьма психологизированы, «одушевлены» (в этом контексте – именно умерщвлены), что позволяет им стать яркими типами, но не позволяет обрести параметры характера (как это произошло с Онегиным, например). У Гоголя, обратим внимание, нет мужчин в пушкинском смысле, все его особи мужеского пола, «души», похожи «на баб», как Плюшкин. Печорин – прямой потомок и продолжатель печальных традиций Онегина, однако менее зрелый, более романтизированный и демонизированный «лишний», нежели его предшественник. Генетически они связаны одной духовной проблематикой. Тургеневский Базаров, горячий поклонник культа интеллекта, не выдержавший испытаний чувствами, любовью, также представляет собой модификацию золотого онегинского типа. «Западники» и «славянофилы» в этом контексте выступают одни за приоритет интеллекта, этого фирменного западного вектора, вторые – за непознаваемую душу, почву, иррационализм, который умом не понять. Ничего нового. Достоевский, возможно, сам того не подозревая, писал всю жизнь хулу на Онегина, критически разоблачал «разносчиков интеллектуальной чумы», безбожников, делающих ставку на резервы (разум!) человека, а не на «нечто светлое», предусмотрительно вложенное и запрятанное Кем-то в потаенные уголки темной души. Творчество Достоевского в целом, как комплекс идей, определяющих качество духовности, можно считать допушкинским этапом в развитии литературы, хотя психологизм Достоевского делает его романы современными в ином аспекте: он одновременно со Львом Толстым открыл и творчески «расшевелил» психоаналитический пласт, имеющий отношение к духовности. Это открытие касается не столько содержательности и структуры личности, сколько функционирования «личностных технологий»; однако у Достоевского психоаналитика во многом стала даже не материей духовности, а самой духовностью, что, конечно, является культурной утопией. Душа без аналитики, без ума – мертвая душа. Заметим в этой связи, что Онегин и психоаналитизм – вовсе не антагонистические феномены; более того, психоаналитика может раскрыть свои потенциальные культурные возможности именно «на материале» такого характера, как Онегин, а не как Раскольников. Достоевский вовсе не так далеко дистанцировался от Онегина, как ему казалось. Лев Толстой также рассматривал коллизию «ум – душа» как основную, магистральную. За диалектическим единством «войны и мира» стоят ведь не оппозиции Пьер Безухов – Болконский, Кутузов – Наполеон или Россия – Франция. За всеми этими частными конфликтами скрывается проявление 112 конфликта глобального и универсального: психика противостоит сознанию, иррациональное – рациональному, душа – уму. Вот они, компоненты «войны и мира», которые складываются в «образ мира». Литература ХХ века, казалось бы, ушла от непосредственного противостояния психики и сознания, формирующего материю духовности. Но она не ушла, да и не могла уйти от бесконечного противостояния «ум – душа» (как ни называй диалектическое взаимодействие указанных инстанций). Набоков, Платонов, Булгаков – по одной версии, Шолохов – по другой объявляются суперклассиками. Но ведь Набоков – это блестящая попытка «чистого искусства» избавиться от гнета ума, попытка подменить ум некой «безумной» «самодостаточной» глубиной, обладающей загадочным эстетическим измерением. Увы, глубина появляется там, где присутствует ум. Глубина в гуманитарной культуре всегда и только характеристика концепций, глубина есть величина философская. Кстати, роман Шолохова «Тихий Дон» держится не на истории войны «красных» с «белыми», и не на истории любви – не на правде чувств, иначе говоря; он держится на герое, который пытается с помощью незрелого ума отыскать универсальную, «дурную», как он выражается, правду, стоящую над чувствами. Таким образом, затронутая нами проблема не ограничивается интерпретацией «Евгения Онегина»; она лишь великолепно иллюстрируется каверзами данной интерпретации. Дело вообще не в Пушкине и не в Онегине; дело в том, что Пушкин блестяще реализовал универсальный закон, определяющий саму суть художественного творчества: он воплотил духовноинформационный закон превращения человека в личность, закон, опирающийся на взаимодействие психики и сознания. Наука сегодня в упор не замечает этого закона и не делает его всеобщим критерием художественности (и научности). Вот почему в принципе возможны абсурдные ситуации, когда главным является не закон, а «Татьяна, русская душою». Татьяна как символ начала «душевного» является всего лишь условием «разумного» отношения к жизни, но не альтернативой ему. Проблема, подлинная культурологическая проблема заключается в том, что гуманитарная наука последовательно избавляется от статуса научности, уходит от необходимости выстраивания сколько-нибудь универсальной ценностной парадигмы. «Взаимодействие ценностных парадигм» традиционно понимается как отношения разных и равноправных точек зрения, но не как отношения закона и его разнообразных проявлений. При этом отсутствие закона, по существу, объявляется неписаным законом. Фактически мы выбираем между законом науки и вольной интерпретацией, «законом чувства» – нравится нам это или не нравится. Те, кто читает «Онегина» как «апофеозу» Татьяне, просто-напросто традиционно добиваются устранения научного отношения. Проблема «беззакония» в гуманитарных науках носит методологический характер и, разумеется, не является собственно литературоведческой. Но без 113 решения этой проблемы не понять ни Пушкина, ни Достоевского, ни литературу, ни культуру вообще. 8. НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ ПИКОВОЙ ДАМЫ 1 Пиковая дама, как известно, означает тайную недоброжелательность. Отчего же сия дама так неблаговолила «сыну обрусевшего немца» с исключительно нерусской фамилией Германн (содержащей, помимо мрачного неблагозвучия для русского уха, ещё и заносчивую, с претензией на исключительность же германскую семантику Herr Mann, «Господин Человек»), инженеру, имевшему «сильные страсти и огненное воображение», которые, однако, не мешали ему следовать безупречно положительному, выверенному девизу «я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее»? (Жирным шрифтом в цитатах выделено мной, курсив – автора – А.А..) Сказать, что Германн наказан был за страсть к деньгам было бы не совсем верным или даже совсем не верным, ибо страсть, подконтрольная «твёрдости», – уже не вполне страсть или страсть особого рода. (Обрисованная в повести твёрдость русских, естественно уживающаяся с легкомыслием, – совершенно иного сорта. Проигравший, «по обыкновению», у «конногвардейца», гусара по нраву, Нарумова некто Сурин признаётся, что никогда не горячится, что его ничем с толку не собьёшь, что играет он только «мирандолем». «- И ты ни разу не соблазнился? Ни разу не поставил на руте?.. Твёрдость твоя для меня удивительна», – восклицает поражённый силой русского характера «конногвардеец». То обстоятельство, что Сурин при всей своей твёрдости играет и проигрывает, как-то ускользнуло от внимания любезного хозяина. Кстати, реплика эта характеризует и «твёрдость» самого Нарумова.) Во всяком случае «анекдот о трёх картах» хоть и «сильно подействовал на его воображение», но отнюдь не ослепил его, не заставил действовать нерасчетливо и неосмотрительно. Напротив: все действия Германна были до неестественности продуманными, бесстрастными, и начались они с той минуты, когда он увидел в окнах графини, азартной, по преданию, бабушки Томского, «черноволосую головку, наклонённую, вероятно, над книгой или над работой». «Эта минута решила его участь». До этой минуты «расчёт, умеренность и трудолюбие», – рутинное руте, которым не соблазнишь принципиальных русских аристократов, превыше всего чтущих народный «авось», – эти «три верные карты», должны были «утроить», «усемерить» маленький «капитал» (в картах «капитал» означает 114 туз) скрытного и честолюбивого Германна. И утроили, и усемерили бы. Что же произошло, что изменило участь сына обрусевшего немца? Наличие «свежего личика и чёрных глаз» подле 87-летней старухи открывало реальную возможность выведать у старой графини *** – в кратчайшие сроки! – заветные карты. Причём (расчёт, умеренность – руте!) он почти не рисковал деньгами (капиталом) и репутацией. «Интрига» была проста, дальновидна и инженерно совершенна, оттого особенно гнусна. Регулярно и методично «в известный час» молодой человек появлялся перед окнами, где сидела Лизавета Ивановна, «бедная воспитанница знатной старухи». «Холодный эгоизм» старой графини превратил жизнь «домашней мученицы» в сущий ад, и она, естественно, с нетерпением ожидала «избавителя», то есть жениха, однако расчётливые женихи её круга не спешили замечать совершенств Лизаветы и увивались вокруг «холодных невест». И вдруг явился «избавитель», дерзкий, решительный и волевой: «чёрные глаза его сверкали из-под шляпы», «быстрый румянец покрывал его бледные щеки всякий раз, когда взоры их встречались», в письмах (присылаемых, само собой, ежедневно) «выражались и непреклонность его желаний и беспорядок необузданного воображения». Чего ж вам больше? Страсть невозможно сымитировать или подделать. Бедная Лиза (уже смутно напоминающая и Лизавету Ивановну из «Преступления и наказания»; собственно вся ситуация: страстный молодой человек – богатая «старая ведьма» – расчетливое преступление с благими намерениями – (полу)сумасшествие – вся, повторим, ситуация едва ли не демонстративно заимствована автором знаменитого «петербургского романа») не знала ещё, что на неё пал отблеск холодной страсти к деньгам. «Пренесчастное создание» легко было понять и невозможно осуждать за то, что она «упивалась» письмами. Путь в покои графини был открыт. 2 Интрига сложилась в удивительном соответствии с замыслом. Германн явился перед старухой тоже как своеобразное ночное видение или призрак из небезгрешного, судя по всему, прошлого (незапланированный же ответный визит старухи, как мы помним, уже окончательно сотрёт грань между явью и воображаемой действительностью). Хладнокровный инженер вооружён был тремя различными сценариями по выколачиванию тайны из старой ведьмы и незаряженным пистолетом. (Вначале, ещё до знакомства с Лизаветой, сценарии были иными, но не менее циничными: «Подбиться в её (графини – А.А.) милость, – пожалуй, сделаться её любовником». Цель оправдывала средства. Однако те сценарии были нереалистичны: на их осуществление требовалось время, которого, по расчётам, могло и не хватить.) 115 Сценарий первый основан был на убеждении Германна, что с делами, связанными с деньгами, «нечего шутить». Главный аргумент был изысканно прост: «Вы можете составить счастие моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить...» Старуха не вняла неотразимому воздействию логики. «– Это была шутка, – сказала она наконец, – клянусь вам! Это была шутка!» Однако при упоминании имени Чаплицкого, «того самого, который умер в нищете» и которому, по легенде, она помогла отыграться, черты графини «изобразили сильное движение души». Вот это мгновение и решило участь старухи. Непроизвольное движение души стоило ей жизни. Может, и не было никакой истории с Чаплицким, переданной в анекдоте ветреным Томским разгорячённому обществу игроков со слов «отчаянного игрока» дяди, графа Ивана Ильича. В повести, темой которой стала сама текучесть природы человека, размывание границ «верха» и «низа», психики и сознания, в плане моральном – добра и зла, ни за что поручиться нельзя. Здесь всё состоит из намёков, недоговорённостей, полутонов. Читатель (так задумано повествователем) никогда не обладает необходимой полнотой информации. Тот же граф Иван Ильич уверял Томского честью... Может, и была история. Важно не это. Важно то, что Германн верил в быстрый и безопасный способ верного обогащения и не считал свои действия преступными. Он всего лишь хотел «счастия», как и те тщеславные женихи, только несравненно сильнее. Сценарий второй был отработан в письмах к Лизе, где страсть к деньгам и наивно-эгоистическое убеждение, что только таких, как он, и следует допускать к богатству («Я не мот; я знаю цену деньгам»), причудливым образом принимают форму любви и заботы о том, кто был назначен лишь средством к достижению верных карт. Большую и нешуточную игру затеял Германн, возможно, сам того не подозревая. Он ведь бросил вызов судьбе и решил переиграть её именно тем, что отказался от игры («случая», «сказки») как способа достижения благополучия. Строго говоря, он исключил не только капризы фортуны, но и саму злодейку-фортуну оставил не у дел, отобрав у неё излюбленное средство – ослепление страстями и сделав ставку на голый интеллект, расчёт, выведенный за рамки человеческого измерения. По возможностям влиять на жизнь человека Германн стал равен Судьбе (чтобы не упоминать всуе иные горние инстанции), стал сверхчеловеком, «Господином Человеком». Однако миропорядок не пожелал выкраиваться по лекалам Германна. Фортуна, как бы исчезнув, вскоре капризно объявилась. Она почему-то решила примерно наказать не только «нетвёрдых» игроков-шалопаев, но и «не мота» с суровой душой. Именно провидение, в конечном счёте, заставило самоуверенного Германна «обдёрнуться» и всучило ему чёрную метку 116 недоброжелательности – пиковую даму вместо вожделённого туза. Или это было дело случая? Впрочем, до этого ещё далеко, а нам пока что необходимо (у нас свой расчёт) вернуться к сцене со старухой. Непосредственное обращение к душе страстный Германн считал вторым, после довода к рассудку, по силе средством убеждения простых (слабых) смертных. Вспомнил «избавитель» и «восторги любви», и «плач новорожденного сына» (у графини было четверо сыновей, всё – ирония судьбы! – отчаянных игроков), и «чувства супруги, любовницы, матери», и «пагубу вечного блаженства» и вообще «что ни есть святого в жизни»... Вряд ли он специально заучивал речь: «демонские усилия» (слова самого Германна), предпринятые им, чтобы завладеть тайной старухи, делали его расчётливую страстность очень похожей на «сильные движения души», однако души-то как раз и недоставало его инженерно спланированным усилиям. «Старуха не отвечала ни слова». Бестрепетный переход к третьему сценарию – агрессивная апелляция теперь уже не к уму и душе, а к инстинкту жизни, к животному в человеке, – позволяет понять, почему Германн «трепетал, как тигр», хищно ожидая рокового рандеву с той, кто, не исключено, в своё время продала душу дьяволу. Графиня, увидя пистолет, вновь «оказала сильное чувство» – на сей раз последнее в жизни. Германн так и не услышал от живой старухи рецепта своего счастья. Заметим, что в этой сцене «механически» заведённый «авантюрист» кажется гораздо более неживым, нежели «гальванизированная» старуха. Разумеется, Месмеров магнетизм и таинственный Сен-Жермен (удивительное созвучие с Германном: так рифмуется Германн и «тайна», Германн и возможность доступа в те таинственные сферы, куда простым смертным вход заказан) здесь не при чём: это тонкий расчёт (искусно завуалированный) повествователя. Именно за ним, незримым, остаётся последнее слово в этой отчасти фантасмагорической петербургской повести. «Человек, у которого нет никаких нравственных правил и ничего святого» (переведённый с французского эпиграф к 4 главе) или человек «с профилем Наполеона, а душой Мефистофеля» (беззаботная мазурочная болтовня Томского или бессознательные озарения душевно развитого, к тому же влюблённого мужчины, der Mann?) после всего содеянного вошёл к Лизе. Кстати, на эпиграфе и Томском стоит немного задержаться. Как-то графиня потребовала у Paul Томского романа, «где бы герой не давил ни отца, ни матери, и где бы не было утопленных тел» (прав был Германн: графиня не боялась смерти, но она «ужасно боялась» насильственной и неестественной смерти). «Таких романов нынче нет», – отвечал Paul. «Нынче», в 18**, – именно так, с точностью до века, датирована «переписка», из которой, якобы, взят эпиграф к 4 главе: 7 мая 18**, – отцов и матерей (прозрачен мотив наследства, денег) расчётливо 117 давят. Таким образом, Германн вполне современен, он даже, «благодаря новейшим романам», лицо уже типичное, «уже пошлое». Романные характеристики «нынче» запросто встречаются в частной переписке. Правда, пока ещё там, в Европе, не в России... Итак, Германн оказался в комнате у Лизы. В его расчёты не входило продолжать бесполезный роман. «Суровая душа» его не была тронута слезами грубо обманутой девушки. «Невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения»: вот что «ужасало» Германна. « - Вы чудовище! – сказала наконец Лизавета Ивановна», которой почему-то припомнились в эту минуту слова Томского. Конечно, чудовище. Казалось бы, слово найдено. Однако едва ли не самое интересное и замечательное ещё впереди. 3 Чудовище – это слишком простая формула героя для позднего Пушкина. Иначе сказать, «чудовище» Германн заслужил не потому, что в нём совсем нет ничего человеческого, душевного, а потому, что его «расчёты» дьявольски размывали незримые, но определённые грани между добром и злом. Наш герой и справедлив, и честен, и принципиален на свой прагматический лад. Меньше всего он напоминает опереточного злодея с чёрной душой. В том-то и дело, что всё дальнейшее оказалось возможным вследствие того, что мастерский расчёт в сочетании с пылким (нездоровым?) воображением резко усложнил картину простой и грубой реальности, придав ей черты таинственной бесплотности, что позволило довершить нравственный портрет героя. Собственно, усложнение реальности означало всё то же магическое стирание отчётливых пределов между миром тем и этим, сном и явью, иррациональным бредом и расчётом. Незаметно для себя серьёзный Германн втянулся в игру, где он давно уже был de facto вне морали, продолжая мерить действия свои мерками графини, Томского, Лизаветы... Германн был чрезвычайно расстроен. Он принял меры против того, чтобы мертвая старуха могла навредить ему: явился на похороны с целью испросить прощения (что делать: даже Наполеон с Мефистофилем бессильны против предрассудков; с другой стороны, возможно, именно те, кто достигает цели по-наполеоновски, любыми средствами, и терзаемы почему-то глупыми предрассудками. Кто знает...). Однако «мёртвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом». Всю эту чертовщину можно, при желании, объяснить вполне земными вещами, но от этого она не перестаёт быть чертовщиной, не меняет своей иррациональной природы. Добавьте к расстроенным нервам неумеренную дозу вина, разгорячившего его склонное к пылкости воображение (которое, очевидно, в сочетании с некоторой сентиментальностью, заменяло ему душу), 118 нездоровый дневной сон – и ночное явление графини вы сочтёте не самым невероятным происшествием. И все же рассудим здраво: если визит старухи в ответ на вполне реальное вторжение Германна объявить плодом воспалённого воображения, значит ожидаемое обогащение тоже следует признать миражём. Но где вы видели прагматика, который отказывается от гарантированных дивидендов! Если деньги доступны только «в пакете» с чертовщиной – да здравствует чертовщина, да здравствует мёртвая старуха! Придумайте всё, что угодно, не трогайте только реальность обогащения. Так единственной реальностью становится логика. Какова логика – такова и реальность. Так выдаётся желаемое за действительное тем, кто посмеивался над «неверными» страстями, искажающими реальность. Скажите после этого, что фортуна не смеётся последней... Мёртвая старуха была обречена (куда она денется, если очень захотеть). Ничего сверхестественного в том, что произнесённое ей всего более хотел слышать честный и простодушный Германн. Он заставил-таки вельможную старуху проговорить «тайну», могущую «утроить», «усемерить» его «капитал». Тот, кто холодно презирал «сказки», оказался в плену самой мрачной и невероятной фантазии (зловещий зигзаг – почерк отмщённой фортуны). Куда подевалось чеканное credo Германна, отдающее калькой с немецкого или французского? А никуда не подевалось. Вдумаемся в смысл по-немецки лаконичных условий графини (аккуратный Германн, разумеется, тотчас записал своё видение, рецептуру скорого обогащения). 1. Ей «велено исполнить» (кем?!) его просьбу. 2. «Тройка, семёрка, туз выиграют тебе сряду», однако всю жизнь после этого уже не играть. 3. «Прощаю тебе мою смерть, с тем, чтобы ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне...» Видимо, Германн не прочь был жениться на трудолюбивой и хорошенькой воспитаннице – при выполнении предыдущих условий, разумеется. Не исключено, что внукам и правнукам велено было бы благословлять и чтить память старухи. В сущности, перед нами всё то же, древнее, как мир, банальное (но неумеренно сильное) желание разбогатеть, слегка отягощённое муками совести (которую Германн, казалось бы, предусмотрительно устранил из интриги). После посещения старухи – и волки страсти оказались сыты, и овцы совести уцелели. Видение записано. Условия приняты. Вопрос «а была ли старуха?» мог быть актуален разве что для читателя (так задумано повествователем). Для Германна, пребывающего в здравом уме, не было в этом никакого сомнения: её явление означало отпущение грехов вместе с гарантией обогащения. Графине «велели» против её воли исполнить пусть несколько авантюрно заявленную (в конце концов, шаловливая молодость должна перебеситься), но всё же не преступную, а такую естественную для 119 человека просьбу. Властное повеление приятельнице Сен-Жермена следует расценивать не иначе, как намёк на то, что «святой» Германн заслужил твёрдостию и приличным, неветреным поведением награду у сурового провидения, разжалобил, переиграл его. Если старухи и не было, её следовало выдумать. Впереди же, несомненно, ждало счастие, «дети, внуки и правнуки», а также множество славных дел. Где добро, где зло? Если посредством зла и преступления можно достигать добра, то существенная разница между адом и раем, Богом и Мефистофилем, добром и злом – просто исчезает. И инструмент, с помощью которого можно провернуть эту нехитрую, но очень полезную комбинацию, называется разум, могучий инженерноинтриганский ум. Германн вызвал тайную недоброжелательность сначала у повествователя, а затем и у провидения, вовсе не потому, что он был сыном обрусевшего немца или инженером; это следствия, симптомы, а не первопричина. Подлинная причина – в уверенности, что можно проигнорировать «страсть», сильные душевные движения, подчинить их воле рассудка, холодному расчёту. Это и есть каверзный и коварный способ смешать добро со злом и отождествить добро с пользой, выгодой, расчётом. Однако не разум как таковой развенчивает умудрённый повествователь. Он ведь тоже себе на уме, и у него есть свой верный расчёт, а именно: пока Германн заманивает в сети расчёта «очарованную фортуну», повествователь озабочен тем, чтобы разрушить зыбкую грань между воспалённым воображением и сумасшествием. Расчёт Германна оказывается формой сумасшествия – это ли не месть не терпящей амбициозных расчётов судьбы посредством неверной пиковой дамы за надругательство над склонной к «противуречиям» природой человека (первое и главное преступление Германна; остальные два – «у этого человека по крайней мере три злодейства на душе!» – графиня и Лизавета)! Разум, который только по форме рассудочен, а на деле безумен, – это одномерный, убогий, бюргерский ум, именно инженерный, в отношении человека самоуверенный и неглубокий. Собственно, интеллект, а не разум. Однако в повести (надо полагать, и в мире) таинственно, но несомненно сказывается присутствие некоего высшего разума, «устроившего» так, что Лизавета «вышла замуж за очень любезного молодого человека» и, надо полагать, сменила «ширмы, оклеенные обоями», «крашеную кровать» и «сальные свечи в медном шандале» на что-нибудь более приличное, ибо избавитель её «где-то служит и имеет порядочное состояние». Кстати, любезный молодой человек – «сын бывшего управителя у старой графини». Это тот же почерк той же фортуны. «У Лизаветы воспитывается бедная родственница», – что это, расчёт или нормальное движение живой и благодарной души? Провидение не проведёшь, оно плетёт свои интриги. Если «Томский произведён в ротмистры и женится на княжне Полине», значит, гораздо 120 больше ума было в том, чтобы не охотиться за сомнительными бабушкиными тайнами, а «смолоду быть молодым»: играть в карты, любить, ревновать, жениться. А вот Германн сошёл с ума. Причём он как-то так слишком буквально, «по-немецки» сошёл с ума, что, будучи сумасшедшим, производит впечатление слегка просчитавшегося, обдёрнувшегося. Сошёл с ума – значит, ошибся, недоучёл, не додумал. Ошибка, сбой в механизме подменили «туз» «дамой». Ещё чуть-чуть – и дама «сощурилась» бы самой фортуне. Вера в то, что всё могло быть иначе, нежели случилось, и есть сумасшествие. Сумасшествие Германна – это и метафора, и приговор одновременно. Несмотря на вполне оптимистическое, «доброжелательное» «заключение» – всё вернулось на круги своя и пошло своим чередом – странная повесть, пиковое достижение пушкинской прозы, оставляет двойственное впечатление: с одной стороны, Германн закономерно сошёл с ума; а с другой стороны, причина, по которой он оказался во вполне реальной «Обуховской больнице в 17-м нумере», – деньги, страсти и расчёт – никуда не исчезли из того мира, где нашли своё счастье Томский и Лизавета Ивановна. Женихи, «молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии», всё так же мало обращают внимания на хорошеньких и мечтательных бесприданниц, предпочитая им «наглых и холодных невест» в расчёте, конечно, на солидное приданое, на капитал (наглость, заметим, в свою очередь есть проявление расчёта: невесты также небезразличны к перспективам урвать свой куш, свой капитал, они нагло держатся именно с незавидными женихами). Кто знает, не кружится ли среди них в мазурке новый пылкий инженер? Вспоминаются, опять же, леденящие душу свидетельства из частной переписки. Всё вернулось на круги своя? Тень Германна (которого надобно увидеть как воплощённую гением Пушкина зловещую тень жизни и Человека) продолжала и продолжает витать над русской жизнью и литературой. Вообще над жизнью и литературой. 121 9. «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» А.С. ПУШКИНА: МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ Трагедия мужчины в том, что он не в силах вытравить из себя женщину. Трагедия женщины в том, что она неспособна испытывать трагедию. 1 Хотелось бы предложить трактовку знаменитого пушкинского цикла, которая основывается на неких очевидных, можно сказать, бесспорных, постулатах, ведущих к глубоким, далеко не очевидным и, бесспорно, в высшей степени дискуссионным выводам. Итак, «Маленькие трагедии». Во-первых, перед нами пусть маленькие, но трагедии – жанр в литературе традиционный, фундаментальный, ко времени написания Пушкиным своих «Маленьких трагедий» имеющий в своем активе мало сказать совершенные – величайшие, эталонные образцы, созданные разными авторами в разные эпохи. Эсхил, Софокл, Еврипид, Шекспир, Корнель, Расин – этого вполне достаточно, чтобы отнестись к трагедии, к трагическому герою серьезно. Это вневременной жанр, специализирующийся на вечных коллизиях, терзающих человека, – коллизиях, генетически восходящих к страстям человека: к любви, ревности, жадности, зависти, жажде познания, страху. Избрать трагедию как духовно-литературный формат (в основе которого трагический пафос) – значило так или иначе вступить в диалог с традицией трактовки человека, с традицией интерпретации гуманизма. Во-вторых, автор счел необходимым указать: несмотря на то, что это самые настоящие трагедии, они – маленькие. Легко соблазниться на то очевидное обстоятельство, что речь идет о размере произведений – действительно небольших, маленьких, и отвлечься от другого, не менее очевидного обстоятельства: маленькие можно понять и как незначительные, мелкие, никак не возвеличивающие человека трагические переживания. Как своего рода трагическую возню. С названием получилась некоторая двусмысленность, однако ничто не указывает на то, что Пушкин оконфузился; напротив, двусмысленность становится способом актуализации скрытого, полемического смысла: великий жанр предназначен для возвеличивания маленьких людей, ничтожных людей, которых впоследствии другой классик удачно окрестит «мертвыми душами». Великие страсти – удел маленьких людей: таков скрытый культурный посыл маленьких трагедий (в чем, думается, и состоит их истинное величие). Чтобы обосновать этот, далеко не очевидный тезис, нам понадобятся некоторые культурологические выкладки. Прежде всего необходимо прояснить, что представляет собой трагизм, воплощённый в трагедиях? Это один из видов пафоса, который невозможно описать сам по себе, поскольку он является моментом спектра или, более научно, элементом 122 духовно-эстетической системы. (Под пафосом мы будем иметь в виду сгусток, ядро определенного миросозерцания. В таком случае классификация пафосов становится ничем иным как классификацией исторически сложившихся мировоззренческих программ, умонастроений, систем ценностей.) Разобраться в сути трагизма – значит прояснить его отношения, с одной стороны, с героикой и сатирой, а с другой – отношения названной социоцентрической триады с иной, персоноцентрической, – идиллией, драматизмом, юмором. Прежде всего: как соотносятся трагизм и героика (в определенном смысле соотношение этих пафосов станет решающей характеристикой трагизма)? Они связаны прямо и непосредственно. Герой – это индивид, некритически (бессознательно) придерживающийся социоцентрической ориентация. Для героя нет ничего выше служения Долгу — как бы его ни понимали. Изменить этому предназначению — изменить себе. Иногда героя считают образцовой, богатой, содержательной личностью. Это неверно по существу. Герой представляет собой почетную, приветствуемую обществом обезличенность, это культ отношений, в которых, так сказать, нет ничего личного. Герой обретает исключительность только в служении социально значимым идеалам; без одобрения социума герой превращается в ноль. Для героя хорошо прожить – значит, раствориться в социуме без остатка, обезличиться. Отсутствие героя или даже его гибель – ровным счетом ничего не меняют в мире, где главным является не герой, но то, что делает героя. Уважающий себя социум не замечает потери бойца. Его место займут легионы других. Если личность принципиально незаменима, то герой вполне заменим, принципиально заменим. Он незаменим только в том смысле, что он может быть Очень Большим Героем – в количественном, но не в качественном отношении. Героика — это оптимальная, эстетически и духовно безупречная форма цельного, непротиворечивого (а значит, и неполноценного) типа личности. Бескомпромиссные герои и святые, по-своему привлекательные своим не ведающим сомнения фанатизмом, идеально соответствуют всем сверхзадачам простой идеологии. Поэтому лучший идеолог — это герой. Героика – гармония социоцентрического типа. По принципу «крайности сходятся» (более научно – противоположности переходят друг в друга) социоцентрическая героика легко трансформируется в нечто антигероическое, то есть отчасти асоциальное – в комизм сатиры; сатира в свою очередь легко превращается в индивидоцентризм, эгоцентрическую стратегию разрушения и социума, и личности. С точки зрения пафоса, идеология индивидоцентризма представляет собой тотальную иронию, дисгармонию, воплощенную в различных модусах – от трагической иронии, окрашенной в заметные социальные тона, до иронии комической, абсолютно индивидоцентрической. Эта гносеологическая возможность стала, в частности, философско-эстетической нишей постмодернизма. 123 Что касается трагизма, то это уже «продукт распада» героики, оборотная ее сторона. Трагический тип сознания возникает у того же героя – но героя «прозревшего», попавшего в ситуацию выбора. Герой вдруг увидел другую «правду», личностную. И он готов так же самозабвенно служить новой идеологии, однако ведь и старая не перестала быть для него истинной. Противоречия – налицо, но справиться с ними герой не в состоянии: нет ни духовных предпосылок, ни навыков духовно-аналитической работы. Есть только один «духовный навык»: служить не рассуждая. Сама идея измены тому, что в глазах героя является истинным (значит – святым), непереносима для него. Сознание героя раскалывается. Его губит, так сказать, чрезмерная сложность. По существу, трагический герой становится злейшим врагом самому себе. Из подобного трагического тупика нет выхода. В принципе, благополучно трагизм может разрешиться либо в гармонию героики (для этого надо сделать шаг назад, то есть стать глупее, чем ты есть), либо в дисгармонию иронии – или же в духовное состояние совершенно нового типа, ориентированное не на социум и не на индивид, а на личность, мировоззренческую основу которой составляют гуманистические, персоноцентрические идеалы (для этого необходим шаг вперёд, то есть надо радикально поумнеть). Личность такого типа – продукт длительной исторической эволюции, и для героев классических трагедий возможность стать «новым» человеком следует расценивать как сугубо теоретическую. Вот и получается: стать героем – значит, в чем-то поступиться принципами, отказаться от части себя. Трагический персонаж, в отличие от героического, вкусил от древа познания добра и зла. Он уже не может стать «просто» героем без ощутимого нравственного ущерба, без «опрощения» (классический пример такого опрощения – духовная эволюция Родиона Раскольникова). Для превращения в личность – нет духовно-философских резервов, да и социальных предпосылок тоже нет. Трагический герой (собственно герой, на беду обнаруживший в себе потенциал индивида) обычно гибнет: как правило, для него это единственный способ сохранить человеческое достоинство, единственный способ духовно выжить. Таким образом, литература, если говорить о главной закономерности, развивается в трех духовно-эстетических парадигмах (связывают которые два полюса): социо-, индивидо- и персоноцентрической – в зависимости от того, что становится предметом изображения: индивид, homo economicus (субъект натуры), или личность, homo sapiens (субъект культуры). Указанная парадигма проецируется на пафосную палитру – соответственно, социоцентрическую или персоноцентрическую. Триумф бессознательного отношения, которое проявляется либо как доминирующий социоцентризм (с либеральными вкраплениями индивидоцентризма), либо как индивидоцентризм, отягощенный идеалами социоцентризма, на протяжении тысячелетий являлся питательной средой для развития литературы. Это «два полюса одного полюса» (полюса натуры, 124 но не культуры), между которыми обречена «зависнуть» литература. Культурное начало, связанное с персоноцентризмом, здесь присутствует как «величина» факультативная, совершенно не обязательная – не осознаваемая как оппозиция натуре. В рамках до- или внекультурного поля, в рамках бессознательного приспособления к художественно-бессознательному освоению мира, все относительно предсказуемо, поэтому эстетически чуткие, но методологически не искушенные, литературоведы поспешили объявить смерть автора, кризис романа и конец литературной истории. Гносеологическую формулу героико-трагической литературы (с её жёсткой ориентацией на социоцентрический тип гармонии, в результате чего сложилась формула: классическая литература – это литература минус личность) можно определить как кредо индивида – миропонимание в рамках мироощущения (сознание выполняет психическую функцию, а кажется, что оно подчиняет себе психику, контролирует ее). Вектор культуры, напомним, прямо противоположен: от мироощущения – к миропониманию (от чувства к мысли, от психики к сознанию). Гносеологическую формулу культуры (а также «культурной», разумной, ориентированной на идеалы гуманистической гармонии литературы) можно определить как кредо личности: мироощущение в рамках миропонимания. Классической здесь является иная формула: литература плюс личность. Таким образом, трагедия и стагнация в литературе не просто пересекаются; сегодня трагизм в его классических формах, по существу, становится формой культурной деградации – тогда, когда он, становясь высшей ценностной (духовно-эстетической) точкой отсчёта в произведении, противостоит персоноцентризму как начало более высокое – более низкому. Трагический герой – герой по определению социоцентрический (иначе сказать, противоположный персоноцентрическому), который и стал точкой отсчета в созданном Пушкиным космосе. И каким бы великим ни был трагический герой, он не в состоянии изменить маленький человеческий формат: изживший себя двуединый вектор социо- и индивидоцентризма. 2 А теперь самое время обратиться к эпиграфу-афоризму. По существу, он представляет собой гносеологический ключ к трагизму, самому феномену трагедии, и «Маленьким трагедиям» в том числе. Начнём со второй части афоризма: трагедия женщины в том, что она неспособна испытывать трагедию. Женщина способна испытывать боль, отчаяние, чёрный гнев, ненависть – весь тот комплекс чувств, который сопровождает трагедию, феномен, в первую очередь, мировоззрения, и только во вторую – мироощущения (если допустить, что трагизм определяет духовный облик персонажа). И в качестве феномена культурного, мировоззренческого, трагедия, увы, является привилегией мужчины. 125 Разумеется, должны последовать возражения: а как же Катерина Кабанова? Лариса Огудалова? Джульетта Капулетти? Леди Макбет? Федра? Медея, наконец? Всё это величайшие трагические героини. Вернёмся к триаде, которую мы уже упоминали: Сатира – Героика – Трагизм. Вспомним: перед нами эстетическая парадигма, связанная с бессознательным освоением мира, – и в этом смысле женщина, увы, также становится полноценной участницей трагедии. Однако трагическая коллизия как мировоззренческая составляющая, как результат ментального освоения мира, который в перспективе неизбежно приведёт мыслящего героя к идеалу Идиллической (гуманистической) гармонии (если процесс познания недвусмысленно придерживается культурного вектора) – такой аспект трагедии, повторим, дело сугубо мужское. Здесь актуальна первая часть афоризма: трагедия мужчины в том, что он не в силах вытравить из себя женщину (как не в силах личность, субъект культуры, отказаться от своего человеческого, природного измерения). Таким образом, в данном случае «мужчина» и «женщина» являются указанием не столько на половую принадлежность, сколько на предрасположенность к самопознанию, к идейному освоению мира, – на принадлежность к миру культуры или натуры. Якобы, умудрённый жизнью далеко не мальчик мавр Отелло в этом контексте является такой же женщиной, как и неискушённая тринадцатилетняя Джульетта, как и матёрая леди Макбет, и трагедия его, конечно же, – маленькая трагедия (как и всякая история страсти). А вот трагедия Евгения Базарова, скажем, – это уже форма выражения кризиса идей, и именно культурная первопричина бросает личность в пучину страстей. Итак, несмотря на то, что трагедия (и как пафос, и как жанр, воплощающий одноимённый пафос) в целом относится к формам бессознательного освоения жизни, она, тем не менее тяготеет к подразделению на виды: мужскую (идейную) и женскую (бессознательную), на более сознательную и менее сознательную. В этом контексте вторая часть афоризма выражает буквально то, что она выражает: трагедия женщины в том, что она неспособна испытывать трагедию. Женщина испытывает симптомы трагедии, не будучи при этом персонажем трагическим (что выглядит уже комично). Мужчина (личность), испытывая трагедию, недалеко при этом уходит от женщины – дистанцируясь, тем не менее, от её типа освоения жизни. Женщина всегда выбирает жизнь – даже тогда, и прежде всего тогда, когда в трагических ситуациях дело доходит до смерти. Женщина погибает только за жизнь. Она бессознательно стоит на страже жизни, и ей становится плохо тогда, когда её лишают возможности взращивать и оберегать жизнь. Тогда она начинает «испытывать трагедию». В духовном смысле это не трагедия – хотя женщине от этого не легче; легче как раз трагическому герою, мужчине, ибо у него так или иначе есть перспектива; у женщины, у 126 которой под угрозу поставлена программа деторождения, перспективы просто нет, отсюда все её самые иррациональные, самые жуткие, так пугающие «разумного» мужчину поступки. Медея может даже пожертвовать детьми в знак протеста против того, что она, женщина, перестала чувствовать себя центром мироздания. Ей не нужен мир, в котором царит не женщина, который устроен не по-женски. Во имя жизни она губит жизнь (хочется сказать «ничтоже сумнящися» – но в том-то и дело, что сомнения как элемент духовной трагедии здесь отсутствуют в принципе). Строго говоря, это даже не протест, это тот случай, когда неудержимая воля к жизни (страсть!) становится самой разрушительной силой на земле (как и положено страсти, не ограниченной разумной волей). И это, несмотря на всю свою беспросветную жуть, не трагедия: это торжество натуры в чистом виде. Так и хочется воскликнуть: страсти-то какие! Думаю, точнее было бы квалифицировать подобные действа в жанровом отношении не как трагедии, а как страсти. Страсти Еврипида «Медея». При чём здесь любовь? Здесь даже месть не при чём: слепая страсть – характеристика индивида, тяготеющего к прачеловеку; трагедия начинается со зрячей страсти. В чём же трагедия женщины, которая не способна испытывать трагедию? С точки зрения личности, в том, что такая женщина не способна оценить проявления личности в человеке. Трагедия «страстной» женщины – это трагедия немоты, трагедия бестрагического, «растительного» существования. Как видим, в определённом смысле трагедия – это не так уж и плохо, не так уж и мало; во всяком случае, трагедия является хоть и небольшим, но всё же культурным достижением. Трагедия как некая духовная хвороба возможна лишь на начальном этапе духовного становления, её можно трактовать как «болезнь роста» на переходном этапе от человека к личности (как выражение своеобразного кризиса переходного возраста). Вот почему трагедия, любая трагедия – неизбежно будет маленькой (в отношении подлинно больших и глубоких проблем личности). «Духовные проблемы личности» и «трагедия как форма их воплощения» – вещи, возможно, и совместные, однако качество «духовной трагедии» в этом случае становится принципиально иным. Те же Онегин и Печорин – лучшие тому подтверждения. Ни Сальери, ни Гуана, ни Ивана, ни Председателя (сейчас мы о главных персонажах «Маленьких трагедий») невозможно представить героями романа (героями историй о становлении личности); героями романа они могли бы стать только тогда, когда взялись бы отрицать, «презирать», по словам Онегина, сами себя (что стало бы началом подлинной трагедии, ведущей к отрицанию трагедии как способа духовного существования). Иными словами, вместо маленьких людей, испытывающих большие страсти, ведущие, опять же, к маленьким трагедиям, им предстояло бы стать личностями, мыслящими людьми. К такого рода персоноцентрической трансформации предрасположен разве что Гуан (да и то теоретически, потенциально). 127 Итак, культурному герою, личности, мужчине, не пристало испытывать трагедию: не философское это дело; трагедия превращает масштабного героя в маленького, ничтожного – в женщину. «Маленький человек» – это человек, не способный стать личностью. Герой великих трагедий – маленький человек с большими страстями. Закономерность такова: чем меньше человек – тем больше страсти. Трагедия строится именно на страстях, а не на умных чувствах просвещенной личности. Великий человек, личность не тот, кто с высшим накалом страстей переживает безысходность трагедии, а тот, кто способен отыскать духовный выход из трагического тупика. Субъектом трагедии (равно как и героики с сатирой) является человек, индивид, homo economicus (субъект натуры); личность, homo sapiens (субъект культуры) является уже субъектом иных духовных стратегий – идиллии, драматизма, юмора. Вывод такой: у Пушкина были основания назвать свой цикл «Маленькие трагедии». Литературоведческим обоснованием этого тезиса мы сейчас и займёмся. 3 «Скупой рыцарь». Для начала уместно расставить точки над «і», подытожить. Кто является носителем трагического начала: Барон или сын его Альбер? Движущим началом пьесы является патологическая страсть Барона к деньгам, богатству, своим сокровищам, которых он становится рабом и благодаря которым чувствует себя царём. Я каждый раз, когда хочу сундук Мой отпереть, впадаю в жар и трепет. Не страх (о, нет! кого бояться мне? При мне мой меч: за злато отвечает Честной булат), но сердце мне теснит Какое-то неведомое чувство... Нас уверяют медики: есть люди, В убийстве находящие приятность. Когда я ключ в замок влагаю, то же Я чувствую, что чувствовать должны Они, вонзая в жертву нож: приятно И страшно вместе. «Скупой рыцарь» точное название: оно указывает на отчасти комическое сочетание несочетаемого. Нам представлена даже философия скупости (см. приведенный монолог Барона), но от этого страсть не перестала быть страстью. Альбер же только оттеняет эту скупость, придаёт ей некое инфернальное измерение. 128 Что ни говори, а человек, сводимый к одной «страстной» краске, к «какому-то неведомому чувству», – это мелко. Отсюда следующая закономерность «Маленьких трагедий» и, в частности, «Скупого рыцаря»: структура персонажей – тип, а не характер. Тип конфликта определяет структуру персонажей. Перед нами маленькая трагедия, не случайно имеющая подзаголовок Сцены из Ченстовой трагикомедии: The covetous knight. «Трагикомедия» в данном случае означает неполноценная трагедия (маленькая). Финальную реплику Герцога «ужасный век, ужасные сердца» можно понять следующим образом: если страсть к деньгам становится самой сильной душевной потребностью, вытесняя все остальные человеческие чувства, если ради денег сын готов убить отца, а отец – сына, следовательно, налицо перекос фундаментальной системы ценностей. Люди измельчали. Но тут присутствует нюанс: природа человека привязана ко времени, к веку: каково время – таков и человек. Не ужасные сердца приводят к тому, что наступил ужасный век, а ужасный век сделал добрые сердца людей ужасными. В принципе, конечно, зависимость между «веком» и «сердцами» иная: никакой век не может изменить «вековечную» природу человека (пример того же «Евгения Онегина» лучшее тому свидетельство). Смещение ответственности с персоны на эпоху, то есть абсолютизация социальной составляющей духовности, приводит к тому, что содержание трагедии становится неглубоким, маленьким, если этому слову придать расширительное, большое значение. «Моцарт и Сальери». Трагический персонаж в данном случае – благородный, гуманистически озабоченный завистник Сальери: уже одно это резко сужает масштабы трагедии (внося в неё, кстати сказать, краски трагикомедии). Никакая философия зависти, ставшей страстью, не превращает индивид в личность. Перед нами иллюстрация тезиса: самолюбие, превосходящее по размерам талант, рождает зависть, а уступающее по размерам таланту рождает великодушие. Что послужило причиной разыгравшейся трагедии? Святая убеждённость трудолюбивой посредственности в том, что «незаслуженно», «просто так» доставшийся талант – это от лукавого. О небо! Где ж правота, когда священный дар, Когда бессмертный гений – не в награду Любви горящей, самоотверженья, Трудов, усердия, молений послан – А озаряет голову безумца, Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт! 129 Логика Сальери, как это часто бывает с логикой сумасшедшего, поражает своей дикой изысканностью или, если угодно, диким совершенством: Что пользы, если Моцарт будет жив И новой высоты еще достигнет? Подымет ли он тем искусство? Нет; Оно опять падет, как он исчезнет: Наследника нам не оставит он. Что пользы в нем? Как некий херувим, Он несколько занес нам песен райских, Чтоб, возмутив бескрылое желанье В нас, чадах праха, после улететь! Так улетай же! чем скорей, тем лучше. Что определяет талант – трудолюбие или природная одаренность? – не важно; важно то, что Моцарт обречён жить в среде, враждебно отторгающей талант как дар судьбы. Это отчасти трагические предлагаемые обстоятельства, однако трагизм как черта мировосприятия чужд натуре «гуляки праздного», который по счастливому стечению обстоятельств является «сыном гармонии». Если бы Моцарт посвятил себя страсти сожалеть о вопиющей несправедливости (злые люди, дескать, не дают развернуться таланту в полной мере, толпа душит гения!), то и Моцарта никакого бы не было. В лучшем случае появился бы еще один унылый Сальери, любящий попенять на досуге небесам, что «нет правды на земле». Ключевая трагическая фигура здесь – Сальери. И трагедия его – это трагедия маленького человека, павшего жертвой тщеславия и зависти. Оформить злобное эгоистическое желание как предназначение, выдать зависть за избранничество – это классика сатиры: Нет! не могу противиться я доле Судьбе моей: я избран, чтоб его Остановить – не то, мы все погибли, Мы все, жрецы, служители музыки, Не я один с моей глухою славой… Чего здесь больше: серьезной глупости Сальери или злой сатиры на эту глупость? Умному читателю как-то неловко рефлексировать на тему умозаключений дурака. Это можно считать своего рода доказательством ничтожности трагического персонажа. «Каменный гость». Здесь герой трагедии – дон Гуан. Отчего же, например, не донна Анна? Отчего же невозможно рассматривать донну Анну как трагический персонаж? Формально донна Анна вполне соответствует роли трагической героини: дона Гуана, погубителя мужа, любить нельзя, но очень хочется... 130 Трагическая мотивировка поведения донны Анны ничем не уступает патетической страсти Джульетты Капулетти. В действительности это не трагедия, а потенциально трагическая ситуация. Одно дело потерять любимого человека, и совсем другое – отдавать долг памяти мужа, то есть всего-то навсего вести себя пристойно. Вдова формально скорбит, и оттого «ужасное» внимание Гуана, по сути, не оскорбляет ее, а льстит ей. Несчастную даму и упрекать как-то неловко: она проявила слабость, которую, при всем уважении к донне Анне, невозможно квалифицировать как преступление; дон Гуан только восхищается ею, возвращая тем самым к жизни, пробуждая в ней женщину. Иное дело, что «оживил» он донну Анну ценой, как водится, собственной трагедии, смысл которой сводится к тому, что Гуан впервые перестал чувствовать и вести себя как женщина. Оказывается, кроме «воли» и «науки страсти нежной», этих неизменных догматов веры высокоразвитого индивида, на свете есть любовь и счастье, однако дон Гуан до встречи с донной Анной вел себя так, будто «на свете счастья нет». А теперь он, обнаружив в себе зачатки личности, готов воскликнуть «как я ошибся, как наказан!». Высокая болезнь приводит к высокой трагедии: у нас есть основания ставить так вопрос. Но эта маленькая «большая» трагедия не разработана в своих основных мотивах; перед нами разве что конспект трагедии, её набросок, эскиз – нечто обладающее литературной ценностью, предназначенное для сцены, но парадоксально не сценичное. «Пир во время чумы». Здесь трагизм не только как мироощущение, но и отчасти как бунтарская идеология связан с образом Председателя, Вальсингама. Человек, способный на любовь, способный, в отличие от дона Гуана, точно формулировать сложные мысли, возглавляет некое бессмысленное, на первый взгляд, стихийное движение сопротивления, ибо сопротивление порядку вещей, освященному моралью, позволяет хоть как-то сохранить личное достоинство. Это уже ситуация отнюдь не шекспировская. От подобной маленькой трагедии рукой подать до большой драмы: перед нами сцена, полная трагической иронии, весьма современного по психологии ощущения. Точкой отсчета здесь выступает почти личность. «Отрывок из Вильсоновой трагедии» представляет собой некое сложное, глубокое, противоречивое переживание, архетипичное по сути своей, что характерно для пушкинской лирики. В своем инфернальном «гимне в честь чумы» Вальсингам, находясь у последней черты, до конца, мстительно откровенен: Есть упоение в бою, И бездны мрачной на краю, И в разъяренном океане, средь волн и бурной тьмы, И в аравийском урагане, 131 И в дуновении Чумы. Все, все, что гибелью грозит, Для сердца смертного таит Неизъяснимы наслажденья – Бессмертья, может быть залог! И счастлив тот, кто средь волненья Их обретать и видеть мог. Это явно вызов – вот только чему? Кому? Гимн Чуме – это хвала смерти, – той смерти, что обостряет восприятие жизни, то есть становится частью жизни. «Упоение» и «неизъяснимы наслажденья» результат прямой угрозы гибели. Вальсингам слишком далеко зашел для трагического героя. К тому же он мудро, совсем не героически относится к трагедии. Он обращается к священнику, к «отцу» («Отец мой, ради бога, оставь меня!»), таким отеческим тоном, словно стоит гораздо выше его в духовной иерархии: Старик! иди же с миром; Но проклят будь, кто за тобой пойдет! Сплошь противоречивые, примирительные формулы приводят к тому, что на пиру во время чумы «Председатель остается погруженный в глубокую задумчивость». Даже до банальной смерти дело не дошло. Тип сознания Вальсингама – явно не трагического склада, и потому он смотрится лишним, потусторонним в контексте маленьких трагедий. Пушкинский опыт трагедий можно воспринимать и таким образом: время трагедий прошло. Рядом с Евгением Онегиным трагический персонаж начинает смотреться если не комично, то в духовном отношении неполноценно. Вот почему разработка условных шекспировских страстей в рамках классической трагедии превратилась бы в духовно-эстетическую ложь. Вызов Шекспира Пушкину состоял не в том, что русский гений обречён был усовершенствовать классическую трагедию, не меняя её качественных характеристик, а в том, что Пушкину, как и Шекспиру в своё время, предстояло изменить духовно-эстетическую точку отсчёта. Не в том дело, повторим, что из жизни исчезла трагедия (она отнюдь не исчезла: Пушкин ведь осовременил трагедию, сделав её, по сути, личным делом героя); дело в том, что в жизни появилась «новая трагедия», иная точка отсчёта: драма, трагедия личности. Именно так: драма – это трагедия нового времени. При наличии драмы любая трагедия становится маленькой. Ромео, и даже Гамлет уже не могли быть Героями Нового Времени, ибо героем этого века становилась личность. 132 Цивилизацию и культуру разделяет не пресловутый «один шаг», а принципиально разное соотношение информационных по своей сути и структуре «предмета» и «объекта», ибо: субъект цивилизации – индивид, субъект культуры – личность. Если рассматривать творчество Пушкина как одно из первых впечатляющих выражений заката (деградации) цивилизации, высшей стадии натуры (одновременно – как одно из первых впечатляющих свидетельств того, что без культуры цивилизация просто погибнет), то следует подчеркнуть, что именно это эпохальное мироощущение в рамках миропонимания позволило Пушкину создать богатый содержательный пласт «Маленьких трагедий». Предметом изображения в «Маленьких трагедиях» стал индивид, а подспудной точкой отсчета (объектом) – личность, выведенная в «Евгении Онегине»: именно это неочевидное обстоятельство придает «трагедиям» какую-то очевидную, неоспоримую глубину. Пушкин, сознательно или бессознательно, вступил в полемику со всей предшествующей ему героической, социоцентрической литературой (что, между прочим, не помешало ему впоследствии создать шедевр именно такой, с появлением «Онегина» в одночасье ставшей архаической, литературы: мы имеем в виду, конечно, «Капитанскую дочку»; это лишний раз доказывает подвижность духовно-эстетического спектра, где достигнутое «недосягаемое» в ту же секунду становится пройденным этапом). Сегодня, как и во времена Пушкина, «духовное» содержание цивилизации определяют потребности индивида (homo economicus’a), то есть содержанием, с позиций личности и культуры (с позиций homo sapiens’a), является бессодержательность, вот почему доминирующей духовной и эстетической идеологией сегодня последовательно становятся постреалистические «направления», где культ формы превращается в содержание. Содержанием бессодержательной идеологии становится индивидоцентризм – культ ощущений (хотений, желаний), культ иррационального – следовательно, культ формы. Опыт Пушкина показывает: объектом в произведении должна быть личность, тогда предметом (темой) может быть все что угодно. В этом и заключена суть закона духовно-эстетической гармонии. Вообще сам феномен того, что «маленькие трагедии» стали великими произведениями заслуживает отдельного разговора. Это шедевры, конечно, но шедевры, так сказать, второго ряда, ибо в первом ряду – идейно и психологически преодолевший трагизм Евгений Онегин, ставший героем одноименного романа. И не в последнюю очередь шедеврами «Маленькие трагедии» делает стилевая особенность, присуща «золотому веку» русской поэзии, а именно: незабываемо называть вещи своими именами, находить 133 едва ли не единственно возможные в данном контексте слова, которые в равной степени являются и образом, и словесной формулой. В данном смысле эти шедевры «второго ряда» навсегда занесены в недлинный список ряда первого. И, наконец, последнее. Трагедия – категория, казалось бы, изжившая свой гуманистический потенциал, отошедшая в прошлое. Трагедия – это архаика и в миросозерцательном, и в жанровом, и в духовно-психологическом отношении. Однако сегодня даже трагедия кажется ужасно содержательной на фоне вопиющей бессодержательности бессмысленно-игривых или беспросветнотемных опусов. Ужасный век, ужасные сердца? Ответ видится таким: ай, да Пушкин… 134 10. УМНЫЕ ЧУВСТВА. Поэзия А. Пушкина и А. Рембо: опыт сопоставления 1 Я Вас любил: любовь еще, быть может, В душе моей угасла не совсем; Но пусть она вас больше не тревожит; Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, То робостью, то ревностью томим; Я вас любил так искренно, так нежно, Как дай вам Бог любимой быть другим. 1829 Что нас сегодня поражает в этом небольшом стихотворении разносторонне гениального Александра Сергеевича Пушкина? То, что еще вчера казалось естественным и нисколько не поражало: вопервых, перед нами яркие, здоровые чувства, присущие масштабной личности, которые, во-вторых, представлены, если так можно выразиться, в аналитическом ключе. «Быть может», «не совсем» – это оттенки, градации, которые улавливаются фибрами разума. Разум вовсе не слон неуклюжий: он бережно вторгается на территорию души не для того, чтобы там «навести порядок», но чтобы «прояснить ситуацию», помочь разобраться с собой. И далее («Дай вам Бог…») – декларируется приоритет интересов другого (известный человечеству как золотой императив нравственности), взращенный, опять же, разумом: поступай с другим (-ой) так же, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой. Это не принцип чувств, а именно принцип разума. Предметом анализа становятся не чувства вообще и не какие-нибудь «мелкие чувства», а чувства особого рода: умные, отчасти порожденные деятельностью ума, которые невозможно представить в отрыве от «разумного взгляда на вещи», – и потому приобретающие культурный статус «высоких». Ум делает чувства высокими (высшими!), достойными, благородными, просветленными – по отношению к какой-то неявно выраженной, однако же реально присутствующей шкале. Все это – симптом особого отношения к миру и человеку, точнее, к типу освоения действительности, который (тип) всегда осуществляется с ценностно определенных позиций. Обратим внимание: поэзия возникает там, где скрещиваются противоположные инстанции: ум и сердце, которые, как известно, «не в ладу» (так уж у людей повелось). Именно это делает стихотворение совершенным, и ничто иное. Иного, собственно, в нем и нет. Совершенство плана эстетического возникает благодаря изумительному чувству меры: в нем нет ничего лишнего. Сложное умонастроение 135 развернуто в продуманной, выверенной и словно бы импровизационной форме. И мастерство, и вдохновенье. Шедевр. Сегодня, пройдя школу воспитания чувств, предложенную презирающим просвещение «серебряным веком» и, далее, освоив «темные» университеты постмодерна, мы отдаем себе отчет, что естественность такого рода – достаточно рискованна, чтобы не сказать сомнительна (читай – наивна или старомодна: на выбор). Сегодня источник поэзии – глупая и затемненная душа, которая выражается невнятно и по определению презирает «высокое». Путь разума привел к культу потемок души (в лучшем случае). Вот почему Пушкин, да и вся поэзия «века золотого», в сегодняшней культурной ситуации полемичны, – одновременно архаичны и актуальны, ибо они, вольно или невольно, отрицают то, что есть. Тем самым, разумеется, провоцируя к себе скептическое отношение. Умная поэзия – это, по сегодняшним меркам, детство человечества; сегодня мы поумнели настолько, что ум для нас не проблема, поскольку не может быть проблемой то, чего нет, что перестало быть ценностью. Вот оно, самое главное: культурная ценность определялась наличием концептов, этого «вещества ума», во всем, в том числе и там, куда вход уму, казалось бы, заказан – в святилище души. «Я вас любил» – уже смешно; «безмолвно, безнадежно… так искренно, так нежно» – так не бывает, это что-то ископаемое. Ситуация серьезного отношения – сегодня «прикол». А несерьезное – поэтизации не поддается. Следовательно, увы, поэзия умерла, разделив печальную судьбу искусства в целом. И скучно, и грустно, конечно, но такова логика вещей (и такова, кстати сказать, скрытая апелляция постмодерна к некой смысловой организации). И тут тоже сказывается самое главное. Каких таких «вещей», хотелось бы спросить? Если логика присутствует, а вещи не названы своими именами, следовательно, перед нами логика бессознательного, логика тех самых «потемок души», которые даже свет поэзии считают для себя слишком ярким, то есть компрометирующим. Сон разума рождает чудовищ, а бодрствующий разум их уничтожает. Логика вещей в сегодняшней культуре – логика бессознательного, где фактически главным в иерархии культурных ценностей становится не ум, что-то «другое». Это другое, если не либеральничать, – душевно-телесного состава, оттого склонного к приколам, что изначально, по природе, склонно к удовольствиям, к примитивным и одномерным, неглубоким и невысоким чувствам. Уберите ум – появится чтото другое. Гибнет личность, исчезает человек духовный (то есть думающий) и, как следствие, кончается поэзия. Таков диагноз. А отчего гибнет человек культурный? Оттого, что не склонен потреблять, а выживает сегодня исключительно умеющий потреблять. Потребление становится условием выживания, а не вопросом свободного выбора; тут уж никто не останется в стороне, никому 136 не позволено стать личностью (и это особенно радует душу: она обожает, когда все вместе, когда «возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке»). Это единственный серьезный пункт в культуре, над которым отчего-то грешно смеяться. Не прикольно. Отчего? Спросите у бессознательного. Исчезновение поэзии вовсе не так безобидно, как представляется самосознанию постмодерна. Поэзия является интегральным показателем наличия высоких чувств, этого озонового слоя культуры. Чувства, в принципе, «осознают» и позиционируют себя как оппозицию разуму, но взаимодействие оппонентов становится принципиальной предпосылкой для создания спасительного для обоих озонового слоя. Глупая поэзия – симптом процветания умной культуры, ибо где умное, там и серьезное. Грустно думать, что отсутствие поэзии – наш выбор. Это, скорее всего, выбор желудка. Его и винить-то невозможно, поскольку он не является непосредственным субъектом культуры. Выбор за человеком, душа которого пока предпочитает думать желудком. Выбор – это вполне разумная акция, и результат ее несложно предсказать; разум, конечно, с желудком не согласится относительно культурных перспектив; сложно предсказать, когда человек окажется (если окажется) в ситуации разумного выбора. Что тут зависит от разума? Вот в чем вопрос. 2 На пути превращения поэзии в «прикол», в непоэзию, иначе сказать, на пути превращения поэтического рода деятельности из культурного в квазикультурный, есть свои кумиры или, как теперь принято говорить, знаковые фигуры. Знаковые – следовательно, типичные, аккумулирующие признаки, характерные для данного явления. В высшей степени типичные (чем и уникальны). Такой фигурой, типичной сразу в нескольких отношениях, является французский поэт Артюр Рембо, ставший своеобразной точкой отсчета в иной иерархии ценностей (о которой он, как истинный поэт, понятия не имел). В рассуждениях о поэзии и личности Рембо принято утверждать, что это был феноменальный юноша, создавший творения, которые по своему художественному уровню под силу разве что зрелой, фантастически одаренной личности. Исключительной, редкой, необычной (словарное толкование определения «феноменальный»). (В книге, из которой будут взяты цитируемые ниже стихотворения, замечательное для своего времени предисловие Л.Г. Андреева так и называется: «Феномен Рембо». Цит. по: Рембо А. Поэтические произведения в стихах и прозе: Сборник. – М.: Радуга, 1988.) Очевидно, за точку отсчета таких утверждений принимается то, что поэзия сама по себе «феноменальна» – это не детское дело, а результат 137 духовных усилий гениального взрослого. Если подросток стал поэтом, следовательно, он загадочно и непостижимо умудрился превратиться во взрослого. А это, разумеется, чудо. В чем же суть феномена Рембо? Напомним, что поэт Рембо, не кончавший никаких таких университетов, прекратил писать стихи в девятнадцать лет, а не стало его, как и Пушкина, в тридцать семь. Это, конечно, случай исключительный. Мы имеем дело с творчеством подростка и юноши, тинэйджера, – который потеснил на поэтическом Олимпе знаменитых бородачей и затмил их славу. Я же думаю, что в случае с Рембо мы имеем дело с закономерностью и нормой в гораздо большей степени, нежели со случайностью, загадочно переворачивающей все с ног на голову. Выдающиеся отклонения – это способ проявления закономерности. Вот чем поражает культурное воображение феномен Рембо – закономерностью, а также тем, что его воспринимают именно как разрушителя всех норм и законов. Феномен Рембо – это феномен запутавшегося мира. Созданное Рембо могло быть создано именно и только «разгневанным ребенком» (по определению Верлена: поэт поэта узнает издалека), юношей, но никак не личностью. В творчестве юного гения нет ничего от личности, ни единой личностной черточки. Только неверное понимание феномена личности позволяет приписывать заурядному в личностном плане Рембо культурные заслуги, которых у него нет и в помине. Рембо – поэт-бунтарь. Установка на поэтический бунт для молодого талантливого поэта настолько естественна и банальна, что феномен Рембо – это прежде всего феномен типичности. Подросток, весь духовный багаж которого умещается в одну-две фразы, на выбор: «я пришел в этой мир, чтобы не соглашаться» или «идите вы все…» (последняя явно прикольнее, то есть современнее), – это вопиющая банальщина. Именно здесь психологические и мироощущенческие истоки оригинальных модернизма и постмодернизма. И яйца стали учить курицу… Любой уважающий себя подросток – это бунтарь. Ничего нового или необычного в этом отношении Рембо не продемонстрировал. Здесь не Маяковский с его «я люблю смотреть, как умирают дети» идет вслед за Рембо, а оба они идут вслед за детством: бунт становится способом изживания (умирания) детства, способом взросления. Поэтическая одаренность Рембо несомненна. Но тут следует иметь в виду диалектику взаимоотношений натуры и культуры, в частности таких модусов натуры и культуры, как «поэзия» и «мировоззренческая, философскоконцептуальная зрелость человека»: чем больше поэзии – тем меньше культурная величина. Поэтизация бунта, тотального разрушения, если эта акция постепенно не переходит в культурное действо, в нечто созидательное (иначе сказать, если не попадает под действие закона отрицания отрицания), превращается в ничто, в пустоту. Вечный бунт превращается в нудный застой, из которого он, бунт, и зародился. 138 Рембо, который, кроме бунта, ничего не смог предложить ни себе, ни миру, пал жертвой культуры, если называть вещи своими именами. Ясное понимание бессмысленности бунта (наступающее у всякого вменяемого подростка в девятнадцать лет) привело к отречению от поэзии. Собственно, в этом контексте не от поэзии даже, а от глупой поэтизации элементарной установки на разрушение как способ детского самоутверждения. Мальчик поумнел. Отречение от поэзии стало не продолжением поэтического бунта (это красивая, то есть поэтическая версия), а всего лишь концом «туманной» юности. Такой конец мог стать началом духовной биографии, к которой, констатируем без эмоций, Рембо оказался неспособен. Это также вполне типичная история. Итак, культурный итог творчества Рембо плачевен и не впечатляющ. Что касается поэтического, бессознательного освоения социума, то здесь есть достижения, которые, однако, явно преувеличиваются теми, кто не различает противоположных понятий «поэтический гений» и «личность». Вот Пушкин был личность, и потому – больше, чем поэт; Рембо же – типичный поэт, чем он нас весьма и весьма интересует. Заслуги поэзии перед культурой надо осмысливать, ибо поэтическая лесть – тот же яд: в оптимальной дозировке укрепляет жизнь, в избытке начинает угрожать. Поэзия по отношению к культуре – амбивалентна, как и всякое бессознательное творчество: вот где следует искать истину, продукт культуры. Строго говоря, поэтическое самоубийство Рембо делает ему честь как личности: поэтический этап в становлении личности рано или поздно должен заканчиваться. Бунт кончился, а на самопознание он оказался неспособен: он не для этого родился. Что поделаешь: культура безжалостна к поэтам. Поэтический способ освоения мира изжил себя, а новый, непоэтический (тогда – какой?) так и не появился. Тут сама поэтизация как, якобы, способ существования духовности должна настораживать и наводить на размышления. Покусившись на умные чувства, разрушив себя как еще не состоявшаяся личность, Рембо ощутил бесперспективность такого поэтического пути. Поэзия бунта как тупик: вот, если угодно, подлинный культурный феномен Рембо. Вот почему умным – упорядоченным – чувствам поэт интуитивно (гений же!) противопоставляет «расстройство» (хаотическую беспорядочность) чувств. В одном их своих писем Рембо пишет (цитируем по статье Л.Г. Андреева): «Я хочу быть поэтом, и я пытаюсь превратиться в ясновидца… Речь идет о том, чтобы достичь неизвестного расстройством всех чувств…» (выделено мной – А.А.). Что ни слово – то золото. «Ясновидения» «разгневанного ребенка» – вот содержательность поэзии Рембо. Какое такое «неизвестное» можно достичь расстройством всех чувств? Это очень даже известно (но об этом чуть позже). Поражает и то, что поэт сказал – выболтал! – о себе всю правду, и еще больше то, что ее упорно не хотят (или не могут?) услышать. Напиши темные гениальные вирши, вроде «Гласных» или «Пьяного корабля», и 139 одновременно скажи правду: первое затмит и поглотит второе. Правду с удовольствием простят и забудут, а вот второе – никогда. Странную культуру создало человечество… («А» черный, белый «Е» («Гласные», перевод В. Микушевича). Почему не наоборот? Если вы так ставите вопрос, то вы ровным счетом ничего не понимаете в ясновидении, которое безошибочно ориентируется в хаосе и никому не отдает отчет, а меньше всего – здравой логике.) Поэтическая традиция является проекцией определенного типа духовности. И значение великолепного во всех отношениях поэтического эксперимента Рембо в том, что о традиции деградации нельзя говорить как о культурном достижении. До «умных чувств» надо дорасти; до «расстройства чувств» надо опуститься. И в том, и в другом случае необходимо известное мужество, конечно. Однако «расстройство чувств» можно принять как этап, как зигзаг судьбы в контексте движения к умным чувствам. Как законченная, самодостаточная поэтическая судьба – это потрясающая модель гибели духовной (и, следовательно, физической). Дар Рембо оказался ярким и потому односторонним: он специализировался только на одной грани мироощущения – на бунте ради бунта, на разрушении. Потребность в созидательном мироощущении, до которой он дорос только сознанием, уже не высекала поэтических искр. Это был не его дар. Он исчерпал себя. До капли. Что Рембо делал после девятнадцати? Африка, торговля, жажда наживы – и ни строчки больше… С точки зрения высших культурных ценностей, поэт впал в примитивный рационализм буржуа – то есть принял как родное то, что подготавливало и питало его бунт. Все это означало только одно: иного выхода, иной альтернативы он не нашел. Это, если уж сохранить стиль первобытной честности подростка, столь любезный сердцу юного Рембо, деградация в чистом виде, безоговорочная измена культуре. Скучный, провинциальный, мертвящий Шарлевиль, из которого бежал разгневанный ребенок, стал, по сути, его идеалом. Поэт превратился в свою противоположность – в обывателя. Это закономерно. Обывательщина рождает тоску по поэзии, а поэтический бунт кончается мещанской торговлей. Дар поэта – насквозь социален, а дар философа – личностен. Больше чем поэт – значит, отчасти философ (как Пушкин). Рембо был поэтом в чистом виде. И вот она, смерть поэта как таковая. У честной жизни – честные итоги, у великой (как у Пушкина) – великие. Подлинность Рембо именно в том, что он перестал писать: именно это доказывает, что в своем творчестве он не опускался, не унижался до приема. Он не имитировал бунт; он как жил, так и писал. Умерев, он перестал писать. Что же тут удивительного? Мертвые не пишут. Первотолчком творчества, первородным поэтическим импульсом было мироощущение, активное переживание. Он не играл в слова – а расстраивал чувства. Бунтовал. Виртуально разрушал мир. Он жил бунтом. Бунт был его легкомысленным призванием. Сначала чувства – потом слова: это и есть главная мировая 140 поэтическая традиция, которая рано или поздно приводит к прозрению ума, этой трагедии всех поэтов. Можно сказать, что Рембо и отрекся от своего маловразумительного творчества в пользу умных чувств. Просто он не знал этого. Таков поэт. Стоит ли говорить, что Коммуна была неким мистическим соответствием (социальным) его внутреннему миру, а не причиной бунтарской поэзии. Подтверждением «правоты» внутреннего бунта стало восстание. Поэтическое и социальное совпали; не будь у Рембо рокового дара, ни о какой «обусловленности» никто бы и не вспомнил. Поэт хоть и социален, но в первую голову он поэт. Далеко не каждому дано стать рупором социума, тем более во всем его многообразном проявлении. Вспомним, кстати, поэтическое восприятие революции Маяковским или тем же Блоком: это типично для поэтов. Революции интересуют их не как коммунистов или коммунаров, а как бунтарей. Итак, Рембо как реальная культурная величина – это одно, а как знаковая, символическая фигура в культуре – это уж несколько иное. Он стал символом упаднической, декадентской культуры, символом стремления к свободе ради свободы, бунта ради бунта. Короче говоря, вся та культура, которая рассматривает культурные ценности как вериги, как репрессию и несвободу, сделала из Рембо культ. Кумира. Тоже, кстати, один из уроков: наши деяния, ставшие нам памятником нерукотворным, излучают энергию, вложенную в них, и после жизни творца. Очень легко предсказать, как слово наше отзовется: оно отзовется так, как социуму будет угодно. От себя не уйти, даже после смерти. Наконец, последнее – и самое главное – в смысле типичности. Артюр Рембо является символической фигурой и в том отношении, что представляет собой если не идеальный, то органический образ поэта. Его судьба является по-своему совершенным воплощением модели поэтического отношения к жизни, которое (отношение) по природе своей амбивалентно: разрушительно в своем стремлении созидать. Подлинный поэт – это чудовищное наслоение комплексов, ибо только из неполноценности рождается полноценная поэзия. Великий бунтарь должен был родиться именно в тихом Шарлевиле. Вот еще одно откровение еще одного поэта, которое, как обычно, социум прочитывает ровно настолько, насколько ему выгодно. А. Ахматова: «Когда б вы знали, из какого сора, Растут стихи, не ведая стыда». И «сор» и «стыд» здесь на месте, но никто не читает эти строки в том смысле, что должно быть стыдно за сор. Культура вырастает из натуры как-то условно. Стихи, видите ли, «не ведают» стыда: это уже высокое отношение – ведать. А раз высокое – не нам, простым читателям, судить. Поэт изящно увернулся от своего же откровения: это очень и очень поэтически. Поэты не говорят, а проговариваются (или выбалтывают). Далее, чтоб не подумали ничего такого, под сором поэтически обозначаются прозаические мелочи жизни: «Сердитый окрик, дегтя запах свежий, Таинственная плесень на стене…» На 141 самом деле сор есть сор: почва, грязь, натура. «Приседания» А. Рембо – это вам не «дегтя запах свежий». Подлинный поэт всегда запачкан, всегда с запашком. От поэтической культуры всегда немножко тянет тленом и распадом; поэзия – это культурный привой к натуре. Поэт не ведает, что творит, но делает это с безукоризненным, дьявольским совершенством. А когда опомнится, то становится первым врагом себе. Поэт – это трагедия по определению, трагедия бессознательного существования, которое тянется к еще большей трагедии понимания. Артюр Рембо был подлинным поэтом. Почему же быть или хотя бы называться поэтом так престижно у обывателей? Во всяком случае мертвых поэтов они уважают. Да потому что изначально поэтический бунт несет в себе толику здорового начала: социум ведь сработан под серого человека, непоэта, под буржуа, который краешком сознания улавливает и эту правду жизни. Каждый обыватель-буржуа в душе на каплю поэт. Нонконформист-поэт и потребитель-буржуа: вот полюса социума, два крайних варианта бессознательного приспособления к действительности; бунт – это вполне адекватная и эффективная форма того же приспособления, но никак не познания (альтернативы приспособлению): это форма выражения крайнего недовольства, за которым непременно последует более совершенное по духу и букве приспособление. Поэзия кончится торговлей. Поэт и буржуа – это один по природе своей тип отношения к действительности. Они рождены, чтобы продаваться и покупаться: тонко приспосабливаться. В такой ситуации, естественно, потребитель выбирает поэта в себе. Поэт (и, шире, искусство, художественный способ освоения действительности в целом) в таком социуме становятся высшей культурной величиной. Люди, разумеется, тянутся к культуре. К поэзии. Таков нынешний социум. А где же второй тип отношения к действительности (ибо информационная природа человека предполагает два типа, по числу диалектически функционирующих противоположностей)? Трагедия культуры в том, что полюсами, с позиции здравого смысла, разума, должны выступать поэтическое и философское отношения, бессознательное и сознательное: вот два океана, хаос и космос, составляющие целое единой личности. И поэзия в этом контексте выступает на стороне хаоса, души, натуры; космос, разум и культура – там, где философия и личность. Но и у поэзии есть свои полюса: одно дело поэтизировать умные чувства, и совсем другое – расстроенные. Умная поэзия явно тяготеет к культуре, становится больше, чем поэзия. В этом контексте место и фигура Рембо сомнительны в культурном отношении. Поэт и культура совмещаются с большим скрипом. Здесь самое место было бы воскликнуть, так сказать, сломя голову броситься в защиту поэзии: а как же великая пушкинская сентенция «поэзия, прости Господи, должна быть глуповата»? Ответ после всего сказанного очевиден: глуповатая поэзия должна заниматься умными чувствами. Вот она, амбивалентность во всей своей диалектической красе. Не умом, заметим, 142 Боже упаси, а умными чувствами. Заниматься чувствами как инструментом познания, по меркам культуры, – это в принципе глупо. Поэзия по определению попадает в «глупое», сомнительное положение. Поэт Пушкин был прав: поэзия должна быть глуповата. Обязана. У нее нет выбора: иначе она перестанет быть поэзией как таковой, утратит свое родовое предназначение. А «прости, Господи» – это реверанс перед насквозь буржуазным общественным мнением. И все же умные, окультуренные чувства – это уже больше, чем чувства, а их поэтизация – больше, чем бессознательный лепет души. Умные чувства – это предел культурных возможностей поэзии. И подлинная поэзия стремится к невозможному – к тому, чтобы перестать быть поэзией, к самоотречению. А теперь самое время обратиться к текстам поэта. Возьмем для примера не знаменитый сонет «Гласные» и не менее знаменитый «Пьяный корабль»: при всем том, что они ярко демонстрируют куцые возможности «ясновидения» и значительно приближают нас к достижению «неизвестного», даже они своей устремленностью к символическим обобщениям (многовекторным, само собой) выгодно выделяются на фоне темных озарений, столь характерных для Рембо. «Озарения» и «Пора в аду»: вот органичная стихия Рембо. Выхватим из темноты наугад, в духе Рембо. Отрывок из «Ночи в аду» (книга Пора в аду»). Изрядный же глоток отравы я хлебнул! – О, трижды благословенное наущение! – Нутро горит. В три погибели скрутила меня ярость яда, обезобразила, повалила наземь. Я подыхаю от жажды, нечем дышать, даже кричать нет сил. Это – ад, вечные муки! Смотрите, как пышет пламя! Припекает что надо. Валяй, демон! А ведь мне мерещилось возможность добра и счастья, возможность спасения. Но как описать этот морок, если ад не терпит славословий? То были мириады прелестных созданий, сладостное духовное пение, сила и умиротворенность, благородные устремления, да мало ли что еще? Благородные устремления! А ведь я пока жив! – Но что если адские муки действительно вечны? Человек, поднявший руку на самого себя, проклят навеки, не так ли? Я верю, что я в аду, стало быть, так оно и есть. Вот что значит жить согласно догмам катехизиса. Я – раб своего крещения. Родители мои, вы сделали меня несчастным, да и самих себя тоже. Бедная невинная овечка! Но преисподней не совладать с язычниками. – Я все еще жив! Со временем прелести проклятия станут куда ощутимей. Поторопись, преступление, ввергни меня в небытие, исполняя человеческий закон. (Перевод Ю. Стефанова.) Впрочем, вот еще отрывок из той же книги «Словеса в бреду», II, «Алхимия слова». О себе самом. История одного из моих наваждений. 143 Я издавна похвалялся, что в самом себе ношу любые пейзажи, и смехотворными мне казались знаменитые творения современной живописи и поэзии. Мне нравились рисунки слабоумных, панно над дверями, афиши и декорации бродячих комедиантов, вывески, народные лубки, старомодная словесность, церковная латынь, безграмотное скабрезное чтиво, романы, которыми упивались наши прадеды, волшебные сказки, детские книжонки, старинные оперы, глупенькие припевы, наивные ритмы. (…) Я свыкся с простейшими из наваждений: явственно видел мечеть на месте завода, школу барабанщиков, руководимую ангелами, шарабаны на небесных дорогах, салоны в озерной глубине, видел чудищ и чудеса; название какогонибудь водевильчика приводило меня в ужас. А потом разъяснял волшебные свои софизмы при помощи словесных наваждений. В конце концов я осознал святость разлада, овладевшего моим сознанием. Я был ленив, меня томила тяжкая лихорадка, я завидовал блаженному существованию тварей – гусениц, олицетворяющих невинность в преддверии рая, кротов, что воплощают в себе дремоту девства. (Перевод Ю. Стефанова.) Можно взять еще несколько отрывков. И еще. Ничего принципиально нового вы не узнаете. По существу, текст представляет собой единый поток, насыщенный энергией бунта. Всякая попытка приписать этому потоку «философию» будет сплошной натяжкой. Таков «загадочный», по мнению исследователей его творчества, Рембо. Любая исследовательская операция по отношению к бесконечному тексту выглядит глупо и бессмысленно. Бессмысленно рифмовать «озарения» и «бред» с судьбой поэта, бессмысленно искать смысл в том, что творилось по технологии бессмысленности. И бессмысленно, кстати, объявлять это загадочным. «Словеса в бреду», «наваждения», «святость разлада, овладевшего моим сознанием», «озарения», «ясновидение»… А еще есть «Невозможное», «Вспышка» и т.п. Это и есть настойчиво вручаемый поэтом ключ ко всем своим загадкам. Перед нами язык души, души как таковой, рыхлой и невнятной, хтонической, хаотической, союзником которой выступает паралич мысли. Поэзия как модель хаоса, модель расстройства чувств. Хтонический бред, согласимся, в чем-то соответствует стихии бунта. Попробуйте придать форму цунами, селю или самуму. Здесь косматость и непричесанность и есть отчасти форма. С другой стороны, подобного рода запись – это типичная форма самовыражения молодых, гениев и не очень. Чувства хлещут, мастерства пока нет, определенного мировоззрения тоже. Что делать, когда работать не получается, а «оно» прет? когда «драйв есть, а содержания нет? Просто пиши, а там разберемся. Это не что иное, как форма бессилия, выдаваемая за невиданные новации. Простейшие из наваждений. «Словеса в бреду» следует понимать почти буквально: не логос, внятность и 144 членораздельность (и тогда появляются основания говорить о художественной форме) – а плетение словес по логике бреда, ввержение в хаос, собственно, модель хаоса, как уже было сказано, что, в известном смысле, можно расценивать как художественную мотивацию, некое художественное оформление по принципу «форма в том, что формы нет». В таком случае, все, что ни легло на бумагу, принимает форму; бумага, как известно, все стерпит. Но читатель – не бумага, чтобы им пользоваться так бесцеремонно. Оформление, придание порядка наваждениям (что делает их, по законам творчества, уже как бы наваждениями) – это определенная культурная работа, и ее обнаружить в текстах не представляется возможным. Где умное чувство меры? Его нет. Не случайно Рембо в конце творческого пути пришел к стихам в прозе. Стихи в прозе – это лирика как таковая, ее наиболее простой и безыскусный вариант, где даже эстетическая форма не мешает восприятию. Ничем не стесняемый поток. Здесь мастерство напрочь отсутствует (и это отнюдь не признак высшего мастерства, как, скажем, у того же И.С. Тургенева), здесь не надо обременять себя приемами и пропорциями: просто записывай гениальные строчки. Это ни к чему не обязывает, словно эссе в гуманитарных науках. Леность мысли находит свое адекватное выражение в подобной лирической стихии. Именно неумение совладать с формой, и потому ее отсутствие (или случайное присутствие: кому что нравится) – первый и решающий признак дилетантизма, в данном случае – гениального. Дефицит культуры – во всем. Юноше это вполне простительно. Но исследователям надо бы назвать вещи своими именами. В определенном смысле Рембо был прав, когда отвернулся от своего творчества: в наваждениях своих и озарениях он продемонстрировал гениальность дара, но не гениальность дара, облеченного в совершенную поэтическую форму. Алмаз не получил огранку. Его творчество – сплошная медитация, едва скорректированный поток сознания, утонувшего в бессознательном. Так или иначе – мы имеем дело с бессмысленной стихией, точнее, со стихией, не поддающейся смысловой регуляции, яростно отчего-то протестующей: вот где проявляется органика. Из сора нечто выросло. Мироощущение нашло органические формы самовыражения: во-первых, оно не отделимо от юности, во-вторых, от поэзии, точнее, от поэтизации бунта, в-третьих – от дилетантизма. Делать же Рембо демиургом, вещателем истин, загадочно доступных молодому человеку, объявившему, что в него взяло и вселилось ясновидение, просто нелепо. Согласимся: иногда уста младенца пролепечут нечто, мерцающее сокрытыми глубинами; но глубина обнаруживается только тогда, когда лепет будет вразумительно прокомментирован и помещен зрелой личностью в культурный контекст. В противном случае сам по себе лепет – не больше, чем лепет. Тексты Рембо – это и есть «нечто устами младенца». Стихи (так и хочется сказать: стихия) Рембо пронизаны гениальностью бессознательного, мощью человеческой интуиции, воспринимаемой как 145 альтернатива и замена разуму. Гениальность как инструмент культуры: так вот простенько решена проблема культурной состоятельности. Ясно, почему всевозможные «озарения», «ясновидения», «откровения» являются продуктом помутнения рассудка. Попробуйте совместить поэтический бред, культурное сырье с пушкинской аналитикой. Результат легко предсказать: исчезнет поэзия. Именно так: дремучесть и первозданность текстов, собственно, сор, источает поэзию. Это надо признать. Рембо – поэт сора. В этом смысле он и стал предтечей магистральной линии искусства ХХ века. Он обречен был стать иконой. В ХХ веке сор перестали маскировать. Сегодня рисунками слабоумных уже никого не удивишь. И черный квадрат давно уже не предел: рисуют обезьяны, слоны, кто еще там... Искусство мирно и без всяких бунтов поглощается натурой. Деградация и дегуманизация искусства достигаются чрезвычайно быстро: освободитесь от ума, не взрослейте – и вы добьетесь своего. Но если после Рембо искусство шарахнулось в сторону от разума – это не значит, что будущее за таким искусством. Тут дело вообще не в Рембо, а в логике развития культуры. А если будущее все же за таким искусством – значит, будущего у нас нет. Артюр Рембо, конечно, заслуживает памятника как знаковая фигура: подлинный поэт, погубивший себя как личность. Людям давно пора перестать поэтизировать поэзию. Великая и искренняя поэзия умерла вместе с героическими идеалами, ровно в то время, когда на авансцену культуры выдвинулась личность. Поэзия требует великих иллюзий. Или великой мечты. Трезвый разумный персоноцентризм фатально несовместим с поэзией. Бунт – был великой иллюзией Рембо, последней великой иллюзией героической эпохи. Напомним: он отделил поэзию от разума, но не от чувств; сегодня, идя вслед за ним, дошли до предела: слова, отделенные от чувства, из поэзии превращаются в «слова, слова, слова» – в прием и мастерство, которых так не хватало подлинному поэту. Голое ремесло, виртуозное циркачество и трюкачество, имитация чувств – это не что иное, как форма умерщвления поэзии. После Пушкина и Рембо нужна другая поэзия. Поэзия мечты. Культура может предложить двуединый объект поэтизации: гуманизм и личность (в их всевозможных проявлениях: а это уже тысячи объектов). И языком поэзии призван стать язык умных чувств. 146 11. ЗАКОН КРАСОТЫ, или ДИАЛЕКТИКА ГЕНИЯ И ЗЛОДЕЙСТВА Красота литературно-художественного произведения – это, конечно, метафора. Под красотой в литературоведении следует понимать духовноэстетическую категорию, дающую представление об интенсивности информационного воздействия на объект художественного общения – воспринимающее сознание. При этом субъект художественного общения, собственно творец парадигмы «красота», также подвержен информационному воздействию закона красоты – закона, который творец не создал; он создал творение в соответствии с постигнутым (угаданным – не суть) законом. Таким образом, субъект и объект общаются посредством обнаруженного закона красоты и по поводу этого закона. Закон красоты в рабочем порядке можно сформулировать следующим образом: если выразительная сторона произведения приближается к степени «очень красиво», если возникает воспринимаемый одновременно чувствами и абстрактно-логическим мышлением феномен стиля, значит содержательная сторона в чем-то существенном верно отражает природу человека (личности). Совершенно вне контекста истины (другой метафоры, отражающей законы духовного функционирования личности) красота существовать не может. Наличие красоты служит прямым показателем присутствия в произведении научных гуманитарных законов. Сам закон красоты становится законом художественного отражения гуманитарных законов. Определение стиля в этой связи может быть следующим. Стиль – единство принципов изобразительности и выразительности – принципов, формируемых смыслом, концепцией личности данного произведения. Мы распространили широко известное определение Г.Н. Поспелова, дополнив его пунктом о взаимосвязи концепции личности (смысла) с единством принципов изобразительности и выразительности. Концепция личности определяет принципы изобразительности, и вся оригинальность красоты «программируется» оригинальностью смысла. Если красота настойчиво дистанцируется от смысла, то она превращается в циничную содержанку смысла. Именно так: красота как таковая – циничная содержанка смысла. Выражение красота спасет мир имеет смысл в том случае, если подразумевается мир спасет духовно совершенная личность. В противном случае знаменитое изречение также приобретает циничный оттенок. Таким образом, красота – один из факторов экзистенциальной духовности, наряду с истиной. 147 Легко понять, почему на «Евгения Онегина» реагируют как на красиво сделанную вещь. Если красота является способом организации смысла, следовательно, перед нами «умная» вещь. Говорят о феноменальном художественном совершенстве романа в стихах – подразумевают его духовную значимость. Вместе с тем упорное подчеркивание именно бескорыстной воздушности, художественности как таковой «Евгения Онегина» свидетельствует о непонимании его культурного значения. Если распространить закон красоты на «Евгения Онегина», то опорным становым хребтом этой эфемерно-эфирной «воздушной громады» становится его духовный каркас – духовность, непосредственно связанная с плотью и кровью человека. Закон красоты, явленный нам в модусе «Евгения Онегина», поражает воображение настолько, что заставляет совершенно серьезно оперировать сумасшедшими аргументами Сальери: Что пользы, если Моцарт будет жив И новой высоты еще достигнет? Подымет ли он тем искусство? Нет; Оно опять падет, как он исчезнет: Наследника нам не оставит он. Что пользы в нем? Как некий херувим, Он несколько занес нам песен райских, Чтоб, возмутив бескрылое желанье В нас, чадах праха, после улететь! Так улетай же! чем скорей, тем лучше. Закон красоты, рассмотренный в контексте «что пользы», «что пользы в нем», превращает закон, имеющий безграничную информационную, духовно-эстетическую природу, в закон социально значимый и социально ограниченный. Точкой отсчета здесь выступает уже не личность, но общество. Согласно версии Сальери, искусство является служанкой общества, а уж никак не способом раскрытия духовных возможностей личности. Думаю, Пушкин угадал и сформулировал эпохальное противоречие между возможностями искусства как свободного творчества и искусства, привязанного к потребностям общества, – между законом красоты и законом неприятия красоты человеком, который не желает становиться личностью. Хорошая литература – всегда обо всем, то есть об истине (хотя и воспринятой сквозь определенную призму). Проще говоря, о становлении личности. Еще проще: хорошая литература – персоноцентрична. В этой связи уместно затронуть самую чудесную и, соответственно, темную проблему в философии искусства: гения и таланта. 148 Гениальность художественная – это информационные способности творить красоту, с помощью которых удается обнаружить в человеке личность. Гениальность – это способность фиксировать в образах мысль, то есть передавать мысль средствами, саму мысль не только порождающими, но и уничтожающими, – способность, с помощью которой удается запечатлеть редчайшее природно-социально-духовное явление, а именно: обнаружить гармоническое равновесие между психикой и сознанием, – состояние гармонии, ведущее к возникновению подлинной духовности. Гений на пике развития собственных духовных и творческих потенций способен уловить такой уникальный информационный баланс, при котором сознание, многократно усиливая свою мощь за счет резервов психики, дает возможность психике реализовать максимум своих возможностей за счет своих, «сознательных», резервов. Чувства, которые испытывает личность, становятся «умными» (тонкими, в иной терминологии), а философский взгляд на мир предполагает наличие чувства как условия возникновения самой философии. Феномен гения – это феномен содержания (вневременной фермент), которое способно породить исключительно выразительный феномен стиля (эфемерный эстетический ряд, передающий дух эпохи). Человеческое «здесь и сейчас» закрепляется сверхчеловеческим (личностным) «на века». Гениальность – это дар постижения и изображения человека с позиций личности. Остается добавить, что художественный талант – это информационные способности творить красоту, с помощью которых удается предчувствовать в человеке личность. Что касается художественных способностей, то определение их сути в контексте «гений» и «талант» видится таким: это природный информационный дар фиксировать в образах мысль (творить красоту). Разница между способностями, с одной стороны, и талантом и гением, с другой, является не количественной, но качественной. Это феномены разной информационной природы. Способности как дар формотворчества, как некая технологическая вещь в себе переходят в умение, которое может развиться до степеней, присущих таланту или гению. Поскольку способность выражать информацию в известном смысле автономна от качества самой информации (то есть, от духовной составляющей – от первоосновы! – таланта или гения), то в принципе допустимо расхождение между информационными возможностями (способностями) субъекта и реальным содержанием его творчества, между формотворчеством и идейно-духовным содержанием – между Красотой и Истиной. Потенциально талантливый или гениальный человек может так и не раскрыть возможности своего дара в полной мере. Гносеологическая возможность отделения способностей от таланта или гениальности является основой философского трюка, позволяющего, в 149 частности, утверждать, что гений (читай гениальные способности) и злодейство (духовная бездарность) – две вещи совместные. Формотворчество и бессодержательность – две вещи совместные, не так ли? Получается, что гениальность художественную можно трактовать как информационные способности, с помощью которых возможно уничтожить в человеке личность. Если допустить, что феномен гения – это феномен формы, то так оно и есть. Проблема только в том, что говорить о феномене формы, отвлекаясь от феномена содержания, не просто нелепо, но попросту невозможно. Противоестественно. Противозаконно (с точки зрения законов универсума, в частности, с точки зрения закона сохранения информации). Обосновать приоритет формотворчества гносеологически невозможно. Именно поэтому феномен гения мы вынуждены трактовать, прежде всего, как феномен содержания, гуманистического содержания, не существующий, разумеется, вне категорий «способности», «форма», «красота» и т.п.. Способность и умение (дар!) творить, то есть выражаться языком образов, в гении сочетаются с даром прозревать (в значительной степени бессознательно осваивать философский уровень постижения реальности). Понятие гений неотделимо от понятия личность и уж никак не сводимо к понятию «божественное мастерство». Совместимы ли в таком случае гений и злодейство? Вопрос, который так мучил Сальери, превращается в риторический (каким он, собственно, и является у Пушкина: «А гений и злодейство – две вещи несовместные. Не правда ль?» - роняет Моцарт): нет, не совместимы, ибо чуткость к личностному началу исключает преступные умыслы, направленные против личности. Если есть красота – следовательно, существует истина. Если есть гений – следовательно, существуют и способности. Гений и злодейство – две вещи несовместные.