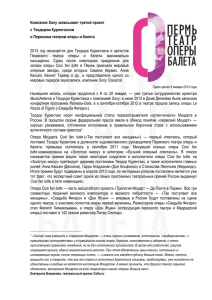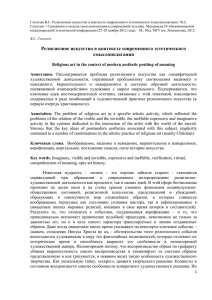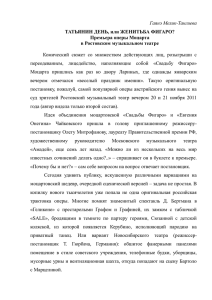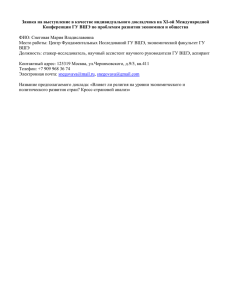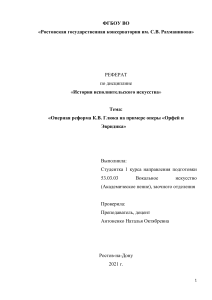Религиозная тематика в искусстве эпохи
advertisement
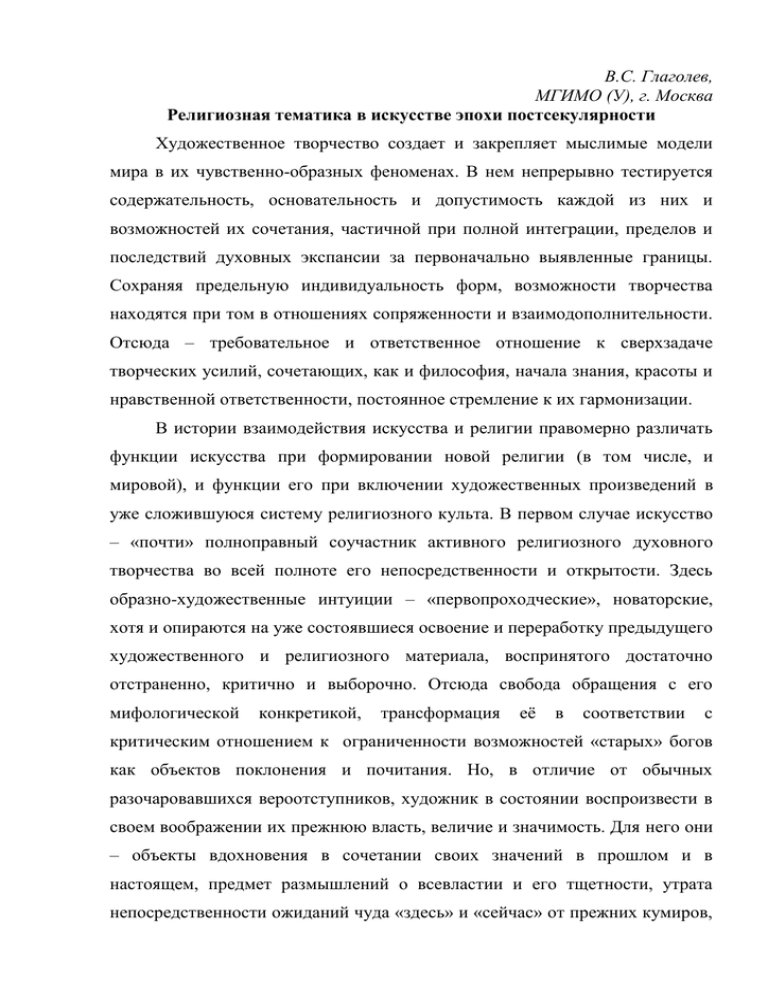
В.С. Глаголев, МГИМО (У), г. Москва Религиозная тематика в искусстве эпохи постсекулярности Художественное творчество создает и закрепляет мыслимые модели мира в их чувственно-образных феноменах. В нем непрерывно тестируется содержательность, основательность и допустимость каждой из них и возможностей их сочетания, частичной при полной интеграции, пределов и последствий духовных экспансии за первоначально выявленные границы. Сохраняя предельную индивидуальность форм, возможности творчества находятся при том в отношениях сопряженности и взаимодополнительности. Отсюда – требовательное и ответственное отношение к сверхзадаче творческих усилий, сочетающих, как и философия, начала знания, красоты и нравственной ответственности, постоянное стремление к их гармонизации. В истории взаимодействия искусства и религии правомерно различать функции искусства при формировании новой религии (в том числе, и мировой), и функции его при включении художественных произведений в уже сложившуюся систему религиозного культа. В первом случае искусство – «почти» полноправный соучастник активного религиозного духовного творчества во всей полноте его непосредственности и открытости. Здесь образно-художественные интуиции – «первопроходческие», новаторские, хотя и опираются на уже состоявшиеся освоение и переработку предыдущего художественного и религиозного материала, воспринятого достаточно отстраненно, критично и выборочно. Отсюда свобода обращения с его мифологической конкретикой, трансформация её в соответствии с критическим отношением к ограниченности возможностей «старых» богов как объектов поклонения и почитания. Но, в отличие от обычных разочаровавшихся вероотступников, художник в состоянии воспроизвести в своем воображении их прежнюю власть, величие и значимость. Для него они – объекты вдохновения в сочетании своих значений в прошлом и в настоящем, предмет размышлений о всевластии и его тщетности, утрата непосредственности ожиданий чуда «здесь» и «сейчас» от прежних кумиров, от всепоглощающей необходимости умилостивить и побудить их к немедленной благосклонности. Как следствие, имеет место ремифологизация в контексте новой парадигмы религиозного сознания. Последняя, сохраняя преемственность с предыдущим религиозным опытом, отводит ему ограниченное место или объявляет об окончательном разрыве с ним как с недостоверным. Но, как всегда, прошлое хватает за ноги живых: на уровне бытового сознания многие отвергнутые представления продолжают воспроизводится. Современное художественное творчество дает тому множество примеров. Символической направленности искусства способствовало дифференциация самих религиозных представлений и верований, появление в них образов всеобъемлющего безличного сакрального первоначала, усложнявшаяся символика богослужения и государственно-политической власти, освящаемой религией и поддерживающей её статус в духовной и социальной стабилизации общества. Профессионализация как способ воплощения символики сакрального создала особое духовное пространство; его систематическое воспроизводство стало общественно- и государственнорелигиозно признанным почетным занятием. Художественно обработанный язык религиозных символов становится неотъемлемым компонентом культурной жизни, видоизменяется и трансформируется вместе с нею. На протяжении тысячелетия жизни религиозного искусства его символика как бы пульсирует в диапазоне сочетания образного обозначения абстрактных понятий религий и конкретизации этих образов всем диапазоном образных средств и приемов. Находки новых выразительных возможностей художественного языка, разнообразие его стилей и их сочетаний получают отражение и в художественной практике утверждения сакральных начал. В свою очередь, часть выразительных достижений этой практики абсорбируется и преломляется художественными сторонами государственной и частной жизни, эстетизацией внерелигиозных сторон жизни социума. Символические образы переносятся из контекста одних этнических и этногосударственных культур в другие, приобретая ровные значения в их среде и утрачивая свои первоначальные смыслы: их бесчисленные апробирования и эксперименты с сочетаниями исходных форм и их элементов приводят европейское искусство в начале XX в. к отказу от использования натуралистических и фигуративных форм. Наступает период экспансии вначале абстракционистской символики; на её основе появляется символика конструктивизма. Сосуществующий наряду с ней поп-арт открывает путь к неонатуралистическому и неофигуративному искусству. Сюрреализм конца 20-х гг. XX в. был одним из предшественников этого поворота. Необходимость осуществления его продемонстрировала и эволюция творчества П. Пикассо. Духовное поле художественной деятельности изначально было гетерогенным и насыщенным страстями самоутверждения. Каждый из его центров имел свою мотивацию. Индивидуальности мастеров реализовывались «по трекам» соперников; утверждение одного из них в роли доминирующего в местности или регионе, создавал ему популярность, что поощряло эксперименты с элементами инноваций, где религиозное начало переплеталось с бытовым, типологически значимым для самоидентификации данного сообщества. Отмеченные выше особенности нашли отчетливое выражение в своеобразной современной разновидности художественной деятельности – экранизации модернистских оперных и балетных решений, созданных на музыку композиторов-классиков. Решения этого рода требовали виртуозности. Классики отделены от нашего времени полутора, а то и двумя с половиной столетиями. Их музыка соответствовала - как и либретто – вкусам своего времени. С этой точки зрения примечательна постановка оперы Моцарта «Дон Жуан» в Зальцбурге в первое десятилетие нашего 21 столетия. Дионисийское начало, столь органичное музыкальному творчеству Моцарта, присутствует в музыкальном решении концепции главного героя оперы. Вместе с тем, в народных рассказах о Дон Жуане, складывавшихся столетиями, отложилась идея бинарности и его инфернального начала; хаотичные связи земной жизни и хтонических сил. Герой хаотичен в своих порывах и поступках, которые периодически переходят грань общепринятого на земле и считающегося абсолютной ценностью. Моцарт в своем творчестве отразил эту традицию. У Моцарта Дон Жуан, способный влюблять, влюбляться и дарить радость любимым является открытым человеком, дающим радость любви, верным дружбе, готовым к поддержке друзей и любимых больше, чем они (как оказывается) верны ему. Его предает близкий ему слуга, близкие ему женщины. Его незаурядные творческие способности уходят в песок благодаря близости к тем, кто оказывается гораздо ниже той планки масштаба личности, которой задает он сам. В результате сцена его исчезновения – вопреки, например, версии А.С. Пушкина в одноименной трагедии, - происходит на снегу. Холод этой субстанции олицетворяет не только застылость, неподвижность, обреченность и мертвенность его загробной жизни. Эта субстанция одновременно – характеристика тех, кто, остановившись в духовном развитии, отказал Дон Жуану в поддержке и радуется его уходу. Командор в версии постановки исчезает в огненном пространстве ада вместе со своими спутниками. Они выглядят истощенными и опустошенными, как и он сам, и не вызывают сочувствия зрителя. Как следствие, эта концепция предложила оригинальную версию одной из важнейших смысложизненных проблем человеческого бытия. Развернув действие в театральном пространстве, резко отличном от куртуазных условностей театрального мира 18 века, постановщики смогли сосредоточить внимание на важнейшей аксиологической проблеме, имеющей глубокие корни и современное звучание в нравственной проблематике нашего времени. Современная постановка оперы Г. Берлиоза «Бенвенуто Челлини» сочетает постмодернистскую иронию в отношении к музыкальной и театральной классике; её нарочитое пародирование сочетается с прекрасным исполнением музыки оркестром (дирижер Г. Гергиев) и певцами своих партий. Нарочитость сценического оформления проявляется во введении мизансцен с роботами, исполняющими роль домработниц и камер-фрау у Терезы (основного женского персонажа), в физическом облике огромного Челлини, одетого в кожаную куртку, джинсы, татуированного (руки и шея). Он появляется на вертолете. В сценах карнавала и крестного хода пародия более сценична. В целом для постановки характерна дивергенция музыкально-литературного и изобразительно-драматического рядов. Вполне возможно, что подобная стратегия презентации оперной классики (в которую вписывается и скандальная постановка «Евгения Онегина» в Большом театре), обусловлена заметным снижением интереса публики в эпоху СМИ к классическим условностям и традициям опер XVIIIXIX вв. Карнавальные сцены отличаются разнузданностью, имитирующей народные празднества позднего Средневековья: демонстрация длинного и тонкого надувного фаллоса одним из персонажей вызывает безудержный хохот окружающих его женщин; ограбление винного погреба восточноазиатской лавки сменяется отпором охраняющих её мафиози, вооруженных скорострельными пулеметами и разрешением конфликта через вручение грабителями хозяину лавки крупной купюры зеленого цвета. Введены аллюзии на бытовые детали современности: рекламные огни, световые сигналы тревоги и т.п. Демонстрация условности образов и приемов искусства, – типичная особенность постмодернизма. Так, в демонстрации оперы Скарлатти зритель видит переодевание актеров, их гримировку, установку декораций, разметку на полу сцены ключевых точек предстоящих мизансцен и пр. Подобный «эксгибиционизм» обратной стороны, истоков предстоящего таинства совершенно немыслим (и недопустим ) для церковного искусства (хотя и там репетирует хор, переодеваются священнослужители, отрабатываются ораторские приёмы произнесения проповеди). «Женитьба Фигаро» в постановке Цюрихского оперного театра исполняется на музыку Моцарта в нарочито современном стиле (Фигаро ведет подсчеты на калькуляторе, сцену в первом акте оживляют упаковочные ящики разных размеров; костюмы персонажей – набор моделей, эклектически соотносящихся друг с другом. Деревянные бруски, которыми Фигаро размечает размеры площади, используются для обозначения фаллоса. Актеры демонстрируют не только нижнее белье, но и готовность возбуждаться прикосновением к интимным местам партнеров (и партнерш) и, в свою очередь, возбуждать их. Имитация плотской любви – устойчивый элемент сценического действия. Возникает впечатление режиссерской бездарности, оттененной пластичной, неумирающей в своей легкости и ироничности музыкой великого композитора. Бездарность – по принципу ассоциации с контрастом классической музыке – становится тупой и кричащей пошлостью. Опера «Орфей и Эвридика» снята в телевидео-варианте в 2011г. на основе строгого следования партитуре Дж. Глюка, написанной в 1762 г. Она поставлена Г. Николичем в сотрудничестве с каталонским театральным коллективом «La Furadels Baus» и отмечена рядом черт авангардистского искусства: заглавные партии исполняют певицы, оркестр последовательно обеспечивает пантомимическую часть замысла режиссера и одет в своеобразную карнавальную униформу. Широко использована механическая сценическая техника, вертикальные и наклонные блоки и плоскости, качели, подъемные устройства, позволяющие осуществлять балетные движения в воздухе, не отталкиваясь от пола; оптические эффекты имитируют сложные по рисунку разряды молний, пламя преисподней, морские волны, туманы и т.д. Проекционная техника позволила непрерывно изменять сценическое пространство и согласовывать его с музыкальным, хоровым и сольным пением исполнителей. Сложный сюжет древнегреческой драмы не потерял, тем не менее, своих основополагающих нравственных качеств: значение верности и преданности в супружеской любви, жертвенности и отваги, неумолимости рока и необратимости прошлого рельефно и в целостной взаимосвязи выступают в своих этико-аксиологических особенностях и вносят усиливающий акцент в музыкальные партии, созданные, напомним, в «галантный» век популярности салонной, приглушенной музыки. Тема обезличенности и малоузнаваемости загробных теней, их внешней схожести усиливает — по контрасту — масштабность и значимость неповторимости, уникальности человеческих переживаний в любви, обретающих свой смысл и значимость в союзе двоих и его неразрывности. Катарсис в сценическом действии достигается преодолением безысходности траурного шествия в начальной части оперы (погребение Эвридики по представлениям о древнегреческом идеале, сложившемся к середине XVIII в.) ликующим торжеством соединения любящих в условном, «подвешенном» состоянии на качелях и приближении друг к другу переборами соединяющих — вполне натуральных — нитей. В результате выстраивается сложный мир символического развертывания действия, утверждающего непреходящее значение великой силы любви, преданности и взаимной ответственности героев. Своеобразным балетом-ораторией является опера-балет «Орфей и Эвридика» Глюка в постановке Парижской оперы (сценарий 1986 г.). В нем четко разведены функции танцовщиков исполнителей партий и певцов; на певиц возложена задача служить олицетворением душ персонажей. Балет сохранил позы и телодвижения, а также одежды известные по дошедшим до нас памятникам древнегреческой культуры, но воспринимается как современное произведение. Как современная, звучит и музыка Глюка. Обстоятельно продуманы роли теней Ада, куда попадает Орфей в поисках Эвридики. Все это в совокупности обеспечивает смысловое единство постановки и исполнения, обеспеченное синтетическим сплавом ряда видов искусств. Если же творчество художника включено в сложившуюся, достаточно укоренившуюся религиозную систему, оно не может не соблюдать её доктринальные и вероучительные правила. Догматика и культовый церемониал беспрекословны для её сторонников; образнохудожественные новации возможны лишь как способ более глубокого и проникновенного воплощения их смысла. Попытка их критики художественными средствами влечет за собой, как минимум, конфликт с этой системой, в которой у художника нет шансов обеспечить себе позицию равноправного участника богословско-философско-художественного диалога. Ему остается либо иносказание Эзопа, либо переход в другую, более устраивающую его религиозную систему. Там, однако, первоначальные восторги по поводу появления новообращенного сменяются критикой его отступлений от религиозного канона, слабости статуса реконвертита и неофита. Не затрагивая догматико-богословскую составляющую религий, художник находит в каждой из мировых религий немало житейской мудрости, образности, поэтичности и философских обобщений. Они служили и служат источником художественного вдохновения, проповеди, декламации, музыки, архитектуры и живописи. Пока он в состоянии видеть их художественно-культурную ценность, у него достаточно импульсов для творческих исканий и воплощений, исходящих из образно-религиозных источников Объективация сознания в образах искусства – лишь одна сторона художественного процесса. Другой является взаимодействие этих образов с сознанием самих их создателей и с сознанием тех воспринимающих, которые не участвуют прямо в их создании. Искусство устремлено к диалогу, активно провоцирует его разнообразием своих тем, их вариативной разработкой, критикой и дополнением предложенных решений, их популяризацией («тиражированием») и неприятием (вплоть до демонстративного замалчивания тех из них, что стали объектами художественной цензуры). Последняя часто нравственной прибегает к соображениям благопристойности, групповых соответствия интересов, религиозным и политическим ценностям, вкусам влиятельных авторитетов в каждой из вышеназванных сфер. По мере совершенствования разнообразных способов деятельности, опиравшихся на формирование новых технологий и лежащих в их основе правил и ограничений («лекал», «алгоритмов» и т.д.) «воображение» получало новые стимулы. Возникали возможности как сочетаний уже освоенных практикой направлений и вариантов деятельности, так и «прорывы» - по аналогиям сходства и «от противного». Последние заложили, в частности, методику построения разнообразных антиутопий и моделей описания возможных реальностей – от «Новой Атлантиды Ф. Бэкона до «1984» Дж. Оруэлла. Современные триллеры, используя новейшие психолингвистические приемы и теории, рисуя картины организации техники и жизни будущего по последним предсказаниям футурологов, владеют архетипическими практиками манипулирования сознанием. В основе их – архетипы образов, опирающихся на страх перед смертью, ужас перед предстоящим превращением, таящийся «здесь», «рядом», за дверью». Массовая практика эксплуатации таких архетипов – путь к невротизации сознания групп молодежи и людей более старших возрастов, «подсевших на иглу» экраномании и испытывающих потребность в усилении впечатлений от поверхностного проведения времени в мире фантомов. Утрата меры, как и в других сферах жизни, ведет здесь к деформации ценностных предпочтений и духовных потребностей. Таков Воланд и его свита (за исключением, м.б. Гейлы) у М.А. Булгакова. Понимание стало в нем психологической основой преодоления ужасного как некоего инфернального дополнения событий повседневной жизни; оно использует юмор, сатиру, гротеск, соразмерных человеческому постижению. Иначе на шабаше нечестия являет себя Вий в одноименной повести Н.В. Гоголя. Здесь исходные признаки человеческого превосходят всякую меру, характерную для земных черт и пропорций в облике прочих нечистей, населяющих малороссийский цикл гоголевских повестей: черт в «Ночи перед рождеством» у Гоголя обозначил юмористическую симпатичность, развернутую Булгаковым в облике и стиле поведения Кота Бегемота. Напротив, концентрированная безмерность определяла усиление иррационального страха и ужаса в персонажах масок традиционных обществ, перемещающихся на ходулях. Дополнительное усиление этих переживаний в ходе церемонии – путь к экстатическому беспамятству, в котором садистское начало её режиссеров сочетается с мазохистскими комплексами членов племени, проходящих определенный этап посвящения. Картины средневекового ада, запечатленные в полотнах христианских художников, сочетают функцию предельного устрашения прихожан с задачей нравственного ориентирования их поведения. Контраст обеспечен традиционным противонаставлением Аду – Рая. Потребности толкования того и другого в искусстве зависели от многих причин как личного, так и социокультурного порядка, получивших отражение в богословской и церковно-исторической литературы. В отношении публики к произведениям искусства постоянно присутствует барьер вкусовой оценки: «Мне это не нравится и поэтому я не буду это смотреть (слушать)». Открытым остается вопрос: Опирается ли такая оценка на систему аксиологических предпочтений? Или же она сложилась на основе более или менее случайных обстоятельств. В последнем случае такая позиция часто становится трудно преодолеваемым барьером, закрывающим личности путь постижения сложных образных феноменов и способность радоваться и наслаждаться ими, сопереживать логике и содержанию их развертывания. Существуют и системы односторонних аксиологических ориентаций и предпочтений, обусловленных особенностями индивидуального развития личности (и той референтной группы, с которой она идентифицирует свои ценности). Способность отнестись к явлению искусства «с чистого листа» позволяет достаточно непредубежденно осуществить сравнение ранее сложившихся представлений и оценок с тем принципиально новым, что несет с собой художественный образ. В результате открывается путь внутреннего движения убеждений, духовной работы над их уточнением, расширением, и возможно, над их пересмотром. Библейская заповедь «Не сотвори себе кумира» периодически нарушалась и продолжает нарушаться в разных социально-исторических, политических и религиозных контекстах. Это типично и в отношениях публики с Наблюдается кумирами масс-медиа, эффект массовой культуры социально-психологического разогревающего как артистов, так и публику. Поведение и поп-арта. «заражения», исполнителей отличается исключительной проработанностью акцентов исполнения текстов с поистине вихревым движением по сцене в стиле партий неклассического балета, соединенного с непрерывном обращении к публике для её убеждения, вопрошания, побуждения к соответствию рече-музыкального ряда. В последнем нет ни философской, ни образно-эстетической филигранности. Он является вариантом «рваного» текста, оппозиционного устоявшимся стандартам поведения и чувствования, миру стереотипов устоявшихся отношений, поведения, «респектабельного» образа жизни. Взрывчатый характер темпа напоминает стиль исполнения позднего В. Высоцкого, в котором компоненты мелодичности предельно минимизированы, хотя и не устранены полностью. Артисты сопровождения («подтанцовка», если воспользоваться квази-хореографическим термином) отличаются высоким профессионализмом, «с ходу» попадая в ноту и такт импровизации на устойчивый текст и базовую музыкальную канву. Импровизационный стиль исполнения притягивает публику, как всякое рисковое зрелище. В центре внимания — игра, игра словами, звуками, ритмами и мелодиями, обретающими новые смыслы в ходе пластического представления музыкантов и их сопровождения. В ходе этой игры возникают, исчезают и вновь возвращаются ассоциации, сочетающиеся с понятийно-музыкальными рядами и в чем-то обозначающими их. Игра в её неистощимости, неисчерпаемости возможностей музыкантов-исполнителей, лишь отчасти приоткрывших свое разнообразие и богатство в ходе одного представления. Таким образом взаимоотношение парадигм религиозного сознания и искусства отличается отношениями неоднозначности, амбивалентности и взаимодополнительности на фоне ослабления установок секуляризации и современных поисков ответа на вечные вопросы бытия.