Блищ Н. Л. В. В. Набоков как персонаж в русской прозе конца ХХ
advertisement
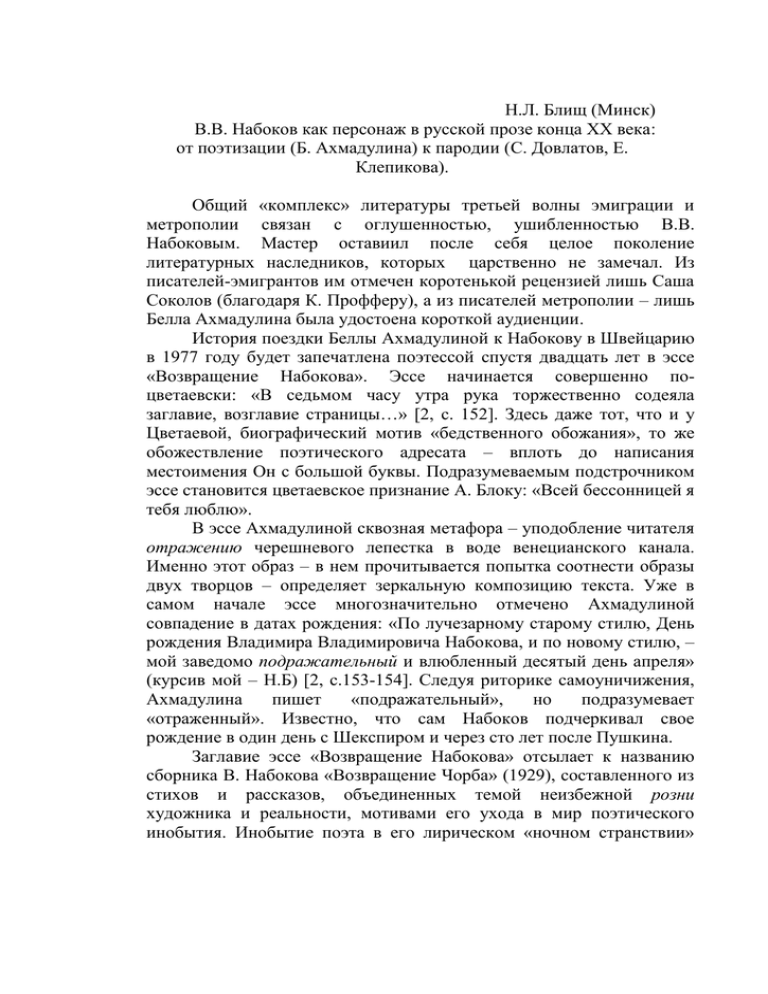
Н.Л. Блищ (Минск) В.В. Набоков как персонаж в русской прозе конца ХХ века: от поэтизации (Б. Ахмадулина) к пародии (С. Довлатов, Е. Клепикова). Общий «комплекс» литературы третьей волны эмиграции и метрополии связан с оглушенностью, ушибленностью В.В. Набоковым. Мастер оставиил после себя целое поколение литературных наследников, которых царственно не замечал. Из писателей-эмигрантов им отмечен коротенькой рецензией лишь Саша Соколов (благодаря К. Профферу), а из писателей метрополии – лишь Белла Ахмадулина была удостоена короткой аудиенции. История поездки Беллы Ахмадулиной к Набокову в Швейцарию в 1977 году будет запечатлена поэтессой спустя двадцать лет в эссе «Возвращение Набокова». Эссе начинается совершенно поцветаевски: «В седьмом часу утра рука торжественно содеяла заглавие, возглавие страницы…» [2, c. 152]. Здесь даже тот, что и у Цветаевой, биографический мотив «бедственного обожания», то же обожествление поэтического адресата – вплоть до написания местоимения Он с большой буквы. Подразумеваемым подстрочником эссе становится цветаевское признание А. Блоку: «Всей бессонницей я тебя люблю». В эссе Ахмадулиной сквозная метафора – уподобление читателя отражению черешневого лепестка в воде венецианского канала. Именно этот образ – в нем прочитывается попытка соотнести образы двух творцов – определяет зеркальную композицию текста. Уже в самом начале эссе многозначительно отмечено Ахмадулиной совпадение в датах рождения: «По лучезарному старому стилю, День рождения Владимира Владимировича Набокова, и по новому стилю, – мой заведомо подражательный и влюбленный десятый день апреля» (курсив мой – Н.Б) [2, с.153-154]. Следуя риторике самоуничижения, Ахмадулина пишет «подражательный», но подразумевает «отраженный». Известно, что сам Набоков подчеркивал свое рождение в один день с Шекспиром и через сто лет после Пушкина. Заглавие эссе «Возвращение Набокова» отсылает к названию сборника В. Набокова «Возвращение Чорба» (1929), составленного из стихов и рассказов, объединенных темой неизбежной розни художника и реальности, мотивами его ухода в мир поэтического инобытия. Инобытие поэта в его лирическом «ночном странствии» становится у Ахмадулиной еще и своеобразным способом познания Набокова, прежде чем произойдет их реальная встреча. Стилистические отражения и эмоционально-смысловые доминанты эссе системой мотивов связаны главным образом с романом «Другие берега». Ахмадулина выстраивает тематический узор эссе только из тех биографических фактов, которые позволяют ей разглядеть свои отражения в судьбе и творчестве классика. Например, она акцентирует мотив «собачьего родства» с мэтром, вспоминая об особом почитании в семье Набоковых коричневых такс и о превращении последней собаки Набоковых из «неженки» в беженку, в «нищую эмигрантскую СОБАКУ». Однако (видимо из ревности) эссеистка опускает важное звено в набоковской цепочке образов собак: ведь эта «эмигрантская собака», по свидетельству автора «Других берегов», приходилась «то ли внуком, то ли правнуком чеховским таксам» [4, с.108]. Хитросплетения таинственных узоров судьбы и путешествие по излучинам художнической памяти (а все это узнаваемые черты набоковской поэтики) составляют стилистический орнамент эссе Ахмадулиной. Неслучайно знаком посвящения в наследники Набокова становится найденный в предместьях Петербурга платок «с обводью синей каймы», «помеченный вензелем латинского “эн”» [2, с.154]. (Если бы Ахмадулина сделала кайму «сиреневой», то анаграмма владельца (Сирина) была бы слишком очевидной). В описании Ахмадулиной главного события – ее встречи с Набоковым в Монтрё – лирические образы и чувственные ассоциации преобладают над фактографией, а сам Набоков опоэтизирован и кажется сновидением. А вот в мемуарах Б. Мессерера «Промельк Беллы» этот же сюжет выполнен точными росчерками художникаоформителя: описаны и подробности убранства холла, и дизайнерские решения архитекторов, и осанка классика, и прическа его жены, и даже формы бокала для джина с тоником и корзины для фруктов1. Не ускользнуло от опытных глаз декоратора и то, что Набоков был удивлен нарядом Беллы, который, по признанию мемуариста, он сам «нафантазировал для нее» [3, с. 212].: «На Белле был элегантный коричневый замшевый пиджачок, черная рубашка с черным жабо, 1 Приведем лишь один пример: «Холл весь светился зеленым цветом, который единовластно царствовал на этом просторе и на потолке, решенном архитекторами с применением каких-то листков, изготовленных из металлических пластин, свисавших с потолка и приходивших при движении воздуха в некоторое шевеление. Дальше — открытые двери просторного лифта, решенного точно так же, как и зал, и являющегося неотъемлемой частью этого зала» (Мессерер Б. «Промельк Беллы» // Знамя. 2011. №12.) бежевые лосины и высокие коричневые ботфорты»[3, с. 212]. Думается, что Набоков не оценил этот наряд, больше походящий для верховой езды, чем для официальной встречи. А удивление было связано скорее с тем, что облик Беллы разительно не соответствовал прежним его описаниям «московских гостей» в «обвисших костюмах». Ахмадулина намеренно «обручает» в эссе мотивы лирики первой «волны» эмиграции (изгнанничество, потерянный рай, ностальгия, одиночество, тоска) с экзистенцией шестидесятников диссидентов. Ведь для большинства друзей Ахмадулиной Набоков был кумиром, недосягаемым и неподражаемым. История визита Ахмадулиной к мэтру еще в изустной форме неизбежно породила и творческую зависть, и мифотворческие легенды. Рассказ Сергея Довлатова «Жизнь коротка» (напечатанный в эмигрантском журнале «Время и мы» 1988, № 102) стал своеобразным кривозеркальным отражением воспоминаний Беллы о поездке к Набокову Монтрё. В образе главного героя писателя-эмигранта Ивана Левицкого угадывается шаржированный профиль Владимира Набокова: и живет он в швейцарском отеле уединенно, и коллекционер редких метафор и бабочек, и прозу пишет по-английски, даже Нобелевский комитет возненавидел. Да и фамилия героя – Левицкий – намек на уклон в сторону, левизну, некий изгиб, словом – «набокость». Всеобщее благоговение шестидесятников перед Набоковым выражено подовлатовски точно: «О чем говорить, если даже знакомство с кухаркой Левицкого почиталось великой удачей...» [4, с.220]. «О его высокомерии ходили легенды. Так же, как и о его недоступности» [4, с.220] . По сюжету Довлатова, покой писателя нарушает восторженная и благоговеющая поэтесса из России Регина Гаспарян. Армянский колорит героини всего лишь шутливый уклон от прямых указаний на прототип героини. Вспомним, что в «Других берегах» Набоков прописал мифотворческую легенду о том, что ведет свое начало «от обрусевшего шестьсот лет тому назад татарского князька по имени Набок», а возлюбленная героя Тамара наделяется «примесью татарской или черкесской крови» да «особым разрезом … веселых, черных глаз» [4, с.48]. Ахмадулина, так полюбившая «Другие берега» (именно оттуда ее прозаический парафраз об отражении черешневого лепестка в воде венецианского канала), не могла не увидеть свое отражение в образе Тамары. Тем более что в эссе «Возвращение Набокова» она плетет узор своего родства с литературными восточными красавицами (от повести Лермонтова «Бэлла» до «Машеньки» и «Других берегов» Набокова и героини «Чистого понедельника» И. Бунина). Переиначивая поговорку про незваного гостя, Ахмадулина иронично называет себя тем «незваным татарином», обедающим с Набоковым и Буниным в сцене, описанной в «Других Берегах». Но есть другие узнаваемые маркеры биографии Беллы Ахмадулиной. У довлатовской героини была «мать-переводчица», которая «славилась экзотической восточной красотой» [4, с.220]. Мать Ахмадулиной была переводчицей в КГБ и происходила, по семейной легенде, из итальянского рода Стопани. Не ускользнули от пера Довлатова и истории про «ухаживания за Региной “оттепельных” поэтов» [4, с.221], про многолетние поиски встречи с Набоковым и выстраивание цепочки западных знакомств, даже про мучительно долгое ожидание в лобби «Montreux Palace». Довлатовская героиня так же переживает неловкость и страдает от натянутости диалога. Довлатов создает комический эффект, перелицовывая названия произведений Набокова: «Надо ли говорить, что я ваша давняя поклонница. Особенно ценю "Далекий берег", "Шар", "Происхождение танго". Все это я прочитала еще дома» [4, с.221]. Вспомним, что Белла Ахмадулина в эссе культивировала символику совпадения дат рождения по старому и новому стилю. В рассказе Довлатова «Жизнь коротка» героиня приезжает на встречу с Левицким в его день рождения: «Я знаю, что у вас сегодня день рождения». « – Спасибо, что напомнили. Еще один день рождения. Приятная неожиданность – семьдесят лет»[4, с.221]. Регина преподносит мэтру подарок – первый сборник стихов Левицкого «Пробуждение» (читай «Горний путь»), с большим трудом добытый у спекулянтов, который он считал утерянным. Вместе с подарком она, «в надежде получить три слова» [4, с.222], вручает Левицкому и свою рукопись. А теперь процитируем финал довлатовского рассказа: «Левицкий привстал: – А теперь, извините меня. Процедуры. Левицкий поднялся на третий этаж. У порога своего номера остановился. Вынул из конверта рукопись. Оторвал клочок бумаги с адресом. Сунул его в карман байковых штанов. Приподнял никелированный отвес мусоропровода. Подержал на ладони маленькую книжку и затем торжествующе уронил ее в гулкую черноту. Туда же, задевая стенки мусоропровода, полетела рукопись. Он успел заметить название “Лето в Карлсбаде”. Мгновенно родился текст: “Прочитал ваше теплое ясное “Лето” – дважды. В нем есть ощущение жизни и смерти. А также – предчувствие осени. Поздравляю...» [4, с.222]. Здесь прочитывается и ироничное отношение Довлатова к набоковской аттестации «Школы для дураков» Саши Соколова: «трогательная книжка». При всем довлатовском остроумии и пародийном блеске нельзя не почувствовать тщательно скрываемой автором зависти. Так – даже в пародийном отражении – подтверждается исключительность события, ставшего предметом лирической рефлексии в эссе Ахмадулиной «Возвращение Набокова», ставшего пусть еще в дописьменной, изустной форме предвестием реального возвращения мэтра в кругозор русского читателя. Тема творческой зависти звучит и в рассказе Елены Клепиковой «Невыносимый Набоков» (1999). Герой рассказа – писатель Константин Коротыгин, у которого развился «родовой изьян», поразивший многих, описанный «в единственной правдивой вещи Ю. Олешей» [5, с.16]. В слове «зависть» и скрывается зерно сюжета. Замученный творческим бесплодием герой (он чувствовал себя как «строитель без чертежей», «садовник без сада») в гостях в «прибыльно-диссидентствующем семействе» узнает о существовании Набокова. Во время застолья похитил из заветного шкафчика тамиздатовскую книгу «в маскировочной газетной обертке», которую читал всю ночь, не отрываясь, пока не «нащупал приводной механизм набоковской прозы» [5, с.14]. «Ушибленный», «контуженный» Набоковым писатель-эпигон, одержимый приступами профессиональной зависти, превращается в критика Набокова: он ругает классика за «употребление громоздких сочетаний, похожих на логопедический набор», за слабость к «горячительным словцам», например «неизъяснимо», «восхитительно», «дивно», за «тиранию ритмической линии» и «тональное насилие над читателем» [5, с.19]. Однако невольно Коротыгин становится тем самым читателем, который, подобно лирической героине Беллы Ахмадулиной, «завороженно скользит по набоковской фразе, как в лодке» [5, с.20], ловя свои отражения. И, как следствие, герой Клепиковой не удержался от копирования «скользящих как на роликах сюжетных ходов» Набокова и заимствования «стройных, с циркулем расчерченных композиций» [5, с.20]. И тогда Набоков оживает, становится соглядатаем Коротыгина, призраком, наваждением: классик резко нажимал на кнопку сливного бачка в туалете, подолгу рассматривал свои зубы в зеркале в ванной, переворачивался «в своей постели на шестом этаже отеля «Montreux Palace» [5, с.20 - 25]. В итоге и пишется рассказ, в котором проявилась «литературная опытность, добытая тайком и втихомолку» [5, с. 25]. Героя Клепиковой немного смущало то, что на любом набоковском приеме «стояло аршинное клеймо владельца» [5, с.18], но он оправдывался тем, что сам Набоков «прикарманил несколько сквозных тем из русской живописной прозы – и нагло застолбил за собой» [5, с.17] их, например «объявил монополию на литературную бабочку» [5, с.17]. Неслучайно и название рассказа Коротыгина-Набокова – «Вид на Неву из-за Ростральной колонны». Это прямая цитата из эссе Набокова «Памяти Л.И. Шигаева»: «…над кроватью висели две гравюры – (вид на Неву из-за ростральной колонны и портрет Александра I)…» (Курсив мой – Н.Б.) [6, с. 205]. Рассказ, написанный героем Клепиковой, – не только шаржированная копия с петербургских пейзажей Набокова. Это собирательная пародия на творчество писателей-шестидесятников, оказавшихся во власти «сладостного стиля» Набокова. Несмотря на то что классик был исключен из советского официального литературного процесса в 1960 – 70-е гг., он становится едва ли не главным объектом художественной рецепции и переосмысления в творчестве В. Аксенова («Победа», «Остров Крым») и А. Битова («Пушкинский дом»). Данное Е. Клепиковой название эпигонскому рассказу Коротыгина на наш взгляд связано с «птенцами гнезда Сиринова»2. Ростральные колоны на стрелке Васильевского острова находятся по соседству с Пушкинским домом (ИРЛИ РАН), а одноименный роман А. Битова оказывается генетически связанным с романом В. Набокова о русской литературе «Дар». Кстати имя героя Клепиковой – Константин, что вызывает ассоциации Костей Кончеевым. А в романе Василия Аксенова «Остров Крым» главная героиня Таня Лунина (alter ego Аксенова) живет в отеле «Васильевский остров». Вспомним еще, что сам В. Аксенов, профессорствуя в американских университетах и осознавая свою роль «дублера» Набокова, породил См. подробнее: В.В. Десятов Набоков и русские постмодернисты. – Барнаул, Изд-во Алтайского Университета, 2004. 2 автобиографический сюжет о том, что он написал по-английски роман «Yolk of the Egg» («Желток яйца») и сам перевел его на русский. В рассказе Клепиковой «Невыносимый Набоков» появляется оппонент писателя-эпигона – «сумрачный гигант-кавказец с глазом пугливой газели» [5, с. 36]. Довлатов – герой металитературных рефлексий Клепиковой (рассказ «Мытарь», книга «Довлатов вверх ногами»). Художественные приемы самой Елены Клепиковой, впрочем, как и С. Довлатова, нацелены на дистанцирование от Набокова: пытаясь преодолеть власть классика, оба писателя создают пародийный образ Набокова. В случае Клепиковой – это собирательный образ писателя-шестидесятника, зависимого от Набокова, творящего с постоянной оглядкой на Набокова, на его сюжеты, мотивы, образы, приемы, на его биографический профиль. Однако вернемся к ключевому слову рассказа «Невыносимый Набоков», слову, вынесенному в название повести Ю. Олеши. Е. Клепикова испытывала по отношению к талантливым ученикам Набокова, все же ощутившим «невыносимую легкость бытия», то же, что испытывали они по отношению к своему учителю. Таким образом, В. Набоков предоставил писателям последующих поколений множество способов для эстетической самоидентификации: от поэтического обожания и воспевания, последующего активного художественного переосмысления и подражания – до пародирования. Литература 1.Ахмадулина Б.А. С любовью и печалью: Воспоминания, эссе, прозаические портреты, стихи. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – 352 с. 2.Набоков В.В. Другие берега. Роман, рассказы – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; Харьков: Фолио, 1999. – 464с. 3.Мессерер Б. «Промельк Беллы» // Знамя. – 2011. – №12. – с.200 – 241. 4.Довлатов С. Собр. соч.: В 4 т. – СПБ.: Азбука-классика, 2003. / Сост. А. Ю. Арьев, Т.1. 5.Клепикова Е. Невыносимый Набоков. – Нью-Йорк-Тверь: «Другие берега», 2002. -264с.