Проблема стихотворного ритма Б. В. Томашевский I
advertisement
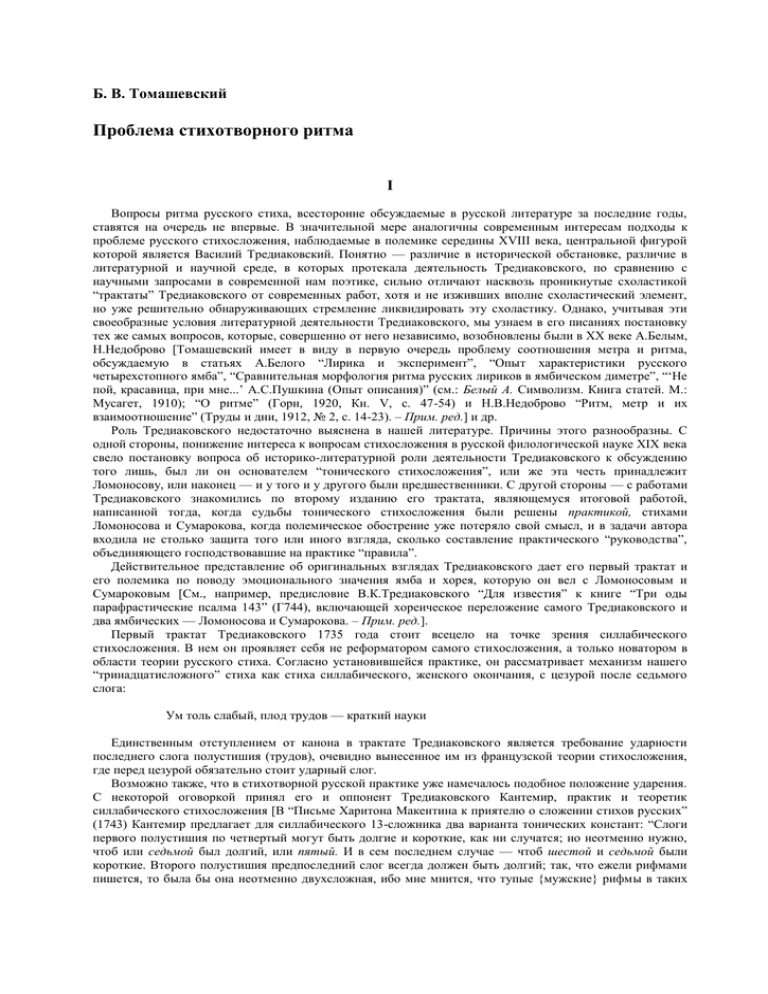
Б. В. Томашевский
Проблема стихотворного ритма
I
Вопросы ритма русского стиха, всесторонне обсуждаемые в русской литературе за последние годы,
ставятся на очередь не впервые. В значительной мере аналогичны современным интересам подходы к
проблеме русского стихосложения, наблюдаемые в полемике середины XVIII века, центральной фигурой
которой является Василий Тредиаковский. Понятно — различие в исторической обстановке, различие в
литературной и научной среде, в которых протекала деятельность Тредиаковского, по сравнению с
научными запросами в современной нам поэтике, сильно отличают насквозь проникнутые схоластикой
“трактаты” Тредиаковского от современных работ, хотя и не изживших вполне схоластический элемент,
но уже решительно обнаруживающих стремление ликвидировать эту схоластику. Однако, учитывая эти
своеобразные условия литературной деятельности Тредиаковского, мы узнаем в его писаниях постановку
тех же самых вопросов, которые, совершенно от него независимо, возобновлены были в XX веке А.Белым,
Н.Недоброво [Томашевский имеет в виду в первую очередь проблему соотношения метра и ритма,
обсуждаемую в статьях А.Белого “Лирика и эксперимент”, “Опыт характеристики русского
четырехстопного ямба”, “Сравнительная морфология ритма русских лириков в ямбическом диметре”, “‘Не
пой, красавица, при мне...’ А.С.Пушкина (Опыт описания)” (см.: Белый А. Символизм. Книга статей. М.:
Мусагет, 1910); “О ритме” (Горн, 1920, Кн. V, с. 47-54) и Н.В.Недоброво “Ритм, метр и их
взаимоотношение” (Труды и дни, 1912, № 2, с. 14-23). – Прим. ред.] и др.
Роль Тредиаковского недостаточно выяснена в нашей литературе. Причины этого разнообразны. С
одной стороны, понижение интереса к вопросам стихосложения в русской филологической науке XIX века
свело постановку вопроса об историко-литературной роли деятельности Тредиаковского к обсуждению
того лишь, был ли он основателем “тонического стихосложения”, или же эта честь принадлежит
Ломоносову, или наконец — и у того и у другого были предшественники. С другой стороны — с работами
Тредиаковского знакомились по второму изданию его трактата, являющемуся итоговой работой,
написанной тогда, когда судьбы тонического стихосложения были решены практикой, стихами
Ломоносова и Сумарокова, когда полемическое обострение уже потеряло свой смысл, и в задачи автора
входила не столько защита того или иного взгляда, сколько составление практического “руководства”,
объединяющего господствовавшие на практике “правила”.
Действительное представление об оригинальных взглядах Тредиаковского дает его первый трактат и
его полемика по поводу эмоционального значения ямба и хорея, которую он вел с Ломоносовым и
Сумароковым [См., например, предисловие В.К.Тредиаковского “Для известия” к книге “Три оды
парафрастические псалма 143” (Г744), включающей хореическое переложение самого Тредиаковского и
два ямбических — Ломоносова и Сумарокова. – Прим. ред.].
Первый трактат Тредиаковского 1735 года стоит всецело на точке зрения силлабического
стихосложения. В нем он проявляет себя не реформатором самого стихосложения, а только новатором в
области теории русского стиха. Согласно установившейся практике, он рассматривает механизм нашего
“тринадцатисложного” стиха как стиха силлабического, женского окончания, с цезурой после седьмого
слога:
Ум толь слабый, плод трудов — краткий науки
Единственным отступлением от канона в трактате Тредиаковского является требование ударности
последнего слога полустишия (трудов), очевидно вынесенное им из французской теории стихосложения,
где перед цезурой обязательно стоит ударный слог.
Возможно также, что в стихотворной русской практике уже намечалось подобное положение ударения.
С некоторой оговоркой принял его и оппонент Тредиаковского Кантемир, практик и теоретик
силлабического стихосложения [В “Письме Харитона Макентина к приятелю о сложении стихов русских”
(1743) Кантемир предлагает для силлабического 13-сложника два варианта тонических констант: “Слоги
первого полустишия по четвертый могут быть долгие и короткие, как ни случатся; но неотменно нужно,
чтоб или седьмой был долгий, или пятый. И в сем последнем случае — чтоб шестой и седьмой были
короткие. Второго полустишия предпоследний слог всегда должен быть долгий; так, что ежели рифмами
пишется, то была бы она неотменно двухсложная, ибо мне мнится, что тупые {мужские} рифмы в таких
стихах весьма уху несносны” (Кантемир А.Д. Собр. стихотворений. 2-е изд. Л.: Сов. писатель, 1956, с.
415). – Прим. ред.].
Таким образом, Тредиаковский стоит всецело на точке зрения канонического силлабического метра.
Но одновременно он вводит новое понятие, заимствованное им из французских трактатов о
стихосложении — понятие каданса (“падения”), совершенно аналогичного по своей функции в
силлабической теории понятию ритма, ныне провозглашенного и противопоставленного метру.
Под кадансом Тредиаковский разумел систему распределения словесных ударений в стихе. Для оценки
каданса стиха им и предложено было вспомогательное членение стиха на стопы, которыми он, в полном
согласии с теми же французскими трактатами, считал двусложные группы [В этом понимании термин
“стопа” (pied) удержался во французской литературе до XIX в., причем до сих пор можно услышать
определение александрийского, двенадцатисложного стиха, как “vers de six pieds” {“стих из шести стоп”
(фр.). – Прим. ред }. Впрочем, в XIX в. начали смешивать стопу (pied) и слог (syllabe). Русские
переводчики, вследствие этого, неуклюже переводят и “pied” и “syllabe” через “стопу” даже в том случае,
если оно означает “слог”. Так, в “Русских Пропилеях” (Т. 3: И.С.Тургенев. Собрал и приготовил к печати
М.Гершензон) мы с изумлением читаем, что лермонтовская поэма “Мцыри” — “писана восьмистопным
стихом” (с. 167). Здесь же приложенный французский текст, принадлежащий Тургеневу, разъясняет
недоразумение: там очень ясно говорится про “vers de huit syllabes”, т.е. восьмисложный стих
(четырехстопный ямб). В эпоху пребывания Тредиаковского в Сорбонне употребление термина pied в
значении “два слога” было, вероятно, сравнительно новым. В формулировке Тредиаковского это
определение звучит: “чрез стопу: мера, или часть стиха, состоящая из двух у нас слогов; что у Латин
называется Pes; а у французов Pied”. Подобные определения типичны для французских поэтик после
Тредиаковского (напр., см.: Quitard “Dictionnaire des rimes”: “chaque pied renferme deux syllabes” {Китар.
“Словарь рифм”: “...каждая стопа содержит два слога” (Quitard P.M. Dictionnaire des rimes precede d’un
traite complet de versification. Nouvelle edition conforme a l’orthographe de la septieme edition du dictionnaire de
l’Academie. Paris, 1869, p. 6). – Прим. ред.}); однако мне не удалось обнаружить источника
Тредиаковского, так как версификации, предшествующие его пребыванию во Франции, термин pied
избегают. Нет его ни у Ришле {См.: Richelet C.P. Dictionnaire des rimes dans un nouvel ordre où se trouvent: I
Les Mots et le Genre des Noms. II Un Abrégé de la Versification. III Des Remarques sur le nombre des Sillabes de
quelques mots difficiles. Paris, 1692. – Прим. ред.}, ни у Ресто, версификация которого (Restaut. Principes
généraux et raisonnés de la grammaire Française MDCCXXXII {Ресто “Общие принципы и основания
французской грамматики” (1732) (см.: Restaut P. Principes généraux et raisonnés de la grammaire Françoise
avec des observations sur l’orthographe, les accents, la ponctuation et un abrégé des règles de la versification
Françoise. Paris, 1732; 1-е изд. — Paris, 1730). – Прим. ред.}) оказала несомненное влияние на
Тредиаковского (в вопросе о цезуре). Однако употребление этого термина доказывается, напр.,
следующими словами из книги V.Malherbe. La Langue Française MDCCXXV: “On trouve cependent dans
quelques Poёtes des vers d’onze syllabes, que l’on nomme Saphiquesc, du nom de Sapho, à qui l’on attribue
l’invention des vers de cinq pieds et demi, mais leur usage est très borné” (p. 289) {Малерб В. “Французский
язык” (1725): “...мы находим у некоторых поэтов также и стихи из одиннадцати слогов, называемые
сапфическими, по имени Сапфо, которой приписывается изобретение стиха из пяти с половиной стоп, но
их использование ограничено” (Malherbe V. La langue Françoise, expliqueé dans un ordre nouveau, ou l’on
trouve des certains principes sur toutes les Parties du Discours. Plusieurs Lettres choisies, tirées des meilleurs
Auteurs, avec des Remarques Critiques & un Abregé de la Versification. Paris, 1725, p. 289). – Прим. ред.}.
Возможно, что Тредиаковский вынес свое определение стопы из лекций, слышанных им в Сорбонне. (Ср.
предисловие к “Блудному Сыну” Вольтера 1738 г., где декасиллаб называется “vers de cinq pieds” {“стих из
пяти стоп” (фр.). – Прим. ред.}.) – Прим. Б.Томашевского]. Замечая, что эти “стопы” могут быть хореями,
ямбами и пиррихиями, Тредиаковский высказался в пользу каданса, построенного на хореях.
Искусственность членения стиха на стопы, чисто служебную функцию этого членения стиха,
Тредиаковский отлично сознавал, что и высказал в своих возражениях Ломоносову и Сумарокову по
поводу сравнительного эмоционального значения ямба и хорея, отметив, что ни ямбическое, ни
хореическое стихотворение не представляют собой ряд отдельных стоп с однообразным “восхождением”
или “нисхождением”. Границ стоп не существовало для Тредиаковского, и он видел одинаково в ямбе и
хорее как переходы от ударных слогов к неударным (нисхождение), так и обратно, переходы от неударных
к ударным (восхождение).
Основная мысль Тредиаковского в том, что наряду с метром — канонизированной системой звуковых
элементов стиха — существует ритм — каданс, т.е. стремление к организации иных, не канонизованных
форм звучания (для силлабического стихосложения — системы ударений в стихе) [Отмечу, что в понятие
“каданса” Тредиаковский вводил также и элементы эвфонии, а именно избегал повторения одного и того
же звука. – Прим. Б.Томашевского]. Заимствуя свою терминологию из Франции, Тредиаковский придал
этому термину — каданс — расширительное толкование очевидно потому, что вопрос о роли ударения в
русском стихосложении уже назрел к тому времени, и система ударений естественно выдвигалась как
некая новая художественная форманта, восполнившая канонический принцип силлабического стиха —
отсчет слогов.
То, что изыскание каданса в тринадцатисложном стихе было именно попыткой найти такую форманту,
восполнявшую неудовлетворительные для взыскательного слуха его современников указания
канонической метрики, доказывается и тем, что для коротких, песенных размеров необходимость
различения “стоп”, т.е. регламентации каданса, Тредиаковским решительно отрицалась. Эти стихи
казались ему достаточно кадансированными, достаточно певучими и в той форме, в которой они
существовали.
Взгляды Тредиаковского быстро претерпели сильные изменения в связи с эволюцией стихотворной
практики. То, что он выдвигал в качестве корректива к канонизированному метру, само стало метром.
Система распределения ударений в стихе была канонизирована и вскоре явилась содержанием школьной
метрики. Ямбы и хореи перестали быть признаком лучшей или худшей эстетической вариации, — они
стали законом. Тредиаковский принял совершившееся изменение и во втором своем трактате решительно
изменил построение метрической системы.
Итак, на примере Тредиаковского мы видим, как на известной стадии развития русского стиха, наряду с
первичными, регламентированными признаками стиха были выдвинуты другие элементы звучания
(ударения), которые не были регламентированы метрикой, но которые попали в поле зрения поэтов,
участвовавших в создании художественного осознания стиха и проявивших тенденцию к новому
эстетическому оформлению его. Эти вторичные элементы звучания вскоре выплыли на поверхность, были
канонизированы и, перестав быть элементами “каданса” — ритма, стали элементами метра. Так из
разложившегося силлабического стиха родился тонический стих. И в момент кризиса силлабического
стиха в современной поэтике родилась проблема “каданса”, т.е. ритма. Процесс разложения старого стиха
был очень скоро закончен, и поэтому и самая проблема ритма снята с очереди.
II
Возродилась она в эпоху русского символизма, в эпоху разложения русского классического стиха. Но
если до Тредиаковского русская поэзия дала мало эстетически ценных образцов, если сила традиции была
незначительна, инерция канонов легко была сокрушена молодой школой Ломоносова и Сумарокова, то
кризис классического стиха в XX веке оказался затяжным. Классическая поэзия выдвигала имена Пушкина
и Лермонтова, которым символисты могли противопоставить лишь Белого, а футуристы — Маяковского.
Да и сам Белый и тот же Маяковский были в значительной мере отравлены классической традицией, и
сами выросли на пушкинском стихе. Кризис затянулся, классический стих не сдавал своих позиций, и
проблема ритма не снята с очереди по сегодня.
За эти годы к ней привыкли; из манифестов символистов она перешла в научные круги и стала научной
проблемой.
Что же такое ритм?
“Ритм — отступление от метра”, — так формулировал проблему в свое время Андрей Белый, или
верней — именно эта формулировка из всех, данных А.Белым [Имеется в виду определение, данное
А.Белым в статье “Опыт характеристики русского четырехстопного ямба”: “Под ритмом стихотворения
мы разумеем симметрию отступлений от метра, т.е. некоторое сложное единообразие отступлений” (Белый
А. Символизм, c. 396). В статьях “Лирика и эксперимент” и “Сравнительная морфология...” Белый
предлагает иные определения ритма: “Ритм является выражением естественной напевности души поэта”
(Там же, c. 244); “...ритм есть отношение правильного чередования ускорений и замедлений к
неправильному, т.е. ритм есть норма свободы в пределах версификации” (Там же, c. 394). О
двусмысленности слова “ритм” в работах Белого и уточнение его определения см.: Жирмунский В.М.
Теория стиха. Л.: Сов. писатель, 1975, с. 29-40. – Прим. ред.], наиболее привлекла к себе внимание.
Формулировка эта обнажает лишь генезис проблемы, генезис, определяемый разложением
классического стиха, поэтическим направлением, которое искало художественного эффекта в уклонениях
от классических норм, искало “форманты” вне этих норм.
Но для научной постановки вопроса формулировка эта не годится.
В чем же существо проблемы ритма?
Всякая звукоречь есть связанная и сложная система звучаний. Число слогов, ударения и т.д. не
исчерпывают всего богатства звучаний человеческой речи.
Стихотворная речь — есть речь организованная в своем звучании. Но поскольку звучание есть явление
сложное, канонизации подвергается лишь один какой-нибудь элемент звучания. Так, в классической
метрике канонизованным элементом звучания являются ударения, которые классическая метрика и
подвергает нормируемому ее правилами упорядочению. Но в силу связности между собой различных
элементов звучания, в силу естественного тяготения речи к соблюдению равновесия между всеми
элементами звучания, — и другие “ряды” звучания в стихотворной речи приобретают тенденцию к
упорядочению. Эта смутная, несознаваемая привычка к упорядочению вторичных, не канонизованных
рядов звучания накладывает свой отпечаток на реальный стихотворный материал, создаваемый поэтами.
Всегда замечалось, что для того чтобы стихи были хороши, “благозвучны”, “гармоничны”, не достаточно,
чтобы в них словесные ударения были расположены по определенной, фиксированной метрикой системе.
Не только первичный признак, ряд канонизированный, должен быть организован. Организации — но
смутной, бессознательной, инстинктивной — подвергались и другие ряды звучания; и формы, в которые
они облекались, доходили до восприятия в виде неясного признака “гармоничности” или “ритмичности”.
Наряду с первичным признаком стиха создавались его вторичные признаки, которые в своей совокупности
и составляют ритм.
Но пока традиционные формы стиха не дискредитированы в сознании поэтов и их аудитории, пока
первичные признаки стиха, регламентированные метрикой, еще удовлетворяют эстетическому требованию
времени, — внимание сосредоточено преимущественно на подлежащем организации звуковом ряде, на
метре, и ритм отдается всецело компетенции подсознательного творческого напряжения поэтов; он
окружается “тайной творчества”. Но стоит лишь немного поколебаться авторитету традиционных форм,
как настойчиво появляется мысль, что природа стиха не исчерпывается этими первичными признаками,
что живет стих также и вторичными признаками звучания, что наряду с метром есть ритм, который можно
познать, что можно писать стихи, соблюдая только эти вторичные его признаки, что речь может звучать
как стихотворная и без соблюдения метра. На практике это ведет к канонизации вторичных признаков
стиха, в теории — к острой постановке проблемы ритма.
Науку, конечно, не интересуют дидактические цели, подобные тем, какие задавал себе Тредиаковский.
Пусть сами поэты ищут новых путей в стихосложении. Задачи современной науки далеки от
практического менторства, от руководительства поэтическим движением. Задачи ее более скромные —
познание явлений.
В науке о русском стихосложении еще не пройден первый шаг к познанию, заключающийся в
регистрации и описании подлежащего изучению материала. Приступая к регистрации и описанию, мы
должны твердо установить, что именно мы будем регистрировать и как описывать; необходимо решить
вопрос о материале и методе описания.
Настоящий очерк и имеет целью поставить конкретно эти вопросы — о материале и методе — по
отношению к проблеме ритма в русских стихах.
III
Вопрос о материале в поэтике стоит двояко. С одной стороны, его понимают, как вопрос об объеме
материала, подлежащего изучению, о выборе художественных памятников, на которых производится
исследование. Эта сторона вопроса не интересует нас сейчас.
Другая сторона вопроса — это учет явлений, подлежащих изучению.
Если разуметь под словом ритм всякую специфически-стихотворную организованную систему
звучания, доступную восприятию поэтической аудитории, то ясно, что материалом ритмики должно
служить всякое звучание человеческой речи, поскольку оно участвует в художественном эффекте и
поскольку оно специфически организуется в стихах. Чтобы несколько уточнить эти признаки, остановимся
на двух терминах — “стих” и “метр”.
В историко-литературном плане понятия “стих” и “метр” тесно между собой связаны. Если возьмем
определенную поэтическую школу, то в пределах ее метром является норма, которой подчинена
стихотворная речь. Метр и является специфическим отличием стиха от прозы.
Но метрические меры текучи — от Мелетия Смотрицкого до Тредиаковского, от Ломоносова до
Андрея Белого, от Блока до Маяковского мы замечаем сдвиги метрических норм. Одни метры рушатся,
канонизируются другие. И однако поэзия преемственна, однако литературные традиции спаивают
известный род поэзии в одно представление — “стихотворной речи”. Стихи малайцев и античных греков,
стихи японцев и романских народов строятся на различных метрических основах. И однако их объединяет
представление о стихе, и переводчики художественной литературы, заменяя метрическую норму
переводимого метрической нормой, господствующей в языке, на который переводят, все же стремятся
стих передать стихом. Следовательно, кроме конкретного, преходящего исторического вопроса о стихе,
свойственном данному языку и данной эпохе, существует более общий вопрос о стихотворной форме.
В современной европейской практике утвердился обычай писать стихи равномерными строчками,
выделяя их даже заглавными буквами, прозу же печатать сплошными строчками, без разрывов. При всей
разобщенности графики и живой речи, факт этот показателен, так как с письменностью связаны
определенные речевые ассоциации. Это дробление стихотворной речи на “стихи”, на периоды, звуковая
потенция которых сравнима между собой, а в простейшем случае и просто равна между собой, и является,
очевидно, специфической особенностью стихотворной речи. Эти стихи, эти — назовем их так —
эквипотенциальные речевые периоды, своею сменою и создают в нашем восприятии впечатление
организованного повтора подобозвучащих рядов, впечатление “ритмичности” или “стиховности” речи.
Сущность “ритмичности” — в сравнении обособляемых рядов, “стихов”, осуществляемом в восприятии их
смены.
Задачи метрических норм — облегчить сравнение, выяснить признаки, учет которых дает материал для
оценки эквипотенциальности речевых периодов, цель этих норм дать ту условную систему организации
системы звучаний, ту неизбежную конвенциональность, которая является связью между поэтом и его
аудиторией и которая помогает воспринимать вложенный в стихотворение ритмический замысел поэта.
Эта метрическая норма может отличаться большей или меньшей четкостью, т.е. в большей или
меньшей степени облегчать узнание “стиховности”. С другой стороны, она в большей или меньшей
степени может соответствовать естественным возможностям языка, в большей или меньшей степени
сковывать выразительность речи или способствовать ей. Законы художественного равновесия, сила
традиции и поэтического воспитания литературной аудитории определяют господство в данный момент
той или иной метрический системы. Указанные факторы отчасти поддерживают друг друга, отчасти
противодействуют друг другу, и развитие метрической системы направляется по их равнодействующей.
Конкретная метрическая система, регулирующая композицию русского классического стиха, сводится
к учету ожидаемых канонизованных (метрических) ударений. Как всякий метод учета, она с ясностью
обнаруживается не в нормальном чтении стихов, не в декламации, а в особом чтении, проясняющем закон
распределения ударений, в скандовке. Это “прояснение” метра, скандовка, вызывается самими функциями
метра — канонизированной системой учета звуковой “емкости” стиховых единиц. Однако эта
искусственная скандовка не есть акт произвола, ибо она лишь обнаруживает вложенный в стихи закон их
построения. Скандовка общеобязательна. Эта скандовка вслух необходима лишь в первой стадии
поэтического воспитания. Для читателя с развитым “стихотворным слухом” она становится
автоматическим актом, подсознательным и непроизвольным, подобно тому, как автоматична и
непроизвольна привычка грамотного человека к орфографическому письму. Эта скандовка — внутренняя
и немая — вырабатывается в привычку, которой мы не замечаем в силу ее привычности. И однако она
неизбежно сопутствует нашему восприятию стихов, она одна помогает узнанию стиха, она окрашивает
восприятие стихотворной речи и определяет собою характер произнесения стихов, столь отличный от
произнесения прозы и именуемый декламацией.
В виде ли немой скандовки, в виде ли моторных представлений, метр сопровождает чтение и
восприятие стихов. Облечение метра в реальное звучание, произнесение метра требует громкой скандовки,
форсированного изохронизма в произнесении слогов и периодической расстановки ударений в пределах
метрической единицы — стиха, требует глубокого голосового расчленения звукоречи на эти единицы,
эквипотенциальные периоды звучания.
Область ритма не есть область учета. Она связана не с искусственной скандовкой, а с реальным
звучанием. Ритм не может быть прояснен, так как он, в противоположность метру, не активен, а пассивен,
он не вызывает стиха, а вызывается им. В то время как мыслим отвлеченный метр, ибо он целиком
присутствует в нашем сознании и только из нашего сознания заимствует общеобязательность своих
конвенциональных норм, благодаря которым связывает поэта с воспринимающим слушателем или
читателем, — ритм может быть только конкретным, может основываться только на элементах звучания,
слышимых или практически учитываемых нами как в ритмической, так и в неритмической речи. Метр
можно только узнать и воспроизвести, ритм можно услышать даже в том случае, если слушателю
неизвестны вложенные в стихи нормы, если он не воспринимает его метра. Вот почему так часто
встречаются люди, чуткие к ритму и “музыке” стиха и беспомощные в области метра, не отличающие ямба
от хорея и безнадежно искажающие метрическую природу стиха в своем чтении.
Но если ритм слагается из явлений реально слышимых, то очевидно классификация явлений ритма
должна исходить из фонетического анализа речи. Все элементы звучания могут быть факторами ритма.
Единственно необходимо только, чтобы эти элементы звучания под влиянием стихотворного оформления
речи сами строились в правильные ряды, так или иначе повторяющие движение речи, расчлененной на
стихи, или иначе поддерживающие впечатление этого членения.
IV
В ритме стиха приходится учитывать три количественных отношения звучания: энергию звучания,
высоту основного тона и длительность. Остановимся на ритмическом значении каждого явления.
До сих пор в анализе ритма почти исключительное внимание уделялось ударению. Этюды А.Белого
[См. примеч. 1 к наст. ст. Невнимание в работах Белого к другим ритмообразующим факторам стиха
(словоразделам, сверхсхемным ударениям, строфическому членению текста) отмечали также В.Брюсов,
В.Чудовский, В.М.Жирмунский, Р.О.Якобсон. – Прим. ред.], “Распевочное единство” Божидара [В
трактате “Распевочное единство всех размеров” (М.: Центрифуга, 1916) Божидар (Гордеев Б.П.) пытается
выявить общую просодическую основу классических и неклассических размеров — “единое размерочное
первоначало” (Там же, c. 15). Размер стихотворения он определяет в зависимости от преобладания стоп
того или иного вида. Эти стопы названы “размерочными частями”, определяющими размер; им
противопоставлены “распевочные части” — равносложные стопы иной структуры (так называемые
“перевертни”) и стопы иного слогового объема (“невмерни”). Упоминая в одном ряду работы Белого и
Божидара, Томашевский имеет в виду общность их методологических посылок: ритм (у Божидара он
назван “распевом”) рассматривается ими как отступление от метра, а понятия словесного и метрического
ударения отчетливо не разведены (и метр, и ритм описываются с опорой на словесное ударение). – Прим.
ред.] и некоторые другие работы посвящены исключительно учету ударений в стихах. Весь ритм сводился
к изучению акцентных конфигураций в стихе. Влиянию этого воззрения и следует приписать
просачивающееся в школьную метрику учение о “пеонах” и “пиррихиях”, которое в общем случае
является смешением двух проблем — метра и ритма.
Экспираторное ударение — энергетическое отношение звучания — не представляет собой единого,
недифференцированного явления, как это казалось первым исследователям русского ритма, которые
только и учитывали слоги ударные и неударные, подводя все ударения под одну общую категорию. Меж
тем в оценке ритма следует различать три ряда ударений, причем в пределах каждого ряда возможна
градация интенсивности этих ударений.
Наибольшее внимание привлекали словесные ударения, и именно их учитывал А.Белый в своих статьях
сборника “Символизм”. Именно к словесным ударениям применяется аксиома — каждое русское слово
имеет одно ударение, и обратный вывод — словом (фонетическим) называется комплекс слогов, из коих
один — ударный, независимо от того, изображается ли этот комплекс одной или несколькими
орфографическими единицами (словарными словами), или же составляет часть такого орфографического
слова (так комплекс трех орфографических единиц “не знаешь ли” составляет одно слово, с другой
стороны — орфографическая единица “глубокоуважаемый” представляет собой два фонетических слова).
Функция словесного ударения заключается не только в абсолютном усилении экспирации и энергии
произношения. У русского ударения есть еще организующая роль — объединения вокруг себя неударных
слогов того же слова, подчинение их себе. Слово представляет собой обособляемую группу звуков, как бы
“управляемую” ударением. Ударение разделяет слово на две части — на слоги предударные и
послеударные, которые отличаются друг от друга по характеру произношения. Русская речь не
агглютинативна, т.е. не представляет собой ряда слогов, среди которых некоторые ударны, некоторые
неударны. Слова не сливаются между собой. Границы слов мы твердо “слышим”, и представление об
ударении составляется у нас только на фоне восприятия расчлененности речи на слова. Ударение мы
находим на том слоге словесной группы, который произносится сильнее, чем прочие слоги той же группы,
на слоге, разделяющем слово на предударные и послеударные слоги.
Таким образом, понятие словесного ударения неразрывно связано с представлением о словесной
расчлененности речи.
Иначе обстоит дело с ударениями второго рода, которые можно назвать слоговыми ударениями.
Не все слоги слова неударные произносятся с одинаковой силой. Некоторые из неударных слогов
произносятся с несколько большей затратой экспираторной энергии, чем остальные. Про эти слоги
говорят, что они несут “дополнительное” или “побочное” ударение, или полуударение. Особенно
отчетливо эти полуударения слышны в длинных словах. Они почти неизменно появляются на первом
слоге слова, в котором главное ударение отстоит далее, чем на втором слоге от начала. Подобное
“побочное” ударение можно наблюсти также на последнем слоге слова дактилического или
гипердактилического окончания, особенно если слово это замыкает фразу и оканчивается на гласную.
Аналогичную роль в сложных словах играет приглушенное ударение первой части сложного слова —
“звонкобегущий”.
Роль этих слоговых усилений голоса в стихосложении затронута была в литературе Р.Якобсоном
(рецензия на “Науку о стихе” В.Брюсова во II выпуске “Известий Научного Отдела Наркомпроса”)
[Отмечая, что Брюсов в своих работах “не учитывает различия между натуральным ударением и
ударением ритмообразующим”, Якобсон указывал на различную “экспираторную силу”, с которой
произносятся безударные слоги “в зависимости от того, какие ритмические доли они осуществляют. (...)
так стих ‘Кочующие караваны’ произносится различно, в зависимости от того, находится ли он среди
стихов ямбических или амфибрахических (
)” (Якобсон Р.
Брюсовская стихология и наука о стихе // Науч. Изв. Акад. центра Наркомпросса. Сб. 2: Философия;
Литература; Искусство. М., 1922, c. 229). – Прим. ред.] и Г.Шенгели (“Трактат о русском стихе”) [В
личных беседах в “Обществе ревнителей Художественного Слова” проф. Ф.Ф.Зелинский давно настаивал
на значении этого явления в художественном эффекте стихотворного ритма. Упоминаются эти ударения с
точным анализом их положения в слове Коршем в его разборе “Окончания Русалки”. {Ф.Е.Корш отмечал,
что в стихах Пушкина положение “двояко-ударяемого” слова в строке подчинено особым
закономерностям. Так, например, поэт осторожно обходится “с чисто-ритмическим ударением, более
подразумеваемым, чем действительно произносимым, через слог от грамматического (иначе:
прозаического) ударения: в двусложных стопах (...) если оно следует за грамматическим ударением, он
допускает его лишь на конечном слоге и потому не употребляет слов, имеющих после грамматического
ударения более двух слогов. (...) От этого правила он отступает вообще только перед последним ударением
стиха, где естественное второстепенное ударение конечного слога предпоследнего слова совершенно
подавляется силою непосредственно следующего за ним сильного ударения” (Корш Ф.Е. Разбор вопроса о
подлинности окончания “Русалки” Пушкина по записи Д.П.Зуева // Изв. Отд. русск. яз. и словесности Имп.
Акад. Наук, 1898, Т. III, Кн. 3, c. 726). См. также анализ расположения второстепенных ударений (Там же,
с. 726-729). – Прим. ред.} – Прим. Б.Томашевского]. Последний присвоил им наименование “интенз”
[Интензы (интенсы) — реальные словесные ударения и полуударения (дополнительные ударения в
двусоставных и многосложных словах), произносимые с повышенным напряжением. Г.А.Шенгели
противопоставляет их неударяемым слогам, произносимым с минимальным напряжением
артикуляционного аппарата (см.: Шенгели Г. Трактат о русском стихе. Ч. I: Органическая метрика. Одесса:
Всеукраинское гос. изд., 1921, с. 15-16). Рецензию Томашевского на 1-е изд. книги Г.Шенгели см. в наст,
издании. – Прим. ред.]. Эти слоговые ударения не служат для членения речи на слоговые группы, а лишь
оформляют произношение слова многосложного, являясь побочными вспомогательными средствами
произношения.
Распределение слоговых ударений в стихе дает специфический, затушеванный ритмический рисунок,
ритмическую канву, на которой распределяются словесные ударения.
Как указал Р.Якобсон, эти полуударения свободны, т.е. могут менять свое положение в слове в
зависимости от ритма речи. Слово “неумолимый” можно произнести двояко — “нéумолимый” и
“неỳмолимый”. Тем не менее существуют пределы этой свободы и usus’ы практической речи, делающие то
или иное положение их более естественным. Так, в стихе
Полусмешных, полупечальных
мы ставим ударения на слоге “лу”, в стихе же
Для полугородских полей
на слоге “по”.
Г.Шенгели показал, что полуударение стремится совместиться с метрическим ударением.
На различии положения полуударения в словах “И демоны глухонемые” основана разница между
ямбической и амфибрахической формой этого словосочетания:
И демоны глỳхонемые (амфибрахий)
И демоны глухòнемые (ямб)
Приблизительно в таком же отношении, в каком словесное ударение находится к слоговому, к первому
из них стоит фразовое (или логическое) ударение.
Фразовое ударение, т.е. ударение на слове, наиболее значащем из группы слов, привлекалось к
изучению ритма русского стиха Востоковым, который посвятил анализу его несколько любопытных
замечаний, по сию пору не устаревших, и пытался построить на нем теорию русского народного стиха
[Востоков рассматривал фразовое ударение, т.е. главное ударение “прозодического периода”, как
выполняющее метрообразующую функцию в стихе. По Востокову, “простой” “прозодический период”
имеет одно общее метрически значимое ударение; “сложный” — одно главное и второстепенные, которые
отчетливо проявляются в том случае, если между главными ударениями много безударных слогов. Стих,
таким образом, меряется не стопами или слогами, а прозодическими периодами, т.е. главными ударениями
(см.: Востоков А. Опыт о русском стихосложении. 2-е изд., значит, пополн. и испр. СПб., 1817, c. 98-106).
– Прим. ред.], теорию, в упрощенной, вульгаризованной форме находящую и поныне место в руководствах
по метрике.
Подобно тому как словесное ударение, объединяя вокруг себя слоги слова, рождается на основе
членения речи на слова, точно так же и фразовое ударение, объединяя вокруг себя группу сближаемых и
обособляемых слов, рождается при членении речи на фразовые единицы [Надо лишь отметить, что роль
фразового ударения в классическом русском стихе минимальна. Стих XIX в. можно назвать речью без
логических ударений. – Прим. Б.Томашевского].
Итак, рассмотрев три рода ударений, мы видим ясно, что вопрос о закономерном распределении
ударений сопровождается вопросом о членении речи на слова и фразовые единицы.
Поэтому совершенно естественно, что вслед за Андреем Белым, который изучал ритм исключительно
как закономерность в распределении лексических ударений, другие теоретики стиха в лице В.Брюсова [На
ритмообразующую функцию словесного членения стиха Брюсов впервые указал в рецензии на
“Символизм” А.Белого (см.: Брюсов В. Об одном вопросе ритма (По поводу книги А.Белого) // Аполлон,
1910, № 11, c. 52-60). В своих учебниках “Краткий курс науки о стихе. Ч. I. Частная метрика и ритмика
русского языка” (М.: Альциона, 1919) и “Основы стиховедения: Ч. 1 и 2. Общее введение. Метрика и
ритмика” (М.: Гос. изд., 1924) отдельные главы Брюсов специально посвятил словоразделам, которые он
именует “цесурами”, различая постоянные “перерывы” в середине стиха (так называемые “большие
цесуры”) и “перерывы” после каждого слова или группы слов, произносимых с одним ударением (“малые
цесуры”). – Прим. ред.], О.Брика (которому принадлежит термин “словораздел”) [В статье “Ритм и
синтаксис” О.М.Брик, отмечая, что “пресечение” является “одним из основных признаков ритмического
построения”, выделяет “строфные”, “строчные”, “цезурные” и “словесные разделы” (см.: Брик О.М. Ритм и
синтаксис (Материалы к изучению стихотворной речи) // Новый ЛЕФ, 1927, № 6, c. 33). – Прим. ред.] и
особенно В.Чудовского [Имеется в виду статья В.Чудовского “Несколько мыслей к возможному учению о
стихе (с примерным разбором стихосложения в I главе ‘Евгения Онегина’)” (Аполлон, 1915, № 8/9, c.
55-95), в которой предложена классификация ритмических форм с учетом двух факторов: словоразделов и
ударений. – Прим. ред.] обратили внимание на словесное членение стиха. Наряду с учением о
распределении ударений в русской ритмике появилось учение о словоразделах [В конце 1910-х и в 1920-е
гг. большинство учебников и трудов по теории стиха включают главы, посвященные словоразделу в стихе
(см., например: Брюсов В. Краткий курс науки о стихе; Основы стиховедения; Шенгели Г. Трактат о
русском стихе (2-е изд. — М.; Пг.: Гос. изд., 1923); Жирмунский В.М. Введение в метрику. Теория стиха.
Л.: Academia, 1925 и др. труды). Между тем А.Белый в четырех статьях о четырехстопном ямбе все же
отмечал разное звучание одинаковых ритмических форм, обусловленное различным расположением
словоразделов, и указывал на важную роль “паузных” (словораздельных) форм в ритмической структуре
стиха (см.: Белый А. Символизм, c. 589-590, 631 и др.). См. также примеч. 29 к наст. ст. – Прим. ред.].
Понятие словораздела и раньше иногда вводилось в круг сведений о стихе. Так, представление о
цезуре, о конце стиха неразрывно было связано с представлением о словоразделах. Попытки сочинять
стихи с переломом слов относятся к лабораторным опытам.
Понятие о словесной единице в одном случае было введено еще В.Тредиаковским. А именно, он учил,
что все односложные слова являются “общими”, т.е. могут находиться в стихе как на месте, метрически
ударяемом, так и на месте, метрически неударяемом [Речь идет о втором издании “Способа” (1752), где
Тредиаковский, в частности, отмечает: “...все односложные слова по естеству своему суть долгие. Однако,
хотя сие есть и бесспорно, только употребление наших Стихотворцев почитает их все в составлении стопы
общими, т. е. и долгими и короткими, смотря по потребности: сия невольность толь есть нужная, что без
нее едва ль бы можно было составить один токмо стих без превеликия трудности” (Тредиаковский В.К.
Соч.: В 3 т. Т. 1. СПб.: Изд. А. Смирдина, 1849, c. 128). В несколько иных формулировках это положение
входит в предисловия к “Тилемахиде” и “Аргениде”. В отличие от Ломоносова и Сумарокова, “общими”
Тредиаковский считал все односложные слова, включая местоимения, предлоги и союзы. – Прим. ред.].
Так он формулировал тот закон, что в двусложных размерах — ямбе и хорее — неметрическое ударение
может падать только на односложные слова. Иначе говоря, неметрическое ударение должно быть
выделяемо словоразделами. Этот закон был в наши дни вновь формулирован В.Чудовским.
V
Однако учение о ритме как о системе распределения словесных ударений и словоразделов не
исчерпывает всего содержания ритма. Как ударения, так и словоразделы обладают различным весом,
различной действенностью на слушателей, в зависимости от того, совпадают ли они с фразовыми
ударениями и фразовыми членениями.
Поэтому следующий вопрос, возникающий при анализе и описании ритма, — это вопрос о фразовом
членении стиха.
Вопрос о фразе, ее организации и средствах членения, покрывается представлением об интонации.
Поэтому соответствующий отдел ритмики следовало бы наименовать учением о стихотворной интонации.
Стих любого поэта, независимо от его стиля, обладает своеобразным интонационным распевом,
приводимым тем или иным путем в соответствие с метрическими рядами. Вопрос о положении фразового
ударения в стихе, о совпадении границ фразовых членений с границами стиха и о ритмической роли
каденций, вопрос о темпе речи, поскольку он связан со стиховым ее движением, и представляет собой
главное содержание этого отдела ритмики.
Вопрос о фразовой структуре стиха контрабандным способом выдвигался и в старой литературе, в
догматической метрике. Формулировался он в понятии enjambement. Запрет enjambernent — “переноса
разума” в терминологии Тредиаковского — определенно выражал требование совпадения фразовых
единиц с метрическими. Спор о цезуре, обострившийся в эпоху борьбы классиков с романтиками, говорил
о том же явлении.
С другой стороны, театральная практика, которой эмпирически приходилось разрешать аналогичные
вопросы, в эпоху классической трагедии создала особый декламационный стиль, подчинявший фразовую
интонацию метрическому течению стиха, канонизировавший определенные формы стихового распева.
При таких условиях, конечно, поэт должен был заботиться об определенной структуре фразового строения
стиха, в соответствии с его метрическим строем. Специфическое разрешение этой задачи каждым поэтом и
придавало его произведениям индивидуальный ритм.
При анализе интонационного строя не следует упускать из виду одну его сторону, которую можно
назвать “иерархией” интонации. Подобно тому как метрические единицы имеют свою иерархию — из стоп
или ударных периодов слагаются полустишия, из них стихи, из стихов строфические единицы, которые в
свою очередь, сочетаясь между собой, могут давать сложную строфу, так и в живом звучании слова от
слога мы восходим к слову, а от слова к различным степеням фразового членения, к речевым тактам,
фразам, предложениям, периодам — какова бы ни была принятая терминология. Фразовое членение
производится иерархически, с подчинением менее крупных единиц более крупным. Поэтому вопрос об
интонационном строе может принимать различные формы, в зависимости от того, поднимаемся ли мы или
опускаемся по иерархической лестнице фразовых членений [“Мелодика стиха” Б.М.Эйхенбаума
представляет собой оригинальную попытку анализа интонационно-иерархических отношений стиха {В
своей работе Эйхенбаум изучал мелодическое строение синтаксиса в связи с фактами ритмического
членения стиха: отношение фразы и полустишия, строки или строфы. На примере анализа напевной
лирики Жуковского и Фета исследователь показал, как одна мелодическая тема, не прерываясь вместе с
окончанием строки или строфы, разрастается в стихотворении в целую систему интонирования: разного
вида enjambements (цезурные, стиховые, строфные) позволяют создавать сложные мелодические периоды,
при которых одна синтаксическая фигура, развиваясь и варьируясь, объемлет ряд стихов или строф (см.:
Эйхенбаум Б.М. Мелодика русского лирического стиха. Пг.: Опояз, 1922). – Прим. ред.}. – Прим.
Б.Томашевского].
Так, расхождение в анализе простого словесного ритма, замечаемое в произведениях современных
исследователей, часто объясняется тем, что некоторые учитывают каждое словесное ударение, другие же,
несколько подымаясь по этой лестнице, проявляют тенденцию учитывать только фразовые ударения,
приравнивая слова, не несущие фразового ударения, проклитикам и энклитикам. Этот иерархизм членений
следует твердо учитывать при ритмическом анализе.
VI
Таковы основные моменты количественных отношений звучания, учитывать которые необходимо при
описании ритмической структуры изучаемого материала.
Однако ими не исчерпывается весь круг звуковых явлений, подвергаемых систематической
организации в стихотворной речи. Кроме количества звучания, надо учитывать еще и качество звучания,
эвфоническую структуру стиха.
Вопрос о качестве звуков стихотворной речи, зародившийся, под влиянием изучения латинских поэтов,
еще во второй половине XVIII века [О “подражательной гармонии” писал еще Мерзляков {Способность
поэзии влиять на воображение и чувства Мерзляков связывал с особым “течением стиха”, согласующегося
с чувствами, которые поэт намеревался передать, прибегая для этого к “живописи для слуха”, т.е. эвфонии
и эвритмии. Звуковую организацию стиха Мерзляков называет “подражательной гармонией”: “Легкое,
живое, плавное или прыгающее, торжественное или тяжелое и медленное течение стиха, всегда
соответственное порывам или движениям чувствований, составляет очаровательную живопись Поэзии для
слуха и самое надежнейшее средство к воспламенению нашего воображения и нашего соучастия. Таково
действие подражательной гармонии стиха, состоящей в искусственном соединении звуков слов,
последовании и расположении оборотов и предложений речи, всегда сообразных с содержанием”
(Мерзляков А.Ф. Краткое начертание теории изящной словесности. М., 1822, c. 80-81). – Прим. ред.}. –
Прим. Б.Томашевского] и отразившийся в практике поэтов в такой, например, обнаженной форме, как
опыты липограмматических стихов, приобрел особенную остроту в наше время, когда ни одна работа,
посвященная какому бы то ни было поэту, не обходится без оценки — часто безалаберной — его
“инструментовки”, “гармонии”, “звуковой инерции” и т.п. Может быть, прямолинейное выдвигание этой
проблемы грешит преувеличением значительности этого вопроса. Но самый факт этого обостренного
внимания в среде, близкой к современным поэтам, несомненно свидетельствует о реальном существовании
этого вопроса в поэтическом сознании.
Но до сих пор мы не имеем сколько-нибудь цельной классификации эвфонических явлений
стихотворной речи. Внимание исследователей направлялось главным образом на качество звуков,
участвующих в создании явлений эвфонии, а не на их стиховую функцию.
Поэтому более или менее дифференцировалось представление об эвфоническом вокализме, как о
чем-то отличном от эвфонического консонантизма [См., например, статью С.Боброва “Согласные в
стихах” (Бобров С. Записки стихотворца. М.: Мусагет, 1916, c. 83-92), с подробным анализом
консонантной организации стихотворного текста по модели, предложенной А.Белым (см.: Белый А.
Символизм, c. 411-417). Ср.: мнение Р.Якобсона о том, что в русском стихе значимы только повторы
согласных (Якобсон Р. Новейшая русская поэзия: Набросок первый. Прага: Политика, 1921), и
Ю.Тынянова, отмечавшего, что это явление находится “в связи с тем, что в “повторах” выдвигается
артикуляционный момент; акустическая природа гласных в общем богаче акустической природы
согласных, и только артикуляционная характеристика согласных в общем богаче таковой же у гласных”
(Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка. Л.: Academia, 1924, с. 132). – Прим. ред.]. С другой стороны
— менее отчетливо — дифференцируется представление о выразительных задачах эвфонии. Концентрируя
внимание на явлениях звуковой аналогии — на повторениях подобозвучащих групп, — обращают
внимание, вызывается ли подобное повторение задачами звукоподражания или иных ассоциативных
звуковых связей [Современное учение об “эвфонии” стиха можно назвать аморфным, поскольку
учитывается только качество звука, независимо от его положения в стихе. – Прим. Б.Томашевского].
При этом обращаются главным образом к анализу акустической природы звучаний, и слово
“благозвучие” понимается весьма прямолинейно. Позволю себе по этому поводу выдвинуть в качестве
гипотезы утверждение, что музыкальными качествами звуки человеческой речи обладают в одинаковой
степени. Наша оценка звучаний, как благозвучных или неблагозвучных, производится не с точки зрения
акустических, а с точки зрения артикуляционных сторон произношения. Наше восприятие сопровождается
внутренней речью, и образы, вызываемые им, в значительной степени облекаются в артикуляционные
представления. Речь благозвучная — легко произносимая, а не легко слышимая, речь неблагозвучная —
речь, вызывающая представление о неудобном, затрудненном укладе органов речи. С этой точки зрения не
может быть “международной” эвфонии, ибо артикуляции могут быть разным образом привычны людям
разных языков.
Поэтическое голосоведение сводится к организации в систему артикуляционных моментов
произношения. Будет ли это элементарное затруднение произношения или, наоборот, облегчение его,
будет ли это задержание артикуляций на однообразно повторяющемся укладе, — то, что можно назвать
эвфонической монотонней, — будет ли это смена одних артикуляций другими — выравнивание
артикуляций в закономерные ряды, с той или иной расчлененностью этих рядов, во всяком случае всякая
конструкция имеет артикуляционную, а не акустическую природу. Акустические закономерности
являются непроизвольным следствием артикуляционных, поскольку переход от открытых звуков к
закрытым, от задних к передним сопровождается закономерным изменением резонатора, более или менее
правильным чередованием гармонических (обертонов), окрашивающих акустику речи. Но сейчас для нас
важен другой вопрос — о стихотворных функциях голосоведения, независимо от типа наблюдаемой
системы закономерно объединенных в качественном отношении звуков.
Канонизированной — метрической — формой голосоведения является рифма. Теперь можно признать
общим мнением положение, что рифма — не эвфоническое “украшение” стиха, а метрически
организующий фактор. Рифма не только создает впечатление аналогии звуков, входящих в ее состав, но
членит речь на стиховые ряды, ею замыкаемые. Поскольку рифма, независимо от фонетических условий ее
осуществления, является фактором метрическим, создавая путем звуковых ассоциаций опору слуху в
восприятии метрического членения стихотворной речи, постольку и явления голосоведения во всей их
широте являются специфически стиховыми, т.е. ритмическими, поскольку они поддерживают в нас
впечатление расчлененности стиха и соответствий между его членами. Учение о ритмической функции
звуковых соответствий развито Граммоном под именем “гармонии” стиха [См.: Grammont M. Le vers
français, ses moyens d’expression, son harmonie. Paris, 1913. – Прим. ред.]. Этот термин, объединяющий в
себе понятия о закономерности (качественной) голосоведения и о ритмических соответствиях,
подчеркиваемых качественно-звуковыми соответствиями, следовало бы сохранить, хотя и есть опасность
двусмысленности в его употреблении, вследствие, с одной стороны, навязчивых аналогий с явлениями,
обозначаемыми этим термином в музыке, и неизбежно вытекающим отсюда метафорическим его
употреблением, — с другой стороны, вследствие того, что термин этот уже применяется спорадически для
обозначения иных явлений (так иногда гармония противопоставляется инструментовке, причем ею
обозначают вокализм, а инструментовкой — консонантизм). В русской литературе вопрос о гармонии
отчасти затронут в работе Брика (“звуковые повторы”) [Под звуковым повтором в стихе Брик понимал
повторение некоторой группы согласных в той же или измененной последовательности. Свою
классификацию звуковых повторов исследователь строил на принципе расстановки созвучных слов и
подробно рассматривал тот случай, когда расстановка определяется внешней формой стиха,
расположением созвучных слов в начале или конце строки. Разные типы такого “формального сочетания”
(“кольцо”, “стык”, “скреп”, “концовка”), по мнению Брика, являются важным фактором ритмического
членения стихотворной речи (см.: Брик О.М. Звуковые повторы (Анализ звуковой структуры стиха) //
Сборники по теории поэтического языка. Вып. 2. Пг., 1917, с. 24-62; То же: 1) Поэтика. Пг., 1919, с. 58-98;
2) Michigan Slavic Materials. Ann Arbor, 1964, N 5. С послесловием Р.Якобсона). – Прим. ред.].
Задачи гармонии двоякие: во-первых, расчленить речь на ритмические периоды — задачи
диссимиляции, и, во-вторых, создать впечатление аналогии между намечаемыми таким образом
членениями — задачи ассимиляции.
Соответственно этому голосоведение должно строиться по системе повторяющегося, но замкнутого
закона чередования звуков.
Здесь может быть двоякое положение. Или в пределах каждого ритмического члена звуки сменяют друг
друга в том же порядке, как и в сопоставляемом члене, и таким образом имеется смена звуков в пределах
члена и тождество подобной смены при переходе от одного члена к другому (циклическое голосоведение),
или же в пределах каждого члена может быть выдержена монотония, но в каждом члене на своем звуке
(контрастная монотония). Приведу примеры для конкретизации этих приемов, причем оговариваюсь, что
примеры эти привлекаются исключительно как иллюстрации, и поэтому могут быть искусственными.
Если мы возьмем пушкинский романс о рыцаре [“Жил на свете рыцарь бедный...” – Прим. ред.],
написанный четырехстопным хореем, то мы a priori можем сказать, что стихи его имеют тенденцию к
распадению на два полустиха (не называю это полустишиями, так как этот термин связан с
представлением о постоянной цезуре). Вызывается это тем, что наиболее устойчивыми являются ударения
2-й и 4-й стопы, и весьма неустойчивыми — ударения 1-й и 3-й. Получается впечатление правильной
смены слабой стопы сильной, т.е. ритмический рисунок приблизительно характеризуется описательной
формулой — два третьих пеона (“Молчаливый и простой”). Естественно, что и голосоведение будет
стремиться к членению стиха на две части. И действительно — в этих стихах мы находим примеры
вокализма, построенного по системе циклического голосоведения [Привожу примеры из первоначальной
редакции “Романса”. – Прим. Б.Томашевского].
Жил на свете рыцарь бедный
ы—е
ы—е
Он имел одно виденье
о—е
о—е
И до гроба ни с одною
й—о
й—о
По равнинам Палестины
ъ—и
ъ—и
Ср. с подобным членением синтаксическую конструкцию стихов:
Lumen cœlum, sancta rosa.
[“Свет небес, святая роза” (лат.). – Прим. ред.]
Все влюбленный, все печальный.
Очевидно, голосоведение по ритмическим результатам совпадает как с закономерностью словесных
ударений, так и с тенденцией интонационного членения.
Понятно — эти явления не канонизированы, т.е. не проведены однообразно во всех стихах. Они лишь
потенциальны, они стремятся осуществиться и, осуществляясь в некоторые моменты, поддерживают
“толчками” общую инерцию ритма.
Наоборот, возьмем стихи Блока:
Ты был осыпан звездным цветом...
Когда обманет свет вечерний...
Тот же эффект расчленения на 2 полустиха здесь достигнут контрастной монотонней:
ы—ы
а —а
е—е
е —е
Понятно, эти два типа не исчерпывают всех приемов гармонии. Сочетаясь со строфическими
аналогиями, они могут разнообразиться, и дело описательной ритмики классифицировать все приемы
“гармонии”. Приведу лишь один пример, где эффект достигнут аналогиями ударных гласных четных стоп
в рифмующих нечетных стихах четверостиший:
Но бредёт за дальним полюсом
Солнце сердца моего
Льдяным скованное поясом
Безначалья моего,
Так взойди ж в морозном инее
Непомерный свет-заря!
Подними над далью синей
Жезл померкшего царя.
о—о
о—о
и—и
и—и
Здесь строфика подчеркнута контрастной монотонией гласных.
Я не буду умножать примеров, полагая, что и приведенные иллюстрируют выдвинутую мною мысль.
При такой постановке вопроса “гармония” стиха всецело включается в теорию ритма.
VII
Таким
образом,
намечаются
три
отдела
ритмики:
ритм
словесно-ударный,
ритм
интонационно-фразовый, ритм гармонический.
В направлении конкретной разработки проблем, связанных с каждым отделом ритмики, и должно
совершаться изучение и описание материала.
Однако может представиться вопрос — не является ли искусственным объединение представлений об
ударениях, интонации и эвфонии в одном понятии — ритме.
Вопрос этот устраняется основной предпосылкой, именно — обусловливающей стихотворную
сущность каждого звукового явления координацией этих звучаний. На примере гармонии было показано,
как организация качественной стороны звучания может быть подчинена общему ритмическому заданию
стихотворения, или ритмическому импульсу. Это понятие ритмического импульса, т.е. начала,
объединяющего собой звуковые приемы, является чрезвычайно важным в анализе ритма стихотворной
речи.
Обычно под ритмом разумеют конкретное звучание стиха, звучание, изменяющееся от стиха к стиху.
Но такой же конкретной формой звучания обладает всяческая речь, в том числе и не подчиненная
никакому звуковому заданию, речь специфически прозаическая, речь деловых бумаг и экономических
трактатов. И понятие ритма, конечно, не чуждо и этой речи.
Но едва мы переходим к речи стихотворной, как эти индивидуальные ритмы каждого стиха начинают
подчиняться какому-то общему закону аналогии, закону, сближающему и выравнивающему
индивидуальные ритмы. Ритмический импульс и есть специфически стихотворная форма речевого ритма.
С этой точки зрения ритмический импульс противостоит конкретным приемам звучания, ему
подчиненным или его производящим в длительном восприятии. Ритм может быть наблюден и в отдельной
строке, но только ряды стихов создают в нас впечатление общего ритмического закона, ритмического
импульса, вложенного в стихи.
Ритмический импульс, являющийся некоторым отвлечением от реального звучания, противостоит, с
другой стороны, метру, являющемуся канонизованным законом, которому подчинена лишь одна
какая-нибудь сторона звучания (напр., количество слогов или правильность распределения ударений).
Стихи одного и того же метра могут обладать различным ритмическим импульсом. Стихи Ломоносова и
Языкова подчинены разному импульсу, хотя и у того, и у другого мы найдем отдельные стихи,
аналогичные по ритму.
Итак, следует различать ритмический импульс и ритмические приемы — закон и звуковые средства
человеческой речи, осуществляющие данный закон.
И если поэт от поэта могли отличаться отношением к самому ритмическому импульсу, то еще
многоразличнее может быть отношение к ритмическим средствам и пользование этими средствами. Дело в
том, что языковые функции этих средств звучания и их воздействие на слушателя далеко не однообразны.
Если в ораторской речи, имеющей задачей убеждение, побуждение аудитории на то или иное действие,
доминируют определенным образом сгруппированные акцентные ходы, и речи военачальников и
политических деятелей характеризуются ударными клаузулами, то в речах характера торжественного, в
речах духовных проповедников, в апологетических “словах” более развита интонационная система.
Наоборот, в более интимном разговоре, окрашенном иного рода эмоциями, мы вправе предполагать в
большей степени развитую эвфоническую сторону произношения или игру на тембрах. Цели воздействия,
в широком смысле — задачи стиля, определяют, каким приемом звучания поэт будет осуществлять
ритмический импульс. Но не только стиль определяет пользование той или иной стороной звучания, но и
тип языкового мышления автора. Как тип памяти может быть зрительным, слуховым, моторным и т.д., так
и тип языкового сознания может определять различный характер отношения поэта к звуковым средствам
речи. Наконец — условия воспроизведения художественного произведения также оказывают влияние на
выбор ритмических средств. В эпоху, когда доминирует декламационный распев, отношение к
выразительным средствам было другое, нежели в эпоху, когда общепринятой являлась говорная читка
стихов. Трудно определить, который из этих факторов является первичным, какие — производными, но
нельзя отрицать самого основного положения, что ритмические приемы могут иметь различную
значительность у разных поэтов и в разных их произведениях.
Языковые функции звучания, как средство выразительности, могут делать их и самоценными. Как, с
одной стороны, возможно воспринимать “красоту” распределения в известном порядке ударений, так, с
другой стороны, доступна пониманию красота развитой интонации или эвфонического голосоведения.
Ритмические приемы могут в разной степени участвовать в создании художественно-ритмического
впечатления, в отдельных произведениях может преобладать тот или иной прием; то или иное звуковое
средство может быть доминантой. Установка на тот или иной ритмический прием определяет характер
конкретного ритма произведения, и с этой точки зрения стихи можно классифицировать на
акцентно-ритмические (напр., описание боя в “Полтаве”), стихи интонационно-мелодические (стихи
Жуковского), стихи гармонические (типичные для последних лет русского символизма). Понятно —
подобное деление всегда будет схематическим, приблизительным, грубым, так как вообще все средства
присутствуют в реальном произведении, все они подчинены общей ритмической инерции и, так сказать,
толчками поддерживают ее, доминируя над другими средствами то в том, то в другом месте произведения.
VIII
Закончу эти общие замечания о природе подлежащего изучению материала несколькими словами о
методе изучения.
Вопрос о методе распадается на три частных вопроса: о наблюдении, сводке и интерпретации
материала. Оставляя в стороне последний вопрос, ибо полностью его можно выяснить лишь в связи с
общими задачами поэтики, так как интерпретация является сведением в общую систему поэтики частных
изучений, каковым является, наряду с другими, ритмика, — остановлюсь на первых двух.
В последнее время усиленно выдвигается — впрочем, далеко не новое — утверждение, что поэтика
является лишь отраслью лингвистики, и что авторы поэтики плетутся за лингвистикой. Как бы ни
относиться к принципиальной стороне этого утверждения, отмечу, что исторически характеристика эта в
значительной степени справедлива; в частности справедлива она по отношению к ритмике. Судьба
русской — и западноевропейской — науки о стихе тесно связана с успехами языкознания. Тот же факт,
что ритмика плелась в хвосте лингвистики, объясняется непопулярностью специфических проблем
стихотворной речи в научных филологических кругах, которые не считали этих вопросов достойными
своего внимания. Наука о ритме неизбежно стала достоянием дилетантов и приобрела характерный
дилетантский оттенок. Этот оттенок стал насущно необходимым ее признаком, и даже когда лингвисты
приступили к изучению связанных с ритмикой проблем, они не избегали иногда привнесения в свои труды
того же дилетантизма. При таких условиях ритмика как наука далеко отставала от лингвистики.
Особенно это сказалось в методах наблюдения над материалом, совершавшегося при изучении
ритмики. Лишь в наши дни прекратилось “графическое” изучение ритма, в котором исследователь
довольствовался анализом “текста”, нисколько не заботясь о произносительной стороне изучаемого
произведения. Правда, изолировать себя от произносительной стороны было невозможно. Русская
орфография вообще не была достаточна для определения положения ударения в слове. Поэтому оценка
ударности слогов привносилась исследователем в изучаемый текст, но обычно без всякого исторического
анализа, который был необходим, ибо исследователи обычно обращались к произведениям старых поэтов.
Но в тех случаях, где орфография давала большие основания для анализа изучаемого явления, там авторы
целиком доверялись орфографии, не считая нужным обращаться к произносительной стороне. Так,
например, представление о слове постоянно связывалось с представлением о раздельном начертании,
вследствие чего эти орфографические “словоразделы” принимались в исключительное внимание при
анализе ритма (на них построена классификация словоразделов — “пауз” у А.Белого [В статьях “Лирика и
эксперимент”, “‘Не пой, красавица, при мне...’ А.С.Пушкина (Опыт описания)” Белый классифицировал
стихи с учетом количества и объема входящих в них слов. Так, комбинации односложных (а), двусложных
(b), трехсложных (с), четырехсложных (d) и т. д. слов образовывали ритм словоразделов (“пауз”),
например: cbbb, adc и т.п.; гармоническое начало стиха Белый связывал с симметрией расположения
подобных словораздельных форм (см.: Белый А. Символизм, с. 252-253, 276-281, 418-419). В
неопубликованном при жизни ответе на рецензию Брюсова Белый, в частности, писал: “По Брюсову я не
различаю ритмической индивидуальности нижеследующих строк:
Тиха украинская ночь.
Богат и славен Кочубей.
Для меня такое утверждение равносильно признанию Брюсова, что книги моей он не читал. (...) Первая
из строк характеризуема моим методом как “d” на третьей стопе, вторая как “b”” (Белый А. К вопросу о
ритме // Структура и семиотика художественного текста / Труды по знаковым системам. XII / Уч. зап.
Тартуск. гос. унта. Вып. 515. Тарту, 1981, с. 116-117). – Прим. ред.], классификация “составных” рифм у
В.Брюсова [Число теоретически возможных ритмических вариантов одного размера Брюсов определяет с
учетом возможных ипостас (см. примеч. 13 к статье “Стих и ритм”), расположения цесур (словоразделов),
а также каталектик. При этом простые и составные окончания, по мнению Брюсова, формируют разные
ритмы (см.: Брюсов В. Основы стиховедения, c. 47). – Прим. ред.] и т.п.). Хуже всего обстояло дело с
анализом “инструментовки”, где определенно изучались не звуки, а буквы. Здесь прием анализа
графических знаков настолько распространен, что как исключение можно найти работы, считающиеся со
звучанием. Орфографисты доходили до того, что, не замечая оттенков произношения “е” в разных
положениях, отчетливо “слышали” различие между “е” и “ђ” [Вероятно, имеется в виду предпринятый
С.М.Лукьяновым анализ стихотворения А.А.Голенищева-Кутузова “Ангел Смерти” (Журнал
Министерства народного просвещения, 1914, Февраль, c. 316-352). В рецензии Артюшкова на эту работу, в
частности, сказано: “...автору неизвестно ни существование твердости и мягкости согласных, ни
существование joтa; а Ђ для него звучит как-то иначе, чем е (э) (...) уважаемый исследователь слышит
нечто совершенно неслышимое, а лучше сказать, больше верит глазу и школьной грамматике, чем слуху”
(Артюшков А. Основы стиховедения. М.: Никитинские субботники, 1929, с. 24). – Прим. ред.].
Орфографисты имели некоторое основание к учету графических особенностей произведения, так как в
языковом сознании грамотного человека несомненно присутствуют и орфографические представления.
Кроме того, этимологическая орфография фиксирует наше морфологическое осознание слова, которое не
полностью отражается в звучании. Но в русской поэтической практике звуковая сторона всегда
преобладала над орфографической. Если в XVIII веке и предъявлялись к рифме заимствованные из
Франции требования “рифмовки для глаз”, то в традиции они почти не отразились. Орфография может
объяснить некоторые отклонения от норм, устанавливаемых на основании произносительной формы. Но
самые нормы ритма, понятно, лежат в произносительной природе явления, а не в “глазной” —
орфографической.
За последние годы глазной анализ ритма уступил место — особенно в Западной Европе — слуховому,
акустическому. Школа экспериментальной фонетики произвела целый ряд работ, применивших приемы
экспериментально-фонетического наблюдения к анализу стиха (Verrier, Landry, Scripture, R. de Souza) [См.:
Scripture E.W. Researches in experimental phonetics. The Study of Speech curves. Washington, 1906; Verrier P.
1) Essai sur les principes de la métrique anglaise. T. I—II. 1909-1910; 2) L’isochronisme dans le vers français.
Paris, 1912; Landry E. La théorie du rythme et le rythme du français déclamé. Avec une etude expérimentale de la
déclamation de plusieurs poétes et comédiens célèbres, du rythme des vers italiens, et des nuances de la durée dans
la musique. Paris, 1911; Souza R. Questions de métrique. Le rhythme poétique. Paris, 1892. – Прим. ред.]. Школа
эта заменила изучение печатного орфографического текста изучением записи звучащей речи,
фиксированной при помощи специальных аппаратов в виде кимографической “кривой”, воспроизводящей
колебания воздуха — носителя звучания. Анализ “текстов” заменился кропотливым изучением кривых,
изображавших звучание декламируемого стихотворения. Без помощи механических регистраторов
обходилась немецкая школа “слуховой филологии” Sievers’a (Saran и др.) [Школа Ohrenphilologie
(“слуховой филологии”) рассматривала стих исключительно как “звуковую форму поэтического
искусства”, уделяя особое внимание вопросам произнесения стихотворного текста. См.: Sievers Ed. 1)
Grundzüge der Phonetik. Leipzig, 1901; 2) Rhythmisch-melodische Studien. Heidelberg, 1912; Saran F. 1) Über
Hartmann von Aue // Beitr. zur Gesch. d. Deutsch. Sprache und Lit., 1898, Bd. XXIII; 2) Die Einheit des ersten
Faustmonologs // Zeitschrift für deutsche Philologie, 1898, Bd. 30; 3) Melodik und Rhythmik der “Zueignung”
Goethes. Halle, 1903; 4) Der Rhythmus des französischen Verses. Halle, 1904; 5) Deutsche Verslehre. München,
1907. — С критикой основных положений школы слуховой филологии наряду с Томашевским выступили
Р.О.Якобсон, В.М.Жирмунский, Ю.Н.Тынянов, Г.О.Винокур. – Прим. ред.], которая изучает текст на слух,
но учитывает исключительно звучащие элементы речи.
Однако, как экспериментальная фонетика, так и слуховая филология, оказав существенные услуги
лингвистике, вряд ли достаточно охватывают все явления речи, учет которых необходим в поэтике [Я
разумею здесь не столько работы названных авторов, сколько проникшие под их влиянием в обращение
общие методологические положения, определявшие направление в изучении ритма в русских кругах. –
Прим. Б.Томашевского]. Основное свойство речи — коммуникативность — не исчерпывается только
идеографической стороной речи. Коммуникативность присутствует в самом процессе речи. Речью
является то, что связывает говорящего со слушателем. Тот, кто говорит, не только произносит слова, но и
вслушивается в них. Тот, кто слушает, — не пребывает в абсолютно пассивном состоянии слушания:
воспринимается речь потому, что слушатель ею владеет, и следовательно, доходящие до его слуха звуки
являются сигналами, по которым он узнает речь, которую он сам бы мог произнести. Наиболее пассивное
слушание всегда сопровождается моментом некоторой активности — внутреннею речью. Таким образом,
факт речи нераздельно слагается как из моментов восприятия, так и из моментов производства ее. При
этом существенными признаками речи и являются только те ее стороны, которые одинаково присутствуют
как в произношении, так и в восприятии. Только эта связь — созвучие произносящего со слушателем — и
есть настоящая речь. То, что привносится говорящим, но чему не отвечает ничто в восприятии, равно как и
то, что привносится слушателем, но чего не имел в виду произноситель, являются побочными,
посторонними признаками речи. Так — в круге физических явлений индивидуальные особенности
говорящего, поскольку им ничего не соответствует в активном представлении слушателя — элементы
посторонние, и если мы их и замечаем, то как помеху, от которой стараемся избавиться. Так — если
говорящий шепелявит, заикается или обладает иными дефектами речи или дыхания, то слушатели, вообще
этими особенностями не обладающие, в своем восприятии всегда стремятся изолировать речь от этих
посторонних элементов, равно как от индивидуального тембра голоса произносящего и т.д. Поэтому,
изучая язык поэта-заики, мы, понятно, совершили бы большую ошибку, стараясь воссоздать заикание
автора и рассматривать его как неустранимый и значащий элемент его речи. Точно так же не важна
совокупность всех привходящих ассоциаций, возникающих у слушателя, поскольку она не “задана”
говорящим, равно как и совокупность мотивов, диктующих произношение, поскольку эти мотивы не
передаются слушателю. Поэтому круг явлений, исчерпывающий понятие художественной речи, с одной
стороны, не покрывается изолированным произношением или изолированным слушанием, а с другой
стороны, гораздо уже, чем совокупность всех моментов произношения или чем полная картина
субъективного восприятия. Как экспериментальная фонетика, так и слуховая филология (называю так две
школы — французского аббата Руссло [См.: Rousselot P.J. Principes de phonétique experimentale. Paris,
1897-1901; Rousselot, l’abbe et Lacotte, F. Precis de prononciation française. Paris, 1902; Rousselot, l’abbe. Les
modifications phonétiques du language étudiées dans le patois d’une famille de Cellerfrouin (Charente) // Revue
des patois Gallo-Romans, Paris, 1891, IV. – Прим. ред.] и немецкую Сиверса [См. примеч. 33 к наст, статье. –
Прим. ред.]) могут привести, в своем обнаженном применении, исследователя стихотворного ритма к
ошибкам как в одном, так и в другом направлениях. Во-первых, есть опасность все явления ритма свести к
явлениям акустическим. Ведь живая речь слагается из представлений акустическо-слуховых и
артикуляционно-моторных. Речь, рассматриваемая как голос, звучание, не есть вся речь. Правда — на этом
пути есть соблазнительная возможность трактовать стихи как музыку sui generis [“своего рода”; “особого
рода” (лат.). – Прим. ред.]. Но в музыке производитель-музыкант является профессионалом, оторванным
от аудитории. Большинство слушающих музыку не переживают моментов ее “производства”. В сфере
речевого ритма — каждый из вас владеет инструментом звучания, и здесь такая изоляция пассивного
восприятия от активного творчества невозможна.
Замечалось это и представителями экспериментальной фонетики. Так, Ландри несколько наивно
сожалел о том, что регистрирующий аппарат нельзя поместить в глотку декламатора, т.е. приходится
регистрировать только доходящие до слушателя, а не все производимые колебания воздушного тока.
С другой стороны — кривые воспроизводят все элементы звучания, как те, которые имеют значение,
так и те, которые по физическим законам неизбежно сопутствуют произношению и значения не имеют.
Вместо речи мы получаем декламационную форму, и извлекать из нее существенные моменты приходится
путем кропотливого сравнительного анализа многих декламаторов и вышелушивания из их разноголосой
декламации общих речевых моментов, что при механической записи не всегда возможно.
Поэтому-то в этой школе так остро стоит и вопрос о декламаторе: чье чтение следует изучать? И в
конце концов мы не уверены — что изучается: стихотворный ритм или декламационные приемы.
Очевидно, для исследователя важно не только услышать, но и воспроизвести речь изучаемого
воспроизведения. Только наблюдения над собственным чтением могут дать решающий результат. Правда,
для этого исследователю необходимо предварительно заняться самовоспитанием и воспринять полностью
поэтическую традицию изучаемого поэта. Но в области поэтики это вообще совершенно необходимо. Не
может изучать художественное произведение тот, кто его не понимает. В этом формула “субъективизма”
поэтики.
Обращение к декламаторам и изучение декламации вообще я считаю этапом в этом подготовительном
самовоспитании исследователя.
Кроме элементов акустико-слуховых и моторно-артикуляционных, в представлении о речи не следует
игнорировать и зрительно-письменных, поскольку произведения поэтов доходят до аудитории главным
образом в печатном виде. Но если орфографическая форма яснее всего нашему сознанию, всего “вещнее”
и конкретнее, то это еще не значит, что она сколько-нибудь значительно участвует в наших речевых
представлениях, при помощи которых происходит восприятие художественного произведения. Только
гипертрофией “объективного сознания” объясняется пуристский шум, поднимавшийся в литературных
кругах по поводу переиздания классиков по новой орфографии. На самом деле художественная речь
безболезненно отвлекается от ее письменной формы. Так, по крайней мере, обстоит дело со стихотворной
речью (иное дело в прозе, где иногда зрительная форма является эквивалентом выражения, например, в
некоторых романах шрифт, имитирующий внешность объявления или чертеж, — у По в приключениях
Гордона Пима, — или криптограмма в “Детях капитана Гранта” — и т.п. Все это приемы, особенно
распространенные в авантюрном романе, приемы “документа”).
В русской поэзии в общем случае построение речи не зависит от графической формы. Даже в
западноевропейской литературе явления этого рода близки к нулю [Так, законно усомниться в чистой
графичности “глазных” рифм у французов. Обычно “глазные” рифмы там ограничиваются совпадением
тех знаков, которые при “liaison” {букв, “связывание” — французское правило чтения, предполагающее
произнесение последнего, обычно непроизносимого в потоке речи звука слова в том случае, если
следующее слово начинается с гласного или так называемого “‘h’ немого” (фр.). – Прим. ред.}
соответствуют реальным звукам. При этом “рифмуют” и те знаки; которые, соответствуя одним и тем же
звукам, произносимым в “liaison”, изображаются различными буквами: “s” рифмуются с “z” и “х”, “d” с “t”
и т.п. Очевидно, мы имеем дело с морфологическим сознанием, доступным и неграмотному (который все
эти liaisons делает правильно), но укрепляемым и отчасти искажаемым орфографией; особенно вредит
чистоте явления эта примитивная формулировка: “рифма для глаз”, — формулировка, известная поэтам и
ведущая к искусственным образованиям. – Прим. Б.Томашевского]. Лишь поскольку орфография
подчиняет себе внимание, возможны искусственные формы, “книжные”, не имеющие произносительного
соответствия (вроде мнимо точных рифм “прежде — надежде”, “дождь — вождь”, “Гёте — на свете” и
т.п.).
Таким образом, в постановке эксперимента, может быть, полезно будет вернуться к старым,
элементарным приемам, когда перед исследователем лежал только печатный текст. Необходимо лишь
отчетливо сознавать, что этот печатный текст есть искусственный условный знак живой речи.
IX
Вслед за вопросом о методах наблюдения возникает вопрос о приемах сводки наблюдений и о
предварительной обработке наблюденного материала.
При сравнительной молодости нашей науки о ритме трудно намечать основные приемы обобщения
наблюдений, так как они в значительной мере варьируют от автора к автору и намечаются ощупью. До сих
пор можно наметить лишь два типа изучений: исследование на примерах и статистический метод.
В первом случае изолируется какое-нибудь явление (например, особенный ритм стиха, инструментовка
и т.п.) и прослеживается на ряде примеров. Во втором случае производится учет целого ряда явлений на
более или менее обширном сплошном материале.
Неумеренное пользование тем или иным методом часто приводит к работам, имеющим почти
пародический характер. Литература отрицательного характера довольно обширна (см. статью: Горнфельд
А.Г. Художественное слово и научная цифра // Литературная мысль, № I, c. 163) [Говоря о том, что
статистика дает исследователю только бесспорные цифры, но никуда дальше этих цифр не ведет,
Горнфельд резко критиковал некорректное использование статистического метода в работах Шенгели,
Белого и Бальмонта, посвященных анализу инструментовки стиха и проблемам звукового символизма, где
объективностью подсчетов, по мнению автора статьи, прикрывается сплошная субъективность
истолкования. В злоупотреблении такой “поэтической статистикой” Горнфельд обвинял и всю
современную науку о стихе (Горнфельд А.Г. Художественное слово и научная цифра // Литературная
мысль. [Кн.] I. Пг.: Мысль, 1922, c. 164). – Прим. ред.].
Между тем как тот, так и другой подход к материалу приведут к положительным результатам, если
исследователь ясно будет сознавать, что может дать избранный им путь. Источник неудач в общем случае
— переоценка средств, коими пользуется исследователь.
Имеющиеся в нашей литературе “описания” отдельных, небольших произведений — весьма
плодотворное средство для констатирования наличности того или иного явления, хороший путь для
предварительной классификации явлений. Но попытки установления связей между явлениями,
совершаемые на ограниченном материале, в большинстве случаев обречены на неудачу. Связи
устанавливаются лишь на массовом обследовании материала (независимо от того, подвергается ли в этом
случае материал цифровой обработке или нет). Изолированный пример ничего не скажет ни за ни против
выдвигаемого положения. На двух стихах Пушкина:
Шипенье пенистых бокалов
И
Знакомым шумом шорох их вершин
нельзя построить теории “инструментовки”.
С другой стороны, следует отчетливо сознавать и ограниченность статистического метода. Вообще к
статистическому методу следовало бы обращаться только тем, у кого развито чувство цифры. Филологи в
цифре обычно видят “отметку”, своего рода балл. Подсчеты часто делаются с целью выведения какого-то
оценочного коэффициента, который сразу дает нам суждение о качестве испытуемого.
Если для Пушкина мы путем разных манипуляций получили 20, а для Брюсова — 5, то исследователь
торжествует свою победу. Все эти “коэффициенты” и представляют наибольшее зло филологической
“статистики”. Такими коэффициентами страдают работы А.Белого и Г.Шенгели.
Но если оставить в стороне доморощенную статистику и обратиться к той филологической статистике,
которая пользуется методами статистической науки (а такая статистика применялась в Германии и отчасти
завезена к нам в Россию (см. статью: Кагаров Е. О ритме русской прозаической речи // Наука на Украине,
№ 4, c. 324—332), где применяются методы К.Марбе) [В статье Е.Кагарова “О ритме русской
прозаической речи” (Наука на Украине, 1922, № 4, c. 324-332) к изучению ритма русской прозы применен
метод К.Марбе, изложенный в двух основных работах немецкого ученого (см.: Marbe К. 1) Über den
Rhythmus der Prosa. Giessen, 1904; 2) Die Anwendung russender Flammen in der Psychologie und ihren
Grenzgebieten. Vortrag am III Kongreß. der Exper. Psychologie. Frankfurt a/M., 1908). Анализируя прозу Гёте
и Гейне, Марбе устанавливает соотношение ударных и безударных слогов, выявляя индивидуальные
характеристики авторов в использовании ими различных видов ритмических группировок. Кагаров в
статистическом описании прозы Тургенева, Достоевского и других выявляет частоту встречаемости
интервалов между двумя соседними ударениями, а также, опираясь на исследования Ф.Ф.Зелинского (см.
примеч. 12 к статье “Ритм прозы”), — наиболее распространенные виды клаузул и иниций для
предложений и колонов. – Прим. ред.], то и здесь есть большая опасность работы “ощупью”.
Для статистического исследования чрезвычайно важно выяснение “единицы наблюдения”, т.е.
чрезвычайно важна предварительная классификация тех явлений, которые подвергаются подсчету. У нас
сильно распространен взгляд, что считать можно что угодно — сами цифры покажут, правильно ли избран
материал для подсчета. И если подсчет дает некоторую цифровую гармонию, некоторую закономерность в
числах, то отсюда определенно делается вывод, что избранное для подсчета основание правильно. Но
цифра имеет свою закономерность. Это блестяще доказано покойным академиком А.А.Марковым,
который подверг статистической обработке текст “Евгения Онегина” [А.А.Марков проанализировал
последовательность 20 000 букв в романе Пушкина “Евгений Онегин”, не считая “ъ” и “ь”, в своей статье
“Пример статистического исследования над стихом ‘Евгения Онегина’, иллюстрирующий связь испытаний
в цепь”. Эта последовательность, обнимающая всю первую главу и шестнадцать строф второй,
предоставляла 20 000 связанных испытаний, каждое из которых давало гласную или согласную букву.
Исходя из этого, исследователь допускал существование неизвестной постоянной вероятности р букве
быть гласной. Приближенная величина числа р устанавливалась из наблюдений, путем подсчета реально
появившихся гласных и согласных букв (см.: Изв. Акад. Наук, СПб., 1913, Сер. 8, Т. 7, № 3, c. 153-162). –
Прим. ред.]. А.Марков не преследовал филологической цели в своей работе, и с этой стороны она
проделана без малейшего филологического критицизма. Ему было важно проверить на безразличном
материале выведенную им математическую формулу. И формула эта блестяще оправдалась, независимо от
несовершенств подсчета.
Закономерности подсчетов могут быть именно такими фиктивными, цифровыми и нисколько не
отражать на себе реального значения изучаемого явления.
Поэтому всякой статистике должно предшествовать предварительное изучение, имеющее целью
реальную дифференциацию явлений. Без этого — подсчеты остаются иллюзорными, превращаясь в
невинное, хотя и тягостное счетное упражнение.
Не следует забывать, что и при правильно произведенном подсчете в результате получается цифра,
характеризующая только употребительность явления, а отнюдь не качество его.
Но и такая голая цифра, поскольку она не требуется только в качестве грубого показателя частоты или
редкости явления, требует большой осторожности в обращении с нею. Самое важное — это определить
степень ее точности. Здесь мы выходим за пределы элементарной постановки подсчета и переходим к
вопросам специально статистическим, обсуждать которые в связи с проблемой ритма неуместно.
[1923]
Комментарии
Задача настоящего комментария — помочь студентам, аспирантам филологических факультетов
университетов, преподавателям школ и гимназий, широкому кругу читателей, интересующихся историей и
теорией стиха, адекватно понять положения стиховедческих работ Б.В.Томашевского. Именно поэтому
преимущественное внимание здесь уделяется научному контексту 1910 — 1920-х годов, в котором
формировались стиховедческие взгляды автора, вырабатывалась методика описания ритмического строя
художественной речи. В необходимых случаях приводятся краткие изложения позиций исследователей,
которые имеет в виду Томашевский, опираясь на своих предшественников и современников или
полемизируя с ними. Если библиографические ссылки в основном тексте являются неточными или
неполными, они уточняются в комментарии.
Со времени публикаций ранних работ Томашевского стиховедческая терминология претерпела
существенные изменения. С учетом этого обстоятельства в комментариях объясняются понятия, ныне не
использующиеся стиховедами, ставшие достоянием истории науки (интенза, лейма и т.п.), изменившие
свое терминологическое значение (дольник, свободный стих и т.п.), а также те, употребление которых в
настоящее время ограничено или связано с поименованием редких стиховых структур (диподия, vers brisés
и т.п.).
Труды Томашевского не только закладывали основы современного стиховедения; они до сих пор
остаются живым фактом науки, свидетельством чего являются статьи и монографии, написанные во
второй половине XX в. в полемике с идеями и выводами ученого, развивающие или уточняющие
отдельные положения его научной концепции. Отсылки к наиболее значительным из таких работ также
даны в комментарии.
Статьи, опубликованные в 1916 — 1928 годах и включенные позднее в сборник “О стихе” (Л., 1929),
воспроизводятся по второй публикации; все остальные статьи и рецензии — по первой публикации. При
подготовке сборника Томашевский внес в ранее опубликованные статьи некоторые уточнения и
дополнения, а также сделал несколько купюр, сокращая и без того большой объем статистических данных.
Наиболее существенные из таких уточнений и исключенная во второй публикации статистика приводятся
в комментарии. Отдельные строки анализируемых Томашевским произведений включаются в
комментарий лишь в том случае, если они не цитируются в основном тексте или авторских примечаниях,
но важны для понимания предложенной ритмической интерпретации. Переводы иноязычных текстов
даются преимущественно в эквиритмических вариантах, при их отсутствии — в иных (поэтических или
прозаических).
В нескольких статьях и рецензиях были обнаружены неточности. Значительная их часть связана с тем,
что Томашевский цитировал некоторые русские и французские источники по памяти. Такие неточности не
исправлялись, однако в комментарии приводились выходные данные источников с указанием
соответствующих страниц. Отсылки к цитатам из стихотворных произведений даются только в тех
случаях, когда последние приводятся Томашевским по ранним изданиям, не соответствующим публикации
текста в последнем академическом собрании сочинений (при отсутствии такового — в изданиях
“Библиотеки поэта” и “Новой библиотеки поэта”). В основном тексте исправлению подлежали лишь
ошибки технического характера и те, которые появились при издательской подготовке статей (все
подобные исправления вносились в результате сверки первой и второй публикаций).
Проблема стихотворного ритма
Доклад, прочитанный 26 ноября 1923 г. на заседании разряда Истории словесных искусств Российского
института истории искусств.
Впервые: Литературная мысль. [Кн. ] II. Пг.: Мысль, 1923, c. 124-140.
Текст дается по изданию:
Томашевский Б.В. Избранные работы о стихе: учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений.
Вступ. статья Е.В.Хворостьяновой; комментарии С.И.Монахова, К.Ю.Тверьянович, Е.В.Хворостьяновой.
СПб.: Филологический факультет СпбГУ – М.: Издательский центр “Академия”, 2008, с. 24-52, 370-379