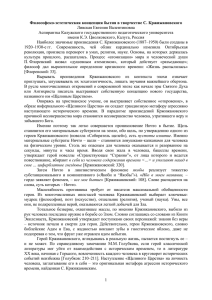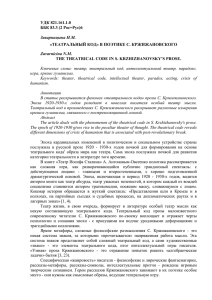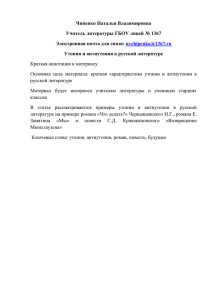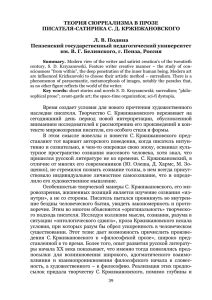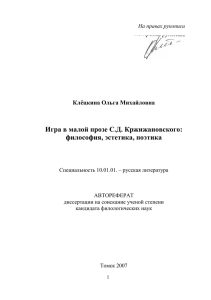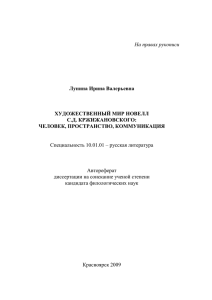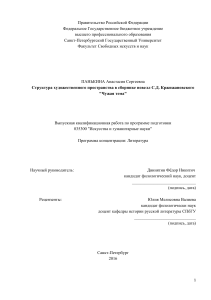Р. М. Ханинова
advertisement
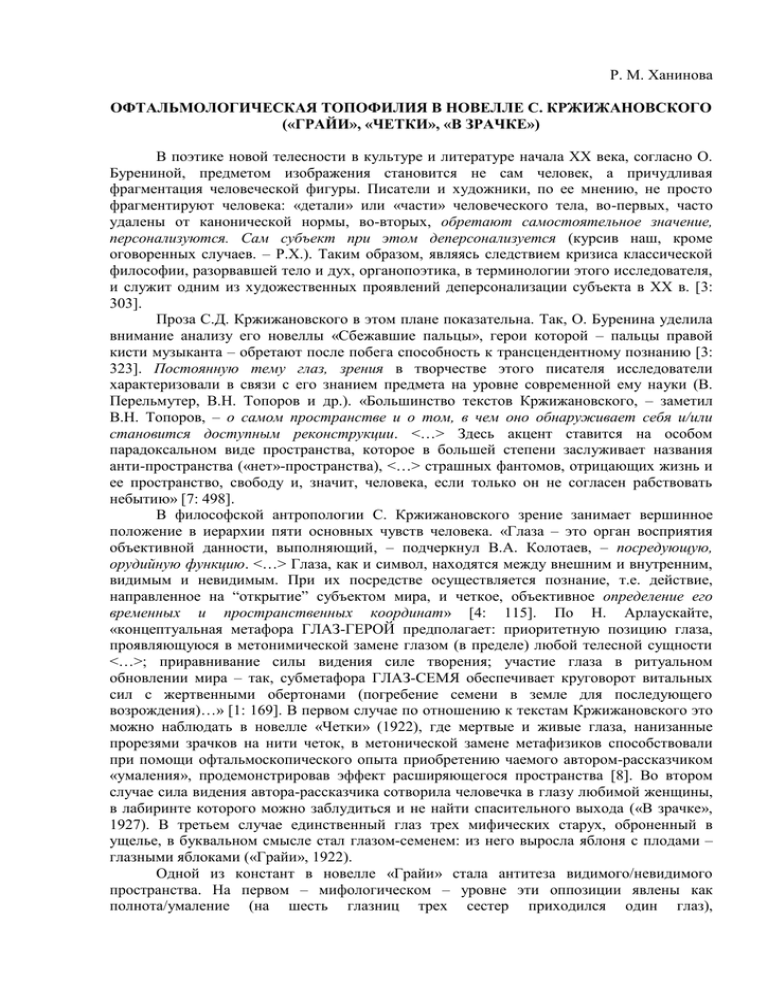
Р. М. Ханинова ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ ТОПОФИЛИЯ В НОВЕЛЛЕ С. КРЖИЖАНОВСКОГО («ГРАЙИ», «ЧЕТКИ», «В ЗРАЧКЕ») В поэтике новой телесности в культуре и литературе начала ХХ века, согласно О. Бурениной, предметом изображения становится не сам человек, а причудливая фрагментация человеческой фигуры. Писатели и художники, по ее мнению, не просто фрагментируют человека: «детали» или «части» человеческого тела, во-первых, часто удалены от канонической нормы, во-вторых, обретают самостоятельное значение, персонализуются. Сам субъект при этом деперсонализуется (курсив наш, кроме оговоренных случаев. – Р.Х.). Таким образом, являясь следствием кризиса классической философии, разорвавшей тело и дух, органопоэтика, в терминологии этого исследователя, и служит одним из художественных проявлений деперсонализации субъекта в ХХ в. [3: 303]. Проза С.Д. Кржижановского в этом плане показательна. Так, О. Буренина уделила внимание анализу его новеллы «Сбежавшие пальцы», герои которой – пальцы правой кисти музыканта – обретают после побега способность к трансцендентному познанию [3: 323]. Постоянную тему глаз, зрения в творчестве этого писателя исследователи характеризовали в связи с его знанием предмета на уровне современной ему науки (В. Перельмутер, В.Н. Топоров и др.). «Большинство текстов Кржижановского, – заметил В.Н. Топоров, – о самом пространстве и о том, в чем оно обнаруживает себя и/или становится доступным реконструкции. <…> Здесь акцент ставится на особом парадоксальном виде пространства, которое в большей степени заслуживает названия анти-пространства («нет»-пространства), <…> страшных фантомов, отрицающих жизнь и ее пространство, свободу и, значит, человека, если только он не согласен рабствовать небытию» [7: 498]. В философской антропологии С. Кржижановского зрение занимает вершинное положение в иерархии пяти основных чувств человека. «Глаза – это орган восприятия объективной данности, выполняющий, – подчеркнул В.А. Колотаев, – посредующую, орудийную функцию. <…> Глаза, как и символ, находятся между внешним и внутренним, видимым и невидимым. При их посредстве осуществляется познание, т.е. действие, направленное на “открытие” субъектом мира, и четкое, объективное определение его временных и пространственных координат» [4: 115]. По Н. Арлаускайте, «концептуальная метафора ГЛАЗ-ГЕРОЙ предполагает: приоритетную позицию глаза, проявляющуюся в метонимической замене глазом (в пределе) любой телесной сущности <…>; приравнивание силы видения силе творения; участие глаза в ритуальном обновлении мира – так, субметафора ГЛАЗ-СЕМЯ обеспечивает круговорот витальных сил с жертвенными обертонами (погребение семени в земле для последующего возрождения)…» [1: 169]. В первом случае по отношению к текстам Кржижановского это можно наблюдать в новелле «Четки» (1922), где мертвые и живые глаза, нанизанные прорезями зрачков на нити четок, в метонической замене метафизиков способствовали при помощи офтальмоскопического опыта приобретению чаемого автором-рассказчиком «умаления», продемонстрировав эффект расширяющегося пространства [8]. Во втором случае сила видения автора-рассказчика сотворила человечка в глазу любимой женщины, в лабиринте которого можно заблудиться и не найти спасительного выхода («В зрачке», 1927). В третьем случае единственный глаз трех мифических старух, оброненный в ущелье, в буквальном смысле стал глазом-семенем: из него выросла яблоня с плодами – глазными яблоками («Грайи», 1922). Одной из констант в новелле «Грайи» стала антитеза видимого/невидимого пространства. На первом – мифологическом – уровне эти оппозиции явлены как полнота/умаление (на шесть глазниц трех сестер приходился один глаз), владение/недостача (передача глаза друг другу по очереди), знание/незнание (одна из сестер с глазом преодолела препятствие – пропасть, безглазые – сорвались в бездну), потеря/обретение (вынутый из глазницы глаз, брошенный уже слепой Грайей, не долетел по назначению к остальным слепым сестрам; плодами глаза-семени воспользовался слепой Цекус, а затем – другие слепые люди). На втором – неомифологическом – уровне («конец истории скрыт не то что от профессоров – даже от детей: он в не рожденных еще веках, куда и приглашаю вас, вундеркинды, последовать за мной») видимое/невидимое пространство осваивалось, прежде всего, нищим стариком Цекусом. «Никто не приметил рождения диковинного деревца», лишь слепому открылось местонахождение дерева Грай, когда его посох, осваивая пространство для отдыха, «вдруг уперся во что-то странное» [5: 153]. Излюбленная константа поэтики Кржижановского – странность («Странствующее “странно”» и др.), связанная с мотивом странничества, т.е. перемещением в пространстве, будь то физический объект/тело/предмет, будь то понятие, метафизическая мысль, которая может простудиться, и т.п. Мотив странности, актуализированный офтальмологической темой, стал лейтмотивом в этой новелле. Мальчику бросилась в глаза необычность невысокого деревца: «белели какие-то странные круглые плоды», для него это – «страшное деревцо» [5: 154]. Когда Цекус вправил глаз с яблони в свою пустую глазницу, странности начались уже для него: мир оказался перевернутым; «странная форма деревьев, свешивающихся комлями откуда-то сверху…»; «солнце (опять странно: будто падая диском вниз), одевая мир в цветы и блики, дало себя глазу»; «прозревший был как-то странно рассеян и нетверд в своем видении: шел шатким шагом, так, как если б ставил ступни в пустоту. Глядел не под ноги, а куда-то вверх. Глаз его, избегая лиц людей, щурился в носы их башмаков» [5: 155156]. Автором, прокомментировал В. Перельмутер, «точно описан эффект “прозрения”: перевернутость мира, который лишь впоследствии – усилием мозга – принимает, так сказать, нормальное положение» [6: 617-618]. Но «у ветхого глаза и древнего мозга старух Грай не было уже силы опрокидывать миры (легко ли это!), ронять звездное небо <…> долу лишь затем, чтобы опять возносить его горе» [5: 157]. Поэтому «когда бессильный глаз Грай сросся нервными волокнами с мозгом человека, то все пошло по-иному: глаз Грай давал мир всерьез, не переворачивая в нем ни единого блика, а человечий мозг, как и всегда, брал его озорно» [5: 157-158]. Теперь для старика «горы стали на свои вершины, деревья потянулись, точно сталактитовая поросль, комлями вниз; под ногами зазияло небо с оброненными в бездну звездами, из-под самой подошвы башмака выползали тающие тучи, и только благодаря какому-то длящемуся чуду, – как думал суеверный Цекус, – нога его не проваливалась сквозь облачный студень в разверстые пустоты. А сверху давмя давил низко нависший черный пласт земли, с домами, запрокинутыми кровлями вниз, неустанно грозящими рухнуть вместе с людьми в звездную бездну. В воздухе реяли опрокинутые на спину птицы» [5: 158]. Прозревший чувствовал себя «одиноким и беспомощно затерянным в этом нелепом и непонятном мире – наоборот» (курсив автора), он «прятал от него свои глаза, склоняясь над зеркалами озер и луж: поверхности их, снова опрокидывая опрокинутый мир, давали ему, Цекусу, хоть вмале, хоть внутри лужи, мутное и колеблющееся подобие того прежнего, чаянного мира, к которому привык Цекус с детства и о котором грезил все тридцать лет своего калечества» [5: 158]. Старику казалось, что, когда он перестал быть калекой, исцелился, теперь уже весь мир стал жалким калекой, потому что «бросил Божьи звезды вниз, уперся свисающей на головы землей, как в костыли, в свои опрокинутые горы и топчет вершинами их, будто поганую траву, ясные лучи, взращенные из солнца…» [5: 158]. В офтальмологической клинике Цекус просил не только спасти его, жалуясь на опрокинутость мира, но даже вернуть ему слепоту, то есть прежнее пространство. При всей парадоксальности желания героя мы имеем в данном примере слепоту как образ счастливого пространства, то, что, по Г. Башляру, именуется топофилией [2: 22]. Речь идет об определении человеческой ценности пространств, всецело принадлежащих человеку, любимых им, 2 защищенных от враждебных сил. Это – пространство, переживаемое Цекусом, как потеря. В то время как следующие опыты показали, что, хотя новые пациенты испытали цекусовские симптомы специфической тревоги и депрессии, они покорились факту и даже проявляли позже странную, несколько дикую веселость. А уже поколение, в отличие от заблудившихся меж двух миров, вступило в другие отношения с пространством: грайеглазые «уверенно шагают по тучам и звездам, спокойно топча их, но, говоря о земле и лужах, глядят ввысь» [5: 160]. Жизнегодность проверки древнего надписания «Небо вверху – небо внизу» в определении верх/низ отозвалось четырьмя возможными ответами: «Здесь», «Там», «И здесь, и там», «Ни там, ни здесь» [5: 160]. Таким образом, новое офтальмологическое пространство в новелле «Грайи» деформировало привычные оппозиции не только в ориентировании человека на местности (деструкция топофилии), но и в его жизненной позиции, зеркально меняя экзистенциальные основы бытия. Модификация офтальмологического пространства в глазах умерших метафизиков в новелле С. Кржижановского «Четки» имела и кинематографическую природу. Глазу экспериментатора, во-первых, помогал офтальмоскоп, т.е. техническое средство, вовторых, на сетчатке одного исследуемого глаза отразилось изображение сетчатки другого глаза из четок старика-«мистагога». И в результате перед автором-рассказчиком возник «киноэкран», иллюстрирующий апорию Зенона Элейского об Ахилле и черепахе, когда между соревнующимися в беге всегда оставались те же три фута. Третий эксперимент с глазом явил «мир обратной перспективы, мир, в котором мнящееся малым и дальним – огромно и близко, а близкое и большое съеживается, малеет и уползает вдаль» (курсив автора) [5: 172]. И если раньше автор-рассказчик в снах, в предчувствиях знал об этом мире, теперь он его видел. Он знал, что «обратная перспектива грозит смертями: бездна в полушаге от путника кажется ему далекой и недостижимой. Но погибать в ней легко: ведь тело и самое “я” там, в обратном мире, мнится далеким, чужим и ненужным» [5: 172]. В этой новелле глаз-герой (глаза умерших метафизиков) сублимировал в себе мирпространство и «минус»-пространство» (В.Н. Топоров), совмещая в себе парадокс составляющих: живого/мертвого, реального/метафизического, статичного/динамичного, большого/малого, целого/частного, ближнего/дальнего. Для автора-рассказчика же ценность обитаемого пространства – не-Я, охраняющего Я, сузилась до размеров домашней вселенной: «Теперь я веду жизнь сидня. Незачем ходить в поля за просторами: просторы всюду – вкруг меня и во мне» [5: 174]. Мир наоборот, мир обратной перспективы, открываемые посредством визуального наблюдения, когда глаз-семя, глаз-герой, глаз-жертва выступали в двух ипостасях как объекты и субъекты, дополнились в новелле Кржижановского «В зрачке», во-первых, новым героем – глазом атакующим, во-вторых, иным миром-пространством – лабиринтом глаза. Граница внешнего и внутреннего миров на этот раз пересеклась двойником автора-рассказчика, когда силой видения (глаз атакующий) он сотворил, используя эффект отражения, в глазу любимой женщины третьего в их непростых отношениях. В любви, по Кржижановскому, глаза всегда забегают вперед, поскольку «они подвижнее и умеют делать свое, то есть смотреть и через» (курсив автора); пока тела и слова влюбленных неповоротливы, «глаза – в обгон всему – уже отдаются друг другу» [5: 427-428]. Вначале третий казался простым двойником, при помощи которого мужчина придумал любовную игру-прятки с женщиной, ища во время дневного свидания в ее глазу себя-двойника: он полагал, что, таким образом, закреплял, обустраивал, обживал свое местонахождение в любимом жизненном пространстве. Для него было недостаточным простое обладание женщиной, позволявшей себя любить и холодно встретившей известие о своем «квартиранте». Потом выяснилось, что третий не собирался играть в поддавки: «кивнул мне – лицо его было печально и настороженно – и вдруг, круто повернув спину, дробно семеня, стал уходить внутрь зрачка» [5: 429]. По сути, третий – антропософная визуализация подсознания автора-рассказчика: смотрит глаз, а видит мозг. 3 Локус основных событий новеллы – внутри зрачка женщины, на дне глаза, на дне «женщины-жизни» (метафора Кржижановского), с рассказами-монологами «бывших», с их интонационным диапазоном от пафоса до цинизма, что позволило В. Перельмутеру указать на ассоциацию с горьковской пьесой [6: 657]. Медиатором этих событий стал третий, реальность бытия которого вначале казалась опасной (встречи стали слепыми, сонливыми в ночи), затем грустным казалось несуществование этого человечка (любовь стала «безглазой»). Раньше автору-рассказчику самый факт проверки реального бытия человечка из зрачка представлялся проявлением болезни, психическим сдвигом, потому что он задавался вопросом, зачем было уходить человечку, но главное – куда? И, когда в одну из ночей он почувствовал сквозь слои сна, как что-то невидимое дергало за одну из ресниц его левого века, а потом озвучило свои претензии («Как в пустую квартиру: ни отклика»), ему пришлось убедиться, что это – не смена сна сном: у края наволочки сидел человечек из зрачка и «тяжело дышал, как путник, совершивший долгий и трудный переход» [5: 433]. В самом деле, «зрачковое новоселие» понравилось жильцу подобием человеческого жилища. «Полное стеклистых отсветов, с окном в круглой радужной раме, оно казалось мне уютным и веселым; выпуклые стекла аккуратно промывало слезой, по ночам опускались самодвижущиеся шторы – одним словом, квартира с удобствами» [5: 433]. Уподобление человеческого глаза окну, как окна дома – его глазу, повторено в рассказе неоднократно («выставившись сквозь круглое зрачковое оконце», «когда мы с женщиной присели каждый к своему окну»), дополняясь упоминанием длинного темного коридора, уводящего неизвестно куда. В мире писателя оба взгляда – изнутри вовне и снаружи, извне внутрь – пробегают одно и то же «минус»-пространство, но в разных направлениях: неблагополучие тотально и универсально; оно не зависит от того, по какую сторону окна (добавим: ока. – Р.Х.) находится «минус»-человек. Вырваться из «минус»пространства никак нельзя, и зрение-видение только увеличивает душевную боль, стекло окна/ока становится ловушкой, обманом [7: 558], т.е. глазом атакующим. По Башляру, «человек, нашедший кров, сенсибилизирует границы своего убежища. Он обживает дом в его реальности и виртуальности, в мыслях и в грезах» [2: 27]. Сначала скука, затем любопытство и нетерпение подвигли человечка, услышавшего хор нестройных мужских голосов и, что важнее всего, ключевых слов постоянно исполняемой странной песни («сучок», «смерть»), зашагать в глубь темного зрачкового хода, чтобы выйти на свет к провалу и оказаться в нем. Описание пещеры воспроизводит структуру глаза (стекловидное тело, колбочка): «я сидел как бы внутри стеклистой, но непрозрачной, с пульсирующими стенками бутылки, как раз в центре ее выгнутого дна» [5: 435]. Один из обитателей дна повторил новичку прежнее сравнение: «Женский зрачок как и всякое помещение: сначала вселяют – потом выселяют: и все – сюда» [5: 436]. По закону ассоциативной цепи закономерно в тексте появление домовой книги с пропиской. В домовой книге предложенная гостю анкета с десятками вопросов на квартирную тему – пародийная иллюстрация топофилии. «Начиналось с даты вселения, основания такового, сколько времени вы предполагали квартировать (против этого пункта стояло друг над другом: а) вечно, б) по гроб, в) до приискания лучшего, – отвечаемое просят подчеркнуть); кончалось, кажется, перечнем ласкательных и уменьшительных имен и вашим отношением к ревности» [5: 438]. Женские зрачки, по мнению Шестого постояльца, это – всего лишь манок: «такой чудесный, одетый в блистанье радуг вход и этакое темное поганое дно» [6: 436]. Игра слов у писателя: сравнение с радугой напоминает о греческой богине радуги Ирис (радужка глаза на латинском – iris). Как отмечал Г. Башляр, «все пространства сокровенного отличаются притягательностью. <…> их бытие есть благобытие» [2: 33]. Воображение всегда больше, чем жизнь. Литературной миниатюре, толкующей инверсию в перспективе величин, активизирующей глубинные ценности, соответствует психологическая реальность [2: 136,134]. Кржижановским в «В зрачке» использован прием «зеркальной ассоциации» (В. Перельмутер), где миф об Орфее, потерявшем из-за оглядки свою 4 Эфридику, оборачивался мифом о попытке героя «вернуться в любовь», но из-за искушения взглянуть на преемника срывавшегося в «ад» («адский мотив» ироническиненавязчиво подчеркнут «нумерацией»: двенадцать персонажей новеллы, эти «знаки зодиака» любовной жизни героини, «откружив», пребывают в своем аду, «за дном зрачка») [6: 659]. Ведь, в сущности, как заметил Одиннадцатый постоялец, «человек в человека проникает крохотными дозами, маленькими, еле зримыми человечками, которые, накопившись в достаточном числе, в конце концов завладевают сознанием. И среди них всегда есть один – такой же до жалости крохотный, как и другие, – но уйди он, и с ним уйдет смысл, понимаете, распадется – сразу и непоправимо – вся эта атомистика» [5: 440]. Речь идет о непостоянстве параметров топофилии: малейшая ценность пространство расширяет, возвышает, умножает, и, наоборот, обесценивание пространства умаляет его в духе бальзаковской шагреневой кожи. Башляру, проводившему топанализ другого текста Бальзака («Луи Ламбер»), было интересно описание его вступления в единоборство с пространством («он заставлял пространство отступать перед ним»): «…поистине великолепна сила, которая заставляет пространство отступать, выталкивает все пространство вон, вовне, чтобы существо размышляющее было свободно в своей мысли» (курсив автора) [2: 197]. В аспекте топофилии звучит признание Шестого постояльца в новелле Кржижановского: «…любят не тех громадных человечищ, которые вытряхивают нас из зрачков в зрачки, а именно нас, странствующих человечков, ютящихся всю жизнь по чужим глазам» [5: 444]. Поэтому, когда человечку из зрачка удалось неимоверными усилиями вырваться из плена, он, увидев своего хозяина, поклялся не покидать его более и никогда «не шляться по чужим зрачкам». Автору-рассказчику, как С. Кржижановскому, оставалось только в своем одиночестве обратиться к читателю с просьбой «не вытряхивать строки из зрачков», то есть придать ценность чужому пространству текста/тела и полюбить его. Список литературы 1. Арлаускайте Н. Филологическая мистагогия: нить Велимира Хлебникова // Принципы и методы исследования в филологии: конец ХХ века. – СПб.- Ставрополь: Издво СГУ, 2001. С. 168-187. 2. Башляр Г. Поэтика пространства // Башляр Г. Избранное: поэтика пространства / пер. с франц. – М.: РОССПЭН, 2004. 3. Буренина О. Органопоэтика: анатомические аномалии в литературе и культуре 1900-1930-х годов // Тело в русской культуре: сб. статей. – М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 300-323. 4. Колотаев В.А. Проблема видимого в учении П.А. Флоренского // Принципы и методы исследования в филологии: конец ХХ века. – СПб.- Ставрополь: Изд-во СГУ, 2001. С. 114-122. 5. Кржижановский С. Собр. соч.: в 5 т. Т. 1. – СПб.: Симпозиум, 2001. 6. Перельмутер В. Комментарии // Кржижановский С. Собр. соч.: в 5 т. Т. 1. – СПб.: Симпозиум, 2001. 7. Топоров В.Н. «Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: исследования в области мифопоэтического: избранное. – М.: Прогресс – Культура, 1995. С. 476-574. 8. Ханинова Р.М. Семантика четок в новелле С. Кржижановского «Четки». Рукопись. Восток – Запад: пространство русской литературы и фольклора: материалы Второй междунар. науч. конф. (заочной), посвящ. 80-летию проф. кафедры лит. Д. Н. Медриша. Волгоград, 16 апр. 2006 г. – Волгоград: Волгоградское науч. изд-во, 2006. – С. 436-444. 5