роман
advertisement
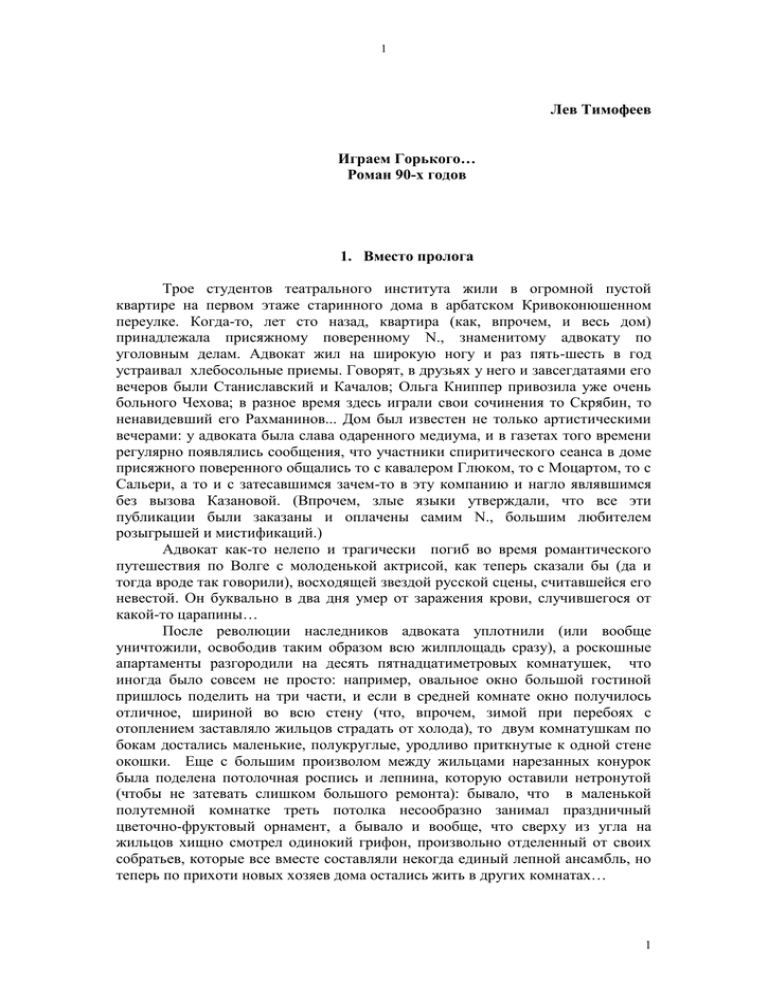
1 Лев Тимофеев Играем Горького… Роман 90-х годов 1. Вместо пролога Трое студентов театрального института жили в огромной пустой квартире на первом этаже старинного дома в арбатском Кривоконюшенном переулке. Когда-то, лет сто назад, квартира (как, впрочем, и весь дом) принадлежала присяжному поверенному N., знаменитому адвокату по уголовным делам. Адвокат жил на широкую ногу и раз пять-шесть в год устраивал хлебосольные приемы. Говорят, в друзьях у него и завсегдатаями его вечеров были Станиславский и Качалов; Ольга Книппер привозила уже очень больного Чехова; в разное время здесь играли свои сочинения то Скрябин, то ненавидевший его Рахманинов... Дом был известен не только артистическими вечерами: у адвоката была слава одаренного медиума, и в газетах того времени регулярно появлялись сообщения, что участники спиритического сеанса в доме присяжного поверенного общались то с кавалером Глюком, то с Моцартом, то с Сальери, а то и с затесавшимся зачем-то в эту компанию и нагло являвшимся без вызова Казановой. (Впрочем, злые языки утверждали, что все эти публикации были заказаны и оплачены самим N., большим любителем розыгрышей и мистификаций.) Адвокат как-то нелепо и трагически погиб во время романтического путешествия по Волге с молоденькой актрисой, как теперь сказали бы (да и тогда вроде так говорили), восходящей звездой русской сцены, считавшейся его невестой. Он буквально в два дня умер от заражения крови, случившегося от какой-то царапины… После революции наследников адвоката уплотнили (или вообще уничтожили, освободив таким образом всю жилплощадь сразу), а роскошные апартаменты разгородили на десять пятнадцатиметровых комнатушек, что иногда было совсем не просто: например, овальное окно большой гостиной пришлось поделить на три части, и если в средней комнате окно получилось отличное, шириной во всю стену (что, впрочем, зимой при перебоях с отоплением заставляло жильцов страдать от холода), то двум комнатушкам по бокам достались маленькие, полукруглые, уродливо приткнутые к одной стене окошки. Еще с большим произволом между жильцами нарезанных конурок была поделена потолочная роспись и лепнина, которую оставили нетронутой (чтобы не затевать слишком большого ремонта): бывало, что в маленькой полутемной комнатке треть потолка несообразно занимал праздничный цветочно-фруктовый орнамент, а бывало и вообще, что сверху из угла на жильцов хищно смотрел одинокий грифон, произвольно отделенный от своих собратьев, которые все вместе составляли некогда единый лепной ансамбль, но теперь по прихоти новых хозяев дома остались жить в других комнатах… 1 2 Теперь же дорогой доходный дом, построенный в конце баснословного девятнадцатого века, и вовсе подлежал не то капитальному ремонту, не то сносу, и жильцов здешних многокомнатных коммуналок расселяли по отдаленным московским районам. Привыкшие жить на Арбате, люди выезжали неохотно, требовали предоставить им равноценную площадь в центре, и хотя многие квартиры уже пустовали, некоторые упрямцы все еще прочно сидели в своих гнездах и заявляли, что вообще не уедут никуда и никогда. Между тем дом находился в ужасном состоянии, никакие дворники или сантехники сюда уже не заглядывали, просторные лестничные площадки и широкие марши были завалены мусором, по ночам в темноте под ногами гремели пустые консервные банки; в пустующие квартиры, взломав двери, забирались кладоискатели: в поисках тайников, сделанных давними поколениями и забытых потомками, они вскрывали полы и оббивали стенную штукатурку; испоганенные квартиры по ночам занимали бомжи и наркоманы – и власти на все это смотрели сквозь пальцы, видимо, надеясь, что, оказавшись в бомжатнике, в уголовном притоне, даже самые упрямые арбатские старожилы быстро согласятся переехать в Митино. Впрочем, опасаясь слишком громкого скандала, воду, электричество и даже телефон пока не отключали: последний срок несколько раз назначался, несколько раз переносился, и недавно снова был отодвинут на месяц… Строго говоря, трое студентов жили здесь совершенно незаконно. В течение нескольких лет они снимали две маленькие смежные комнаты у бывшей оперной хористки. Теперь же хористка получила двухкомнатную квартиру (на себя и на прописанную у нее внучку). Квартира была в зеленом районе, чего хористка, ходя по кабинетам начальства, добивалась несколько месяцев, и теперь в страхе, что желанную площадь займет кто-нибудь другой, она быстро, в два дня собрала вещи и переехала. Другие три семьи, жившие здесь, уехали еще раньше. Понятно, что и студенты – супружеская пара актеров и молодой, подающий надежды режиссер – должны были отсюда убираться. Но момент для этого был самый неподходящий: считанные недели оставались до дипломного спектакля, о котором, предвкушая событие скандальное (мастером курса был известный режиссер-авангардист), заранее говорила театральная Москва. Работа была в самом разгаре, репетиции шли ежедневно – и тут вдруг лишиться крыши над головой, лишиться этого замечательно удобного жилья в десяти минутах ходьбы от института и от учебного театра, искать где-то квартиру, комнату или хотя бы угол, собирать вещи, переезжать по весенней слякоти, налаживать быт на новом месте было ну совершенно некстати. И вот тут как раз их сокурсница Тёлка и привела откуда-то своего друга с театральной фамилией Протасов. Друг был сильно пьян, и она попросилась остаться с ним на ночь. Понятно, никто не возражал. Тем более что гости принесли с собой бутылку, да не одну, еще даже и посидели вместе, и хозяева тоже хорошо поддали, и все выкурили по косячку, и гость, на удивление, как-то воспрянул и пил с хозяевами наравне и был даже в силах недурно, не без актерского дара, рассказывать анекдоты и читать стихи, – и только далеко за полночь все разошлись спать. В комнате, где прежде жил шофер такси, оставалась широкая продавленная тахта, и здесь время от времени ночевали засидевшиеся друзья – кто-то из них предусмотрительно принес подушку и старенькое ватное одеяло с зеленым атласным верхом, в нескольких местах прожженное сигаретами... Утром, когда на кухне все вместе пили кофе, ели бутерброды с плавлеными сырками и вяло, похмельно спорили, можно ли считать, что Никита 2 3 Михалков украл у Хамдамова «Рабу любви», или это все-таки самостоятельная работа талантливого мастера, вдруг нагрянула какая-то комиссия – две полные женщины в одинаковых серых пальто с каракулевыми воротниками, пожилой чиновник с потертым портфелем и с ними знакомый участковый, совсем юный старлей, с простецким открытым лицом, похожий на молодого Збруева. Женщины и чиновник потоптались в коридоре, по очереди позаглядывали в раскрытые двери комнат и, не здороваясь, в кухню, где сидела компания, поморщились, ощутив висевший в воздухе сильный запах перегара, поговорили о чем-то вполголоса и ушли. Участковый вышел с ними вместе, но тут же вернулся. «Я вас много раз предупреждал, - сокрушенно сказал он. – А теперь мне выговор. Сегодня до обеда освободить помещение, и квартира будет опечатана». Никто не ответил. Участковый ждал: он хотел убедиться, что указание услышано и будет выполнено. Но все молча пили кофе. Актеры умели держать паузу: один жестом попросил сахар, другой молча налил молока – себе и соседу и тот так же молча поблагодарил кивком головы. "Ну, мне что, наряд вызывать?» – старлей повысил свой мальчишеский голос, но на слове "наряд» дал петуха. "Садись с нами, командир, сначала позавтракаем», – спокойно сказал Верка Балабанов и сделал широкое движение рукой, приглашая участкового к столу. До поступления в театральный институт Аверкий Балабанов уже окончил училище в родном городе, и его даже хотели ввести на роль Воланда в местном театре. Он знал, как придавать своему голосу интонацию спокойной, немного утомленной, но все-таки непререкаемо властной силы. "А ты, мент, и вправду садись за стол, – мягко сказал Гриша Базыкин, – ты же нам не чужой". Балабановская жена Василиса, Васька, тут же поставила на стол чистую чашку. Все-таки старлей давно знал жильцов этой квартиры и уважал их. Даже робел перед их красотой, перед их высоким ростом, перед свободой, с какой они общались друг с другом, наконец, перед их талантом. Однажды он хорошо выпил тут и навзрыд плакал, слушая, как Гриша Базыкин, сняв со стены гитару, пел Высоцкого: "Идет охота на волков, идет охота!.. Кровь на снегу и пятна алые флажков!.." И какая разница, часом раньше они уедут, часом позже. Подождем. Он нашел на стене крючок и повесил фуражку, пригладил волосы и уже собирался сесть к столу, но вот тут-то как раз и поднялся этот самый Протасов. Умытый, свежий, уверенный в себе – никаких следов вчерашнего пьянства. "Нет, нет, – мягко, но решительно сказал он, жестом останавливая Ваську, готовую налить кофе. – Пожалуйста… Все в свое время, и каждому свое. Командиру некогда. Служба зовет. Верно, командир? – он снял со стены фуражку и вернул ее на голову старлею. – Пойдем, командир, я доведу до тебя задачу". Спокойно глядя участковому прямо в лицо, он взял его под локоть и развернул к выходу, и тот как-то беспомощно оглянулся на компанию и, ни слова не говоря, послушно вышел впереди Протасова. "Вот, дорогой Аверкий, как надо играть Воланда, – сказал Гриша Базыкин, разливая себе и Верке найденные остатки водки. – Но я не люблю Булгакова. И булгаковщину не люблю. И Воланда не люблю. И не люблю, когда он приходит без приглашения и вмешивается в чужие дела. Мне лично живой мент симпатичнее, чем литературный черт… Но, кажется, мы вляпались, и теперь играем Булгакова!" И он выпил. "Ты, мой сокол, больше не пей, тогда и чертей видеть не будешь ", - обиженно сказала Тёлка. Все-таки Протасов был ее друг. 3 4 Протасов вернулся почти сразу же и первым делом выпил водку, налитую для Балабанова. "О’кей, ребята, все будет в порядке", – сказал он, взял бутерброд и придвинул чашку кофе. Все молчали. "Вы уедете отсюда последними. Через месяц или через два", – добавил Протасов и улыбнулся Тёлке. "Вы дали ему денег. И теперь они превратятся в нарезанную бумагу", – глядя на пустой стакан Балабанова, задумчиво сказал Гриша. Протасов усмехнулся и молча показал большой палец: мол, шутка понравилась. Он спокойно доел бутерброд, допил кофе, посмотрел на часы и встал. "Дорогой мой Станиславский, не берите в голову, – сказал он, остановившись позади Гришки и дружески положив ему руку на плечо. – Не Булгакова играем – Горького, Алексея Максимовича. Пьеса „На дне“. Человек – это звучит гордо. Всё – в человеке, всё для человека." "Нет, нет, – сказал Гриша, резко повернувшись к нему, – мне больше нравится другое: человек за все платит сам. И там еще есть другое: когда я пьян, мне всё нравится. Вот это самое главное". Начитанный Протасов охотно подхватил: "Я тоже всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми. Занавес и антракт. Обещаю вечером продолжить". И он вышел. И Тёлка поднялась и вышла вслед за ним. "Не захлопывай дверь, сейчас Ляпа придет!" – крикнул ей вдогонку Гриша Базыкин. 2. Тёлка К прозвищу, каким современные молодые люди обычно обозначают девиц безликой породы, пригодных разве на то, чтобы провести с ними бездарный вечер с пивом и водкой, закончить его в постели каким-нибудь безобразным сексом, и, расставшись наутро, постараться забыть о них навсегда, – к этому своему прозвищу Тёлка относилась спокойно. Быть может, потому, что прозвище это – нет, даже не прозвище, а имя – прилипло к ней с раннего детства и имело свой особенный смысл. Называть ее Тёлочкой, ласково приглушая, пригашая ее настоящее, для русской речи какое-то вызывающе звонкое имя Нателла, стала деревенская бабушка, мамина мама, у которой ребенком она подолгу жила (сама мама, героиня провинциальной сцены, тем временем моталась по стране – из города в город, от театра к театру и от любовника к любовнику). А еще она не противилась этому прозвищу потому, что оно вполне определяло осознанное и принятое ею если и не актерское, то жизненное амплуа – женщины доброй, ласковой, преданной, в общем-то неглупой, хотя и немного замедленной в реакциях и поэтому склонной даже о самом простом и очевидном говорить неторопливо и обстоятельно. И уж, конечно, ни в какой степени не была она шлюхой. И если вдруг и попросила друзей приютить ее на ночь с Протасовым, то были для этого серьезные причины. Вообще-то она, как это уже случалось раньше, вела его ночевать к себе: в этом же доме она и сама жила на третьем этаже, где снимала комнату у высокой худой старухи, носившей массивные серебряные кольца на длинных костистых пальцах и несмотря на возраст, коротко представлявшейся новым знакомым как Настя. Она утверждала, что некогда у нее случился 4 5 мимолетный роман с Пастернаком и что именно после того вечера, вернее, после той ночи и была написана "Вакханалия»: "Море им по колено, и в безумье своем им дороже вселенной миг короткий вдвоем"… Эта высохшая пастернаковская муза (скорее всего, самозванная… впрочем, не сказать о ней худого слова, женщина добрая, вот уже четыре года по-матерински опекавшая Тёлку) жизнь свою прожила одиноко. Многие годы она проработала экскурсоводом в музее восточных культур и теперь к старости в ней вдруг пробудился интерес к антропософии и оккультизму. Духовные силы этой женщины, не реализованные в земной жизни, теперь решительно повернули ее к миру потустороннему, астральному. И здесь она никак не хотела оставаться одна и вся отдалась делу возрождения некогда существовавшего в Москве антропософского общества, в результате чего в последние недели по широкому и длинному коридору и по бесчисленным комнатам опустевшей коммуналки, где они остались жить вдвоем с Телкой, стали бродить толпы антропософов и теософов – стариков и старух еще более древних, чем сама хозяйка. И в тот вечер, подойдя к дому с нетрезвым Протасовым, который сильно наваливался ей на плечо и шептал какие-то смешные глупости о любви, Тёлка увидела свет по всему этажу и медленное движение теней в освещенных окнах и поняла, что там очередное антропософское чаепитие с прочтением какого-нибудь бесконечного доклада. Она даже и подниматься не стала, легко вообразив себе это сборище почти бестелесных существ, фантомов первой половины прошлого века, среди которых, возможно, присутствовали совершенно неотличимые от них души умерших, вызванные из потустороннего бытия. Конечно, было бы хорошо потом рассказывать друзьям, как сквозь эту толпу теней ты протащила вполне материального пьяного любовника и демонстративно заперлась с ним в комнате – под взглядами замерших гостей и замолчавшего докладчика, – но нет, это был бы уж какой-то очень вызывающий сюр. Тёлка могла только с удовольствием вообразить себе эту картину, но поступить так была не способна. Своего Протасова она тащила с богатой презентации, для которой на весь вечер снят был ресторан "Метрополь", сверкавший купеческим золотом и зеркалами. Они чуть опоздали к началу, и она так и не поняла, презентация чего это была – то ли книги, то ли какого-то телевизионного проекта. "Презентация возможности купить двадцать килограммов черной икры", – мрачно сказал Протасов. Ему здесь не нравилось, но для чего-то надо было присутствовать, целоваться с автором, к кому-то подходить с широко раскрытыми объятиями, с кем-то издалека раскланиваться, с кем-то чокаться, что-то обсуждать, устраивать какие-то дела – и, видимо чувствуя себя неуютно, он в этот раз без конца пил и пил. Понятно, что за руль он уже сесть не мог, его машину они оставили на стоянке и ночевать к Тёлке поехали на такси. Отправлять его кудато одного пьяного ночью она не могла. Но и сама ехать с ним не могла тоже, поскольку утром ей звонила мать, и Тёлка пообещала быть на следующий день в семь утра у телефона. "Это будет разговор, который определит твое будущее", – наставительно сказала мать. С тех пор как мамуля бросила пить (или, по крайней мере, перестала пить по-черному) и вышла замуж за отставного майора пожарной службы, она стала говорить с дочерью наставительно, как строгий офицер с тупым солдатом. Тут-то и пришлось представить ребятам Протасова и попроситься на таксишникову тахту. Она, конечно, могла и одного его там оставить и подняться к себе, но это уже было бы чистое ханжество и лицемерие. Да и жалко ей было его, такого беспомощного и беззащитного. Он уснул сразу, едва голова 5 6 коснулась подушки, и она пролежала всю ночь рядом, не раздеваясь, иногда задремывая, но тут же как-то рывком просыпаясь… В семь утра она все-таки поднялась наверх и с полчаса прождала у телефона, чтобы сразу, как только зазвонит, схватить трубку: хозяйка не любила, когда ее будили телефонные звонки. Но никто не позвонил (вечные мамины фантазии!), и она снова спустилась к ребятам и тихо легла рядом с Протасовым. Протасов не был ее любовью. Да, она иногда испытывала к нему волной накатывавшую материнскую нежность – хоть он и был почти вдвое старше ее. Да, она спала с ним вот уже больше года. Но между ними всегда оставалось какое-то непреодоленное расстояние, какое-то легкое отчуждение, и, может быть, именно из-за этого она так долго не знакомила его со своими друзьями и засветилась с ним только теперь, по необходимости. А впрочем, в их отношениях не было ничего тайного. И в разговорах с однокурсниками он присутствовал как "мой друг" – и все усвоили, что у нее есть какой-то "друг", какой-то постоянный мужчина. Она ходила с ним на светские тусовки – на презентации, приемы, юбилеи. На Новый год ездила даже во Францию, где они неделю гостили в Нормандии в имении бывшего московского андеграундного художника, теперь широко признанного на Западе (Протасов был его доверенным в России… Фамилию его она и сразу как-то не прочно запомнила, а теперь и имя, и фамилия вовсе вылетели у нее из головы)… Да, она принимала от Протасова подарки и иногда сама, зная, что это не обременит его бюджет, просила подарить ей то платье, то туфли. У них были вполне товарищеские, доверительные отношения… Но это не было любовью. "Мне с тобой хорошо", говорила она ему. " Крошка сын к отцу пришел… Что такое хорошо? В постели хорошо?" "И в постели тоже хорошо", – и она кончиками пальцев дотрагивалась до его губ, предостерегая от намерения развивать тему. И все-таки это не было любовью. Так, удобное сосуществование. А настоящая любовь была пять лет назад, когда она только-только окончила школу, и, хотя ей было всего семнадцать, она выглядела вполне взрослой, и ее сразу приняли в труппу областного театра драмы (мама посодействовала; мама была когда-то любовницей директора, человека влиятельного и властного, и он до сих пор сохранил к ней добрые чувства). И тут как раз приехал из столицы хромой Магорецкий, в то время вошедший в моду режиссер, – ставить модную тогда "Чайку" (По всей России все театры вдруг начали ставить "Чайку". "Время пришло вспомнить, с чего начался современный театр", – с умным видом объясняли по телевизору театральные обозреватели, склонные любому проявлению общественного интереса придавать эпохальное значение.) В небывало жаркий сентябрьский день собрали труппу – не всех, а два состава для спектакля. Магорецкий и директор сидели за режиссерским столиком. Тёлка и еще несколько молодых актеров пришли просто так, поглазеть на знаменитость. "Вот живая Нина Заречная", – тихо сказал Магорецкий директору, глядя, как Тёлка, высокая стройная красавица, юная "мисс театр", с длинной шеей и с пучком вьющихся светлых волос, подобранных и заколотых на затылке, в скромном, ниже колена сереньком платьице проходит вдоль гладко побеленной стены в задние ряды, как вздрогнула от неожиданно громкого скрипа откидного кресла, как села, как, склонившись к соседу и дотронувшись до его руки, стала что-то тихо говорить ему. Директор испугался. Шепотом, но решительно возразил: совсем зеленая, ничего не умеет; и, если снять с роли любую из двух назначенных героинь, это вызовет скандал в коллективе. И тогда Магорецкий, остановив Тёлку по 6 7 окончании собрания, предложил ей свободно приходить на репетиции и исподволь присматриваться к роли, обещая, что он найдет время и послушать ее, и позаниматься с ней. Теперь трудно сказать, что из всего этого могло бы получиться. Может, она и сыграла бы Заречную. Но увы, она влюбилась в старого (за сорок!), хромого, похожего на черную обезьяну, на горбатого Паганини, грызущего ногти, грубо орущего на актеров Магорецкого («Все глухие! Чехова играем! Играем Че-хо-ва! А вы тащите сюда коммунальную квартиру!»). Она, девчонка, только из школы, безнадежно влюбилась в великого Магорецкого, в режиссера с мировой славой – и это была болезнь. Она думала о нем постоянно, на улице ей казалось, что он идет где-то впереди, и она почти бежала, чтобы догнать его, и не найдя его на перекрестке, не знала, в какую сторону идти дальше; во сне она без робости ласкала его и с восторгом принимала его ласки, и понятно, что днем, когда приходила на репетицию и видела его воочию, совершенно переставала соображать и теряла ориентацию. Он обычно не обращал на нее внимания, но однажды вдруг указал пальцем: "Идите попробуйте". Надо было сыграть мизансцену и дать реплику Заречной, что-то вроде: "Он скучает без человека", – но она не была способна следить за ходом репетиции и, не осознавая, с чем именно он к ней обращается, смотрела в лицо ему бессмысленным взглядом. Последовала неловкая пауза. "Она сама скучает без человека", – пошутил кто-то из хамоватых актеров. "Ау, милая, вы где?" – вдруг расслабившись, засмеялся Магорецкий и дотронулся до ее руки. Она так и не поняла, что происходит, но от его прикосновения вдруг вспотела так, что платье прилипло к телу, густо покраснела – и выскочила из зала… Слава Богу, она тогда и впрямь заболела, и болела тяжело и долго – каким-то осложненным воспалением легких, с температурой за сорок, с бредом, с провалами сознания. Месяца через полтора, когда она, похудевшая и повзрослевшая, пришла в театр, "Чайку" выпустили, и Магорецкий уехал… Он "догнал" ее через два года в Москве, когда она уже училась. Он ненадолго приехал откуда-то из-за границы, и мастер курса пригласил его для беседы со студентами… Поужинали вдвоем в "Театральном разъезде" и потом как-то запросто пошли к ней домой. Тогда, на первом курсе, она снимала однокомнатную квартиру на Поварской (у матери были деньги: она затащила в постель какого-то местного строителя пирамид, которого, впрочем, через год взорвали в его "Мерседесе", после чего Тёлке и пришлось перебираться в комнатку к пастернаковской пассии). Он приходил не часто – и всегда поздно ночью. Звонил и через пятнадцать минут появлялся. "Ты мой остров в океане", — говорил он. Океан – это спектакли в России и за границей, общественная деятельность, творческий семинар в ЦДРИ, семья, дети. С молоденькой крепкой телкой – а в его сознании большой буквы в ее имени не было – он чувствовал себя полноценным мужиком, и это была хорошая разрядка. Как в баню сходил. Он проводил у нее часа полтора или два – и уезжал. Никогда не оставался дольше. Даже поздно ночью. Даже под утро. Так продолжалось до тех пор, пока однажды, едва оторвавшись от нее, он тут же стал звонить жене, которая, видимо, лежала больная и которой он виновато объяснял, что задержался в Союзе театральных деятелей и скоро будет. Тёлка спокойно проводила его и даже поцеловала на прощание, но, когда осталась одна, проревела остаток ночи. И больше не пустила его. Ни разу. Никогда. 7 8 Она вообще была девочка самостоятельная и в ответственные моменты поступала решительно. Все старшие школьные годы она прожила вдвоем с пьющей матерью, провинциальной актрисой, легкомысленной и безалаберной, тускнеющей с годами красавицей, крайне невнимательной, если вообще не безразличной к тому, как и чем живет ее дочь. И Тёлка привыкла сама распоряжаться свой судьбой. И вот распорядилась: выгнала Магорецкого, который запросто мог обеспечить ей блестящую актерскую карьеру. Хорошо, что мама ничего не знала – она звонила бы каждый день, крича в трубку, требуя, плача, умоляя, чтобы Магорецкий был возвращен и обласкан… И Тёлка тихо, быть может, тоже плача, каждый раз одними и теми же словами просила бы мать оставить ее в покое. Впрочем тогда он снова надолго уехал за границу и вернулся только прошлым летом. И в страну вернулся, и в ее, Тёлки, Нателлы Бузони жизнь. Умер великий Громчаров, их мастер, и выпускать курс, ставить дипломный спектакль пригласили Магорецкого. К тому времени у Тёлки уже был роман с Протасовым. Да и Магорецкий теперь не проявил к ней никакого специального интереса и относился так же по-отечески внимательно, доброжелательно и ровно, как и ко всем другим студентам нечаянно доставшегося ему курса. Казалось бы, все, проехали и забыли. Но она не забыла. Она поймала себя на том, что на занятиях, как и прежде, любуется его дикой обезьяньей пластикой, и как-то ей снова приснилось, что они вместе. И, может быть, если бы он позвал… Но он не звал, и она играла роль внимательной студентки и тянула роман с Протасовым, добрым, умным, щедрым, любящим ее и поэтому с обидой воспринимающим ее заметную внутреннюю отчужденность… – А кто такой Ляпа, который вот-вот должен прийти? – спросил Протасов, когда они вышли на лестничную площадку. – Не знаю… Поэт. Бомж. Дервиш. Прижился тут. Все блатные песни знает. Во дворе ждала большая черная машина – видимо, Протасов успел вызвать по телефону. Участковый милиционер, чуть наклонившись, разговаривал с водителем, но, увидев Протасова, выпрямился и отдал честь. "Он точно не выкинет нас отсюда?" – тихо спросила Тёлка. Она всегда робела перед милицией, да и вообще перед любым начальством, и смелость Протасова казалась ей чрезмерной, вызывающей. "Нет, не выкинет, – тихо сказал Протасов, приобняв ее и целуя на прощание. – Этот дом – мой. Я его купил… Прости, я действительно должен ехать". Тыльной стороной ладони он дотронулся до ее щеки и сел в машину… Она что-то вдруг страшно устала, и ей захотелось спать. В подъезде омерзительно пахло мочой и гниющей помойкой, и, не заходя к ребятам, дверь у которых была все еще раскрыта, медленно, не поднимая глаз от ступеней лестницы, стараясь не споткнуться о валяющийся мусор и не наступить в какоенибудь дерьмо, она стала подниматься к себе. На площадке второго этажа ее ждал бомж Ляпа. Сначала она увидела его худые ноги в стоптанных шлепанцах, найденных, должно быть, в какой-нибудь пустой квартире. Она так устала, что не сразу подняла взгляд к нелепому пестрому женскому халату с шелковыми кистями – подарок ее жалостливой квартирной хозяйки – и еще выше, к серому лицу с серыми же тусклыми выцветшими, глазами. На втором этаже была всего одна дверь в квартиру, видимо, очень большую, во весь этаж, и Ляпа теперь был хозяином и этой двери, и этой квартиры, и он жестом пригласил Тёлку войти, 8 9 но ей было не до него, и она, покачав головой, прошла мимо и стала подниматься выше… Эти телефонные звонки – это все мамины штучки. Она, видите ли, нашла Тёлке отца. Или он сам объявился. По крайней мере, вчера мама в диком возбуждении прокричала по телефону, что объявился отец. Тот самый, румын, румынский офицер, чему-то там учившийся в Рязани двадцать с лишним лет назад. Господи, но ей-то, Тёлке, какое дело до незнакомого румынского офицера, когда-то переспавшего с ее матерью? Где ему место в ее жизни? Полная глупость… И все-таки в семь утра она, как дура, честно ходила ждать у телефона. Никто не позвонил – и ладно. Всё, мама, хватит… Теперь она поднялась на третий этаж, своим ключом тихо открыла дверь, неслышно прошла к себе в комнату, закрылась и, быстро скинув одежду, нагая легла в постель (она всегда спала нагая) и натянула одеяло на голову. Сквозь сон она слышала телефонные звонки, в дверь стучали, но она уже крепко спала и не хотела просыпаться. На три часа Магорецким была назначена репетиция. 3. Протасов Опять Ляпа возник. Бомж, алкаш, дервиш смердящий. Он видел его с полгода назад и даже хотел подойти, но в последний момент передумал – противно стало до тошноты – и прошел мимо, сделал вид, что не узнал. «Похоже, с этим куском говна мне всю жизнь плавать в одной проруби", – подумал Протасов. Ляпа, Лаврентий Павлович Семшов, тридцать шестая зона, первый отряд, в бараке, как войдешь, пятая шконка налево, а у Протасова – шестая. Тогда Ляпа еще был человеком, и они были товарищами. (Не друзьями, нет. Протасов взыскательно относился к слову "друг" и полагал, что оно подразумевает большие взаимные обязательства; впрочем, настоящих друзей, как оказалось, у него никогда не было, вот разве что теперь – Тёлка.) В лагере Ляпа работал каменщиком, и Протасов звал его Иваном Денисовичем, имея в виду, что сам он, хоть и вкалывает не меньше (кочегаром), но остается интеллигентом, каким-нибудь там Цезарем Марковичем, который, по сравнению со славным народным героем Иваном Денисовичем, все-таки человек второго сорта. И Ляпа, со своей виновато-смущенной улыбочкой, принимал эту игру и отвечал поговорками: "Ничего, Цезарь Маркович, что ни делается, все к лучшему… В каменном мешке, а выдумка вольна. Больше воли – хуже доля. Чья воля, того и ответ ". На удивление зэкам, они всегда обращались друг к другу на "вы". Впрочем, Протасов, и к надзирателям обращался на "вы" и "будьте добры". А по утрам всем, кого встречал в бараке, или кого обгонял, или кто его обгонял на десяти метрах гравийной дорожки от барака к площадке построения, – всем говорил "доброе утро". Глина Пуго, крутой лагерный авторитет, живший на зоне отдельно от всех, в благоустроенном вагончике, решил даже, что мужик косит под психа: "Доброе утро… Будьте добры… Спасибо… Ты или пизданутый, или маркиз", - сказал он однажды и засмеялся своим низким, рокочущим смехом, показывая замечательно ровные белые зубы. 9 10 И на Протасове тут же повисла кликуха – Маркиз. Погоняло село на него как родное и перелетело за ним на волю, и теперь некоторые знакомые не могли вспомнить его имя-отчество, но знали, что он Маркиз Протасов. Прозвище ему даже нравилось, и он часто подписывал свои статьи П. Маркиз… Редакционная планерка была назначена на одиннадцать, но машина уже минут пятнадцать стояла в плотной пробке на Большой Никитской при выезде к Манежу. Авария, что ли? Или важный чин – мэр, премьер, сам Президент – должен был проехать мимо, и милиция, освобождая дорогу, надолго, на неопределенное время перекрыла движение. Эта властная бесцеремонность оскорбляла Протасова: как-то он даже распорядился подготовить в "Семейных новостях" – в своей главной и самой читаемой газете – злой репортаж о том, как и куда опаздывают и что теряют люди, когда им приходится по часу выстаивать, пропуская правительственные кортежи. Репортаж был замечен, и Протасову звонили из президентской администрации, выражали свое неудовольствие, и он вывел свой телефон в общую трансляцию, чтобы все сотрудники издательства слышали, как, заикаясь и (можно было легко вообразить) краснея от злости, кричит президентский чиновник, и знали, что труды их не напрасны и материал прочитан там, куда и был адресован… Он сказал шоферу, что пойдет пешком, и, выйдя из машины, сразу свернул в переулок к Тверской… Вчера он перебрал. Вообще-то он хоть никогда и не отказывался выпить, но напиваться не любил. Но вчера… Какая-то мерзкая тусовка, зачем-то он лез обниматься с людьми, которые ему неприятны и которые знают, что он их не любит, и, в свою очередь, не любят его. Почемуто именно там он отвел в сторону Глину Пуго, своего нынешнего компаньона, и сообщил, что выходит из дела, и тот, белозубо засмеялся и сделал вид, что принимает все за пьяную шутку, и обнял его за плечи и повел обратно к Тёлке и тихо посоветовал ей везти его домой. И Протасов вдруг ощутил гулкую пустоту вокруг сердца, бьющегося где-то высоко, чуть ли не в горле. И он сказал Тёлке, что, если она его когда-нибудь бросит, он застрелится. А она сказала, что хватит пить, и решительно повела его к выходу, и он подчинился. Милая, отважная Тёлка… Теперь, идя по улице, он набрал ее номер. Подошла старая Настя, квартирная хозяйка. Нателлочка дома, но, видимо, спит. Ей уже звонил кто-то, и хозяйка стучала в дверь, но Нателлочка не отвечает. "Кстати, Семен, я на вас обижена. Вы обещали прийти на наше собрание. Был интереснейший доклад о Гейдсвилском полтергейсте". Он извинился: он в дороге и не может долго разговаривать. Сумасшедшая старуха. Несколько невпопад он прозвал ее Фон Мекк. Невпопад, потому что она была нищей. Всю жизнь она прожила в нищете, и теперь на старости лет ей взбрендило, что она разбогатеет. Найдет клад. Или научится предсказывать судьбу и станет модной гадалкой. Кажется, она даже в психушке лечилась по этому поводу. Теперь вот полтергейст… Господи, с чего это вдруг он утром брякнул, что он – владелец этого дома? Он, в общем-то, не скрывал, что он – человек небедный, и Тёлка знала, что у него свой Издательский дом, газеты, журналы, что он легко может позволить себе и поездку с ней в Париж, и тряпки купить, какие ей захочется. Но он страшно боялся, что в какой-то момент она решит, что он покупает ее, и почувствует себя оскорбленной. Но еще больше он боялся, что в конце концов между ними действительно состоится сделка купли-продажи. Он любил ее. Он, Семен Протасов, взрослый, самостоятельный, сорокалетний мужик с пестрой биографией, с именем, с положением, с деньгами, за последние годы перетрахавший пол-Москвы, – он вдруг понял, что 10 11 жизнь для него теряет половину интереса, если рядом не будет этой женщины. Он любовался ею постоянно – ее юным лицом, ее от природы вьющимися русыми волосами, собранными пучком на затылке, женственной пластикой ее рук, ее манерой говорить слегка нараспев, ее неизменно доброжелательным, слегка смущенным обращением к людям – знакомым и не знакомым, ее умением по-детски счастливо смеяться. И любуясь ею, он хотел ее постоянно, мечтал о ней постоянно, даже ее голос по телефону вызывал у него эрекцию. И часто, когда она лежала рядом утомленная его вновь и вновь повторяющимися ласками, он думал, какое это было бы счастье, если бы она родила ребенка. В эти минуты он любил не только ее, но и ребенка, быть может только что зачатого... Но ребенка не было, и он даже не был уверен, что она любит его. Ему все время казалось, что она как-то отдалена, что между ними какая-то плотная стеклянная – все видно, но недосягаемо – перегородка. Но когда он начинал говорить об этом своем ощущении, она лишь молча касалась пальцем его губ. И вот теперь оказалось, что он хозяин этой трущобы, где вынуждены жить и она, и ее друзья… Купил, купил он этот дом полтора года назад, сразу после того как продал свою "дочку" — хорошо раскрученное телеграфное агентство, соблазнился и купил, дурак, и теперь никак не мог отделаться от него. Прилипла к нему эта паскудная недвижимость, к его судьбе прилипла. Начальная идея заключалась в том, чтобы нынешнее строение не сносить, но радикально реконструировать и достроить. Сам этот дом конца ХIХ века (мрачноватая серая громада, привлекающая изысканной строгостью форм) должен был стать центром архитектурного ансамбля элитной гостиницы ультракласса на сто номеров с зимним садом на крыше и трехэтажным подземным гаражом (уникальный для центра города участок позволял!). Он нашел крепких партнеров – два небольших банка, с которыми у него уже несколько лет были надежные доверительные отношения, и пригласил своего лагерного знакомца – Яна Арвидовича Пуго, больше известного как Глина. Глине, теперь выбившемуся в верхи российского бизнеса, чуть ли не в олигархи, гостиница была совершенно ни к чему, но он вдруг заинтересовался и сказал, что в дело вложится: "Лагерного кореша надо поддержать". Гостиница должна была окупить затраты лет через пять или даже раньше и потом давать стабильную прибыль. Это была давнишняя мечта Протасова: покончить с издательским бизнесом, с газетой, со своей собственной политической публицистикой – и стать тихим частным лицом, рантье с прочным годовым доходом, стричь бабки с какого-нибудь неброского, но солидного дела. Он как-то устал и вдруг утратил тщеславие, двигавшее его все последние годы вперед и вперед. Ему обрыдло быть лидером. Обрыдло быть рупором общественного мнения, его перестали радовать звонки высокопоставленных и влиятельных знакомых после какой-нибудь удачной "заметки редактора" ("Старик, ты гений: ты ему (ей, им) влупил по самый корешок. Я готов подписаться под каждым твоим словом!"). В новом деле он даже не хотел быть руководителем компании – ну разве что юридическим, номинальным, но никак не исполнительным. Жить он мечтал за городом или вообще за границей. Писать что-нибудь в свое удовольствие (быть может, прозу, рассказы, роман, наконец, – до сих пор он так и не написал ничего о своей лагерной жизни, да и вообще о своей жизни), но чтобы не заботиться о литературном заработке. Ходить в театры – все равно, здесь или в Париже, – много читать, слушать музыку. В последнее же время во всех этих мечтах рядом 11 12 с ним обязательно присутствовала Тёлка. По сути-то теперь это были мечты о ней, о жизни с ней… Издательский дом – дело рискованное, или, как говорят экономисты, рисковое. Он требует его ежедневного, ежечасного присутствия и участия, иначе компаньоны завалят бизнес, и вообще не с чего жить будет. Здесь надо все время рваться вперед, быть среди ста самых влиятельных политиков, в десятке самых читаемых публицистов, в пятерке самых тиражных газет. Вывалишься из обоймы – и тут же рухнет всё, что ты день за днем создавал в течение десяти лет. И останешься нищим… А вот гостиница – как раз предприятие стабильное, прочное: раз отлаженное, оно само покатится, подталкивать не надо. Прибыль не велика, но и риски минимальны. Проект был сначала поддержан московскими властями. И дело шло как по маслу: согласования, экспертизы, разрешения – всё давалось с первого раза и легко. Со взятками, конечно, но со взятками вполне терпимыми. И вдруг в какой-то момент – именно вдруг, словно кто-то повернул выключатель – движение намертво застопорилось. Чиновники перестали принимать взятки – не то чтобы стали требовать больше, а просто перестали брать, – и это означало, что в дело вмешались какие-то могучие конкуренты. В конце концов Протасова вызвали в мэрию и дали понять, что власти не заинтересованы в строительстве гостиницы, а хотели бы дом снести и поставить здесь коммерческий культурноразвлекательный центр: две сцены – концертная и театральная, кинотеатр, дискотека, конференц-зал – ну и все, что к этому прилегает: ресторан, ночной клуб, бары и видеопрокат, подземный паркинг и т.п. Возможно, даже небольшое казино. И если Протасов готов повернуть свои усилия (и деньги) в эту сторону, ему будут оказана всяческая поддержка. И все затраты, которые он уже сделал, ему будут компенсированы. И тут вдруг позвонил Глина Пуго, не поленился сразу приехать (с ним три человека охраны: двое впереди, один сзади, на подстраховке) и заявил, впрочем, вполне дружески, что если Протасов будет держаться за гостиницу, то он, Глина, свои деньги из дела забирает. А если такой авторитет, как Глина, говорит, что выходит из дела, то это значит, что он-то, может быть, свои деньги и не заберет, а вот твоим капиталам уж точно кранты… Протасов выходил из подземного перехода, что возле Думы, когда телефон запищал "Маленькую ночную серенаду". Звонил Глина – как ни в чем не бывало, как будто никакого разговора вчера не было. Только по делу: «Маркиз, есть предложение. В правление холдинга – ты понимаешь, по культурному центру – введи, пожалуйста, Сергея Вениаминовича Магорецкого. Он будет моим представителем. Это знаменитый режиссер. Ты увидишь, он очень полезный человек. Он сейчас у меня, а тебе позвонит в середине дня. Или ближе к вечеру, – у Глины был мягкий, глубокий бас, и он медленно развешивал черный бархат своей речи, словно занавешивал пространство вокруг собеседника. И смеялся он медленно и глубоко, не смеялся, а музыкально рокотал (Протасов представил себе рекламный блеск его белоснежных ровных зубов). – Ты, брат, вчера был хорош. Интеллигент интеллигентом, а умеешь, оказывается. И Тёлка у тебя – ну, чисто звезда, поздравляю". Говорил только Глина, Протасов молча слушал. И Глина закончил разговор и повесил трубку, даже не спросив собеседника, все ли он услышал и понял: раз собеседник молчит, значит, у него нет вопросов. Мысль о том, что собеседник может быть с ним не согласен, Глине никогда не приходила в голову. Если такое и случалось, это была проблема самого собеседника – и только его. 12 13 4. Магорецкий Как и все, кто в последние десятилетия учился в театральном институте, Магорецкий суеверно побаивался старушки-секретарши (или, как теперь стали говорить, референта), многие годы бессменно сидевшей в приемной у ректора. За маленький носик с горбинкой, за черные блестящие глазки на маленьком темном личике, ну и, конечно, за то, что она вечно куталась в черную кашемировую шаль, ее давным-давно, быть может десять студенческих поколений назад (уже и тогда она была старушкой), прозвали Младой Гречанкой. Что уж там произошло у нее в жизни, никто не знал, но она всегда была в трауре, который, впрочем, вызывал у студентов не столько сочувствие, сколько мистическое предощущение беды. И действительно, было проверено многократно: если Гречанка встретит тебя в коридоре и своим низким прокуренным голосом пригласит зайти к ректору – добра не жди. И вчера, когда при входе в институт маленькая черная тень метнулась навстречу Магорецкому и сухо, без интонаций сообщила, что ректор ждет его, он подумал, что речь наверняка пойдет о спектакле и что спектакль закроют. Сам Магорецкий был брезгливо далек от институтских слухов и дрязг, но на последней репетиции Балабанов и Гриша Базыкин сообщили, что «наверху" точно принято решение работу над дипломом прекратить: "Весь деканат об этом говорит". Они и Гречанку спрашивали, и та, закрыв глаза и изобразив на личике сочувственную гримаску, печально покивала головой. Ребята были возбуждены и встревожены, тут же на репетиции начали было митинговать и хотели составлять какую-то петицию, но Магорецкий деревянным молотком (молоток для отбивки мяса, купленный Гришей Базыкиным на рынке и подаренный мастеру студентами на первом занятии) три раза громко ударил по режиссерскому столику: "Прекратили базар и начали работать. Наташа и Пепел на сцену". Он, Магорецкий, пока еще мастер курса, ни о каких приказах ректора он ничего не знает и будет репетировать. Его пиджак уже висел на спинке стула, и мобильный телефон был выключен – демонстративно, в назидание всем. И будьте любезны работать ("Будьте! Любезны! Ра-бо-тать!"). Скандал назревал с осени, по мере того как по Москве ширились слухи, что, вернувшись из-за границы после трех лет отсутствия, Маг ставит в студенческом театре что-то совершенно непотребное, за гранью приличия – какой-то модерн из модернов. Впрочем, в учебных планах официально было заявлено вполне скромное название спектакля "Играем Горького…" и указывалось, что в основу будет положена пьеса "На дне". Вообще-то сама идея взять для диплома именно "На дне" досталась Магорецкому в наследство вместе с курсом – от покойного Громчарова, который еще в тридцатые, совсем молодым актером, был во МХАТе введен в легендарный спектакль Станиславского на какую-то второстепенную роль (теперь уж никто не помнил, на какую). Ректор, одержимый приверженец русской театральной классики, идею горячо поддержал. И Магорецкий, принимая курс, без долгих раздумий согласился: отлично, пусть будет "На дне". Тем более что лет десять назад он не без успеха уже поставил "На дне" в Японии. В молодости он читал пьесу "наоборот" – как текстовую запись великого спектакля, который не успел посмотреть на сцене, но который – мизансцена за 13 14 мизансценой – знал по мемуарам и кинокадрам. Он любил этот философский диспут, который горьковские эстетизированные босяки ведут во мхатовской художественно обустроенной ночлежке (сценография Добужинского? или Сомова?). Это в русской традиции – вложить Истину в уста человека все потерявшего, обреченного, без будущего. Перед любимым народным героем – песенным вором, бродягой, разбойником, пушкинским Пугачевым, человеком вне закона и морали – ничего, кроме смерти, не маячит. "Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка, не мешай мне, добру молодцу, думу думати"… Думать он, видите ли, будет – философ на краю пустоты. Таковы по Станиславскому и герои горьковской пьесы: они думу думают. В спешке соглашаясь взять курс (Громчаров умер в начале учебного года, и ректор торопил с решением), Магорецкий самонадеянно не стал перечитывать пьесу. Студентов посмотрел в этюдах и остался доволен: с этими ребятами можно работать. Тут же прикинул в общих чертах, что как и кто как будет выглядеть, даже разбросал их по ролям (пока только про себя, в уме): красавец Балабанов – Пепел, смышленый Базыкин – Сатин, мягкая и добрая Нателла Бузони – его любимая Тёлка – конечно, Наташа. (Об этом последнем назначении он думал с особым удовольствием: его по-прежнему сильно влекло к ней, и он предугадывал, как славно будет работать с ней на репетициях, а может быть, в конце концов вновь окажется в одной постели. Прости, Господи, эти сладостные мысли.) На курсе был даже Лука – спокойный, несколько флегматичный парнишка, чем-то похожий на великого мхатовского Грибова, и даже по фамилии – Грибов… Наконец Магорецкий окончательно согласился, и был подписан приказ о его назначении (и студенты аплодировали, получив такого мастера – тут-то и был подарен деревянный молоток для отбивки мяса). И вот только теперь он взял в руки пьесу и, извлекши свои прежние записи, сел писать режиссерскую разработку. Он читал… и вдруг с тоской начал понимать, что горьковский текст совершенно не пригоден для сегодняшней постановки на сцене. По крайней мере в России. "Люди живут для лучшего!" "Человек выше сытости". "Ложь – религия рабов и хозяев. Правда – бог свободного человека!" И так далее, и так далее. Ну бредятина же! За сто лет (да нет, не за сто, а за последние десять!) все эти максимы утратили свой социальный пафос… и тут же вообще лишились высокого смысла и превратились в банальность. Они уже не могут, как прежде, обозначать идейную вершину спектакля. Но ведь других-то мыслей там нет: читаешь текст – и опереться не на что. Есть, конечно, с десяток реприз, на которых публика будет ржать, но вся пьеса в целом – как старомодная тяжелая мельница, которая мелет труху, – и ничего, совершенно ничего живого, чтобы слепить современный спектакль. Не ставить же иллюстрацию к школьной хрестоматии по русской литературе, как он, положа руку на сердце, сделал когда-то в Японии. Вот и приехали. Шуму-то, шуму! Знаменитый Маг, почти классик, работает с молодежью! И пожалуйста – классически обкакался. А ведь, принимая курс, он строил далеко идущие планы: хотел утвердиться на родине, хотел, чтобы его перестали считать "опальным художником»... Когда-то, почти двадцать лет назад, его, молодого и подающего надежды, попросту лишили работы, запретив театрам иметь дело с "театральным хиппи" – так его походя в каком-то обзоре назвала "Правда»: "Он и Чехова ставит, как Беккета, – как пьесы абсурда". 14 15 Понятно, что еще до горбачевской перестройки он при первой же возможности уехал за границу. Его приглашали и Стреллер, и Барро, и Питер Брук… Он сразу поставил "Чайку" в "Комеди франсез" (оглушительный успех!), потом – "Три сестры" в Лондоне (восторженная пресса) – и пошло, и пошло. Пятнадцать лет мотался по свету – то в Германии, то в Штатах, то вот даже в Японии. И в новые времена домой в Россию приезжал тоже как гастролирующий режиссер: спектакль во МХАТе, спектакль в БДТ. Изредка, по прихоти, где-нибудь в провинции, впрочем, недалеко от Москвы, например в любимой Рязани, где когда-то начинал юным выпускником института. Колеся по свету, он, конечно, заработал и имя, и немного денег. Но теперь вдруг понял, что потерял больше. Если взять его ровесников-режиссеров – даже тех, кто сильно уступал ему в известности, – то все они, и московские, и питерские, за последние годы обзавелись своими театрами. Он один остался театральным бомжем. А к пятидесяти человеку ой как хочется иметь свой театр, своих актеров, свой репертуар. Но вот, казалось, пришло и его время. Приехав в Москву прошлым летом, он едва успел попрощаться с Громчаровым, умиравшим от рака в отдельной палате ЦКБ (Герой Соцтруда, в какие-то годы даже член ЦК партии, заслужил почетное право умереть в "Кремлевке" – на чистых простынях и с персональным унитазом). Учитель был слаб, но мыслил ясно: "Когда все кончится, возьми моих ребят, – сказал он, жестом останавливая Магорецкого, готового говорить что-то утешительное. – Всех возьми, всех. Это лучший курс в моей жизни. Возьми и сделай свой театр". Насчет лучшего курса старик, может, и перегибал – к старости он сделался сентиментален: говорили, что плачет, когда студенты показывают ему какой-нибудь за сердце берущий этюд (например, объяснение Ромео и Джульетты в исполнении супругов Балабановых). И каждый новый выпуск у него был "лучший". И каждый режиссер, учившийся у него, был "его гордостью". Но Магорецкого он все-таки отличал: "Ты работаешь так, как я всегда мечтал, но не осмеливался", – сказал он когда-то. И поддерживал и защищал ученика до последнего и пятнадцать лет назад демонстративно приехал в "Шереметьево" – провожать, когда тот с легкой сумкой через плечо улетал за границу. Многим казалось, что навсегда. Громчаров умер через неделю после этого разговора. А еще через неделю Магорецкому позвонил ректор института и предложил взять дипломников: такова воля покойного. Находясь под впечатлением разговора с умирающим, Магорецкий согласился, хотя отлично знал, что ректор еще с советских времен терпеть его не может: тогда этот деятель вместе с другими подписал письмо (а по сути дела, донос) с требованием лишить советского гражданства "отщепенца" Магорецкого, выступающего на Западе с клеветническими выпадами против Отечества вообще и против советского театра в частности. Согласился, потому что самонадеянно полагал, что теперь он этому "театроведу в погонах" не по зубам. Согласился, посмотрев актеров, – действительно талантливый курс. Согласился, потому что его давнишняя идея создать свой театр, теперь, озвученная, как бы ретранслированная ему учителем со смертного одра, причем с указанием, как именно следует это сделать, воспринималась как мистическое предначертание, как указание свыше… Впрочем, и в плане чисто практическом дело казалось выигрышным: знаменитая пьеса, знаменитый режиссер, молодые талантливые актеры – почти гарантированный успех позволит найти денег на раскрутку нового театра. 15 16 И вот теперь полный провал. Актеры-то, может, и талантливые, да он бездарен. Конечно, можно быстренько предложить какую-то другую пьесу, хоть того же Чехова, хоть ту же до мельчайших мелочей обсосанную "Чайку". Но этих "Чаек" по миру и по России им уже штук пять запущено, и так они уже навязли у всех в зубах, что диплом-то актерам, может, и засчитают, а вот новый театр с таким спектаклем точно не раскрутишь. Работая на Западе, он хорошо усвоил, что искусство: отрасль коммерции, и только свежий товар пользуется спросом. Он было совсем упал духом и стал малодушно соображать, к какому из отложенных или отвергнутых предложений о работе на Западе теперь следует вернуться. Но тут произошло чудо – иначе не назовешь (вот оно, предначертание!). После бессонной ночи, совершенно разбитый, выпив какуюто звериную дозу кофе, он поехал в институт – на метро, потому что сесть за руль в таком разобранном состоянии было небезопасно. Поехал, чтобы поговорить со студентами, которые ждали, что сегодня состоится назначение на роли, и которым теперь он должен был сказать, что ничего у них не получится. Начал издалека – о способах современного прочтения классики. Чтобы оттянуть последнее объяснение, предложил всем высказаться, в надежде, что кто-то выразит сомнение в возможности такой постановки, и тогда он за это сомнение зацепится… Но первым встал Гриша Базыкин и сказал, что он говорить ничего не будет, а вместо этого – вот тетрадка, сцены из жизни современных бомжей и наркоманов, что-то вроде дневника, – он считает, что поставить современный спектакль "На дне" без знания этой сегодняшней жизни невозможно, – и не захочет ли Мастер взглянуть? Магорецкий, который в душе уже напрочь отказался от идеи ставить Горького и был готов объявить об этом, тетрадку все-таки взял. Слушая следующего говоруна, он открыл ее посредине наугад, прочитал одну реплику, вторую, стал читать дальше, дальше, – и перестал слышать. Студенты высказывали свои соображения о Горьком, о Чехове, об Островском, завязался какой-то диспут, но Магорецкий оглох и с головой погрузился в текст. Ему вдруг стало жарко: Господи, кажется, это было то, что нужно. Живые ситуации. Живой язык – хоть и жаргон, но живой, живой. За каждой репликой – живой человек. В каждой сцене – живые люди. Точно, живые? Ну, относительно живые. Все еще живые. Пока живые. Бомжи, проститутки, алкоголики, наркоманы. Та самая горьковская пограничная пустыня на краю смерти. – Откуда это? Кто автор? – спросил он, невпопад прервав кого-то из студентов и подняв в руке тетрадку. – Чье это? – Автор есть, – сказал Базыкин. – Ну, то есть как сказать – автор… Есть бомж один со стажем. Он говорит, а мы записываем. Фольклор. Быстро свернув занятия (занят, деловое свидание) и, к общему разочарованию, отложив решающий разговор, Магорецкий буквально выбежал из института, поймал такси и в машине сразу открыл тетрадку – теперь с самого начала. Он читал, и спектакль начал складываться тут же… Дома, извинившись перед домработницей, у которой был уже готов обед, он закрылся в кабинете. И три недели работал не разгибаясь. Он перенес действие в наши дни. Из двух десятков обитателей ночлежки он оставил лишь половину. И теперь это были не босяки, но актеры, разыгрывающие горьковскую пьесу. И не актеры в театре – какое же тогда "дно"? Пьесу разыгрывали люди, сами оказавшиеся на дне сегодняшней жизни, – алкаши и наркоманы в притоне, "зависшие", месяц уже не просыхающие или 16 17 не слезающие с иглы, не имеющие ни сил, ни желания выбраться отсюда. Среди них – два-три бывших актера (мало ли какие бывают компании – это нетрудно обосновать) или просто некогда интеллигентные люди, знающие текст пьесы, принимающие на себя роли горьковских персонажей (и не обязательно по одной) и применяющие их к себе, к своему сегодняшнему положению. Пытаясь осмыслить, что с ними происходит, они начинают жить в обстоятельствах горьковской ночлежки, в ролях, в идеях… Сегодняшнее отребье общества примеряет к себе художественный образ того отребья, которое Горький показал сто лет назад. За сто лет куда люди продвинулись? Да и продвинулись ли? А может быть, правильно спросить, куда театр продвинулся? Или вообще искусство? Теперь работать было интересно. За три недели, набрасывая свой постановочный план, Магорецкий написал, по сути дела, новую пьесу, в которую был вкраплен горьковский текст и где были использованы горьковские сюжетные линии. Но наравне с каноническим текстом здесь присутствовал и текст из базыкинской голубой тетрадки. Роли он распределил примерно так, как и намечал сначала, только вот текст Луки-утешителя отдал женщине. Точно, точно – в современном притоне именно женщина должна утешать и обнадеживать. И этой женщиной будет Тёлка Бузони. В предстоящей работе ему еще не все до конца было ясно, но он уже начал репетировать со студентами ежедневно… И тут же по городу поползли слухи, что Маг настолько осовременил Горького, что все это сильно смахивает на порнуху: наркоманы, проститутки, групповой секс. Наконец тучи сгустились и грянул гром: неделю назад на рабочей репетиции побывали члены институтского худсовета и вышли из зала, скорбно качая головами и разводя руками. Уже на следующий день стало известно, что на имя ректора поступило письмо, подписанное четырьмя студентами-дипломниками (все из второго состава, и среди них – тот "маленький Грибов", которому так и не досталась роль Луки, но который, видимо, на нее сильно рассчитывал), где говорилось, что спектакль "На дне" ("Играем Горького…") в постановке мастера их курса Магорецкого Сергея Вениаминовича есть не что иное, как пропаганда наркомании и глумление над русской классикой, и они, молодые русские актеры, отказываются принимать участие в этом блудодействе. Письмо было набрано на компьютере, и слово блудодейство было выделено жирным курсивом и подчеркнуто, – и это, видимо, означало, что начальство должно обратить внимание на какую-то особенную, чудовищную безнравственность всего, что явлено на сцене. Приказ ректора "о приостановке репетиций дипломного спектакля „Играем Горького…“ с целью пересмотра его нравственных концепций" был издан сразу. По крайней мере, когда, памятуя об утреннем приглашении траурной секретарши, Магорецкий после репетиции зашел в приемную ректора, старушка, зябко кутаясь в шаль, молча показала ему уже подписанный и пронумерованный экземпляр. Ректор был занят, приема следовало подождать, и Магорецкий, взяв чистый лист бумаги и ручку, тут же присел сбоку к столу и написал заявление об освобождении его, Магорецкого С. В., от обязанностей руководителя курса и об увольнении из училища по собственному желанию. И вышел. О чем разговаривать, если дело уже решено без него? Не милости же просить. Да и не будет здесь никакой милости. Однако к этому времени уже можно было угадать, что спектакль удается. Бог с ним, с гэбешником-ректором, с пуристами из худсовета с их пыльными 17 18 традициями. Буквально накануне их визита Магорецкий пригласил на репетицию своего давнего приятеля Анатолия Смерновского, признанного старейшину цеха театральных критиков, и с ним пришел кто-то из молодых театроведов, и они были в восторге и прочили спектаклю громкую, быть может, даже мировую славу. "До сих пор ничего подобного не было! Слушай, Маг, где ты нашел таких актеров? Или из чего ты их сделал?" – тихо говорил Смерновский, слегка наклонившись к Магорецкому, но не отрывая глаз от сцены, где Базыкин читал монолог Актера, забывшего свои любимые монологи. Магорецкий промолчал: хвалить спектакль до премьеры – плохая примета. И точно: спектакль закрыли всего три дня спустя. Но когда это произошло, когда слух об этом молниеносно распространился по Москве, Смерновский был первым, кто вечером, нет, даже поздно ночью позвонил Магорецкому: "Ты с Пуго знаком? С Яном Арвидовичем Пуго, с Глиной. Нет? А между тем он твой горячий поклонник. Я только что разговаривал с ним. Нет, я совершенно трезвый. Ты телефон запиши и утром позвони... Впрочем твой телефон я ему дал … Это очень, очень влиятельный человек. Знаешь, какие бабки он отвалил Марку Сатарнову? Он может всё". Этот звонок разбудил Магорецкого, уже уснувшего было в кабинете на диване, и, повесив трубку, он в раздражении хотел выключить телефон из розетки, но тут аппарат снова запел: молодой человек представился помощником Яна Арвидовича Пуго и, извинившись («Не разбудил ли?»), спросил, не сможет ли Сергей Вадимович завтра утром подъехать к Яну Арвидовичу. В восемь тридцать – к завтраку. Сможет? Отлично! "Машина будет ждать вас в восемь у вашего подъезда". И не спросив адреса, он пожелал доброй ночи и повесил трубку. 5. Глина Читать книги Глина начал поздно, уже подростком. Он воспитывался в детдоме, и, когда ему исполнилось пятнадцать, его положила к себе в постель старшая пионервожатая, запоздалая красавица с пухлыми, влажными, всегда чуть приоткрытыми губами и в белой блузке с красным галстуком, лежавшим почти горизонтально на ее высокой груди. Пионервожатая выполняла также и обязанности детдомовской библиотекарши, и мальчик, получив доступ к ее телу, получил свободный доступ и к книгам: она сделала его своим помощником в библиотеке. Любовь-то, в те годы его еще не особенно увлекла, а вот читать он начал запоем: на всех уроках, на всех собраниях у него под партой, под столом на коленях всегда лежала раскрытая книга. Героем его детских мечтаний, его идеалом, которому он хотел бы подражать, был граф Монте-Кристо. Однако молодой Эдмон Дантес, влюбленный, простодушный и беспомощный, вызывал его раздражение, а иногда и презрение. Перечитывая роман вновь и вновь, Глина стал пропускать первые полтораста страниц и начинал со слов "Дантес прошел через все муки, какие только переживают узники, забытые в тюрьме", – здесь кончалась судьба беспомощного страдальца, простодушного "лоха", вызывающего неприязнь, и начиналась жизнь борца и победителя, холодного и расчетливого авантюриста, 18 19 получившего бесконечную власть над людьми. По крайней мере, именно так понимал роман юный Пуго, воспитанник Заболотновского детского дома. Впрочем, по фамилии его тогда никто не называл. Пионервожатая не только подтолкнула его к чтению, не только причастила сладкому таинству женского тела, но и дала прилипшую на всю жизнь кликуху – Глина. Саму ее звали Галина Васильевна, но, обращаясь к ней, парень смущался, начинал краснеть, заикаться и произносил ее имя как Г'лина. И она, с любовью глядя ему в лицо, смеясь повторяла: "Ты мой Глина". И весь детдом, знавший, конечно, о "смычке" пионервожатой и воспитанника, произносил их имена рядом, как каламбур: Галина и Глина. Но шутить по этому поводу с самим Глиной никто не решался: в свои пятнадцать он был не по годам развит и силен физически, и в драке, склоняя голову, как бык, становился яростен и неудержим. Да он еще и моложе был, а уже, подравшись с детдомовским истопником, бывшим лагерником, синим от татуировок, все еще здоровым, хоть и крепко пьющим мужиком, чуть не убил его – так отделал, что тот попал в больницу, а Глину забрали в районную КПЗ и завели на него уголовное дело "по факту нанесения тяжких телесных повреждений". В КПЗ его продержали месяца три, но в конце концов освободили, дело закрыли ("учитывая личности обвиняемого и потерпевшего"), а забирать его и сопровождать домой, в родной детдом, как раз и послали пионервожатую. Забрать-то она его забрала, но привезла только через три дня, проведя с ним все это время в райцентре на квартире у подруги, не вылезая из постели. С этого-то любовь и началась… Директор детдома, хоть и называл Галину Васильевну за глаза отвязанной блядищей, вынужден был до поры до времени терпеть ее: она была любовницей престарелого первого секретаря обкома, который собственной волей и определил ее сюда на работу. Недалеко от детдома были обкомовские дачи, и когда Сам запирался здесь, чтобы три-четыре дня пить не по-детски, в детдом приезжала "Чайка", и пионервожатая на несколько дней исчезала – якобы приводить в порядок дачную библиотеку. При очередной кадровой перетряске первого секретаря отправили на пенсию, и он уехал из области в неизвестном направлении, а пионервожатую директор детдома тут же выгнал. И не просто выгнал, а еще на этом и оттянулся по полной программе: вписал ей в личное дело "моральную неустойчивость до степени половой распущенности", после чего вряд ли кто-нибудь подпустил ее близко к работе с детьми. Ну разве что опять через какую-нибудь начальственную постель: баба-то все-таки была соблазнительно хороша!.. Впрочем Глина обо всем этом узнал позже, поскольку в то время, как и полагается будущему графу Монте-Кристо, уже снова сидел за решеткой. Он никогда не испытывал мук, "какие переживают узники, забытые в тюрьме". В неполные шестнадцать лет от роду осужденный по 102-й статье, пункт "б", "убийство, совершенное из хулиганских побуждений", он был принят колонией для несовершеннолетних ("малолеткой") уже как авторитетный зэк. Юные дегенераты, "бакланьё" и "чмудики", упрятанные в колонию родителями или соседями за детское хулиганство и мелкое воровство, испытывали перед его статьей священный трепет. ("В детскую музыкальную школу поступил победитель международного конкурса виртуозов", – пошутил как-то Протасов, выслушав историю первой Глининой ходки. На самом-то деле Глина никого не убивал, и даже не участвовал в драке, во время которой было совершено случайное убийство, но директор детдома, не простивший ему 19 20 внимания пионервожатой, к месту вспомнил избитого истопника и так все устроил, что срок получил именно Глина.) Тяжелая статья, по которой Глина был осужден, сослужила добрую службу: юного убийцу с крутым и вспыльчивым нравом в колонии побаивались, и он мог позволить себе много читать и даже неплохо учиться, не вызывая явных насмешек над этим сучьим, в представлении малолетних уголовников, занятием. В шестнадцать он уже хорошо понимал, что в жизни ему никто не поможет и добиваться всего он должен своими силами. И он добивался: на волю вышел с аттестатом зрелости (и с отличными характеристиками) и через год поступил в занюханный областной сельхозинститут, тут же закорешился с натасканными ребятишками из обкома комсомола, и еще до получения диплома ему устроили снятие судимости. Окончив институт, он сразу пошел в обком инструктором, а потом и завотделом. И хотя из обкома комсомола он через несколько лет опять отправился за решетку, никак нельзя сказать, чтобы это было крушением судьбы: работая под крышей обкома, где он курировал правоохранительные органы, он к моменту ареста стал уже настолько крутым криминальным авторитетом, что очередная ходка в тюрьму и в лагерь только увеличивала и авторитет, и возможности для бизнеса. К этому времени его жизненная позиция, идеология его жизни уже вполне сформировались, и в эпоху хозяйственной и административной разрухи ему, сильному, умному, инициативному мужику, набрать под эту позицию, под эту идеологию достаточно денег – когда откровенным рэкетом, когда бурной производственной деятельностью, когда изобретательным использованием правовой неразберихи – оказалось делом совсем не сложным. В конце концов, он своего добился: сделался холодным, расчетливым хозяином судьбы – и своей, и многих чужих. Возвратная форма глагола здесь вполне уместна: именно сделал себя. ("I am a self-made-man", – любил он пророкотать поанглийски, за каким-нибудь ресторанным обедом рассказывая о себе иностранцам, которых хотел привлечь к своему бизнесу.) И таковым – полным хозяином своей судьбы – он видел себя сам, но только до 8 марта прошлого года, когда жена попросила сделать ей необычный подарок к Женскому дню: сходить с ней на мужской стриптиз. Они поехали в "Ночной дозор". И в этом клубе, глядя на заменявший сцену освещенный пятачок зала и думая при этом о каких-то своих, посторонних делах, совершенно трезвый, при ясной голове и холодном сердце, он почувствовал вдруг сильное влечение к молодому актеру, почти обнаженному, в тонкой набедренной повязке исполнявшему – к зрителям спиной – какой-то медленный танец и с ленивой пластикой обнимавшему себя за плечи. Эта ленивая пластика, эти руки на плечах особенно подействовали на Глину. Влечение было настолько сильным и определенно выраженным, что он, пятидесятилетний мужик, смутился и покраснел. Ему показалось, что жена поняла, что с ним происходит. "Душно здесь, – сказал он. – Душно и скучно. Поехали домой." Он знал, что делает: найти потом этого парня было не трудно, в пестрой программке рядом с названием номера – "Египетский невольник" – значилось: исп. Аверкий Балабанов. Его внезапная любовь к Верке была тем более странной, что голубые всегда вызывали у него брезгливую неприязнь. Мужика, работавшего истопником в детдоме, он когда-то и отделал до полусмерти именно за то, что тот затащил в котельную десятилетнего пацана и хотел ему вставить. Лагерная жизнь, правда, заставила его более терпимо относиться к "петухам", "додикам", "женам", но сам он никогда до них не опускался. На малолетке предпочитал 20 21 втихаря подрочить, а уж когда попал в лагерь взрослым, всегда умел договориться с ментами, платил, и регулярно, раз или два в месяц, в комнату свиданий ему приводили судомойку из поселковой столовой, молодую крепкую деревенскую девку, и, засекая время, оставляли на час или на полтора. Теперь он и вовсе был прочно женат, относился к жене внимательно и с нежностью, и даже когда партнеры по бизнесу устраивали мужские безобразия и завозили куда-нибудь на дачу девок (не уличных, конечно, но дорогих, по пятьсот, по семьсот баксов за ночь), он редко принимал участие, а чаще уходил спать или вообще садился в машину и уезжал домой, к жене. И вдруг любовь к Верке – страсть, наваждение. И Глина довольно быстро понял, что Верка – единственный человек в этом мире, жить без которого он не может. Он в последнее время все реже бывал в Переделкине, где жена и дети жили постоянно, но Верку обязательно должен был видеть если не каждый день, то по крайней мере три или четыре раза в неделю, разговаривать с ним, слушать рассказы об их институтской тусовке, о замыслах режиссера, печалиться о его трудностях, смеяться его шуткам, строить вместе с ним планы на будущее. Смотреть на него, любоваться им. С пресекающимся от волнения дыханием касаться его тела. И, наконец, ощущать его дыхание на губах… Специально для свиданий он купил квартиру на Тверской, но именно для свиданий, потому что жить там Верка отказался. (Глина надеялся, что пока отказался, а пройдет время – и согласится) и от предложения купить ему машину – тоже отказался. И из стриптиза уходить не стал. Хотя, как казалось, парень за короткое время искренне привязался к нему, но круто менять свое положение все-таки не хотел. Он так и сказал: "Подождем, папа. Надо отыграть диплом и окончить училище". И сказал он это довольно холодно и отчужденно, давая понять, что кроме нежных отношений с Глиной в его жизни есть нечто более существенное: институт, театр, карьера актера. Парень был актером по преимуществу и на жизнь смотрел, как на благоприятную (или неблагоприятную) среду, в которой должны реализоваться его актерские способности. Высокий, спокойный, несколько даже ленивый красавец, он появлялся на артистических тусовках в черном бархатном пиджаке свободного покроя, с пестрой шелковой косынкой на шее и сразу привлекал всеобщее внимание – именно тем, что был отчужденно красив, уверен в себе и, как казалось, вполне самодостаточен. Он и на тусовках-то появлялся только затем, чтобы (как, смеясь, говорил Ваське и Грише Базыкину) "познакомить с собой театральную общественность". И познакомил. Он еще и институт не окончил, а уже ходили слухи, что и Виктюк, и Фоменко, и Захаров не прочь посмотреть его и, если понравится, пригласить на работу… А Глина ему что же – ну, приглянулся мужик. "Замечательное лицо у тебя, папа, – говорил он, – мужественное, целеустремленное, требующее подчинения… и доброе. Я тебя люблю". (Но такое "люблю" он мог сказать о ком или даже о чем угодно, например: "Я люблю Марка Захарова: он одновременно наглый и робкий". Или: "Я люблю этот сорт кофе".) Ну и, кроме всего прочего, все знали, что Верка Балабанов состоит в браке со своей сокурсницей, способной инженю. На самом деле, конечно, брак был чисто формальным или даже фиктивным: это тоже был шаг к тому, чтобы стать актером. И Василиса, понятно, с самого начала знала, на что идет. Они закрутили эту аферу, едва окончив областное училище, – и только потому, что супружеской паре легче найти работу на театральной бирже. Провинциальный театр охотнее берет именно пары: им на двоих нужна одна комната в актерском 21 22 общежитии, а на гастролях – один номер в гостинице. Если же брать актеров порознь, то две комнаты подавай, два номера. А им, зеленым выпускникам областного училища, в тот момент ничего важнее не было, как только приткнуться к какому-нибудь театру. К любому, хоть самому задвинутому. И стать актерами, выходить на сцену, играть. А там видно будет… Но прежде чем пойти на биржу, они, приехав в Москву, попробовали сдать экзамены в институт – и вдруг поступили. Причем умиленный старик Громчаров взял их именно как молодых супругов – почему-то они ему особенно нравились как юная пара. Потом он с ними даже поставил этюд: "Утро в спальне Джульетты", и они с этим номером до сих пор успешно выступали в гала-концертах. Может быть, поэтому в вузе на них и теперь еще по инерции смотрели как на сценических любовников. Хотя на деле Васька давно спала в одной постели с Гришей Базыкиным (с которым они полюбили друг друга с первого взгляда, еще на вступительных экзаменах – вот уж действительно юные Ромео и Джульетта), а Верка, понятно, кантовался в другой комнате. Иногда по несколько дней он и вовсе пропадал Бог знает где. Впрочем все его интимные приключения происходили далеко за пределами институтского круга, и о реальном положении вещей знали только они трое, да, пожалуй, еще Тёлка догадывалась. Вот теперь и Глина, конечно, знал всю эту марьяжную историю, и она ему ужасно нравилась: ради дела ребята готовы идти до конца, и плевать они хотели на всякие условности. Глина любил таких упертых и азартных, которые идут до конца и ни с чем не считаются. Он и сам был таким – игроком, одержимым потребностью бесконечно делать ставки, играть и выигрывать, только выигрывать… Впрочем, в последнее время он начал все больше понимать, что в бизнесе (да и в жизни вообще) при всем захватывающем азарте игры (или после азарта игры) есть и другие важные ценности, без которых далеко не продвинешься. "Спокойствие, уверенность, надежность" – эти три слова были девизом его банковской группы, рекламный ролик которой ежедневно крутили по всем телеканалам. Азарт с годами уступал место трезвому, холодному расчету: его деловая империя довольно разрослась вширь, и пора было остановить (или по крайней мере приостановить) эту экспансию и всерьез заняться наилучшим обустройством того, что уже нажито. И все-таки один новый проектик он одобрил – небольшой, но заманчивый. Привязанность к молодому актеру (как он слышал от людей совершенно посторонних, Верка и впрямь был актером от Бога) и его, Глину, сделала театралом. Он и раньше считал своим долгом изредка хаживать в театр, но теперь посмотрел в Москве все спектакли, о которых говорил его молодой друг, и довольно быстро научился понимать, что такое хорошо и что такое плохо на сцене. Мало того, он организовал щедрое пожертвование в театр великого Марка Сатарнова, и это сразу ввело его в круг московских театральных деятелей, увидевших в нем крупного мецената. Вообще-то он и Магорецкому хотел дать денег, но Верка и здесь остановил его: "Папа, милый, не гони картину. Всему свое время. Не хочу зависеть от твоих денег. Может, и доживем до этого, но еще не теперь". До чего доживем? Когда доживем? Этот косвенный посыл в будущее и заставил Глину иначе взглянуть на арбатский гостиничный проект. Года два назад он чисто дружески согласился войти в это дело – именно дружески, поскольку выгода была пустяковая. Хотя уже тогда его люди настойчиво докладывали, что существует другой проект, участие в котором, а может быть, 22 23 даже и главенство в котором для их компании значительно более перспективно: речь шла о строительстве культурно-развлекательного центра. Тогда Глина только поморщился и отказался: он всегда симпатизировал Маркизу, помогал ему поставить издательское дело, и, если теперь он строит гостиницу, пусть строит, не будем мешать, даже если альтернативный проект и дал бы нам большую выгоду. "Прибыль в деньгах – это хорошо, но только без убыли в корешах", – сидя в своем глубоком кресле во главе большого овального стола, говорил он на совете директоров, и большинство из тех, кто слушал его, никак не могли врубиться, о чем Глина толкует: какие же это кореша, если они не понимают, где прибыль? Но спорить с Глиной здесь не было принято. Теперь же, через год после того как он встретил Верку, ситуация виделась ему совсем по-другому. Он построит именно культурный центр, и там будет небольшая, но по последнему слову техники оборудованная театральная сцена. Театр. И основным актером этого театра будет великий Аверкий Балабанов. Яркая звезда ХХI века. Словом, Глина совсем спятил от любви и понимал это, но сопротивляться чувству не хотел – да вряд ли бы и смог. И вот, услышав от Верки по телефону, что диплом закрывают, он понял, что нужно действовать. Первым делом он снял трубку и позвонил Толе Смерновскому (Смерновский всегда подчеркивал, что его фамилия пишется через "е", от корня "мер" – мера, мерить), ведущему театральному критику, с которым успел не только познакомиться, но и пару раз отобедать в подвале "Под театром" и даже перейти на "ты". "Толя, это ты мне звонил насчет Магорецкого? Что-то мне секретарша невразумительное передала. Что-то там закрывают… Уже закрыли?" Это был простодушный ход, но Смерновский клюнул. "Да, да, это я звонил", – взволнованно откликнулся он. Он хоть и не звонил Глине, но тоже был уже в курсе дела и как раз раздумывал, кто бы мог помочь. Теперь он стал подробно описывать ситуацию, и Глина, словно ничего не знал, молча, не перебивая, выслушал его. "Магорэцкий дэствительно харёший рэжиссер?" – спросил он, наконец, подделываясь под сталинский грузинский акцент. "Ну как тебе сказать, – вдруг замялся Смерновский, – хороший, плохой… Дело не в этом." Он не понял шутку, и Глина засмеялся. "Я что-нибудь не так сказал?" – несколько встревожился Смерновский. "Все так, – Глина помолчал, раздумывая. – Ладно, позвони ему и скажи, что я жду его завтра утром. Пусть приедет в офис к восьми тридцати, вместе позавтракаем и что-нибудь придумаем… Или стоп!Я сам это организую." Все было продумано. В необъятном кабинете завтрак был сервирован на небольшом столике в углу, на стенах которого висели образцы народной керамики (он – Глина, и у него должен быть "глиняный угол") и между ними несколько филоновских рисунков (Филонов был любимым Веркиным художником, а все, что нравилось Верке, теперь нравилось и Глине). Сообщив, что в свое время Магорецкий потряс его "Чайкой", Глина перешел к делу. Он, конечно, слышал (по Москве говорят) об интересном замысле нового спектакля. Особенно восторженно отзывается о нем его, Глины, друг Толик Смерновский. Он-то и сообщил, что спектакль закрывают. Это беспредел. Тут уже дело идет на принцип. Всем этим бывшим советским нельзя подчиняться, нельзя давать им волю, иначе они всех нас будут иметь как хотят. Как говорил Толстой, союзу людей плохих должен противостоять союз людей хороших. Поэтому он, Глина, предлагает Магорецкому ни в коем случае не прекращать репетиции, но пока перенести их в небольшой зал – такой зал есть в его, Глины, собственной квартире в одном из арбатских переулков. Квартира большая, занимает целый 23 24 этаж и сейчас пустует, там никого нет, можно получить ключи и распоряжаться ею полностью. Зал, конечно, невелик, но как репетиционный, кажется, вполне годится. ("Меньше этого кабинета?" – спросил Магорецкий, оглядываясь вокруг и не скрывая иронии. Глина тоже огляделся: "Примерно такой же", – сказал он спокойно.) Когда же спектакль будет готов, чтобы вывести его на сцену, он, Глина, обещает найти площадку для регулярных представлений… Да, кстати, этот дом в арбатском переулке скоро снесут и на его месте уже через год будет построен новый культурный центр, и там будет театральная сцена с небольшим, но уютным залом. Вот эскиз – сцена и общий вид зала… Тут вот еще какое дело: в компании, которая будет осуществлять этот проект и одним из учредителей которой является он, Глина, среди руководителей нет ни одного специалиста по театральному делу. Не согласится ли Сергей Вениаминович участвовать в деле как консультант? Или даже одним из директоров? Входя в этот кабинет, Магорецкий настраивался на иронический лад: ирония была защитой от унижения, какое испытывает любой нищий проситель, входя к меценату. Но хозяин кабинета или не заметил иронии, или посчитал ниже своего достоинства обращать на нее внимание. Между тем, слушая мягкое рокотание Глинина баса (церковный тембр, чистый дьякон), поглядывая при этом на картинки Филонова (неужели подлинники?) и неторопливо поглощая яичницу с ветчиной и жареные тосты (любимый английский завтрак), Магорецкий перестал чувствовать себя просителем и понял, что хозяин действительно всерьез заинтересован в сотрудничестве. Сам он больше молчал – и не потому, что был подавлен напором речи и содержанием предложений, но, скорее, потому, что был сильно озадачен. Помощь была куда более щедрой, чем он ожидал. Да и вообще, похоже, это была не помощь, а равноправная сделка, хотя Магорецкий еще и не вполне понимал, в чем именно заключается интерес хозяина. И когда был выпит кофе (от коньяка и ликера гость отказался: ему еще сегодня ездить за рулем, – и сам Глина пить не стал), Магорецкий, понимая, что аудиенция идет к концу, попросил день-другой на размышления. "Какой разговор, – согласился Глина ("Какой базар!" – послышалось Магорецкому), – только я бы посоветовал вам переговорить еще с одним человеком. Он автор проекта и лучше меня поможет вам определиться". И, не дожидаясь согласия, набрал номер телефона Протасова, который в это время, расставшись с Телкой и попав в автомобильную пробку, пешком направлялся к своему офису. 6. Ляпа За четыре года бомжевания Ляпа хорошо усвоил, что в незнакомых подъездах ночевать опасно. Увидев бомжа, спящего где-нибудь в углу на картонке, жильцы поднимают хипеж, звонят в милицию, приезжают менты – с 24 25 радостью являются, с шуточками, оживленные, возбужденные возможностью до полусмерти отмудохать беззащитного и безответного: вдвоем, втроем будут бить, по очереди, и каждый с удовольствием врежет, с расстановкой, с оттяжкой. Да еще норовят сапогом в лицо, в зубы, чтобы кровь пошла, чтобы они могли видеть кровь. Не то чтобы обязательно хотели убить, а так, кайф у них такой: молодые, крепкие, жизнерадостные, любят посмотреть, как человек захлебывается кровью, корчится на асфальте, на снегу – посмеяться любят. И благо, если в конце концов отвезут в обезьянник, в милицию, там хоть тепло, а то выбросят на улицу, зимой – на мороз, ползи на карачках, хорошо, если найдешь какой-нибудь неплотно закрытый канализационный колодец, какуюнибудь незапертую дверь в подвал. А нет - и замерзнешь насмерть. И утром твой окостеневший труп кинут в машину, которая собирает помойку, и отвезут к городским печам, где сжигают мусор. А тут уж мусор не сортируют – огонь все слопает… Таких случаев Ляпа знал предостаточно и такого конца боялся больше всего. Последние месяцы выдались особенно трудными. От трех вокзалов и до Сокольников, где в прежние годы ему и в магазинах на подхвате удавалось подработать, и бутылок в парке нагрести, и милостыню у метро или на паперти насобирать, и он по мелочам успешно подворовывал, – теперь усилилась конкуренция, и на каждый ящик в магазине, на каждую бутылку в парке, на каждую ступеньку на паперти претендовали по три-четыре охотника. Прошлым летом в Сокольниках три женщины-бичёвки окрысились на него, навалились с разных сторон и отвалтузили не хуже ментов, так, что он на ноги подняться не мог и, скуля от боли, как раздавленная собака, уполз на четвереньках, пролез через какую-то дырку в парковой ограде и только тогда, уже за территорией парка, свалился в кустах… Весь синий был, трое суток кровью ссал. А все из-за того, что собирал бутылки на их территории… Всюду появились какие-то южные люди, беженцы: то ли таджики, то ли узбеки – с огромными семьями, их неумытые и нечесаные бабы с младенцами, сосущими обвислые груди, с множеством грязных пронырливых и наглых ребятишек, после которых и за милостыней, и за бутылками ходить было бесполезно. Некоторое время его спасало знание стихов, особенно Есенина, и песен – и блатных, и Высоцкого: среди бомжей и мелких уголовников у него даже была кликуха "Поэт", и его приглашали читать стихи, а если находилась гитара, то и петь – и за это поили и снабжали дурью. Впрочем, в последнее время его приглашали все реже и реже, и бывало, если он сам подходил к компании, бухающей где-нибудь у костерка в парке или в полосе отчуждения у железной дороги, и в надежде на глоток водки начинал читать стихи, ему велели заткнуться или вообще кто-нибудь норовил засветить ему по голове пустой бутылкой. Не до стихов людям стало. Между бомжами пошли крутые разборки, и каждый день можно было услышать, что кого-то сбросили в Яузу, или в канализационный люк, или просто в бак с помойкой проломленной головой, а то и с перерезанным горлом. Но хуже всего было, что позакрывались самые спокойные ночевки – в подвалах и на чердаках: двери стали обивать листовым железом и навешивать на них амбарные замки. Вообще разруха начала девяностых уходила в прошлое. Всюду утверждались новые владельцы. "Ответственные собственники" приводили в порядок доставшееся им хозяйство. Прежние дыры, надежные лазы в заборах и в стенах, через которые всегда можно было даже не пролезть, а во весь рост пройти на какую-нибудь заводскую территорию к теплой трубе 25 26 позади котельной или к узлу теплотрассы, теперь оказывались прочно забиты досками, заложены кирпичом, залиты бетоном. А в подъездах… но в подъезды лучше было не соваться. Словом, еще в декабре Ляпа понял, что если и дальше так дело пойдет, то этой зимой он обязательно подохнет. С год назад он подсел на героин: закентовался ненадолго с одним воровским шитвисом, пел у них на хате, ходил с ними в баню, а у них порошка хоть ложкой кушай. И теперь потребность вмазаться стала более тяжелой, более мучительной, чем прежде была потребность забухать. А где такие деньги найдешь? В результате он почти совсем перестал есть и сильно ослаб за последние месяцы, и однажды, будучи приглашен компанией своих давних поклонников в баню – пить, ширяться и читать Есенина, – с ужасом увидел в зеркале, что мяса на костях совсем не осталось – один скелет. А тут еще оказалось, что он обовшивел, и, увидев это, "давние поклонники" молча взяли его, голого, за руки и за ноги, вынесли на крыльцо, раскачали и выбросили в сугроб. А вслед и одежонку вынесли и бросили на ступенях. Деваться было некуда, и он тогда рискнул и пополз отогреваться в один знакомый теплый подъезд. Слава Богу, все обошлось, он схоронился у теплых труб под лестницей при входе в подвал. Но если бы его оттуда вытащили менты и закрутили бы над его несчастным телом свою кровавую метель, у него бы уже не было сил никуда доползти, так и остался бы он на обледеневшем асфальте, вмерз бы в лужу собственной крови… И тогда он позвонил Протасову. Какое-то тупое отчаяние на него нашло, и от отчаяния – помрачение сознания, притупление чувств: не должен, никак не должен он был звонить. Дело в том, что пятнадцать лет назад, освободившись из лагеря на полгода раньше Маркиза, Ляпа первым делом навестил его жену… и переспал с ней. И не просто переспал, а жил у нее почти неделю. Как-то так само получилось: молодая голодная баба, он сам после трех лет лагерной суходрочки – выпили, хорошо выпили, совершенно расслабились, ну и проснулись утром в одной постели. И потом долго не могли оторваться друг от друга, она, кажется, даже на работу не ходила, отпуск взяла за свой счет. Тихая такая женщина, вроде богомолка, дом полон икон, а в постели ну просто неудержимая… Он очнулся через неделю – и ужаснулся: друг тянет срок, а он тут его бабу харит. Ушел и больше ее никогда не видел. И когда Маркиз освободился, и позже, когда Ляпа уже выпустил книгу своих стихов ("Основной мотив – пронзительная ностальгия по комсомольской романтике", — писал критик в газете "Литературная Россия»), вступил в Союз писателей России (в тот, патриотический, на Комсомольском), был женат и жил благополучной семейной жизнью, их дружба так и не возобновилась. Маркиз стал известным издателем и был одним из лидеров демократов. Они встречались на каких-то литературных тусовках, в первое время обнимались, потом только раскланивались… и расставались, не испытывая потребности встретиться. Каждая новая встреча была все более холодной. Ляпа, понятно, неловко чувствовал себя из-за той истории с Маркизовой женой, но главное было не это. На какой-то презентации, Маркиз выпив полстакана коньяку и вдруг перейдя на "ты", впрямую сказал, что Ляпины стихи вызывают у него физическое омерзение: "Что ж ты, Ляпа, все врешь и врешь? Какая там комсомольская юность? Ведь ты же сидел по хулиганке – вот и писал бы о романтике пивных забегаловок. Патриот…” В конце концов они едва приветствовали друг друга издалека. И когда Ляпа, похоронив жену, ушел в 26 27 глубокий запой, а потом за гроши продал квартиру (да и с грошами-то этими его кинули) и, как сам он, выпив, любил объяснять желающим слушать, "исчез с литературного горизонта", Протасов, должно быть, его исчезновения просто не заметил… Ляпа позвонил в "Семейные новости", через секретаршу добрался до Протасова, и тот, не выразив особой радости, холодно, но твердо, по-деловому, словно они заранее договаривались о звонке, назначил свидание – через час в редакции: через полтора он уезжал в командировку. "Хрен с ним, – подумал Ляпа, – пусть катится". Не пойдет же он в редакцию в своих вонючих вшивых обносках. Да его еще и не пустят. Но к редакционному подъезду все же зачемто прибрел и, увидев выходившего Протасова, сделал было движение навстречу, но тот, идя прямо на него и глядя в лицо невидящим взглядом, быстро прошел мимо, сел в машину и уехал – не узнал… Не Маркиз ему помог, а Глина, Ян Арвидович Пуго, президент инвестиционной компании "Дети солнца", чье красочное фото за большим столом в роскошном (не хуже, чем у Президента России) кабинете Ляпа как-то случайно увидел на обложке глянцевого журнала, извлеченного из помойки вместе с двумя пустыми бутылками. В журнале была и статья о выдающемся предпринимателе: "Лидер по призванию". О лагерном прошлом – лишь вскользь, да и то с пиететом: мол, в те времена многие достойные люди были несправедливо осуждены и впоследствии реабилитированы… Неделю Ляпа дозванивался и все-таки дозвонился, правда, не до самого, а до референта. Подробно представился: поэт, член Союза писателей, давний товарищ Яна Арвидовича – о том, что они вместе отбывали срок в лагере, он на всякий случай говорить не стал. Референт сухо попросил позвонить через неделю. Через неделю, уже с совершенно другими, мягкими, дружелюбными интонациями, обратившись к Ляпе на "ты" и назвав "братком", референт попросил записать, а лучше – запомнить номер телефона: Ляпа должен был позвонить, назваться и сказать, что он от Глины. Не от Пуго Я.А., а именно от Глины. "Да, кстати, — спросил вдруг референт, – а ты, браток, Маркиза давно видел?" "Нет, лет десять не видел", – соврал Ляпа. "Ну и лады, позвони по этому номеру, там помогут", – сказал референт, откуда-то уже знавший или догадавшийся, что нужна именно помощь. И помогли. В результате нескольких беглых встреч с молчаливыми людьми, которые охотнее объяснялись знаками, чем словами, и чьи лица совершенно невозможно было запомнить, и которые как бы передавали Ляпу от одного к другому, он вдруг, как в восточной сказке, получил ключи от тяжелой бронированной двери в необъятную – во весь этаж размером – пустую квартиру в Кривоконюшенном переулке, в доме, почти все жильцы которого были выселены. "Повезло тебе, бомж, – каким-то странным, не то каркающим, не то крякающим голосом сказал очередной безликий тип, передавая ключи. – Но будь осторожен: это квартира Глины. Никаких посторонних. И еще совет: поменяй обначку. От тебя трупом несет". Ляпа промолчал. Как ему повезло, он и сам знал. Понимал он, что меняется образ жизни, а значит, нужно и помыться, и найти какую-то более-менее приличную одежду. Но вот в чем он должен быть осторожен, он так и не понял: пусть бы эта квартира и принадлежала Глине, но жить-то здесь давно уже никто не жил. Если вообще кто-нибудь когда-нибудь жил после того, как две или три коммунальные квартиры были соединены и перестроены в одну, огромную. Здесь был просторный зал (или в данном случае правильнее сказать зала?), в 27 28 котором хоть дворянские балы устраивай (пол выложен лакированным фигурным паркетом). Раздвижная витражная перегородка отделяла зал от комнаты несколько меньшей, площадью метров пятьдесят, видимо предназначенной быть столовой. У дальней стены этой комнаты голубым сиянием светилась большая изразцовая печь. Было здесь и пять-шесть других комнат, две ванные в разных концах квартиры, ну и, понятно, просторная кухня, посреди которой располагалась необъятная электрическая плита, какие бывают в кухнях больших ресторанов. Ляпа решил, что здесь на кухне он и будет жить: если врубить плиту на полную мощность, в любой мороз будет жарко. Сюда он и приволок из зала, вернее, не без усилий передвинул, царапая лакированный пол, низкое и глубокое кожаное кресло – единственную мебель во всей квартире. Помощь Глины, конечно, не была благотворительной – на это он и не рассчитывал. Раз в неделю, а когда раз в десять дней глухонемые курьеры (вот откуда крякающий голос!) доставляли ему товар, для реализации. В основном траву, но иногда и "геру", и даже экзотический кокаин. Словом, он стал барыгой, и это произошло как-то само собой, без специального его намерения и даже без его согласия, которого, впрочем, никто и не спрашивал. Просто в первый же день, через полчаса после того как он большим сейфовым ключом впервые открыл дверь квартиры, раздался телефонный звонок. Он не сразу понял, в какой комнате звенит, но телефон звонил долго, настойчиво, и Ляпа в конце концов нашел его в дальней пустой комнате и снял трубку, и уже знакомый ему скрипучий голос сообщил, что сейчас доставят "партию" и что через неделю приедут за деньгами. "И не вздумай бадяжить – клизму поставим. У нас бизнес без понта". – и гудки, Ляпа даже рта не раскрыл. Он, конечно, первым делом вмазался сам – даже удовольствие полежать в горячей ванне отложил на потом, – хорошо вмазался, чистейшим порошком, какого прежде никогда и не видывал, и в ожидании прихода утопая в мягком кресле, с удовольствием подумал, что теперь ему не надо будет в мороз бегать по городу в поисках, чем бы погасить гнетущий кумар. Он даже не стал убирать свой "баян", свой замечательный старинный стеклянный пятиграммовый шприц, найденный позапрошлым летом на загородной свалке недалеко от правительственного санатория в Барвихе, – шприц как из магазина, с двумя иглами, прямо в железной ванночке с крышечкой. Произведение искусства, теперь таких не выпускают, всюду одноразовая пластмасса. Эту свою драгоценность Ляпа обычно старался никому не показывать, чтобы не отняли, но тут никого не было, он был единственным хозяином всего окружающего пространства, и коробочку со шприцем можно было открыто оставить на подоконнике. Он начал было свой бизнес навынос, таскал товар по прежним знакомцам в районе Сокольников или у Преображенского рынка. На первые же деньги в магазине сэконд-хэнд на Преображенке (магазин назывался "В мире Сэкона Хэна") купил какую-то скромную серую одежонку, чтобы менты с первого взгляда не угадывали в нем бомжа "на мелководье". Но счастье не бывает частичным, если уж повезет, то везти будет во всем: вскоре он познакомился с компанией студентов-актеров, живших на первом этаже в том же полувыселенном доме. Зачем-то постучался к соседям, спичек, что ли, спросить или соли – и его, нищего дервиша-поэта, бывшего зэка, студенты приняли как родного. Здесь был своего рода студенческий клуб, всегда полно 28 29 гостей, и если и не весь товар, то значительную часть – по крайней мере всю траву – удавалось пристроить тут же, не выходя из дома… 7. Тёлка У Горького Лука – единственный посторонний, странник, явившийся со стороны. Единственный отстраненный. Все остальные персонажи – здешние, оседлые, им некуда деваться, они «всегда» здесь пребывали и «впредь» останутся здесь же, они принадлежат ночлежке. Этот мусор сметен в ком и заткнут в грязную дыру. Люди еще шевелятся, иногда даже произносят слова, но изменить что-либо в своей жизни не способны… И только Лука живет свободно, по своей воле: пришел, повесил всем лапшу на уши, исчез. Кто он? Самозваный пророк, агрессивный проповедник? Лукавый проныра, который байками и лживыми утешениями отгораживается от опасности, исходящей от ночлежников (и от жизни вообще)? Нет, у Магорецкого эти обычные вопросы не возникают. Лука у него – вовсе не посторонний. Мастер отдал эту роль Тёлке и предложил ей здесь, в притоне, среди заширянных, вмазанных, обдолбанных, затраханных до состояния животного, утративших человеческий облик, потерявших дар членораздельной речи, – обращаясь к ним, не проповедовать и обнадеживать (стыдно проповедовать; подло обнадеживать), но спрашивать и стараться понять. Понять – и сочувствовать. Да нет, не со-чувствовать, а взять это на себя – чувствовать и понимать – вместо тех, кто такую способность утратил. Принять на себя их грех. Быть их совестью. Держать за них ответ перед Господом. Просить о прощении. И Тёлка, обращаясь к Сатину, не утверждает: "Легко ты жизнь переносишь!" – а спрашивает: "Легко ты жизнь переносишь?" – и так спрашивает, как спросил бы Распятый на кресте, сам испытывающий в этот момент нестерпимую боль и готовый если не сказать, то подумать: "Непереносима эта жизнь, эта боль. Почто оставил меня, Отче?" Магорецкий был доволен, Тёлка работала хорошо… Слух, что Тёлка Бузони классно играет Луку, пошел по институту, и любопытные старались пробраться на репетицию. Если приходили двое-трое и сидели тихо, Магорецкий не возражал: пусть смотрят, слушают. Так вот и Анастасия Максовна, Настя, Тёлкина квартирная хозяйка, однажды случайно оказавшись в институте, побывала на репетиции – и была потрясена. За четыре года Она привязалась к своей Нателлочке, по-матерински ухаживала за ней (иногда даже сама, на свои деньги покупала курицу и готовила обед, чтобы ребенок хоть изредка поел по-человечески, а не хватал эти ужасные пирожки в институтском буфете), но при всей нежной привязанности она в глубине души сильно сомневалась, что девочка правильно выбрала профессию. Актриса с лицом – это не актриса, а модель на сцене. Раневская, что ли, была красавицей? Или вот ее любимая Алиса Фрейндлих? Или восхитительная Ольга Яковлева: сыграть Джульетту, когда тебе под сорок, – и как сыграть! Вот это актриса… А все эти смазливые красотки годятся разве для крупного плана в кино. Нет, Нателлочка, пожалуй, слишком, слишком красива и как-то слишком медлительна, даже несколько заторможена, и поэтому вряд ли станет хорошей актрисой… И вот она увидела ее на сцене. Репетировали в зале. До декораций, костюмов, грима было еще далеко, но суть происходящего была вполне понятна из реплик и мизансцен: в просторной, некогда богатой городской квартире, 29 30 превратившейся вместе с падением ее жильцов в притон, давно зависли, заторчали, потерялись пятеро или шестеро опустившихся наркоманов и их приходные девочки… Магорецкий как раз прогонял тот кусок, где у Тёлки монолог о праведной земле: "Сейчас это ученый книги раскрыл, планы разложил… глядел-глядел – нет нигде праведной земли!" Господи, да какой там еще ученый! – это она, Тёлка, заглянула в книгу жизни – своей жизни и других обитателей притона – и нет им праведной земли, нет вообще никакой надежды. Люди, которых она любит, рядом с которыми жила всегда, за которых всегда держалась, с которыми мечтала никогда не расставаться, теперь оставляют ее одну – у нее на глазах уходят, погружаются в темное небытие. Они еще подают признаки жизни, еще звучат какие-то слова, но грани человеческого образа уже размыты и продолжают размываться день за днем. На месте души, воли, личности – зияющая пустота, все каким-то образом растворилось, вымылось прочь, ушло в канализацию. От людей остались одни только пустые и гниющие телесные оболочки, впрочем тоже готовые в любой миг развалиться, разложиться, исчезнуть. И ведь никак не поможешь, уже не схватишься ни за что, ничем не удержишь. Ну разве что замутить вместе с ними – найти денег (продать что-нибудь с себя или саму себя), купить им большой дури – героина. Или винта. Или, на худой конец, каких-нибудь колес, таблеток. Утешить их тем, что прошлого уже нет – и нет никакой надежды на будущее, а поэтому – вперед, бездна распахнута! И тогда, прежде чем переступить последний порог, они вдруг оживут на время, даже оживятся, появится какая-то имитация чувств и разума, они будут много говорить и много двигаться, может быть, даже читать стихи, или играть на гитаре или на рояле, или совокупляться – прямо на полу, безразлично, кто где и кто с кем, все всюду и все со всеми. Или вдруг начнут красиво рассуждать о том, что человек – это звучит гордо. Сатин, Барон, Бубнов, Актер, их случайные подруги. В течение какого-то времени все будут делать вид, что бурно веселятся, что живут. Как механические куклы, пока не кончится завод. Но вот завод кончился, и все остановилось, замерло. Ступор… Или конец? Всё? "А после того пойти домой – и удавиться?" Магорецкий ничего не сказал, когда Тёлка отыграла свой кусок. Только один раз, как бы подытоживая, ударил деревянным молотком по столу – и это значило, что он доволен, замечаний нет, и можно двигаться дальше. Настю больше всего поразило, что Нателла на сцене была некрасива, даже уродлива в своем горе. И реакции ее были быстры, энергичны – никакой заторможенности. "Это актриса!" – прошептала Настя сидевшей рядом и кутавшейся в черную шаль соседке по дому и ближайшей подруге, многие годы работавшей в институте секретаршей ректора, а теперь еще занявшей и должность секретаря антропософского общества. "Ну вот, а ты все ищешь медиума, – сказала подруга мужским прокуренным голосом. – Вот тебе медиум. Она и на сцене уже в трансе." Настя с сожалением покачала головой: нет, нет, она знает, из этого ничего не получится. Тёлка держалась в стороне от Настиных антропософских увлечений. Читать Блаватскую и Сведенборга не хотела. "Вы, Настенька Максовна, умная, а мне эта премудрость недоступна", – говорила она, со смехом обнимая хозяйку за плечи. И на еженедельные собрания никогда не оставалась, исчезала из дома, ссылалась на неотложные дела: репетиции, сеанс в Доме моделей, день рождения у подруги, свидание с Протасовым (к которому, кстати, Настя относилась с большим уважением: приятный, интеллигентный, солидный человек, один из лидеров демократов; она всегда покупала его газету и читала 30 31 его статьи и, встречая автора у себя в коридоре, не прочь была поговорить, а может быть, и поспорить по поводу прочитанного, но тот к дискуссиям не был расположен, отвечал односложно, тут же обращался с чем-нибудь к Нателлочке, и они или закрывались у девочки в комнате, и она слышала их тихий смех за дверью, или, извинившись, что опаздывают в театр, или в консерваторию, или на ужин, торопились уйти). Тёлка с детства боялась всей этой спиритической, парапсихологической и прочей модной чертовщины. Опять маме спасибо. Когда девочке было лет двенадцать или тринадцать, мама, которая тогда была замужем за рано овдовевшим провинциальным психиатром и вместе с мужем увлекалась модной парапсихологией, нашла у дочери выдающиеся способности. Всю жизнь маму мучили тяжелые головные боли, державшиеся по дватри дня – и никакие лекарства не помогали (впрочем, на сцене мигрень проходила, и если репетиции, бывало, приходилось пропускать, то до отмены спектаклей дело ни разу не доходило). Муж – психиатр и парапсихолог – пытался помочь, но, как он говорил, его энергетические посылы наталкивались на какие-то острые образования – застывшие лучи? рога? – торчавшие в мамином энергетическом поле. И, напоровшись два или три раза на эти лучи (или все-таки рога?), он позвал Тёлку. Он утверждал, что у детей иногда проявляются удивительные способности ретранслировать энергию непосредственно из астрала, и надо попробовать. "Вытяни, пожалуйста, руки вперед и приблизь ладошки одна к другой, – сказал он, – но не касайся, не складывай их вместе. В ладонях чувствуешь тепло? А теперь приблизь ладошки к маминой голове но опять-таки, не касайся. Согрей маме голову, и когда согреешь, ты почувствуешь, как мамина боль прилипнет к ладошкам, и ты ее вытащи, вытяни – вытяни и стряхни, вот так, вот так", – и он показал, как надо вытягивать боль и стряхивать с ладоней. "Боюсь, как бы я не помешал, сделай это без меня", – сказал он и вышел, плотно прикрыв дверь. Были зимние сумерки, но свет не зажигали. Мама неподвижно сидела на низком кухонном табурете. Голову держала прямо. Темные крашеные волосы гладко причесаны под мальчика, и слева – белая нитка пробора. Глаза закрыты. Тёлка смотрела маме в лицо, и ей вдруг показалось, что перед ней совсем чужая, незнакомая женщина с большим носом и заметными усами над верхней губой. Было страшно. Таинственный астрал девочка понимала как космос – и, когда она воображала себе этот бездонный темный провал, ей становилось жутко и начинало казаться, что она стоит у края этой черной бездны, и хотелось отступить назад и уйти отсюда… Но маму было жалко. От жалости Тёлка, бывало, плакала у себя в комнате (в большой квартире психиатра, где они прожили почти два года, у нее была своя комната), когда мама, щурясь и ничего не различая вокруг от нестерпимой головной боли, час за часом, час за часом, а иногда и весь день, и всю ночь напролет ходила в халате по коридору и тихо стонала. Теперь девочка подумала, что, может быть, мама выздоровеет, и, как ей было сказано, она решительно встала сзади и, ощутив запах любимых маминых духов "Клима", протянула руки и, приблизив ладони к волосам, но не касаясь их, закрыла глаза. Ладоням было тепло, очень тепло, и девочка стала делать медленные круговые движения, и раз за разом пространство под ее руками все более нагревалось и, кажется, уплотнялось, и, когда ладоням стало совсем горячо, она ощутила какие-то бугристые неровности в упругом пространстве, – повидимому, это была мамина боль; она останавливала ладони над этими буграми 31 32 и воображала, что руками вытягивает, "высасывает" боль из маминой головы, берет ее себе. Неровности постепенно исчезали, и ладони слегка покалывало, но потом это ощущение прошло, и руки сделались легкими-легкими. И все тело сделалось легким-легким. И тут ей вдруг почудилось, что она висит в воздухе над мамой и ее руки погружаются или уже погрузилась в мамину голову, внутрь, в какую-то темноту, все глубже и глубже, и мамы уже не было, а была только глубокая, бездонная темнота, и девочка перестала понимать, где она и что делает, ей показалось, что она куда-то летит, проваливается, стало страшно, она хотела закричать, но не смогла, только застонала, и тут по всему ее телу прошла судорога — и она потеряла сознание. Вся процедура длилась минуты три, от силы – пять, но без сознания она пробыла довольно долго, должно быть, минут десять, и психиатру пришлось дать ей понюхать нашатырь. "Я же предупреждал, что нужно стряхивать", – и он снова показал, как нужно встряхивать кистями рук, чтобы скинуть с них чужую энергию. Мама сначала испугалась, но когда дочь пришла в себя, стала смеяться, плакать от счастья и целовать девочку в щеки, в глаза, в нос. Мигрень прошла! (И как потом оказалось, прошла навсегда.) Значит, у ее ребенка действительно выдающиеся экстрасенсорные способности! Это все от отца: вы бы посмотрели на этого румына, у него была совершенно демоническая внешность! Ах, да шут с ним, с этим румыном. "Ты, моя девочка, необыкновенная. Ты хоть сама понимаешь, что произошло? Ты – не-о-быкновенная! Тебя ждет великое будущее. Ты не будешь, как твоя мама, прозябать в безвестности и нищете". Тут обиделся психиатр: "Кажется, мама не очень уж и прозябает". На эту женщину, двадцатью годами моложе его, он в течение вот уже двух лет тратил все без остатка доходы от довольно обширной частной практики, покупал любые тряпки, на которые она, заходя в магазины, указывала пальцем, и летом возил «на юга» в Турцию и на Кипр. Как-то так получилось, что с этого дня (а может быть, с этой психиатровой обиды) отношения с пожилым мужем быстро разладились, и следующие два года, пока мама, увлекшись каким-то совсем юным актером, испытывала судьбу то ли во Владивостоке, то ли в Хабаровске, Тёлка с удовольствием прожила у бабушки в деревне. А когда молодой актер сбежал от мамы из Хабаровска во Владивосток (или из Владивостока в Хабаровск) и она вернулась в родной город, где ее, актрису в общем-то неплохую, охотно приняли обратно в театр, и они с дочерью снова стали жить вместе в комнате театрального общежития, об экстрасенсорных способностях девочки было, слава Богу, забыто. Но провал в темную бездну сама Тёлка никогда не забывала. Вот и теперь, уснув днем после бессонной ночи с пьяным Протасовым, она проснулась оттого, что снова полетела в пропасть и, только совсем уже проснувшись, осознала, что ее разбудила Настя, которая со всей силы кулаком колотила в дверь. "Нателлочка, Господи, вы так спите… я испугалась. Уже два часа, вы просили разбудить, – и она протянула ей телефонную трубку на длинном витом шнуре. – Это опять он. Господин Бузони из Парижа. Он сказал, что он ваш отец". 32 33 8. Протасов Говорил ли Глина с человеком очно или по телефону, он всегда стремился подавить собеседника, навязать ему свою волю. И Протасов спорить с ним не умел и привычно уступал, соглашался. И всегда оставался недоволен собой – не столько даже согласием, которое до сих пор, в общем-то, соответствовало его собственным интересам, сколько самой необходимостью — главным образом, необходимостью финансовой — общаться с этим бывшим уголовником ("Уголовники, как и алкоголики или как американские президенты, не бывают бывшими", – говаривал сам Глина, но, понятно, не о себе, а о ком-нибудь из компаньонов). Вот и теперь по телефону Глина трактовал так, словно культурный центр – дело решенное (иначе зачем в правлении этот господин Магорецкий?). И Протасов выслушал его молча, не возразил. Но сегодня, промолчав, он был доволен собой. О чем говорить-то? Говорить больше не о чем. Теперь они с Глиной конкуренты. В конкурентной же борьбе (как, впрочем, и в любой игре или в любой войне) инициатива, темп решают всё. Перехватив, а по сути, украв у Протасова идею арбатского строительства и наполнив ее иным содержанием, Глина решительно взял инициативу в свои руки. Всем остальным участникам дела он оставил одну возможность: безропотно соглашаться. Два банка, приглашенные в проект им, Протасовым, так и поступили – их волновала только прибыль, а уж прибыль-то Глина гарантировал. Но его, Протасова, как бычка на веревочке не поведешь. Недаром в издательском бизнесе он считался одним из самых крутых и дерзких предпринимателей. "Иногда кажется, что ты мягкий, весь из ваты, – сказала ему как-то жена, – но в вату завернут утюг". Она-то говорила это с обидой, но он хорошо понимал, что без жесткости, без упорства, без способности идти до конца никакого дела не сделаешь. И любой Глина будет харить тебя в очко, прости, Господи, эти грубые мысли. "Этот твой Глина слишком высоко тянется и сумел уже многим встать поперек горла", – сказал вчера Боря Крутов, друг еще с университетских времен. Протасов "вызвонил" его пообедать и в подробностях рассказал о своем арбатском проекте. Боря – умница, всегда и всюду отличник, сделал стремительную карьеру в МИДе, самым молодым в новейшей истории получил ранг чрезвычайного и полномочного посла и побывал российским представителем в ооновских структурах, месяцев пять назад был вызван в Москву и назначен заместителем руководителя администрации Президента. Одним из заместителей. "Оглянись вокруг, видишь, сколько в этой ресторанной зале знакомых лиц? – свободно и весело говорил Боря Крутов; он был в хорошем настроении и явно получал удовольствие от того, что новое положение дает ему возможность разговаривать с давним товарищем чуть свысока (на вкус Протасова, свысока-то ладно, но плохо, что слишком громко – с какой-то беспечной неосмотрительностью – Из них раз, два, три… трое, как минимум, работают на твоего лагерного кореша. Или, как теперь у вас говорят, – дружбана? Понимаешь, в чем беда таких, как Пуго: у них совсем нет политического чутья (тут Крутов поднес к своему носу сложенные щепотью пальцы и понюхал их). Добиваясь определенного успеха и положения, что в нашей неразберихе в общем-то не так уж и трудно, они зарываются и совершенно теряют ориентиры. 33 34 Им хочется получить все, что видит глаз, и они полагают, что могут. Но, как известно, жадность фраера погубит. Мне нравится, как американцы учат этих наших бандитов: Тайванчик, Япончик и всякая другая колоритная экзотика отлично смотрятся в американских тюрьмах. Но здесь они покупают себе право сидеть не в тюрьме, а в Думе. Или в губернаторском кресле. Покупают. Но теперь – всё, отошла коту масленица. Президент всерьез озабочен тем, что криминалитет идет во власть, и у администрации есть соответствующие поручения. И в этой связи скажу, что у тебя есть хорошие шансы отстоять свое дело. Ян Арвидович Пуго... Кстати, что за дикое сочетание имени-отчества и фамилии?" "Он детдомовский", – негромко ответил Протасов, думая про себя, что в России о делах такого рода все-таки надо бы говорить потише – особенно если в публичном месте. Впрочем, тут произошла смена блюд, и Крутов уже рассказывал (так же громко, свободно и совершенно с теми же радостными интонациями) о том, как по правилам высокой гастрономии следует готовить и сервировать омара, какие вилочки и специальные крючочки используются для извлечения мяса из клешни. "В твоей гостинице обязательно должна быть лучшая в Москве кухня. Мы об этом позаботимся". Они сидели в ресторане "Сергей", что рядом со МХАТом в Камергерском, недалеко от Думы, и одновременно с ними здесь обедали пять или шесть депутатов, лица которых постоянно мелькали на телеэкранах и которые хорошо были знакомы Протасову по политической полосе его собственной газеты: комитет по безопасности, комитет по делам СНГ, комитет по культуре, еще комитеты и комиссии… "Ты вот что, этот твой арбатский проект изложи вкратце и укажи на все возникшие препятствия, – теперь уже негромко сказал Крутов, когда на улице они прощались возле служебной машины, дверца которой была распахнута охранником. – Я сейчас подумал, что управделами Президента может быть заинтересован в такой гостинице. Напиши бумагу на его имя и подай мне, а я приделаю ей ноги. А что же твоя газета молчит? У тебя что, ничего нет на этого парня?" "Будем, будем искать", – сказал Протасов. После этого разговора Протасов как-то приободрился – но, пожалуй, неоправданно рано, и тут же сделал глупость: вечером, надравшись, заявил, что выходит из дела (хотя на самом деле имелось в виду, что из дела должен уйти Глина или остаться, но смирной овечкой). Нет, Глину так не укротишь и не обманешь. На данный момент Протасов отстает, по шахматной терминологии как минимум, на два темпа. И вот теперь этот утренний звонок: пока Протасов кофе распивает со студентами и за столом любуется божественным профилем своей Тёлки, человек уже с утра занят не чем-нибудь, а именно арбатским проектом. Значит, всерьез заинтересован, торопится, понимает, что темп решает всё, и предложение ввести Магорецкого – очередной упреждающий маневр. Еще несколько дней назад Протасов дал поручение службе досье посмотреть и доложить, что нового появилось на Пуго за последний год. И теперь, сразу после того, как Глина позвонил и сказал, что вот перед ним сидит Магорецкий, Протасов соединился с редакцией и попросил сделать ему доклад после планерки. "И еще, подготовьте, пожалуйста, все, что найдете на театрального режиссера Магорецкого Сергея Вадимовича". С этим человеком Протасов хотел познакомиться поближе не только и даже не столько потому, что Глина только что назвал его имя, но потому, что имени этого он почти не слышал от Тёлки, хотя в ее жизни мастер курса вроде должен бы занимать значительное место. Вообще-то она, демонстрируя тонкую наблюдательность и 34 35 добрый юмор, охотно рассказывала о нелегкой жизни и пестрых судьбах своих сокурсников (нежно влюбленные друг в друга Василиса и Базыкин, расслабленный бес Верка Балабанов); о квартирной хозяйке с ее идеей найти клад и осчастливить всех вокруг; о вечной Младой Гречанке, таинственной институтской секретарше, у которой, как говорят, странное хобби: дома по вечерам она шьет постельное белье и потом раздаривает всем вокруг – своим подругам, преподавателям в институте, даже понравившимся студентам; и, наконец, о собственной мамочке, которая когда-то, совсем еще девчонкой, полюбила всерьез и на всю жизнь – того румына, Тёлкиного отца – и, давно расставшись с ним, год за годом мечется по миру, хватая мужиков, сравнивая и отбрасывая в сторону негодный человеческий материал… Но в этом длинном ряду предъявленных (а иногда и сыгранных) Телкой типов и характеров не было Магорецкого. И когда Протасов просил рассказать о режиссере, о репетициях, она как-то смущалась, отвечала неохотно и односложно или вообще старалась уйти в сторону. Это было тем более странно, что вчера вечером во время выпивки ее сокурсники чуть ли не каждую минуту наперебой вспоминали мастера: так много он значил в их жизни. Вся эта история с дипломным спектаклем не показалась Протасову слишком серьезной. В чем проблема-то? Получить диплом? Да диплом и так дадут, по этюдам. Целый курс без диплома не оставят: начальству надо же отчитываться за проделанную работу. Спектакль жалко? Господи, да репетируйте и показывайте. Площадок по Москве сколько хочешь – и для репетиций, и для показа, были бы деньги. Но и деньги можно найти. Если дело до того дойдет, он, Протасов, поищет. Если дело дойдет… И тут он понял, что снова проиграл темп: до Глины-то дело уже дошло, и он взял его в свои руки. Сейчас Магорецкий сидит у него, а Протасов шагает по московской слякоти, и места ему в этом деле остается все меньше и меньше. Или вообще уже не осталось. Он вышел на Театральную площадь. На колоннах Большого театра против обыкновения не было никаких транспарантов, и серый портал выглядел угрюмо и строго, как рисунок на сторублевой бумажке. Национальное достояние. Символ. "Я – символ национального благополучия, – говорил о себе Глина. – Символ и гарант"… Тут Протасов увидел, что в бронзовой колеснице на фронтоне стоят живые люди: они машут руками и кричат что-то вниз человеку у входа в сквер, и от них к нему тянется канат. "Четырем лошадям на фронтоне Большого театра – он задаст им овса, он им крикнет веселое: "Тпру!" Мы догнали ту женщину. Как тебя звать? Клеопатра? Приходи, дорогая, я калитку тебе отопру". Вот теперь, наконец-то, действительно догнали и будут ремонтировать или чистить. Стихи приходили ему на память по любому поводу и часто совершенно некстати. Особенно когда он оказывался в трудном положении. Например, когда его арестовали и везли на первый допрос (в "газике" – опер слева, опер справа), он почему-то начал твердить про себя Мандельштама: "На высоком перевале, в мусульманской стороне, мы со смертью пировали, было страшно, как во сне". И пока доехали от дома до Матросской Тишины, он успел семнадцать раз прочитать все стихотворение от начала до конца. И в тюрьме, а потом и в лагере, засыпая после отбоя, он очищал и освежал душу стихами. ("Передо мною волны моря, их много, им не мыслим счет…") Цепляясь за чистое стихотворное слово, он вылезал из кучи словесного и смыслового мусора, в котором копошился весь лагерный день, разговаривая с зэками, с 35 36 надзирателями, с вольнонаемными мастерами на производстве. Человеческий мусор использует мусорный язык: иногда вообще казалось, что они не разговаривают, а злобно кидают друг в друга зловонные куски дерьма… И вчера, когда Тёлка привела его к своим друзьям, он, едва выпил первые полстакана, вдруг, к ее изумлению, начал читать стихи: "Нынче ветрено и волны с перехлестом…" И опять того же Мандельштама, "Фаэтонщика", которого всегда готов был не просто читать, но мычать, как свихнувшийся меломан всегда и всюду мычит любимую симфонию: "Нам попался фаэтонщик… Словно розу или жабу, он берег свое лицо". Он читал чуть нараспев, как верующий читает молитвы. И получалось хорошо, потому что истинно верующий молитву плохо не прочтет, и его всегда хорошо слушали, потому что люди всегда готовы сопереживать искренней молитве. Тёлкины друзья понравились Протасову. Трогательные великовозрастные дети: всё в их жизни зыбко, все неопределенно – всё впереди. И Верка Балабанов, простодушный провинциальный демон с несколько женственной ленивой пластикой; и простенькая, живая и смешливая Василиса, не отрывающая влюбленного взгляда от своего Базыкина, и сам Гриша Базыкин, спокойно, уверенно и дерзко отказывающийся раскладывать жизнь по знакомым полочкам: нет, долой Булгакова, долой Горького, долой устоявшиеся каноны… "В школе нас учили, что материя первична, а сознание или даже дух – вторичны, – сказал он, когда Протасов прочитал Мандельштама. Широкий и низкий стаканчик с водкой он держал на ладони так, словно это был череп Йорика. – Но с какой стати материя начинает мыслить? Ей это зачем нужно? Случайно, что ли? То есть вся жизнь – результат нелепой случайности? Нет, материализм – это бред какой-то". "Всё и вся мыслят только от скуки, когда нет других развлечений, – сказал Верка. Он полулежал на диване тоже со стаканом в руке и задумчиво глядел в потолок. – Материя, дух… ах ты мой Шекспир ненаглядный, тебя волнуют пузыри земли"… За последние годы Протасов отвык от студенческих тусовок, забыл, что можно, выпивая, полночи толковать о духе и материи, о мировосприятии Горького или о нравственном сломе (или подвиге?) покойного Эфроса, с подачи властей принявшего "Таганку", когда Любимов остался на Западе. Когда-то, со школьных лет начиная, "Таганка" была для Протасова своим театром: он свел знакомство с радистом, который через боковую дверь проводил его в радиорубку (расчет не деньгами, а оригиналами Вертинского и Лещенко; папа Протасов устроил страшный скандал, когда узнал, что сын перетаскал куда-то всю его коллекцию трофейных пластинок, о которой он, впрочем, до того не вспоминал годами, да и потом забыл довольно быстро). "Мастера и Маргариту" Протасов посмотрел раз шесть или семь. И "Преступление и наказание". И "Гамлета" с Высоцким. В восьмидесятом он, конечно, посчитал своим долгом прийти на Володины похороны. И в жаркий июльский полдень в давке, в потной, возбужденной толпе на Таганской площади получил едва ощутимый укол под лопатку и в первое мгновение не придал этому значения, решил: кто-то хулиганит, – но к вечеру почувствовал себя плохо и еле добрел до дома; он весь опух, кожа приобрела какой-то красно-лиловый оттенок и так натянулась, что, казалось, вот-вот начнет лопаться. Он стал задыхаться, и родители страшно испугались, вызвали скорую, но те не знали, что делать, не знали, что за гадость введена в организм. Лучше ему стало только под утро, но он все-таки дня два провалялся в постели. Что ему всадили – неизвестно. На площади, как потом 36 37 говорили, укололи многих. Но что это было? И кто? Маньяк? Гэбуха, озлобленная тем, что Любимов устроил Володе народные похороны? Впрочем, гэбуха – те же маньяки. Структурированная шизофрения. Протасов был тогда юным студентом факультета журналистики, яростным говоруном и спорщиком, с упоением читал любой попадавший в руки "самиздат" и каждый вечер перед сном, прижав ухо к пластмассовым ребрам динамика, сквозь вой глушилок слушал западные "голоса". Его вышибли с четвертого курса. В дискуссионном клубе он толкнул речь, в которой были и явная поддержка Юрия Любимова, и менее явная, но хорошо угадываемая апология Московской Хельсикнской группы и даже восхищение Андреем Дмитриевичем Сахаровым. И самое главное, вопрос, обращенный к аудитории: "А мы сами сумеем жить не по лжи?" Секретарь факультетского парткома предложил компромисс: ему не нужен был скандал, и он готов был обернуть дело так, что это, мол, спланированное выступление, если угодно, провокация – чтобы подхлестнуть аудиторию к более активному выражению мнений. Словом, пришлось выбирать между исключением и славой провокатора. И он, понимая, каким ударом исключение будет для родителей, уж готов был принять парторговский компромисс и остаться: его левацкие взгляды хорошо знали на факультете, кто поверит в его неискренность? "А потом они сделают из тебя регулярного стукача", – с печалью сказал Крутов, умница и отличник, сам он не торопился публично проявлять свое отношение к советской власти. Окончательно дело решила Лара, подруга Протасова, будущая жена: "С ума сошел – соглашаться? Что я потом скажу нашим детям?" Она слышала "по голосам", что так говорила жена какого-то заколебавшегося и готового к отступничеству диссидента, и эта формула произвела на нее сильное впечатление. Детей у них не было и не ожидалось (и, увы, потом так и не было), но Протасов подал заявление и забрал документы – это был самый мирный выход из ситуации, и секретарь парткома на него согласился, впрочем, без особой радости, сожалея, видимо, об упущенной добыче. А через три года Протасова посадили: он переписывал и продавал кассеты с песнями Высоцкого, Галича, Окуджавы и церковными песнопениями, которые тогда пользовались особенным спросом в интеллигентской среде. Кассетный бизнес в начале восьмидесятых был довольно прибыльным, и Протасов быстро поставил дело: к концу первого года на него работали уже человек тридцать, и он открыл точки и в Ленинграде, и Киеве, и в Прибалтике, и по областным городам. Чистые кассеты он получал из Финляндии и — через Владивосток – из Японии. К моменту, когда его арестовали, он успел заработать достаточно, чтобы купить двухкомнатную кооперативную квартиру в Теплом Стане (оформили на Лару). Там его и взяли: выбежал утром в лесопарк сделать зарядку, а когда вернулся, его уже ждали в подъезде человек десять оперативников. Поднялись с обыском, нашли четыре японских двухкассетника, на которых чуть ли не круглосуточно шла перезапись, сотни две готовых кассет. Лара в едва накинутом халатике стояла в дверях большой комнаты и курила, прикуривая одну сигарету от другой. В комнате висел сизый дым. Человек, руководивший обыском, мягко попросил ее пройти на кухню: мол, дышать нечем. "Палач!" – внятно сказала она ему. Но на кухню все-таки ушла. Квартиру не конфисковали только потому, что Ларкин папа (человек засекреченный, то ли летчик-испытатель, то ли физик-ядерщик) написал убедительное заявление, что, мол, это он дал дочери денег на покупку квартиры, к которой "этот подонок и отщепенец, заслуживающий самого 37 38 строгого наказания", не имеет никакого отношения (ни к квартире, ни к дочери). Дело действительно могло обернуться весьма серьезно, поскольку на одной кассете обнаружилось записанное с эфира интервью Солженицына: для себя писал, не для продажи, и намеревался, прослушав пару раз, тут же стереть, но вот не успел. "Надо бы пустить тебя по семидесятой – "антисоветская агитация и пропаганда", – семь и пять „по рогам“ (то есть ссылка), но пожалели молодого и зеленого", – врал следователь-гэбэшник. К тому времени Протасов уже почти полгода смотрел на мир сквозь портянки, развешанные для просушки в камере, где на двадцать спальных мест было прописано полсотни зэков, из которых десять были больны туберкулезом, а еще пятерым нужна была срочная психиатрическая помощь, – и из всей этой арифметики хорошо усвоил, что здесь никто никого никогда не жалеет. И он уже понимал, что начальство посвоему правильно рассудило: из фарцовщика средней руки не следует создавать еще одного "мученика совести". Его приговорили хоть и по максимуму, но всего лишь за спекуляцию, правда, в особо крупных размерах. Но в "мученики совести" он все-таки попал: дело заметили и взяли на свой учет диссиденты-правозащитники (Лара, молодец, развернула тихую, но настойчивую активность и кому нужно дала знать) и внесли в списки узников совести – как пропагандиста и распространителя свободной песни. Даже академик Сахаров будто бы вставил его имя в какое-то свое заявление. Об этом ему уже на зоне сообщил Глина Пуго, который, хоть и числился обычным зэком, жил здесь в особых условиях – один в отдельном вагончике – и имел доверительные отношения с лагерным начальством. И может, ему даже разрешили держать у себя приемник, и он слушал "голоса". После первых недель растерянности в тюрьме Протасов быстро понял, что быть советским заключенным – это совсем не трагедия, а всего только особенный образ жизни или даже особенная профессия. Профессия, к слову, не из последних: именно она сделала всемирно известными Солженицына, Щаранского, Буковского и многих, многих других. Когда тебе двадцать пять и ты прочитал и "Архипелаг", и Евгению Гинзбург, и Надежду Мандельштам, и кипу другого диссидентского самиздата, и знаешь по именам всех дикторов "Свободы" (знаешь, например, что Юрий Мельников – это псевдоним, а настоящее имя этого замечательного человека — фон Шлиппе, и детство его прошло в СССР), и у тебя у самого есть немалые литературные амбиции, и ты, познав вкус рыночной игры, уже видишь, что коммунистическая система что-то сильно пошатывается, — не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что твое трехлетнее тягало, твоя прогулка по лагерям и тюрьмам рано или поздно пойдет тебе на пользу. "Есть люди, которые сидят за дело и для дела, – философствовал Глина Пуго, совсем еще не старый, но уже тертый, козырной, самый авторитетный человек на зоне. – А есть люди, которые сидят без дела. Вот ты, Ляпа, сидишь без дела. Кому ты там в пивной вилку в жопу воткнул? (Они когда-то жили в одном городе, и Глина знал Ляпу еще мальчишкой, комсомольским поэтом.) А есть такие, для которых сидеть – это и есть дело. Мы с Маркизом сидим, потому что нам надо сидеть – для дела надо. Для завтрашнего дела. Сегодня наше место именно здесь. Здесь мы делаем свое будущее". Глину взяли по подозрению в организации убийства какого-то крупного цеховика (подпольное производство трикотажа), но повесить на него эту "мокруху" толком не сумели, дело слепили на скорую руку и подкрепили, 38 39 смешно сказать, какой-то ржавой волыной и "корабликом", спичечным коробком с травкой – и то, и другое менты на всякий случай подбросили ему в машину. Просто пора пришла: в области его влияние к тому времени чуть ли не сравнялось с влиянием секретаря обкома. Он и сам понимал, что малость зарвался, и был доволен, что все закончилось лагерем: могли и начисто шлепнуть где-нибудь в подворотне… А все-таки жалко расставаться с Глиной. Протасов, хоть и был моложе, всегда относился к нему немного свысока, как старший к младшему, что в общем-то соответствовало тому месту, которое сам Глина отвел в своей жизни удачно подвернувшемуся под руку Маркизу: быть наставником и помощником в продвижении его, Глины, в круг респектабельных граждан. Маркиз был одаренным и внимательным педагогом и много работал со своим воспитанником, стараясь передать все, что сам начитал в молодости. Но, надо сказать, и Глина щедро платил добром. На зоне неизбежные мелкие стычки с отмороженными зэками не имели для Протасова сколько-нибудь серьезных последствий прежде всего потому, что все знали, что он – друг Глины. И после лагеря Глина немало помогал, например, когда Протасов поднимал газету и издательство. И кредитами помогал, и, бывало, посылал своих людей, если протасовские должники пытались зажать деньги, и рекламой снабжал, и оплачивал ее щедро. Полтора года назад, еще только первая мысль о гостинице пришла в голову, Протасов сразу поделился с Глиной. И Глина сам вызвался, сказал, что поможет: он хотел быть рядом с Маркизом. "Гостиница – какое-то теплое, доброе дело, да? Аристократическое: герб, вензель. Назови ее "Маркиз Д'Арбат". Как-то все это кучеряво смотрится", – сентиментально расслабившись, говорил он Протасову за завтраком у себя в кабинете, в этом знаменитом на всю Москву "Глиняном углу", увешанном керамикой и подлинниками Филонова. И не было никакого сомнения, что эта начальная благожелательность была искренней. Что же потом-то случилось? Почему он не попытался даже объясниться по-товарищески, а сразу пришел со своими амбалами – словно на чужого наехал?.. "На Яна Арвидовича Пуго за последние полгода, по сути дела, нет ничего нового, а что было раньше, то вы отказывались смотреть: он же наш, то есть ваш, друг и партнер", – громко дыша в телефонную трубку, говорил завотделом досье, человек сильно пьющий и не весьма здоровый. Он знал цену себе и своей базе данных и от этого присвоил право быть несколько хамоватым с потребителями, даже если это начальство. "А вот теперь будем смотреть – внимательно и подробно", – сказал Протасов. 9. Настя Дожив до преклонного возраста, Тёлкина квартирная хозяйка Анастасия Максовна Филлипова сохранила по-детски наивную способность мечтать. Она и раньше всегда жила мечтами. Большую часть своей жизни, лет до пятидесяти, она по-девичьи пылко мечтала о большой любви, которая изменит ее одинокую и, в общем-то довольно однообразную жизнь музейного экскурсовода. Увы, накопив в личной жизни богатый опыт проб и ошибок, пропустив через свою широкую и низкую тахту с десяток любовников, всегда плативших ей черной неблагодарностью за доброту и матерински нежную заботу (один из них и впрямь был очень похож на Пастернака и даже писал стихи), весьма болезненно пережив случившиеся в должный срок возрастные изменения женской 39 40 физиологии (после чего мечтательная тяга к мужчинам несколько утратила свою остроту), она в конце концов поняла, что девичьим надеждам уже вряд ли сбыться. Едва расставшись с мечтами о любви (в которых, надо признаться, всегда сильна была плотская составляющая), она тут же всецело предалась мыслям о духовном, горнем, возвышенном. С печалью и состраданием стала она думать о заблуждении покойных родителей, проживших жизнь большевиками и атеистами, – и в пятьдесят крестилась в православие. Чтобы не выгнали с работы, она крестилась не в церкви, где настоятели обязаны были доносить о каждом обращенном, а у опального священника Дмитрия Дудко: по договоренности ездила к нему домой, в одной рубахе стояла в тазике, и батюшка поливал ей на голову из кружки. В последующие нескольких лет она не пропустила ни одной обедни в ближайшей к дому церкви (Ильи Пророка, что в Обыденском переулке), регулярно исповедовалась и причащалась, постоянно читала Евангелие и Пророков. Она хотя и верила без сомнения, но, исповедуясь, каждый раз должна была признаваться, что некоторые догматические принципы понимает посвоему, не так, как принято в церкви. Ей, например, совершенно чужда была мысль о том, что "царствие божье в нас самих есть". Царствие божье представлялось ей какой-то фантастически прекрасной, хотя и загадочной внешней, потусторонней реальностью, заглянуть в которую или даже приобщиться к интригующим тайнам которой хоть и трудно, но можно – даже не выходя из своей арбатской квартиры. Надо только искренне молиться о даровании такой благодати. И она молилась и нескромно мечтала, что Господь когда-нибудь обратит на нее особое внимание, сам явится ей или даст возможность пережить какое-либо иное чудо, которое яркими красками расцветит ее однообразную жизнь, – и она навсегда выбьется из монотонной повседневности и ощутит себя причастной к истинному Царствию Божью. Когда она на исповеди начинала говорить об этих соблазнительных мечтаниях, престарелый батюшка не вполне понимал, о чем женщина толкует, и, справившись, не прелюбодействует ли она, не таит ли злобу на ближнего и регулярно ли читает "Отче наш", допускал к причастию. Наивное ожидание, что ей вот-вот явится сам Господь (так девочкаподросток у театрального подъезда с безнадежным упорством ждет появления любимого актера, давно уехавшего веселиться с друзьями), долго составляло содержание ее жизни – по крайней мере до тех пор, пока ее соседка с верхнего этажа и лучшая подруга Ядвига, работавшая в театральном институте и потому имевшая широкий круг знакомств среди деятелей сцены, не привела ее на спиритический сеанс, который устраивали три ветхие старухи-актрисы. Опрятные и интеллигентные старухи, одетые в одинаковые серые платья с одинаковыми тщательно накрахмаленными кружевными воротниками, жили вместе в одной комнате большой коммунальной квартиры. Они были настолько стары, что хорошо помнили Станиславского и даже дореволюционные собрания спиритов у присяжного поверенного N, владевшего некогда домом, где прожила жизнь и сама Анастасия Максовна. Она едва познакомилась с ними, как все три, словно подчиняясь таинственной закономерности или повинуясь неведомому призыву, умерли одна за одной с разницей в три дня. Но все-таки, пока они были живы, Настя успела побывать у них на двух сеансах, и то, что она там увидела и услышала, потрясло ее и переменило ее отношение и к Богу, и к жизни. Ей открылась 40 41 великая истина: чуда не надо ждать и вымаливать – его можно и нужно творить самому. Или, по крайней мере, можно присутствовать и видеть, как чудо сотворяется другим человеком, медиумом, которому сила духа и волевой напор позволяют выйти за рамки обыденного, земного существования и вступить в контакт с реальностью потусторонней, зовите ее как хотите: загробной жизнью, вечностью, астралом, ноосферой или Царствием Божьим. Еще когда они душным летним вечером шли на первый сеанс, Ядвига, несмотря на жару кутавшаяся в свою черную шаль, рассказывала, что за месяц до того старухи в ее присутствии вызвали дух великого Эмануэля Сведенборга (сама видела слабо светящееся облачко!) и тот сообщил (сама слышала хриплый голос, говоривший по-немецки!), что душа ее, Ядвигиного, сына не значится среди душ умерших: "Die Unermesslichkeit hat nichts vernommen", – что в дословном переводе означает: "Бездне неведом". Малолетнего сына у нее пятьдесят лет назад при аресте отняли чекисты, и вскоре ей сообщили, что он умер в детском доме, но никаких официальных подтверждений она так никогда и не смогла получить (что-то сгорело в пожаре, что-то было уничтожено наводнением), и она не хотела верить в смерть ребенка. Освободившись из лагеря в 56-м, она, хоть ей еще и тридцати не было, на всю жизнь облачилась в траур по расстрелянному мужу, но за мальчика всегда молилась о здравии. В первый свой визит к старухам Настя была только пассивным участником. Старухи жили на первом этаже или, вернее, в бельэтаже, в большой комнате с высокими потолками и, видимо, высокими окнами, которые теперь были плотно занавешены тяжелыми, из-под потолка спускавшимися черными портьерами. Такими же портьерами была занавешена и входная дверь, чтобы ни свет, ни звук не пробивались из коридора. Часть комнаты была отгорожена огромным темного дерева (или потемневшим от времени) старинным буфетом, место которому было, конечно, не в коммунальной квартире, а в музейной дворцовой столовой. По верху буфета за невысоким резным карнизом была расставлена довольно странно смотревшаяся здесь большая коллекция когда-то ярких, но теперь совершенно запылившихся и потускневших дымковских глиняных игрушек. Позади этого дворцового сооружения у старух была, видимо, устроена спальня… Большую же часть комнаты занимал необъятный и тоже старинный круглый стол без скатерти и с широкой полосой перламутровых инкрустаций по всей окружности. Вокруг стола все и расположились. Выключили свет, и кем-то было сказано, что руки следует положить на стол и всем взяться за руки. В полной темноте Настя нашарила и сжала в левой ладони сухую и слегка дрожащую слабую ручку одной из хозяек, правой же рукой взялась за пухлую и влажную ладонь Ядвигиного начальника – ректора театрального института (он также пожелал собственными глазами увидеть чудо). Программа сеанса была довольно дурацкая и скорее развлекательная, чем серьезная: по просьбе ректора должны были вызвать дух Константина Сергеевича Станиславского. Медиумом была как раз соседка Насти слева, кажется, наименее древняя из хозяек. О том, что действо началось, Настя поняла, когда старуха вдруг с неожиданной силой стиснула ее руку, ее худые пальцы в кольцах и она чуть не вскрикнула от боли, но сдержалась и в свою очередь как могла сильно стиснула ладонь ректора. Был душный летний вечер, и оттого, что окна были закрыты и плотно занавешены, в комнате совершенно нечем было дышать. Из коридора, хоть и приглушенно, но все-таки доносился разговор соседей и плач ребенка. Откуда- 41 42 то, должно быть из-за царского буфета, распространялась тошнотворная вонь от забытого ночного горшка. В довершение ко всему Насте показалось, что под столом, задев ее ногу хвостом, пробежала крыса, и она опять едва удержалась, чтобы не закричать. "Кусочек ада", – испытывая омерзение и страдая от спертого воздуха, подумала Настя. В полной темноте и в наступившей наконец глухой тишине, сжимая руки друг друга, все просидели минут пять или семь или даже больше. Ничего не происходило. Но вдруг послышалось едва различимое потрескивание, какое бывает при слабых электрических разрядах, когда человек снимает с себя одежду из шерстяной ткани. В душной комнате едва заметно почувствовалась слабая струя свежего озонированного воздуха и, вздрогнув от неожиданности и тут же похолодев от ужаса, Настя боковым зрением увидела справа от себя у стены, но довольно высоко над полом едва различимую фигуру, светящуюся слабым и чуть переливающимся – то голубым, то зеленым – светом. Это был древний, согбенный старик, в каком-то полувоенном сюртуке с большими, видимо металлическими, пуговицами. Лицо до глаз было закрыто бородой, обеими руками он опирался на массивную трость. "Вы готовы отвечать?" – спросила старуха-медиум голосом не по возрасту уверенным и крепким. Зелено-голубой старик едва заметно кивнул. Еще до сеанса договорились, что медиум спросит, знает ли дух что-нибудь о сегодняшнем театре, и если знает, то как оценивает его. Но прежде чем вопрос прозвучал, старик заговорил сам. То есть вроде бы и старик говорил (там, где в густой бороде можно было предположить наличие рта, происходило какое-то едва заметное движение), но голос исходил не от него, а из старинного мегафона, какой использовали лет сто назад – Настя видела его до начала сеанса, но не обратила специального внимания. Мегафон лежал на ломберном столике немного в стороне от привидения, и теперь, когда глаза привыкли к темноте, было очевидно, что голос – несколько механический, какой-то граммофонный – звучит именно из его раструба. "Наш век, век по преимуществу легкомысленный, – медленно вещало приведение. – Все молодо, неопытно, дай то попробую, другое попробую, то переделаю, другое переменю. Переменить легко. Вот возьму да поставлю всю мебель вверх ногами, вот и перемена. Но где же вековая мудрость, вековая опытность, которая поставила мебель именно на ноги?" Произнеся этот довольно идиотский монолог, приведение с минуту помолчало, как бы размышляя, надо ли еще что-то добавить, но, видимо, решило, что сказанного хватит, и тут же стало таять в воздухе и быстро исчезло, оставив после себя еще на некоторое время едва различимое слабо светящееся пятно. Минут пять просидели потрясенные, потом зажгли свет. Раздвинули шторы и открыли окна. В комнату хлынул свежий вечерний воздух и шум летней улицы. Снова все увидели чистую прибранную комнату с музейной мебелью и ее опрятных симпатичных хозяек в платьицах с кружевными воротничками. На руки к Насте запрыгнула откуда-то взявшаяся ласковая трехцветная кошка с обрубленным хвостом. Ректор подошел к мегафону и убедился, что никакого обмана быть не могло: та часть переговорной трубы, которую обычно подносят к губам, была предусмотрительно опущена в тазик с водой. Вынутый из тазика мегафон был пуст на просвет. И ни под столиком, ни за ним, ни около него ничего не было. "Но это был не Станиславский", — сказал наконец ректор. Он был бледен и несколько напряженно пытался улыбаться. Слова о легкомыслии перемен были ему близки, но сам строй речи почему-то мешал принять их за истину. "Нет, именно Станиславский, – усталым, теперь 42 43 уже своим, низким и хриплым старческим голосом ответила хозяйка, исполнившая работу медиума. Две другие неподвижно, как манекены, продолжали сидеть, положив руки на стол перед собой. – Мы вызывали Станиславского, вот он и был. Но в роли Крутицкого. Не узнали? – она помолчала, словно вспоминая. – Ах, какой был Крутицкий! Убийственная ирония…" Было непонятно, о ком она говорит: о привидении или о живом Станиславском, которого когда-то видела на сцене. "А не Алексеева надо было звать – по паспортной фамилии?" – вдруг осознав оплошность, спросила она своих старших и, видимо, более опытных товарок. Но те, не меняя позы, лишь молча пожали плечами – обе одновременно… Старухи работали за деньги. И в следующий раз, разбив глазастую глиняную кошку, в которую Настя время от времени опускала долларовые десятки, заработанные уроками английского языка, она взяла с собой верную Ядвигу и отправилась к старухам вызывать на допрос дух присяжного поверенного N. От своих родителей, которые въехали в этот дом еще в начале двадцатых, она не раз слышала о том, что накануне роковой поездки присяжному поверенному во сне было предсказано, что назад он не вернется. Сон был, конечно, дрянной, но билеты на поезд уже взяты, каюта на волжском пароходе заказана и главное – барышня-актриса, которую он уговаривал целый год, теперь с нетерпением ждала поездки… Словом, присяжный поверенный решил все-таки ехать, но на всякий случай собрал всю золотую наличность, все имевшиеся в доме фамильные драгоценности, все подарки, приготовленные к свадьбе, и хорошо спрятал их – чтобы не достались алчным родственникам, которые не одобряли его свободный образ жизни и которых сам он на дух не переносил. Эта легенда, несмотря на всю ее наивную несуразность, много лет всерьез занимала умы здешних жильцов, и всякий раз, когда не хватало денег до зарплаты или просто выпить было не на что, они вскрывали пол у себя в комнате и начинали искать клад. Можно не сомневаться, что если бы клад действительно был, то четыре поколения советских граждан, подняв каждую паркетину, простукав каждый кирпичик стены, исследовав каждый сантиметр вентиляционных ходов, его непременно нашли бы. Но мечтательницу Анастасию Максовну этот довод остановить не мог. Она была убеждена, что наверняка о судьбе клада может сказать только тот, кто его закладывал… Старухи деньги взяли, вся процедура повторилась (только, конечно, без ректора, а поэтому всем пришлось особенно широко раскинуть руки), но в этот раз дух присутствовал невидимым и на все вопросы давал косвенные ответы: если соглашался, то из мегафона раздавался негромкий двойной стук, если нет – следовало молчание. Во-первых, выяснилось, что золото и драгоценности действительно спрятаны в доме. Во-вторых, оказалось, что они лежат в квартире на втором этаже. Последнее свидетельство было совершенно обескураживающим: всегда считалось, что N жил в бельэтаже. Неужели люди забыли за давностью лет? Настя, наскоро попрощавшись с хозяйками и волоча за собой задыхающуюся Ядвигу, почти бегом бежала домой: весь второй этаж был недавно куплен новым русским, и теперь две огромные коммуналки перестроили в одну, вообще необъятную квартиру (один зал с колоннами – метров сто квадратных), и в роскошных апартаментах шла последняя отделка. Как-то она встретила здешнего хозяина, этого нового русского, высокого 43 44 седоусого красавца: он, а с ним еще несколько человек стояли на площадке второго этажа возле раскрытой двери в квартиру, и сразу было видно, что он здесь хозяин, а вокруг – люди подчиненные, зависимые. Проходя мимо, она поздоровалась, и он раскланялся и назвался (его имя и отчество она от волнения тут же забыла), и она, остановившись, тоже зачем-то назвала себя по фамилии ("Анастасия Филиппова") и сказала, что живет этажом выше. "Настасья Филипповна?! – громко и радостно повторил он и широко развел руки, словно раскрыл объятья. – Подумать только: здравствуйте, Настасья Филипповна!" И тут же предложил ей работать у него экономкой: "Мне нужна надежная интеллигентная женщина вот как раз вашего возраста, – он чуть помолчал и улыбнулся, – и с вашим именем-отчеством. Я буду платить вам за имя-отчество, милейшая Настасья Филипповна". Тогда она смутилась, хотела сказать, что он не расслышал, но не сказала и обещала подумать. Но теперь думать было нечего: она будет своим человеком в этой квартире и там уж разберется, что где и что к чему… Но, увы, и в тот вечер, и во все последующие дни и вечера в квартире на втором этаже никто не появлялся. От досады Настасья Филипповна несколько раз громко стучала кулаком и даже пинала закрытую дверь, хотя и звонок работал, и было слышно, как легким эхом отзывается он в пространстве пустой квартиры. Никого. Ремонт был закончен, седоусый красавец больше не появлялся, и дверь никогда не открывалась. Господи, какая это мука, знать, что за этой вот дверью лежит твое счастье, и ты уже почти коснулась его, – но в нерешительности чуть помедлила (так ей самой стало казаться), и дверь перед тобой захлопнулась. Какая мука три или четыре года каждый день ходить мимо этой двери, иногда касаться ладонью ее кожаной обивки, ощущая какую-то особенную энергетику, идущую изнутри… и понимать, что проникнуть туда ты бессильна. Даже когда было объявлено, что дом расселяется под реконструкцию или под снос, даже когда большинство квартир опустели, заветная дверь так и не открылась. Тут-то Настя и занялась всерьез антропософией. Тут-то она и постаралась собрать воедино все спиритические силы Москвы, надеясь (о чем сами эти силы, конечно, не подозревали) с их помощью вооружиться духовным инструментом (каким – она сама не знала), который пригодится в решающий момент, когда дом начнут ломать, квартира откроется и у нее будет короткое время, может быть часы или даже минуты, чтобы найти свое счастье… Но квартира открылась раньше. Как-то, проходя мимо, она по привычке позвонила, дверь неожиданно распахнулась, и на пороге появился бледный человек – такой изможденный, словно все эти годы он за этой дверью провел в заключении. "Я ваша соседка сверху, – в растерянности сказала Настя. – Может, что нужно, мы всегда будем рады". Человек молча смотрел ей в лицо. "Заходите, – сказал он наконец, отступая в сторону, – меня зовут Лаврентий, или просто Ляпа". 10. Магорецкий 44 45 Магорецкий был гением репетиций. Он любил работать с актерами, любил своих актеров. Человек довольно замкнутый, немногословный, не глядящий на собеседника, редко улыбающийся – на репетициях он совершенно раскрывался, темное лицо его преображалось и просветлялось, он ловил взгляд актера, с которым работал, много и точно говорил, громко радовался и громко огорчался, иногда, барабаня кулаками по столу, заразительно хохотал, иногда, разъясняя актеру суть трагического момента, смотрел на него глазами, полными слез. Его режиссерские разработки на бумаге имели вид скупых набросков и графических схем – всего лишь план будущей работы. По-настоящему творил он только на репетициях. Здесь была его жизнь, его игра, его работа, его вдохновение. Вне репетиции его мучила тоска, и чем старше он становился, тем чаще обыденная внерепетиционная жизнь воспринималась им лишь как цепь скучных, но обязательных действий по организации и обеспечению его любимой репетиционной игры. Готовый и выпущенный спектакль радовал его только на премьере – и ни днем позже. Спектакль вышел – значит, ушел прочь. Это все равно что опубликованная книга, выросший ребенок, некогда любимая женщина, к которой ты охладел и отпустил без особого сожаления. Спектакль тебе уже не принадлежит, он живет своей жизнью. Можно, конечно, посмотреть из зала и третье, и пятое, и десятое представление – и сделать свои замечания. Но это не творчество, это работа редактора или корректора. Дело, конечно, нужное, но кровь остается холодной и сердце не закипает, тут работа рассудка. Все уже сделано. Но если из-за какой-то внешней причины работа над спектаклем вдруг прервана, если резко остановлено это захватывающее вихревое движение репетиционного творчества, если уже возникшая, выстроенная гармония текста и речи, жеста, движения каждого актера на сцене, общей пластики действа, соотношения мизансцен, устоявшихся схем и постоянных импровизаций, – если вся эта симфония смыслов, которая и зовется готовым спектаклем и победный финал которой еще не сыгран, но звучит в сознании режиссера, если весь этот праздник, все это карнавальное кружение вдруг на полутакте, на полушаге творчества замирает навсегда – о, тогда происходит катастрофа космического масштаба, Вселенная рушится: умолкает музыка сфер, гаснет свет, звезды соскальзывают с неба и открывается провал в темную бездну. Конечно, на пустую сцену придут другие актеры (или те же самые) и сыграют другую пьесу, и наброски в рабочей тетради режиссера, возможно, найдут когда-нибудь свое применение, но все это будет уже другая жизнь, другая любовь, другое счастье. Другая вселенная… Уже состоявшийся, поставленный спектакль можно запретить. Наконец, он может не пользоваться успехом и будет снят с репертуара. Но, так или иначе, он был. Нарушенный же репетиционный процесс – это как божественный любовный акт, грубо прерванный в момент предощущения приближающегося оргазма – и зачатия, зачатия! – но увы, не состоялось… Здесь не обида, не оскорбление – смертный грех, святотатство. Магорецкий, конечно, ни в коем случае не собирался прекращать работу над спектаклем. Слава Богу, прошли те времена, когда "нет", сказанное какимнибудь тупым и трусливым чиновником, ломало судьбу художника. Он и до разговора с Пуго был уверен, что площадка найдется, а теперь подумал, что, может быть, даже придется выбирать между разными предложениями. По крайней мере, одно вот уже есть. 45 46 Этот Пуго, вообще-то, занятный тип, хоть самого в спектакль вставляй. Все говорят, что он уголовник. Чуть ли не главный мафиозо. Магорецкий и ехал на встречу с уголовником. Но где все это? Он завтракал с аристократом: ни одного прокола, все строго в пределах этикета, несколько даже старомодного: "покорнейше прошу… извольте… не угодно ли…" Разве что пара жаргонных словечек, ну да ведь их теперь небось и английская королева употребляет. И во внешности ничего вульгарного. Скромный костюм (Китон? Бриони?) и какой-то блеклый галстук (оттуда же?). Загорелое энергичное лицо (лето на вилле в Испании?), глаза думающего человека – спокойные, внимательные, несколько печальные (взгляд отработан перед зеркалом?). Рекламной белизны улыбка (неужели свои такие?). И глубокий, мягкий, бархатный бас ("кузнец, кузнец, выкуй мне голос кафедрального дьякона"). Человек с таким голосом должен говорить уверенно, неспешно, без суеты. А вот смеяться ему нельзя: когда он смеется, парадный облик состоятельного аристократа вдруг исчезает, из груди вырываются какие-то клокочущие вулканические звуки, глаза закрываются, лицо сморщивается и возникает гримаса дурацкого счастья. Он, видимо, сам не знает, как выглядит, когда смеется: смех – естественное движение души, его перед зеркалом не отрепетируешь. Впрочем, за все время разговора он только однажды засмеялся, когда говорил по телефону со своим приятелем по прозвищу Маркиз. Маркиз! Господи, одни аристократы. "Знаете, дорогой Сергей Вадимович… к сожалению… проклятый бизнес… совершенно не оставляет времени… читать", – сказал Пуго, когда они встали из-за стола и наступил момент прощального рукопожатия . Эту простую фразу он произносил долго, с расстановкой, как бы раздумывая над каждым словом. Руку Магорецкого он задержал в своей большой, но мягкой ладони. Они уже стояли у раскрытой двери кабинета, а в приемной, отвернувшись к окну, застыл охранник, готовый проводить посетителя. "Мое литературное развитие остановилось на Дюма, Достоевском, Чехове, – продолжал Пуго, медленно и как бы нехотя отпуская руку гостя, но не двигаясь с места. – Совершенно не знаю, что пишут современные писатели, – читать нет времени. А вот в театр хожу. «Таганка», «Табакерка», «Ленком»… Все спектакли Фоменко. У Сатарнова все видел по три раза. Знаете, театр – более концентрированное искусство, чем литература… А без искусства жить нельзя. Нам, атеистам, иначе нечем жизнь оправдать, да?" – это был не вопрос, а утверждение, и сказал он это совсем тихо, с какой-то виноватой улыбкой. И, окончательно прощаясь, слегка поклонился. Придуряется мужик, думал Магорецкий, спускаясь по лестнице вслед за широкой спиной охранника. Ну прямо Актер Актерович! Нужно ему жизнь оправдывать! Да нет, конечно, придуряется, гонит. Но хорошо вошел в роль и, похоже, сам верит каждому своему слову. Да пусть! Если даст денег на театр, кому важны истинные мотивы? Пусть играет в аристократа, пусть гонит, пусть придуряется – ему, Магорецкому на это решительно наплевать. Он будет ставить спектакли – такие и так, какие и как он сам считает нужным. Ладно, там будет видно. Пока же он остается в институте. Приказа об увольнении еще нет, его занятия – в сетке расписания, за ним по-прежнему закреплены аудитории и репетиционные залы, и он будет работать. Уж две-то недели, по крайней мере. Да хоть бы и неделю. Или даже одну репетицию… Приехав от Пуго домой, он принял душ, выпил кофе и к трем был в институте. Студенты ждали и в этот раз аплодисментами встретили его обычное "Работать. Ра-бо-тать!" 46 47 Курс сильно поредел. Те, кто не желал участвовать в "глумлении над русской классикой", понятно, отсутствовали. Но первый состав – все до единого были на месте. Вообще-то даже и хорошо, что лишние отсеялись. В последнее время его не оставляло ощущение, что, всучив ему этот курс, его намеренно подставили. Пригласили только затем, чтобы раздавить. Принимая наследство Громчарова, он только в первый месяц с гордостью думал о себе как о верном ученике, подхватившем дело учителя. Школу. Но как только впрягся в работу, сразу прозрел и понял, что свалял дурака: никакой школы не было. Курс чудовищный по своей бездарности. Старик, видимо, был уже в маразме: откуда набрал он этих заштампованных провинциальных актеров, выпускников областных театральных училищ, пригодных разве что для бандитских телесериалов? Из восемнадцати человек хоть как-то работать можно было едва ли с половиной. Да и из этой половины, пожалуй, лишь человек пять годились вполне. Можно представить себе, как прошлой осенью ухмылялся стукачректор, подписывая приказ о назначении Магорецкого: он-то знал возможности курса и, небось, уже тогда предвкушал провал выскочки-модерниста, который почему-то (ну ни на понюшку не заслуженно!) пользовался чуть ли не мировой славой. Да нет же, Магорецкий был несправедлив. К студентам – точно несправедлив. Мысли о заговоре, об интригах надо гнать – они предвестники депрессии. Паранойи ему не хватало! Чего дергаться-то? Все нормально. Первый конфликт, что ли, в жизни? Бесконфликтно в театре живут только бездарные подражатели, разработчики общих мест, версификаторы. Ты же Богом обречен отстаивать свою самостоятельность, свою непохожесть, свою избранность. В борьбе с театральными менеджерами, с актерами, со зрителями, с друзьями и коллегами, даже с женой и любовницами и, наконец, с самим собой. И для того чтобы не проиграть в этой борьбе, тебе нужен свой театр, где ты не одним спектаклем, но репертуаром в пятнадцать спектаклей докажешь, что у тебя есть свои идеи и что ты – мастер, творец, а не ловкий делягаремесленник, сумевший впарить западному зрителю сомнительные сценические эксперименты. Нечего грешить на покойника, актеры – нормальные ребята. Как и всегда, есть более талантливые, есть – менее. Хорош Балабанов – Сатин, хороша Василиса Балабанова – Настя. Сама принесла смешную песенку: "За копейку за таблеточку сняли нашу малолеточку. – Ожидает малолеточку небо в клетку, небо в клеточку", – и сделала из нее мини-спектакль, над которым зал не посмеется, а вот такие вот слезы прольет… Но, конечно, жемчужина курса – его Тёлка Бузони. Она сразу правильно поняла, что играть надо не социальное "дно". Провал судьбы всегда без дна. Бездна. Все мы над бездной живем… Вот сейчас она закрыла глаза умершей Анне: "Иисусе Христе, Многомилостивый! Дух новопреставленной рабы Твоей Анны с миром прими… Отмаялась!.." Как это ей удается? Что она такое? Господи, когда умру, кто-нибудь обратится ли к Тебе о душе моей с такой силой сострадания, на какую эта девочка способна на сцене? На какой-то миг ему даже стало тревожно за актрису, играющую Анну: и вправду, жива ли?.. На сцене давно уже был другой эпизод – драка, во время которой убивают Костылева. Этот кусок еще не был вполне отработан, и актеры творили Бог знает что. Но Макорецкий сидел в каком-то оцепенении и никак не мог заставить себя сосредоточиться на работе. Увидев, что Мастер погружен в свои мысли и не обращает на них внимания, ребята откровенно дурачились: дирижер 47 48 опустил руки и музыканты заиграли кто в лес, кто по дрова. Пусть отдохнут. Тёлка одиноко сидела у левой кулисы на ящике из-под пивных бутылок. Луки уже не было – другое лицо, другой взгляд, другая пластика. Все-таки она потрясающе женственна. От нее просто-таки исходит зов женского естества. Но общепринятое и захватанное английское sex appeal к ней никак не применимо: чтобы говорить о ее женственности, нужна лексика несколько старомодная и возвышенная, что-то вроде тургеневской прозы. Но одно дело – говорить, и другое – чувствовать. И тут Макорецкий вдруг вспомнил их последнее свидание — три что ли года назад в какой-то маленькой квартирке – на Полянке? На Ордынке? Вспомнил свежий вкус ее поцелуя, вспомнил ее обнаженную. Ее крепкие груди, несколько развернутые в стороны, ее округлый живот и аккуратный пупок, к которому он прикасался языком, и это, казалось, лишало ее сознания. От нее исходил сладчайший запах женских гормонов, и весь следующий день он носил этот запах на пальцах левой руки и время от времени с наслаждением вдыхал его, и теперь он машинально понюхал свою левую руку: она пахла отвратительным мылом из институтского туалета. Он ударил деревянным молотком по столу: "Базар закончили. Возвращаемся к началу эпизода. Крик из окна… Нателла, вы на сегодня свободны. До свидания". Он прогонял ее, и это было странно: обычно он требовал, чтобы актеры присутствовали в зале, даже если не были заняты. Тёлка растерялась: она спустилась со сцены и села в первое кресло слева. "Я жду", сказал Магорецкий, глядя на нее. Тогда она, не понимая в чем дело, подошла к нему. "Я хотела поговорить после репетиции. Мне нужно посоветоваться… тут важное… и срочное". "Нет, нет, – сказал он, поморщившись, – давайте завтра. Сегодня вы мне сильно мешаете. Ступайте". Она не умела ни спорить с ним, ни убеждать его – только подчиняться. И вышла из зала. 11. Глина Как-то из любопытства Глина поручил своим экономистам пересчитать на сегодняшние доллары сумму в два миллиона римских скудо конца пятнадцатого века – стоимость клада, зарытого кардиналом Спада "в дальнем углу второй пещеры" на острове Монте-Кристо, – и ничего, цифры получились сопоставимые с его личными активами. Роль аббата Фариа, указавшего Глине, как, впрочем, и многим другим, дорогу к сокровищам, сыграл Борис Ельцин, первый российский президент: его правление началось коротким, но бурным периодом, когда социалистической собственности уже не было, а частной – еще не было. В эти быстро промелькнувшие три-четыре года любой расторопный человек, особенно со связями и с деньгами, мог за бесценок приобрести и завод, и банк, и нефтяную компанию. А у Глины (к тому времени контролировавшего рэкет родного областного центра, двух смежных областей и еще примерно десятую часть московского) было и то, и другое. Словом, к концу девяностых эксперты уже включали его в список пятидесяти крупнейших предпринимателей России. Понятно, что имелся в виду только легальный бизнес, тот, что у всех на виду, – группа компаний "Дети солнца" (нефть, 48 49 алюминий, банковское дело, сеть крупных универсамов, игорный бизнес и многое другое). Глина, хотя и начинал с рэкета, хотя и вынужден был (если не сам, то его люди) участвовать в кровавых уголовных войнах, хотя и заслужил в этих войнах репутацию крутого, но табельного (то есть честного) авторитета, очень быстро понял, что все это – пустяки, ничтожная малость. "Сегодня мы – табельные, а должны стать респек-табельными", – говорил он своим партнерам. В будущем он видел себя известным и уважаемым предпринимателем, занимающим высокое положение в обществе, имеющим общественное и политическое влияние. С первых же дней гайдаровской приватизации он начал удачно вкладывать деньги в легальный бизнес: вместе со своими корешами по комсомолу запустил банк, стал инвестировать в производство (даже в сельское хозяйство: взял под контроль несколько колхозов в Ростовской области и стал заметной фигурой в экспорте подсолнечного масла). Никто из авторитетов не был способен понять, зачем это нужно, если, собирая бабки с двух московских рынков, можно жировать на собственной вилле в Испании. Может быть, поэтому, хотя в криминальном сообществе и знали, что у Глины две ходки по мокрым делам, его здесь никогда не считали вполне своим. Да он и сам никогда не стремился ходить в законе. Он был независимым игроком. По крайней мере, именно таким он видел себя сам, и от всего этого отребья, живущего по понятиям и не знающего другой радости, кроме как забухать, задвинуться, пропустить хором какуюнибудь обдолбанную лахудру, наконец, замочить, запороть первого попавшегося безответного фраера, и потом пономарить об этом как о подвиге, – от этого сброда он всегда старался держаться на расстоянии и лишь в исключительных случаях и при абсолютной необходимости соглашался на встречи с кем-либо из крутейших воровских авторитетов. Как ему капали и его симпатизанты из других бригад и семей (им оплаченная симпатия), и чины из МВД, с которыми он водил дружбу (и дружба оплаченная), законники его сильно не любили, за глаза шипели и кыркали (то есть ругались и угрожали), считали, что он не по делу забурел, с общаком делится скупо и пора его слегка оказачить, а может быть, и вообще коцануть вчистую. Но все это были только пьяные разговоры: никаких претензий по существу уголовное сообщество предъявить ему не могло, и, когда возникали конфликты в бизнесе, он умел улаживать их миром. Да и в охране у него работали высокие специалисты из бывшего КГБ, которым он назначил министерские оклады, – с такими ребятами можно было ходить спокойно. Он хотел жить не по понятиям, а по законам общечеловеческим. Отгрохал себе офис на Ордынке. Вошел в Российский союз промышленников и работодателей (журналисты после этого стали называть его имя в числе других российских олигархов). Купил этаж в старинном доме в арбатском переулке и перестроил две бывшие коммуналки в одну квартиру, воссоздал все, как бывало в приличных домах сто назад: гобеленовая роспись стен, колонны в гостиной зале и амурчики со стрелами на потолке. В начале века (теперь уже прошлого) где-то здесь – этажом выше или ниже – жил знаменитый адвокат N. Его избранными речами Глина зачитывался в лагере, выписав их через "Книгупочтой". По книгам он учился искусству красноречия и ночами, когда после отбоя оставался один в своем вагончике, громко, как перед полным залом, читал вслух: "Господа судьи, господа присяжные заседатели! Вашему рассмотрению подлежат свидетельские показания, которые дышат таким здравым смыслом … 49 50 дышат здравым смыслом… дышат смыслом", – повторял он и наизусть заучивал понравившиеся места. Ближайший попка, топчущийся на вышке в обнимку со своим "калашниковым", слышал в ночи крик сошедшего с ума зэка и удовлетворенно улыбался… Уже на воле он прочитал все мемуары, в которых упоминался присяжный поверенный, и знал о нем всё. Реализовать юношескую мечту и повторить судьбу графа Монте-Кристо Глине, конечно, не фартило даже с его миллионами скудо, а вот стать наследником блестящего N было вполне по силам. И как только в Москве возник рынок жилья, Глина тут же разыскал и купил этаж в доме адвоката, расселив двенадцать семей, живших в коммуналках, и решил, что заведет такой же салон, какой был у здешнего хозяина сто лет назад. "Состоятельные люди должны восстанавливать обычай аристократического салона", – говорил он Маркизу Протасову. Он, конечно, хотел сказать артистического, но, оговорившись и тут же поняв ошибку, не стал поправляться. Дело не в словах, а в том, что он, Глина, респектабельный предприниматель, и в гости к нему придут лучшие артисты, писатели, музыканты. Он соединит прерванную связь времен. Пусть салон будет и артистическим, и аристократическим. Ну конечно! Теперь призабылось, а ведь как раз он и никто другой года три или четыре назад впервые привел Маркиза к дому в Кривоконюшенном – чтобы показать квартиру и поделиться, тогда еще несколько смущаясь, этой блажной мыслью о салоне: он помнил, что именно Маркиз когда-то и посоветовал ему читать речи N "как образец высокой русской элоквенции" (недоучившийся филолог в молодости любил озадачить собеседника красивым, но непонятным словом). Выйдя из машины и увидев дом, и потом, поднявшись на второй этаж, Маркиз не переставал ахать и твердить: "Глина, ты гений… Глина, ты гений…" Квартира тогда представляла собой огромный, с тысячу квадратных метров, пустой сарай, заваленный кучами строительного мусора: все стены, кроме капитальных, были уже разобраны, да и капитальные были очищены, оскоблены до первозданного кирпича. И только в пустом зале сияла голубая изразцовая печь, чудом сохранившаяся от прежних великолепных времен ("Врубель, старик, без лажи – Врубель"), – как знак будущего великолепия. "Ты, Глина, гений, – сказал тогда Маркиз. – Ты вечности заложник у времени в плену… А клад нашел? Присяжный поверенный спрятал где-то здесь бриллианты для невесты. Да, ходит легенда. Вот в печку мог вмуровать". Глина смеялся. Печку к тому времени уже аккуратно по кирпичику перебрали и собрали заново, и клада, конечно, никакого не было… А теперь вообще не будет ни печки, ни самого дома. Нет, квартиры не жалко. Теперь эта квартира – часть его взноса в Арбатский проект. Да он в ней и не жил ни дня. Когда отделка была уже почти закончена (вернее сказать, не отделка, а реставрация – всё по чертежам и эскизам ХIХ века), когда уже заказана была мебель (с гнутыми ножками, по эскизам того же столетия), и он даже экономку нанял, – живущую здесь же, этажом выше, пожилую, опрятно и не без вкуса одетую интеллигентную женщину (ее звали Настасья Филипповна!), внешностью совершенно под стать мебели и гобеленовым стенам; когда все это уже состоялось, и вот-вот надо было завозить мебель и въезжать самому (и входить в образ современного графа Монте-Кристо, принявшего облик присяжного поверенного N), он вдруг отказался от всей затеи. Гадалка ему нагадала, что эта квартира принесет несчастье. 50 51 Никогда ни к каким гадалкам он не ходил и вообще во всю эту чертовщину никогда не верил, но в этот раз странным образом все так сошлось, что он впервые в жизни усомнился: может, и вправду есть какие-то потусторонние силы. Гадалка была не одна, их было три – три древние старухи, к которым его опять-таки Маркиз направил. Глина как-то ему пожаловался по телефону: мол, никогда прежде не было, а вот в последнее время теснит грудь какое-то предчувствие, какой-то страх: всё кажется, что он что-то не то и не так делает, не туда идет. И Маркиз со смехом сказал, что когда грудь теснит, следует обращаться или к кардиологу, или к гадалке. И дал телефоны – и лучшего в Москве кардиолога, и лучшей гадалки. К кардиологу Глина, уверенный в своем здоровье, не пошел, а вот погадать – записался из любопытства. Гадалками оказались три ветхие бабушки, жившие вместе в одной комнате большой коммунальной квартиры. Посреди комнаты стоял огромный круглый стол, и вокруг шесть тяжелых старинных стульев. Был светлый мартовский день, в окна ярко светило солнце, и напротив открытой форточки блистала крупная сосулька, свесившаяся с верхнего карниза. По окружности стола пестро сияла широкая полоса перламутровой инкрустации. Глину, видимо, ждали. Когда он вошел, две старухи уже сидели за столом неподвижно в одинаковых позах, положив руки перед собой. Его встретила младшая из хозяек (трудно сказать, действительно ли младшая, поскольку ей было уж никак не меньше девяноста, но другие две все-таки выглядели еще старше). Она молча указала гостю его место и медленно, с трудом, придерживаясь за спинки стульев, обошла стол и села как раз напротив, между подруг (или они сестры?) Собственно, гадала-то одна только младшая, а две другие во все время сеанса сидели неподвижно, словно дремали, причем Глине показалось, что их глаза закрываются не верхними веками, а нижними, как у спящих змей. Солнце сквозь открытую форточку жарко пекло в правую щеку, и Глина хотел было пересесть на соседний стул, но младшая старуха жестом и резким голосом остановила его: "Гадатель и вопрошающий сидят друг напротив друга. Оба спокойны и серьезны. Вопрошающий, перемешайте карты правой рукой, не поднимая их со стола и совершая круговые движения справа налево. Долго мешайте. Человек, манипулирующий картами, заряжает их своим магнетизмом и создает связь между ними и своим подсознанием. Все, что я скажу вам, читая карты, вы уже знаете, но не осознаете. Из бездны подсознания мы вытащим эти знания на поверхность – и ничего больше. Для этого используем старинные гадательные карты Марсельского Таро. Вы согласны?" Она говорила с ним, как врач с пациентом, готовя его к операции. Он молча кивнул. "На какой вопрос мы будем искать ответ?" – спросила она. "Что ждет меня в будущем?" – от робости у него вдруг пропал голос, и он произнес это еле слышно. Перед ним рубашками вверх лежала колода огромных карт, которые, реши он тасовать их, как обычно тасуют карты, не поместились бы у него в руках – так они были велики. Минут пять он правой рукой мешал их на столе. Наконец старуха сделала знак: достаточно. Он сгреб и снова выровнял карты в колоду и хотел привстать, чтобы продвинуть их к гадалке, но та опередила его: откуда-то появившейся лопаткой, какие используют крупье в казино, через весь стол она ловко подвинула карты к себе. Чуть подержав левую руку на колоде, она начала медленно снимать карты одну за одной и класть их перед собой. Как она раскладывала и что за карты перед ней лежали, Глина не видел, да и видел бы – что он мог понять? И когда она начала толковать, он не мог вполне 51 52 врубиться и слушал ее как-то невнимательно. Он только заметил, что старуха, сидевшая слева от гадалки, в какой-то момент открыла глаза и, чуть склонив голову набок, посмотрела на разложенные карты и как-то неутешительно покачала головой. Впрочем, она тут же снова отвернулась и застыла в прежней полудреме, и Глина опять не успел заметить, верхними или нижними веками закрыты у нее глаза. Все, что лопотала старуха, казалось ему полной лабудой. "Вы очень зависимы от прошлого…" Да кто же не зависим от прошлого! "Легкое приобретение богатства…" А у кого из новых русских богатство трудное! Но, с другой стороны, детдом, малолетка, тюрьма и лагерь – это легкий путь к богатству? "Вы человек больших амбиций. Ищете власти над людьми…" Господи, ну не за этим же он пришел сюда. Все эти общие места, все эти пошлые глупости, произнесенные со значением, только разозлили его, и все, что бабка говорила потом, он слушал вполуха. Но все же терпеливо просидел минут двадцать и когда все закончилось, молча расплатился и, сухо поблагодарив, ушел. А вечером того дня ему позвонили (он сидел в театре, но мобильник не выключал, только звук убрал): Саню Кискачи взорвали в его любимом, недавно купленном "порше" – прямо возле их офиса. И, в темноте пробираясь к выходу по ногам шипящих зрителей, он вдруг вспомнил старуху, вспомнил слова, в раздражении пропущенные мимо ушей. "Вашему родственнику угрожает серьезная опасность. Возможно, сегодня". Какому еще родственнику, когда он во всем мире один как перст! А вот какому: Саня Кискачи был ему как брат еще с малолетки. И обе ходки – с ним вместе. Да не просто родственник – они срослись по жизни, как сиамские близнецы. Вместе выбивались из юных уголовников сначала в студенты областного сельхозинститута, потом в комсомольские деятели. Вместе, работая уже в обкоме комсомола, тонко рассчитали дело и собрали бригаду штиповых парней и трясли теневиков, как хотели. Глина по жизни тянул его за собой, и Саня как старшего брата боготворил Глину и на себя брал всю черную работу – особенно в разборках с конкурентами. Он-то вот был как раз вполне признан всеми законниками и в любом толковище был авторитетом. И на вторую ходку пошли вместе, чуть ли не обнявшись. Глина шел "лидером преступной группировки", "паровозом", но Саня был при нем вторым лицом – всегда и всюду. И именно он непосредственно руководил бригадой, обложившей данью теневиков трех административных областей. Судили их, впрочем, не за рэкет – тогда и слова-то такого не знали, – а за организацию убийства подпольного трикотажного короля. Убийство, к которому они имели отношение весьма и весьма косвенное (что-то там теневики не поделили), им пришили менты, в силу бездарности своей не сумевшие накопать достаточно, чтобы крепко засадить за одни только поборы. Да и как квалифицировать эти поборы? Социалистической собственности здесь нет. Законной личной собственности – тоже нет. Теневики воровали у социалистического государства. Отчуждение краденого? Но такой статьи нет. И криминала нет. Все это Глина заранее продумал… В результате их приговорили не столько по доказательным уликам, сколько "по внутреннему убеждению судьи", и поэтому, когда пришла пора, им легко удалось добиться пересмотра дела вчистую и полной реабилитации. Когда Саню, собрав по кусочкам, похоронили (на пятом, дорогом участке Ваганьковского кладбища, седьмая могила слева по главной аллее – 52 53 скромный черный мраморный крест), Глина снова вспомнил о гадалке. В памяти вдруг четко зазвучали какие-то невразумительные обрывки ее бормотания: " Королева мечей и валет чаш в соседстве с семнадцатым арканом по имени "Звезда" – это большая любовь. Но валет чаш перевернут, а это значит, что удача может отвернуться от вас и вы попадете в западню… Шестнадцатый аркан называется "Башня", он очень важен для вашего будущего. Но и эта карта у вас перевернута. И рядом с ней двойка жезлов – споры и раздоры, и тут же десятка мечей и девятка мечей – нехорошо это, опасно. Вы собираетесь переезжать в новый дом, но карты говорят, что этого делать не следует: это жилище для вас может быть смертельно опасно. Карты не говорят, когда и как вы умрете, – тут она подняла глаза и некоторое время (как ему показалось, очень долго) смотрела прямо в лицо ему, но так, словно не его видела, а что-то позади него (ему стало не по себе и даже захотелось обернуться). – Я не знаю, когда вы умрете, но почему-то вижу лепестки красной розы на снегу. Это зима". С лепестками красной розы она его тогда окончательно достала. Зима – какого года? Ближайшая? Через год, через пятьдесят лет? Когда завещание писать? Ну, фуфло же это всё! Розы! Мало того, закончив свои бормотания и бережно собрав карты, старуха заявила, что, мол, негативные предсказания вообще нужно воспринимать как предостережения, а не как приговор судьбы. Предостережения шестнадцатого аркана! Что это такое? Предостережения от чего? Раздраженный, как казалось, бессмысленным старушечьим бормотанием, Глина не задал гадалке ни одного вопроса – встал и ушел. Но теперь, после похорон, еще раз вспомнив, что убийство друга было точно предсказано, Глина подумал, что надо сходить к старухам, извиниться и попросить гадалку растолковать все, что слышал от нее. Тут какие-то важные основы, в которых необходимо разобраться… Но когда он позвонил, тихий женский голос сказал, что сестры (всё-таки сестры!) на прошлой неделе умерли. Все три. Господи, какой зажатый, зашоренный идиот: такую возможность пропустил! Да не предсказаний собственного будущего было ему жалко. Какая разница, что там ждет его впереди. "Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова". Но теперь он никогда не узнает, что там старуха видела, глядя сквозь него: бездну подсознания или внешнюю бездну, по краю которой ходим постоянно и в которую рано или поздно свалимся? Что имела она в виду, когда сказала, что он зависим от прошлого? Где теперь это прошлое? В нем самом? Или оно откуда-то извне управляет его жизнью? Но если извне, то почему оно – прошлое? Тогда нет ни прошлого, ни будущего. Если жизнь управляется извне, то мы принадлежим вечности. А в вечности нет движения времени – прошлое, будущее. И наша жизнь – роспись на стене вечного храма, и, быть может, старуха могла охватить ее взглядом всю сразу? Но если она могла увидеть последние розы на снегу, в чем тогда наш собственный выбор?.. Быть может, гадалка знала, как в этом разобраться? С детства он, хоть и сообразительный, но темный, недоучившийся детдомовский пацан, ощущал свою ничтожность и страх перед взрослыми и сильными людьми. Он и помойника того расписного, работавшего в детдоме истопником, уделал только потому, что боялся и знал, что тот его сильнее: если ты его не уделаешь, он уделает тебя и будет потом тебя харить, как харил мальчонку, за которого ты мазу тянуть вздумал. И даже тогда он его боялся, когда лохматник этот уже дергался перед ним на земле и изо рта у него текла струйка крови, так боялся, что – здоровый лоб! – от страха чуть не обоссался и 53 54 готов был навсегда убежать из детдома. И если бы не пионервожатая, он бы из районной КПЗ в детдом никогда не вернулся. В ментовку его забрали теплым и солнечным сентябрьским утром, а выдали пионервожатой под расписку уже в ноябре, в сумерках ветреного, холодного, дождливого дня. Ехать за сто с лишним километров было поздно, и она, покормив его в районной столовой, мокрого и замерзшего, привела к подруге в нетопленый бревенчатый домишко на окраине райцентра. Подруги не было, они были одни. Она уложила его на узкой кушетке, а сама легла за дощатой перегородкой на большой хозяйской кровати. Укрывшись с головой каким-то тоненьким одеяльцем, он не мог заснуть от холода: изнутри домишко был оклеен обоями, но в стенах были такие щели и в них так дуло, что обои то слегка вздувались, то, чуть хлопая, опадали. И тогда она каким-то вдруг неожиданно хриплым голосом позвала его: "Иди, я тебя согрею". И он босиком по ледяному полу пришел к ней и в нерешительности остановился, и она, взяв его за руку, притянула к себе, под одеяло и склонилась над ним, обнаженной грудью касаясь его груди, и стала горячими руками медленно гладить его худое тело, согревать плечи, грудь, живот, все ниже и ниже и в конце концов он весь погрузился в ее сладкое тепло. "Ты мой любимый, – шептала она ему. – Ты – самый красивый, самый умный, самый сильный. Я давно любуюсь тобой и давно люблю тебя. Я никогда не видела таких, как ты. Ты все можешь. Ты, мой мальчик, будешь великим человеком." Эти слова он слышал от нее в течение трех дней, в которые они беспрерывно топили печь, пили чай с бутербродами и она учила его быть мужчиной. Два месяца в тюремной камере с ничтожными преступниками районного масштаба (бомж, укравший мешок с зерном, алкаш, подпаливший соседский сарай), среди которых он, молодой и крепкий, уже тогда был тузом, и три дня в постели с самой красивой женщиной области (секретарь обкома не на всякую упадет) сделали из него мужчину. В детдом он вернулся уверенным в себе и бесстрашным хозяином. Юным графом Монте-Кристо, бежавшим из замка Иф. Теперь уже его боялись, и директор постарался избавиться от него при первой же возможности. Его и замели следующей осенью – по мокрому, за убийство. В девятом классе его детдомовские кореша в драке убили студента из тех, с кем были вместе на уборке картошки в соседнем совхозе. Дрались все вместе, человек пять или шесть, но кто-то пырнул ножом – и студентик лег на меже и свернулся калачиком – и все разбежались. И Глине – хоп, пятерик. Там-то он и скорешился с Саней Кискачи (Саня сидел за то, что, защищая мать, запорол собственного папу-алкаша), там-то они и поклялись друг другу – как Герцен и Огарев на Воробьевых горах, – что выползут из этого говна во что бы то ни стало. Но Глина понимал, что Саня хоть и поползет за ним в любую горку, но тянуть-то всегда будет он, Глина. А ему самому нужен был тягач, по крайней мере во всем, чем он был обделен в детстве, – в культуре, в умении вести себя в приличном обществе, в широте жизненного кругозора. Чтобы кто-то посоветовал, что читать, – так чтобы среди начитанных людей не выглядеть идиотом. Чтобы по видаку не порнуху крутить, а с классикой кинематографа познакомиться: Феллини, Антониони, Брегман… И вот здесь очень кстати оказался Маркиз Протасов. Три их года в лагере – это был хороший университет. Ну, уж первые три курса университета – это точно. Сам Маркиз определил их взаимоотношения как "интенсивную интеллектуальную дойку", – и это было довольно точно сказано. Но Глине важно было еще и то, что на воле о Маркизе говорят как о диссиденте. Шел 54 55 восемьдесят шестой год, и чуткие люди, вроде Глины, понимали, что система ценностей в обществе может вот-вот перевернуться с ног на голову (или с головы на ноги), и тогда дружба с диссидентом может быть полезна. "Я тоже диссидент, – говорил Глина о себе, – только я диссидент экономический". Глина был верным другом и в долгу старался никогда не оставаться. Но Маркиз в последнее время сильно изменился в отношении к нему, и Глину это и обижало, и раздражало. Какого хера! Почти пятнадцать лет знакомства – это же немало, и все это время Глина опекал этого интеллигента как своего сына: помог ему поднять издательский бизнес, хорошо помог – и бабки на первое время ссудил, и защиту обеспечил, и выручал, когда конкуренты наезжали. И если он отмечал, что именно с подачи Маркизовой газеты его, Яна Пуго, поднимая его общественный статус, начали причислять к кругу олигархов, то тут же давал распоряжение, чтобы издательству была переведена сумма в предоплату годичного цикла рекламы… И прежде Маркиз часто звонил ему и советовался, и ворковал по телефону: "Глина, ты финансовый гений!" Гений, гений… Что ж теперь-то волынку заводить? Арбатский проект… Да говно вопрос этот арбатский проект, – тоже мне бином Ньютона. Что же непонятного! В конце концов, это не его, Глины, злая воля мешает Маркизу, – есть рынок и есть рыночная конъюнктура. Земля, на которой стоит дом, и вокруг него – в общей сложности десять тысяч квадратных метров отличной московской земли, минимум подземных коммуникаций – имеет цену. И если по ходу дела выясняется, что от культурного центра понт в два, в три раза больше, кто даст строить гостиницу? Чего же тут непонятного? Конечно, идея с театром пришлась как нельзя кстати, но театр можно и в другом месте поставить. Не в театре дело. Это только последний аргумент: театр, Верка, его режиссер обезьяноподобный – аргумент последний, но не решающий. С самого начала, как только Глина согласился участвовать в проекте, на него буквально наехали его собственные люди: мол, ты, папа, стебанулся. Ну, конечно, не в такой грубой форме, но на пальцах объяснили, сколько фирма теряет, соглашаясь на эту гостиницу. Мол, это, конечно, его, Глины, дело — решать, но он должен понимать, на что идет. И он хотел все по-доброму устроить: деликатное дело, сам поехал к Маркизу разговаривать. Хотел предложить ему хорошую долю, много больше, чем он со своей гостиницы наскребет. Впервые в его редакционный кабинет поднялся. Все для тебя, дорогой Маркиз: сам Ян Арвидович Пуго, сам Глина явился к тебе, кореш. Цени. Но тот, похоже, был уже заведен: прямо в лоб, еще "здрасьте" не произнес, сразу спросил, правда ли, что его, Глины, фирма причастна к торговле наркотиками, и не эти ли интересы заставляют строить культурный центр – идеальный толчок для любой дури? Всё как бы смехом, шуточками. И Глина как-то отшутился. Но после такого вступления продолжать разговор всерьез не захотелось, и, просидев пять минут, похвалив мебель в кабинете (зеленая кожа – изысканно) и сказав в конце концов, что, мол, смотри сам, тебе, Маркиз, виднее, Глина поднялся и уехал. Не хочешь миром решить, получишь то, что хочешь. Мы люди не бедные, но упускать выгоду не будем. Не потому, что не хотим, а потому, что не можем: партнеры и акционеры не поймут такого расточительства… Зря Маркиз катит на него как на уголовника. Уголовник – это идеология типа "умри ты сегодня, а я завтра", и Глине она никак не близка. Ему нужна другая идеологическая доктрина, которая и оправдывала бы его практику жесткого бизнеса, и, с другой стороны, поднимала бы эту практику до уровня 55 56 уважаемого общественно значимого дела. Ему нужно общественное признание. Граф Монте-Кристо действовал не только от своего имени, но от имени Справедливости, и Глина тоже хотел подняться на этот общечеловеческий уровень. Но при этом Справедливость он понимал по-своему и был убежден, что бизнес не делится на чистый и грязный. Бизнес есть бизнес, и если наркотики дают десять тысяч процентов прибыли, – такой бизнес не может быть грязным или несправедливым. Ну действительно, откуда берется баснословная прибыль? Да только потому появляется, что люди, подчиняясь предрассудкам, этот вид бизнеса запрещают. Разреши производить и продавать наркотики легально – и прибыль будет не выше, чем в фармацевтической промышленности. Будет ли при этом больше наркоманов? Да вряд ли. Ведь три четверти денег, которые сегодня крутятся в запрещенном бизнесе (по всей России – миллиардов десять долларов), можно будет потратить, скажем, на массированную антинаркотическую пропаганду. Об этом Глина читал. О рынках, на которых он работал, он хотел знать все. И над проектом легализации у него уже несколько лет работала группа экономистов, социологов, психологов, и у него в руках были неопровержимые доказательства того, что отмена запрета на наркотики и введение государственной монополии на их производство приведет к резкому снижению уровня наркомании. Но с этими данными ему нечего было делать. Если бы идея легализации исходила от него, на него вылили бы ушат помоев, и это бросило бы тень на весь его бизнес. Но, с другой стороны, ладно, вы хотите запрета – валяйте. Толковый предприниматель любую ситуацию обернет себе на пользу, и вот мой бизнес – продукт вашего запрета. Помните, что это не я вводил запрет, но, если уж он введен, не обвиняйте меня, что зарабатываю на этом ежегодно пять-шесть сотен "кругленьких" чистыми. Вы правильно понимаете: именно "кругленьких" – пять шесть сотен миллионов долларов. Хотите, чтобы кто-то другой заработал эти деньги? И эти деньги, и эту власть, и это положение в обществе, которое деньгами даются? А уж это вот хуя. Я не позволю, чтобы кто-то другой, заработав эти деньги, держал меня за глотку. Лучше пусть они будут у меня… Так что извините, господа моралисты. Это вы сами на блюдечке приносите мне деньги, и я от них отказываться не намерен… Нет, что-то с Маркизом не так получается. Поговорив с ним утром по телефону о Магорецкого, проводив самого Магорецкого, Глина весь день не мог отделаться от мысли, что что-то идет не так, как нужно. И во время утреннего совещания со своими директорами, и позже обедая с негром-партнером из Кении в кафе "Пушкин", и теперь едучи в "Президент-отель" на встречу крупнейших российских предпринимателей с Президентом страны. Он был недоволен собой. Он вообще не любил конфликтов в делах, а уж тем более конфликтов с людьми, которым симпатизировал. Надо, надо обязательно еще раз повидаться и не залупаться, а постараться все-таки склонить его на свою сторону. Надо все разложить по полочкам. Надо втолковать Маркизу, что рынок есть рынок, и сегодня никто не даст тебе спокойно жить со своей патриархальной гостиницей в центре города – там, где люди могут иметь оптовый и розничный центр на рынке наркотиков. И оптом, гамузом, и в розницу, чеками, четками. И все будут знать об этом – и городские власти, и милиция – и все будут получать свою долю и охранять этот бизнес, время от времени бросая в торбу каких-нибудь мелких барыг, гонцов или затаренных торчков, наркоманов. Да, я за то, чтобы этот рынок вчистую 56 57 ликвидировать. Но если он все-таки существует, я буду делать здесь деньги. И не советую мешать. Ладно, опять его на резкости тянет. Но как же не понять простых истин: Россия есть Россия, деловая почва здесь, как на болоте, – колышется и хлюпает под ногами: того гляди, изменится политический климат, хляби – и земные, и небесные – разверзнутся, и тебя со всеми твоими богатствами утащит в бездну. И хотя главный доход ему приносили нефть и алюминий, он в свое время потратил немало усилий, чтобы отвоевать хороший сегмент рынка наркотиков и часть наркотрафика из Афгана в Европу. (На этом и Саня на воздух взлетел.) И здесь не было никакой алчности, а только холодный расчет, только расчетливое желание застраховаться, или, как говорят экономисты, версифицировать активы. Наркотики – дело вечное, надежное. Интересно, что произошло бы, если бы все эти слова он высказал за этим вот "круглым столом", за который он через полчаса сядет вместе с Президентом, премьер-министром и тремя десятками таких же, как и он сам, крутых российских олигархов. О том, что он контролирует значительный сегмент наркорынка и наркотрафик из Афганистана в Европу, в ФСБ и МВД, возможно, и знали, но, что делать с этим знанием, не имели понятия. Да и схватить его за руку было невозможно: от глухонемого уличного торговца до Глины было пять или семь уровней подчиненности, и сам он видел наркотики – марихуану и героин – только изредка, как потребитель. Конечно, время от времени происходили проколы, конфискации, ему сообщали об убытках, но убытки эти были настолько мелки по сравнению с прибылью, что никакого риска не было. Он, конечно, не был так богат, чтобы позволить себе не считать миллионы, но все-таки даже потеря десяти-двадцати миллионов долларов не пробивала серьезной бреши в общем состоянии его финансовой структуры. Нет, нельзя, нельзя ссориться с Маркизом, с господином Протасовым Семеном Алексеевичем, редактором одной из наиболее уважаемых газет. Нельзя терять этого человека. Легализовать капитал – мало. Надо легализовать самого себя, свое "я", свою деловую философию. Да, он не мог не быть авторитетом криминального бизнеса, и эта власть была ему необходима, но ему этого было мало. Хорошо этим "чикагским" мальчикам – Чубайсу, Гайдару, Авену, Потанину,– они с самого начала были у кормушки. Их отцы, их друзья были если и не при верховной власти, то по крайней мере в одном-двух телефонных звонках от нее. Он же, Глина, выбивался с самого низа, из детдома, из детской колонии для малолетних преступников. Но теперь он хотел на равных разговаривать со всеми наверху, на их языке – хотел быть ими уважаем. Конечно, сегодня Маркиз был ему на так нужен, как лет десять назад, когда среди его, Глины, знакомых он был единственным, кто мог сказать, что он, Глина, хотя и груб и неотесан, но несомненно талантлив. Единственным, кто вообще знал и умел произносить такие слова, как талант, нравственный выбор, цель жизни. Но и теперь Маркиза не следует пинком выпихивать из своей жизни. И нечего жаться: если от конфликта можно откупиться, надо откупаться за любые деньги. Проезжая по Москворецкому мосту, Глина набрал номер Протасова. "Маркиз, ты где? Все-таки надо повидаться. Давай как-то миром перетрем наше дело. Я сейчас еду в "Президент-отель", – ты, наверное слышал, эта встреча с Президентом, – а потом поеду туда, в Кривоконюшенный. Пожалуйста, давай повидаемся сегодня. Что-то у меня опять плохие предчувствия". 57 58 12. Протасов Кабинет главного редактора был на втором этаже и смотрел окнами через двор в окна небольшого, всегда ярко освещенного швейного цеха, какимто образом втиснувшегося между домами здесь, в самом центре Москвы. В цеху было простое производство: возможно, тут шили спортивные флаги или подрубали простыни, и работницы, управляясь с огромными цветными полотнищами, совершали в общем-то скучные, однообразные движения: склонилась над швейной машинкой, чуть распрямилась, левой рукой поправила шитье, опять склонилась. Однообразно ходил по проходу маленький мужиченка в черном халате, видимо, мастер. Однако общий вид цеха день ото дня менялся – в зависимости от того, какого цвета ткань подавалась в работу: то доминировал голубой, то желтый, то все в цеху загоралось красно-оранжевым пламенем. Разрозненные взмахи рук и положение спин, два-три лица, поднятые над тканью, – всё это гармонично перемежалось с пестрым колыханием цветовых пятен, подчинялось случайно возникавшему единому ритму и создавало свою, особенную музыку. Обычно Протасов, глядя в окно и думая о чем-нибудь своем, лишь спокойно отмечал изменение гаммы в цветомузыке швейного конвейера. Но сегодня ему вдруг пришло в голову, что у этой немой симфонии цвета и пластики есть программная идея: в ней явственно звучит трагическая тема порабощенной и подавленной женственности. Как ни расцвечивай картину красками, а механическое отупляющее повторение одной и той же работы убивает в женщине женщину. Причем это относится не только к несчастным швеям, которые получают за свой каторжный труд, дай Бог, две сотни долларов в месяц и по вечерам выходят из цеха "убитые, как после хлороформа", но относится также и к роскошным манекенщицам или, как теперь их называют, топ-моделям, которые получают несоизмеримо большие гонорары, но, в принципе, за то же самое: за то, что убивают свою женственность, повторяя день ото дня и год от года одни и те же предписанные движения на подиуме или принимая одни и те же позы перед камерой. О том, что работа топ-модели – это подавленная женственность, изнасилованная личность (что для женщины – одно и то же), он вообще-то впервые подумал не сегодня, а когда увидел Тёлку на подиуме. Они и познакомились в Доме моделей. Причем она привлекла его внимание как раз тем, что была никудышной манекенщицей, и он сразу понял, что ей здесь не место. То есть она все вроде бы делала правильно: и ходила правильно, и платье несла правильно, и себя в платье предъявляла правильно. И все-таки она не была красивым манекеном и вообще не была манекеном. При взгляде на нее внимание привлекало не платье, но видно было, что вот шествует потрясающей красоты женщина, личность, актриса (да, да, и актриса видна в ней сразу), а во что она одета – это отметишь уж во вторую очередь, если вообще сумеешь оторваться от ее лица. И сегодня, когда во время планерки она позвонила и несколько растерянно сказала, что ее папочка, никогда прежде не возникавший, дозвонился до нее и сходу предложил ей место модели в Париже 58 59 («полмиллиона в год – для начала… долларов, конечно… Слушай, Маркиз, полмиллиона – это много?»), Протасов хоть и пробормотал какие-то невразумительные поздравления, но сразу понял, что это катастрофа. Он вел совещание и, извинившись, тихо сказал в трубку, что перезвонит позже. Но когда планерка закончилась, ее уже не было дома: "Нателлочка ушла на репетицию", — сказала Настя. И обрадует новостью своего режиссера, подумал Протасов. Уже обрадовала: ее мобильный не отвечал, а значит, репетиция началась. Полмиллиона в год – много, очень много. Актриса в России и за всю жизнь столько не заработает. Дура, если откажется. Но что с ней будет, если согласится? А с ним, Протасовым, – что? Нет прежде всего это ее трагедия: как модель она ничего из себя не представляет и сразу затеряется в толпе этих кукольных миллионерш, ежедневно выходящих на подиумы Европы и Америки. Но самое главное, для театра она погибнет. То есть, конечно, проработав три-пять лет, она может снова податься в актрисы, но только уже в кино – морадшку и сиськи показывать с экрана. Бабки, понятно, и здесь будут щедрые. Но в театре ей к тому времени делать уже будет нечего: хороший театральный актер – всегда личность, а индустрия прет-а-порте, как и любая другая индустрия, растирает личность, пересыпает в свои формочки и печет куличики на свой вкус и по потребностям рынка… В швейном цеху сегодня был нежно-зеленый день. Флаги, простыни, пододеяльники, наволочки – что они там шьют? – всё нежно-зеленое. Под такими флагами хорошо ходить весной. А на таком белье спать молодоженам… Вот тебе и пожалуйста – а он уж начал было присматривать квартиру: сыграв дипломный спектакль, она переедет, и они будут жить вместе. А теперь… если с папочкой во Франции все это правда и она уедет, то придется привыкать к мысли, что он снова один. Вон как тот мужик, что ходит по цеху среди тридцати женщин. Одинокий мужчина сорока трех лет желает… Да ничего он не желает. Он любит ее и не знает, как будет жить дальше. Такая вот прореха в его жизни вдруг образуется, и из этой прорехи хлещет густая тоска. И еще ничего не произошло, а он, глядя, как молодые женщины шьют нежно-зеленое постельное белье, уже захлебывается и тонет в этой зеленой тоске. Господи, да глупости все это. Молодой, здоровый, умный, известный, с деньгами и возможностями, взял любую, хоть самую красивую московскую Тёлку и поехал с ней развеяться, – в Париж, во Флориду, или Калифорнию, или еще куда-нибудь. Хорошо выпил, хорошо потрахался, хорошо расслабился, поплавал, в теннис поиграл – и любая трагедия забудется. Ведь ездил же прежде и получал от этого удовольствие. Да вот же три года назад ездили в Грецию справлять его сорокалетие – хорошей компанией, человек двадцать. Он тогда, на зависть друзьям, снял эту чемпионку по гимнастике (фамилия… да шут с ней, с фамилией): на всех арендовали виллу на берегу, гудели две недели – плохо ли? Приехали свеженькие, загорелые, уверенные в себе. Бойцы, победители! Нет, что-то произошло с ним в последние два года, какой-то упадок интереса к жизни. К друзьям, к бизнесу, к газете. К политике и общественной жизни. Он – человек-газета, ходячая "Колонка редактора". Ему обрыдли все эти пустопорожние дискуссии, круглые столы, телевизионные ток-шоу, где он вынужден был и присутствовать, и говорить ("Политика и пресса", "Власть и творчество" и т. д. и т. п.), и теперь обычно, отправляясь на очередное мероприятие, он у себя в кабинете неизменно заглатывал полстакана "Хеннеси", 59 60 и только после этого мог говорить, – впрочем, как всегда, точно и умно. (Все знают: Протасов возьмет слово и расставит точки над "i".) Ах, да какая там точность, какой ум, если он давно уже понимал, что судьбу страны уверенно направляет дюжина действительно умных, цепких, расчетливых бизнесменов и политиков. В середине девяностых можно было говорить об игре политических сил – была неопределенность, был риск, – и тогда, по крайней мере, могло казаться (а может, и впрямь так было), что твой голос, твое слово как-то отзовется в общественном сознании и общество, медленно дрейфуя в этом вязком субстрате, каким, по сути, является история человечества, вдруг чуть качнется, чуть двинется в сторону, чуть изменит свое положение. Ельцин или коммунистический Верховный Совет в 93-м? Выберут или не выберут Ельцина в 96-м? Тогда никто ничего не мог предсказать, и он, Протасов, и как публицист, и как редактор делал все, чтобы привлечь в ельцинскую антикоммунистическую коалицию как можно больше сторонников. Это была игра на выбывание – на выбывание из жизни, – и участвовать в ней было и страшно, и захватывающе интересно. В нынешние игры играть не хочется. Скучно. Все устоялось. Известно заранее, что счет будет 12:0 в пользу команды, стоящей у власти. И спор идет не о том, как влиять, но как реагировать на политику властей: приходить от нее в восторг или впадать в бешенство – и делать на этом свой маленький бизнес. Нет, братцы, лучше уж писать беллетристику, романы. Потому и затеял Протасов свой "арбатский проект", – чтобы обеспечить себе пути отступления из активной общественной жизни. Потому и за Тёлку зацепился, что у нее еще ничего не состоялось, она начинала свою игру с чистого листа, и он мог вместе с ней заново проживать увлекательный сюжет молодой жизни. Мог и ее продвигать, и сам двигаться вместе с ней – вверх, конечно, вверх, но уже в искусстве, а не в политике… И вот теперь у него все отнимают – и гостиницу, и Тёлку. Да и зачем ему эта гостиница, если Тёлки с ним не будет? Не потащится же он за ней в Париж, не нужен он ей там. Как-то все хреново выходит. Какое-то ощущение, что его кругом предали. Он все так красиво придумал, и вдруг все рушится. Так хреново было только однажды в жизни, когда он освободился из лагеря и вдруг тоже оказался в этом мире один-одинешенек. Он-то думал, что его ждет любимая и любящая женщина, жена, дал телеграмму за неделю и потом отправил еще одну, уже с вокзала, и двое суток в вагоне места себе не находил, воображая, как он приезжает и она открывает ему дверь – спросонья, в халатике на голое тело... Поезд пришел рано, часов в пять, и он взял такси. "Сразу видно, человек к бабе торопится", – угадал шофер. "К бабе, друг, к бабе, – признался он. – Три года на нарах, и ни одного свидания". "Ну вот, ты приедешь, а она с другим", – шофер явно был садистом. Да не с другим она была. Ее вообще не было, и дверь была закрыта. Он сначала не понял, решил, что она крепко спит: долго звонил, потом стал в отчаянии колотить в дверь. Из соседней квартиры вышла заспанная женщина в халатике на голое тело, за ней стоял муж, огромный мужик в трусах и в голубой майке. Лариса с неделю назад уехала – на богомолье в женский монастырь кудато на Волгу. Ключ она оставила, чтобы соседка цветы поливала. Да, она что-то говорила, что муж должен приехать, но как-то не очень определенно. Ключ ему все-таки дали. В квартире все было так, как и три года назад, когда его увели под конвоем. Только вокруг был ужасный кавардак, как если бы хозяйка внезапно бежала отсюда: постель не застлана, по стульям и на полу 60 61 разбросаны ее тряпки. На кухне немытая посуда и на столе чашка с недопитым и заплесневевшим чаем. "С порога смотрит человек, не узнавая дома… Ее отъезд был как побег, кругом следы погрома... И наколовшись о шитье с невынутой иголкой, внезапно видит всю ее и плачет втихомолку… С порога смотрит человек…" Он и твердил эти стихи целый день, чтобы не разрыдаться от обиды. Он растерялся, совершенно как ребенок, и в первые дни не знал, что делать, куда идти, с кем встречаться. Спал, читал старые журналы от корки до корки, смотрел телевизор. Никто ему не нужен был, кроме нее. А ее не было. Позвонил родителям и соврал, что вернулся с гриппом и заедет, как встанет. Им, кажется, тоже было не до него: младшая сестра поступала в Гнесинку, и предстоящему событию был подчинен весь ритм семейной жизни. Да и виделся он с матерью недавно, она несколько раз приезжала в лагерь на свидание. И отец как-то навещал. А вот Лару к нему не пустили, и три года они не виделись. Хотя он и тянул срок как фарцовщик, как барыга, без каких-то особенных притеснений, без лишних сроков в карцере, но все-таки свидания с женой ему не разрешили: в загсе не расписаны – и всё, не полагается. А расписываться они не стали: Лара боялась, что при каком-нибудь новом обороте дела могут конфисковать квартиру. Родители так посоветовали. И он согласился, не написал, мол, не могу без тебя, приезжай и ни о чем не думай – может, она и приехала бы, даже наверняка приехала бы, Ларка – баба импульсивная. Но нет, он промолчал, даже написал, что она приняла правильное решение, разумное: рисковать квартирой не стоило… Она вернулась с богомолья только через две недели, когда он уже пришел в себя и начал выходить из дома, встретился с прежними компаньонами, сразу закрутился в новых делах. Успел даже пару ночей провести у одной центровой красавицы, отдав ей, к ее изумлению, всю сексуальную ярость, накопившуюся за три года воздержания. Оказалось, что в монастырь Лару настоятельно послал священникдуховник. Она исповедовалась, он благословил ее на поездку. От ее одежд пахло ладаном и церковными свечами. Протасов и не знал, что она стала так религиозна. Об эпитимье, наложенной духовником, она говорила как-то сбивчиво, неопределенно, и ему было неловко расспрашивать. Религиозное чувство – дело тонкое, интимное. Ладно, монастырь так монастырь. Все-таки молиться ездила, не развлекаться. Но в глубине души вся эта история отложилась как предательство: три года он рисовал себе счастливую картину возвращения, мечтал… Ну что монастырь, – монастырь можно было отложить или съездить туда раньше и вернуться. И не посылать его к центровой девке. Они жили вместе, но ощущение одиночества, которое он остро пережил, когда в пустой квартире плакал над чашкой заплесневевшего чая, хоть и притупилось, но никогда больше не покидало его. Да и Лара была вроде бы за что-то обижена на него и оттого несколько отдалена. Он пытался понять, в чем дело, в минуты нежности пытался как-то объясниться, но она или раздражалась, или начинала плакать и говорила, что он черствый и слепой, что занят только собой, а до нее ему нет дела. И это было очень близко к правде: к тому времени он закрутил большой бизнес, один, другой, потом газету, и ему, честно говоря, было не до тонких вибраций ее души… Впрочем, она и сама была занята делами: она хоть и не работала нигде в штате, но постоянно ездила внештатным корреспондентом то от "Комсомолки", то от "Смены", то от "Юности". Именно в редакции "Юности" ей и показали 61 62 письмо шестнадцатилетней девушки, пьяный отец которой на глазах у нее и у младшего брата топором зарубил их мать. Их однокомнатная квартирка была залита кровью и забрызгана мозгами. Мальчик от ужаса стал заикаться… Мать похоронили, закрыв голову белой тряпицей, отца посадили. Девушка просила помочь, чтобы их с братом не разлучали: поскольку она несовершеннолетняя, а никаких других родственников у них нет, брата, одиннадцатилетнего мальчика, отняли у нее и определили в местный интернат для детей из трудных семей. Она и сама вынуждена была скрываться у друзей, поскольку и ее хотели отправить в интернат для девочек – в соседний город. К письму прилагалась тоненькая тетрадка – дневник мальчика. Он носил тетрадку под рубашкой на теле и тайком передал, когда ее друзья навестили его. Спокойно читать дневник было невозможно: мальчика мучили и сверстники, и взрослые. Он писался в постель, от него дурно пахло, и поэтому его били, над ним издевались. Спать его клали в коридоре на клеенке, постеленной на голом матрасе и заваленной старыми газетами, которые должны были впитывать мочу. Утром он выносил газеты на помойку и мыл клеенку. "Масенка возми меня ради Бога от сюда домой. Я не буду ссатся а буду варит тебе обед и мыт пол. Толко пожалуйста забери меня от сюда. Твой брат Алеша", – письмо было без запятых и почему-то без мягких знаков. Он три раза написал это письмо на страницах дневника, чтобы оно обязательно попалось на глаза, даже если сестра не будет читать все сначала, а откроет тетрадку где-нибудь посередине. Лара съездила в этот северный городишко… и привезла мальчика в Москву. "Он поживет неделю у нас на диване. Я устрою ему маленькие каникулы", – сказала она. Действительно были школьные каникулы, и Лара куда-то водила мальчика, что-то ему показывала, чем-то угощала. Были куплены в "Березке" какие-то специальные памперсы для взрослых, но они остались не использованы: мальчик спал спокойно. И даже почти не заикался. Ларка была воодушевлена и весела – такой он ее не видел с университетских времен. "Слушай, Маркиз, – Ларе понравилась его лагерная кликуха, и теперь она его иначе не звала, – слушай, у нас детей нет и, видимо, уже не будет. Давай оставим мальчика, а?" Он тогда только начинал раскручивать свою газету, уходил в восемь утра и возвращался за полночь. Мальчика было жалко, и он готов был как-нибудь помочь, но не ценой собственного дела, собственного успеха. А в конечном счете – собственной жизни. "Оставляй, – сказал он, – это твоя забота и только твоя: его судьба целиком и полностью будет на твоей совести. Все под свою ответственность. Я, конечно, дам денег, и квартиру нам все равно пора менять, можем предусмотреть лишнюю комнату. Но времени своего я тебе обещать не могу. Ни минуты. Не потому, что я черствый, а потому, что иначе мы все – и ты, и я, и мальчик — умрем с голоду". Он тогда перегнул палку. Если бы она отважилась, он, конечно, и помогал бы, и, должно быть, привязался бы к парнишке. Но он хотел, чтобы она осознала всю ответственность, и чтобы не получилось так, что решение примет она, а все заботы будет тянуть он. И она осознала. И не решилась. Купила мальчику билет, дала телеграмму в интернат и посадила в поезд, попросив проводника быть с ребенком повнимательнее (ну, и заплатила, конечно). Сказала мальчику, что и сама должна ехать в командировку – в другую сторону – и что, как только вернется, напишет письмо. Ничего она никогда не написала. Вернувшись в тот вечер с вокзала, она хорошо вмазалась, и ночью Протасов нашел ее совершенно "загруженной": она, 62 63 обняв импортные памперсы, полулежала на диване, таращила на него глаза, но не узнавала. Это было уже не в первый раз: пока он был в лагере, она не только крестилась и стала ходить в церковь, но и подсела на героин. Должно быть, она и мальчика поэтому не оставила, понимала, что провалится… А через полгода он, уходя на работу, вынул из почтового ящика вместе с кучей рекламного мусора письмо: "Вам, может, будет небезразлично узнать, что брата Алеши больше нет. Его "опустили" в интернате, и он той же ночью повесился. Спасибо, что вы были к нему добры". Ларе он, конечно, ничего не сказал. Несколько раз за завтраком она вспоминала, что все-таки следовало бы написать – и мальчику, и директору интерната – дать знать, что мальчиком интересуются. Он только молча пожимал плечами, и это совершенно выводило ее из себя: "Я – сука, – кричала она ему. – Да, я сука по жизни. А ты — равнодушный ублюдок, и тебе ни до чего нет дела. Это не я отправила мальчика, это ты его отправил. Твое равнодушие… Ай, да ничего и никому я писать не буду, – что зря сюсюкать. Чем скорее ребенок забудет о нас, тем лучше. Если жизнеспособный, сам выберется". Но эти всплески повторялись все реже и реже и, наконец, как-то утром, уже года два спустя, в тяжелом кумаре она едва нашла силы, чтобы вяло усмехнуться: "А был ли мальчик? Может, мальчика-то и не было…" Так они и уходили из его жизни вместе – Лара, обдолбанная, с серым лицом, на глазах стареющая в свои тридцать, и слегка заикающийся белобрысый мальчик с голубыми глазами и огромными белесыми ресницами. И как для мальчика он ничего не сумел сделать, так и ей ничем не мог помочь. Он бы, конечно, ее не бросил и тянул бы эту ношу, но она сама не захотела. Когда он купил новую квартиру, она отказалась переезжать. "Знаешь, Маркиз, все умерло у нас с тобой", — сказала она. К тому времени она стала неделями зависать в какой-то компании конченых наркоманов, и там у нее, видимо, был дружок. Лет пять он ничего не слышал о ней. Звонил, но она довольно быстро продала свою квартиру и куда-то исчезла. Года два назад у Протасова в газете был опубликован оплаченный некролог: генерал-лейтенант, заслуженный летчик-испытатель скончался на семьдесят пятом году жизни; по фамилии и по фото Протасов понял, что это ее отец, которого он так никогда и не видел. Ее мать умерла еще раньше. Лара была единственной дочерью, и если жива, то по крайней мере ей теперь есть, где жить, – вот родительская квартира осталась. Господи, да разве в квартире счастье! Он свою огромную квартиру на Плющихе без сожаления отдал сестре, когда она вышла замуж за какого-то скрипача. Что ему делать одному на пустых ста пятидесяти метрах? Ему удобнее было снимать небольшую квартирку неподалеку от редакции, да и сюда-то он в последнее время только ночевать приходил, иногда с Телкой. Он, правда, думал, что если она станет его женой, он не только квартиру купит, но и дом загородный построит. Мечты, мечты, где ваша сладость? "Навыворот летело счастье, навыворот, наоборот". "Семен Алексеевич, к вам Досье", – сказал несколько испуганный голос секретарши в динамике на столе. И тут же дверь распахнулась, и, шумно дыша, в кабинете возник и без приглашения сел в кресло перед редакторским столом огромный мужик – Леша Суслов, незаменимый редакционный кадр, держатель бесценной базы данных, человек резкий, несколько даже высокомерный, присвоивший себе (впрочем, вполне резонно) прозвище Господин Досье ("Я на трамвайной остановке Леша Суслов, а на работе я – Досье", – осаживал он 63 64 развязных молодых сотрудников, знающих о его привычке по окончании рабочего дня запивать стакан "Гжелки" бутылкой "Балтики № 3", а потому склонных к панибратству. Кафешка "Трамвайная остановка" помещалась в соседнем здании, и здесь обедала и после работы выпивала вся редакция). Досье на театрального режиссера Сергея Магорецкого не содержало никаких откровений. В редакционной базе данных было только то, что всем известно: родился, учился, ученик великого Громчарова, первые постановки, разносные рецензии в "Правде" и "Советской России" (Он и Чехова ставит как Беккета – как пьесу абсурда), восторженные – в западной прессе и "по голосам" (впрочем, в тех же словах: "Он и Чехова читает как Беккета – как пьесу абсурда!"), скандал и отъезд, громкий успех в Париже, модернистская интерпретация "Чайки"… Было несколько заголовков из японских газет (один – "Японская любовь русского артиста", еще один – "Безутешная актриса провожает русского"), и Протасов распорядился организовать перевод этих статей: о человеке, от которого зависела судьба Тёлки и которого Глина теперь зачем-то подсовывал ему в качестве компаньона, он хотел знать все… "А с этим вашим другом Пуго Яном Арвидовичем прямо не знаю, что делать, – преодолевая шумную и хриплую одышку, сказал Леша. – По всему видать, что уголовник, криминальный авторитет, а ничего впрямую нет. Но если не впрямую покопать, а вкривую… Вот вы прошлый раз не захотели смотреть, а теперь все-таки извольте, полюбуйтесь…" Этот "прошлый раз" случился с полгода назад. Протасов тогда отказался печатать журналистское расследование в связи с кровавой баней, устроенной, как предполагалось, конкурентами в офисе некоей фирмы, занятой поставками алюминия в среднеазиатские республики и импортом продовольственных товаров из Средней Азии. Автор, штатный редакционный репортер, пользуясь какими-то "оперативными данными" (организованная утечка?), утверждал, что расстрелянная фирма якобы не только занималась экспортом алюминия, но еще была и перевалочным пунктом среднеазиатских наркотиков на пути в Европу. И были сведения, что накануне расстрела на склад фирмы среди мешков с рисом поступила и значительная партия – чуть ли не два центнера – афганского героина. Тогда менты и фээсбешники просрали дело – опоздали, видимо, на пару часов, и, когда подтянули целую роту спецназа, окружили чуть ли не весь маленький подмосковный городишко и нагрянули на склад, там оставался только рис, а те, кто мог дать хоть какие-то показания, лежали на полу офиса – все в одной большой луже крови. Между тем, просматривая финансовые документы (любезно предоставленные следствием), автор корреспонденции обнаружил прямую и тесную связь пострадавшей фирмы с банком НИГБ (Народный инвестиционный "Гелиос-банк"), в уставном капитале которого было значительное присутствие консорциума "Дети солнца", президентом которого был Пуго. И само мокрое дело, и финансовая подоплека, включая возможную схему отмывки наркоденег, – все это было красиво описано, с соблазнительно достоверными подробностями. Вполне годилось для телесериала… но не для газетной публикации. Достоверные подробности и доказательные факты – вовсе не одно и то же. А фактов, которые позволили бы кого-то определенно назвать преступником, не было. А назовешь – потом в суде (а тебе, будь уверен, немедленно вчинят иск за клевету и диффамацию) ничего не докажешь. 64 65 Понятно было, что здесь одни бандиты украли героин у других бандитов, – и только. Но репортер несколько натужно пытался привязать дело и к банку, и к "Детям солнца". Не называя, впрочем, самого Пуго, он прозрачно намекал, что российский наркобизнес находится под весьма высоким покровительством. Но здесь концы с концами явно не сходились. При чем здесь банк? Кредитору нельзя вменять в вину содержание деятельности той фирмы, которая получила кредиты. Да и какая такая деятельность конкретно? Героин-то не найден. Что толку, что детекторы и собаки показывали, что точно был героин, много героина, вот здесь лежал. Но нет же его. И кто увез, и на кого повесить семь трупов в офисе (включая глухонемую уборщицу и ее случайно зашедшую пятнадцатилетнюю дочь) – неизвестно. И вообще, Пуго разве барыга? Он, что ли, торгует героином? Пуго, надо полагать, слыхом не слыхивал об этой мелкой фирме, каких в его империи сотни. Так ради чего же намекать и наводить тень на плетень? Вообще материал выглядел как грубая провокация – словно в нем кровно заинтересованы те, кто дал утечку. Но кого они хотели подставить? Скорее всего, именно его, Протасова: поссорить с Глиной? Или это сам Глина проверял его на прочность? Господи, всюду ему происки мерещатся. Нет, здесь другая история: очень может быть, что утечку организовал как раз тот, кто и героин украл. За этот рынок идет крутая битва, и, если он, Протасов, предпримет что-то против Глины (ну, например, поручит все тому же репортеру поднаскрести еще чегонибудь новенького, что оживит запоздалую корреспонденцию по поводу семи трупов и героина, и всё это опубликует), он окажет великую услугу Глининым конкурентам. А ему это надо? Он этого хочет? Кто эти Глинины конкуренты? Бандиты покруче Глины? Люди в погонах, военными самолетами отправлявшие героин из Афганистана? ФСБ, ГРУ, Управление делами Президента? Ему, Протасову, хочется ввязываться в эти разборки? Куда он вообще залез с этим своим невинным "Арбатским проектом"? Сиди, брат, в своей "Колонке редактора" и не чирикай. "Хорошо, Досье, спасибо, оставьте мне это, я подумаю", – сказал он. И тут его мобильник запел Моцарта. На дисплее высветился номер Глины. Протасов жестом отпустил одышливого Суслова и только после этого нажал кнопку на телефоне. "Ты волшебник, Глина, я как раз о тебе думал". "А я – о тебе, – со смехом пробасил Глина. – Слушай, Маркиз, давай все-таки встретимся и потолкуем о наших делах. Ты не смог бы приехать ко мне в Кривоконюшенный часиков в девять?" Случилось что-то небывалое: Глина всегда назначал свидание жестко и однозначно – тогда-то там-то, но теперь он, кажется, хотел договориться и спрашивал мнение собеседника. "Я буду вечером в Кривоконюшенном", – сказал Протасов и посмотрел в окно. Пока он занимался с Сусловым, в цех пришла новая смена и привезли новую ткань – темно-лиловую. Что за дикий цвет для флагов, подумал Протасов, но тут же отвлекся, потому что ему принесли свежие полосы завтрашнего номера газеты. 13. Тёлка 65 66 С Парижем говорила, наверное, целый час. Чуть на репетицию не опоздала. Папу звали Робер Бузони (с ударением на последний слоге, на французский манер). Оказывается, именно он владеет известным модельным агентством "Лор де Льомбр" ("L'Ore de L'Ombre"). Лет двадцать назад, вскоре после возвращения из Советского Союза, он, рискуя жизнью, сбежал в цистерне с нефтью из коммунистической Румынии на Запад, бедствовал, мыл посуду в ресторане, работал газетным фоторепортером но в конце концов сумел пробиться: модельный бизнес был его юношеской мечтой. Недавно его люди в России, ищущие новые таланты, прислали ему видеокассету с Телкой и ее фото – и на подиуме, и крупные планы: вот, мол, ваша однофамилица. "Странно, – сказал он, – я только взглянул на вас, и сердце сразу защемило. Словно в зеркале увидел себя молодого". По-русски он говорил чисто, с едва заметным акцентом, разве что несколько высокопарно, по-книжному: "Я сразу увидел, что вы – самородок, жемчужина модельного театра. Вы ни на кого не похожи. Здесь вы заблистаете, как звезда первой величины. Я, конечно, счастлив, что смогу хоть отчасти компенсировать те страдания, которые невольно причинил вашей матушке, но поверьте, делая вам предложение, я руководствуюсь прежде всего интересами бизнеса: вы получите хороший гонорар, но и агентство заработает на вас большие деньги". Говорит как пишет, улыбаясь, подумала Тёлка. Голос этого человека, мягкий его тембр, воркующие интонации были ей приятны. Ничего, такой отец годится. И ему, видимо, было приятно говорить с ней, и он говорил, говорил. Но она должна была извиниться: опаздывает на репетицию. "Видела я его по телевизору, этого хозяина "Льор де Льомбр", – с неприязнью сказала Настя, когда Тёлка повесила трубку и рассеянно и наспех рассказала, в чем дело. – Старая, испитая рожа, вся испещренная пороками". Настя отчего-то сразу возненавидела этого человека. "Вы нужны ему как рекламная сенсация: старик Бузони вдруг клонировал взрослую красавицу-дочь. Он будет купаться в лучах вашей юной красоты… Ах, Нателлочка, чует мое сердце, он вас погубит ". Она, кажется, готова была расплакаться и вдруг обняла Тёлку и прижала ее голову к свой худой груди, и Тёлка, утешая ее, погладила по старческой веснушчатой руке. Убегая, сказала, что всё это пока пустые разговоры и она еще сто раз подумает, прежде чем решит что-нибудь. Господи, Золушка какая-то: Париж, подиум, мировая слава! Кто ж не мечтал об этом? Да вот она как раз и не мечтала. И сейчас не мечтает. Всегда хотела одного: быть артисткой в театре, а моделью – нет. И теперь, когда выходит на подиум – ради денег! – она представляет себе, что участвует в спектакле, где ей по распределению досталась роль модели. И роль эта ей не интересна – скучная работа, актеру делать нечего… На бегу она позвонила Протасову, но у него шло совещание, и он только успел пробурчать: "Поздравляю". Если она скажет ему, что не хочет ехать, он назовет ее дурой и провинциалкой. Всегда, когда она сторонилась каких-нибудь светских мероприятий (например, отказывалась идти на прием к американскому послу), он называл ее (впрочем, нежно называл, любя) "моя провинциалочка". Ну и что из того? Она и была провинциалкой, даже хуже – дикаркой, сельской девчонкой. В детстве она подолгу жила у бабушки в деревне и проучилась в сельской школе (правда, в большой школе, "кустовой") в общей сложности четыре или даже пять лет. Ее учителями были немолодые женщины, плохо одетые, пахнущие чем-то кислым и затхлым, задавленные вечной нищетой, семейными заботами, пьянством мужей, тяжелым физическим трудом (дети, 66 67 скотина, картошка, огород, заготовка кормов). Это они учили ее истории, географии, физике, другим наукам и дали общее представление о мире и жизни. Мамина мама, бабушка Вера Николаевна, была женщиной самостоятельной, острой на язык, и хоть любила показаться в общении жесткой, даже грубоватой, на самом деле была человеком мягким и безотказно добрым, что сразу было видно по ее ясному, открытому взгляду. ("Дореволюционное лицо", – сказал Протасов, впервые увидев у Тёлки над кроватью фото бабушки и внучки в обнимку.) К жизни она относилась философски: "Скачет баба задом и передом, а дело идет своим чередом", – такова была ее любимая поговорка на все случаи жизни. Говорят, что именно так она высказалась даже на кладбище, когда хоронила мужа. Он прошел всю войну, вернулся целым и невредимым, чтобы утонуть здесь в реке: в декабрьский зазимок провалился под лед, когда ночью пьяный возвращался от любовницы – от одинокой пьющей доярки с выселок на том берегу. Не сразу с концами провалился, но после первого раза выкарабкался, пополз по льду, по свежему снегу, оставляя темный мокрый след, хорошо видный с высокого берега в лунных ночных сумерках; медленно полз, люди на берегу (молодежь расходилась из клуба) увидели его, побежали было за жердями и жене в окно успели стукнуть и крикнули, и она, как была в ночной рубахе, едва телогрейку накинула, выскочила к реке. Уже собралась толпа, уже осторожно выходили на лед с жердью. И тут он исчез. И темный след на снегу оборвался у черной полыньи. "Всё. Можно расходиться", – сказал кто-то… Тело нашли только через четыре месяца, уже в апреле. И хоронили в закрытом гробу. Бабушка Вера Николаевна пятьдесят лет проработала в одной школе учителем русского языка и литературы. Пятьдесят лет она, женщина умная и образованная, выпускница ленинградского Герценовского института, приехав сюда вслед за мужем – партийным активистом, прожила так же, как и все село: работала, голодала, радовалась, когда было чему радоваться, рожала, хоронила. Нельзя сказать, чтобы ее как-то особенно любили на селе. (А кого здесь любили? Себя-то не любили.) Бывало за глаза, а иногда и прямо в лицо называли (совершенно незаслуженно) " городской барыней". Но все-таки всегда уважительно отличали от других, "своих" женщин и даже материться при ней стеснялись. Устоявшееся уважение, которым бабушка пользовалась на селе, защитным покровом легло и на Тёлку: среди Машек, Зинок, Олек, Раек она была "внучкой Веры Николаевны". Хорошая, скромная девочка. Она всегда хотела быть как все и была как все. И к ней даже не пристало прозвище Артистка, которое витало в воздухе и, казалось, было неизбежно, поскольку она волей-неволей выделялась – и своей начитанностью, и умением хорошо и просто, "как артистка", "рассказывать" стихи и разные отрывки из классики. Но видимо, при такой бабушке и при такой маме (все знали, что выпускница здешней школы – "настоящая артистка в театре") и дети, и взрослые посчитали Тёлкины артистические способности чем-то совершенно обязательным, необходимым и даже не вполне к ней самой относящимся. Словом, для всех она оставалась прежде всего внучкой старой учительницы и как была в первом классе Телочкой, так и подростком осталась – Телкой… После того как молодой любовник бросил маму в Хабаровске и уехал во Владивосток (или наоборот – бросил во Владивостоке и уехал в Хабаровск), и мама вернулась в свой город и, начав работать в театре, получила комнату в актерском общежитии, она забрала Тёлку к себе. Тёлка училась уже в десятом 67 68 классе и занималась в студии при театре, где, кстати, и мама преподавала сценическое движение. Девушка уже вполне расцвела, и ее сельская скромность стала сильно раздражать маму, женщину кипуче деятельную, напористую, ищущую все новых и новых возможностей в жизни. ("Ты, милая, – могучий вулкан, но вулкан говна", – как-то с досадой сказал маме, не обращая внимания на присутствие дочери, временный муж-психиатр; кажется, после этого они и расстались окончательно). Следующим другом мамы был видный предприниматель межобластного масштаба, строитель финансовой пирамиды. Среди прочего он был спонсором конкурса "Мисс Нечерноземье", и мама в течение двух лет почти ежедневно упорно и настойчиво заводила разговор о том, что Тёлке необходимо участвовать в конкурсе – и, конечно же, победить! – уж об этом друг-спонсор обещал позаботиться. Именно ему принадлежала мысль о том, что быть женщиной, быть красавицей – это профессия, которая подразумевает рассчитанное движение вверх по лестнице успеха. "Карьеру красавицы надо начинать с юности", – вторила мама, сидя перед зеркалом и размазывая по стареющему лицу раздавленные ягоды земляники, или тертую морковь, или деревенскую сметану – в зависимости от сезона. Она полагала, что ее собственная карьера еще далеко не закончена. Тёлке же все эти конкурсы красоты, эти дефиле по пыльной сцене зимой в купальниках казались каким-то убогим зрелищем, жалким занятием, близким проституции, нищенским выпрашиванием благосклонности – даже и не у публики, а у дяденек типа маминого дружка. Да шли бы они подальше! К семнадцати годам, заканчивая школу и одновременно занимаясь в студии, она была уже совершенно погружена в атмосферу театра, в атмосферу великого искусства: вместе с другими студийцами она выходила на сцену в массовке, да и без этого всякий вечер была здесь, в театре, и из-за кулис или из пустой ложи внимательно смотрела, как работают – именно работают! – актеры, в том числе и ее мать, опытная актриса, отлично владеющая техникой. Здесь, в театре, Тёлка рано поняла, что на сцену выходят не показывать себя (ей это было бы отвратительно), а именно работать, то есть некоторыми сознательными действиями превращать себя в кого-то или во что-то, кем или чем ты не был до того, как появился из-за кулис: в Джульетту, в Вассу Железнову, в лошадь, как в "Холстомере", или даже в отвратительное насекомое, как у Кафки. Она хотела быть и Джульеттой, и отвратительным насекомым. Она хотела быть актрисой: она поняла, что так работать, убеждая зрителя в реальности того, что он видит на сцене, – это и есть ее призвание. В свой последний школьный год она начала – сама начала, вполне сознательно, почувствовав, что пора, – роман с юным выпускником Щукинского училища, который почему-то на целый год застрял в их городе и даже жил прямо в театре, в переоборудованной на скорую руку грим-уборной, куда Тёлка и забегала к нему после школьных уроков, чтобы, жевательной резинкой залепив замочную скважину, быстро раздеться и быстро лечь в постель, укрыться каким-то колючим солдатским одеялом, выданным юному актеру из театрального реквизита, и смотреть, как ее мальчик (уже артист, Тузенбаха играет!) не торопясь, с достоинством укладывает на стул свои брюки, на спинку вешает рубашку и, не снимая трусов, ложится к ней под одеяло. (Трусы она снимала с него сама – такова была ее маленькая прихоть.) Неумелые ласки юного актера оставляли ее довольно равнодушной, но она хорошо понимала, что сексуальные отношения – важная часть жизни. И уж точно – 68 69 жизни театральной. И хотела быть как все. (Впрочем, настоящей женщиной она стала несколько позже, уже в Москве, когда в первую же ночь с Магорецким испытала мощный, ослепительный оргазм.) Мамин друг в конце концов смирился с тем, что "мисс мира" из Тёлки сделать не удастся, и согласился назначить ей за счет компании персональную стипендию для учебы в Москве – как юному дарованию областного масштаба… Этот в общем-то добрый и простодушный, но по-русски совершенно безалаберный и безответственный мужик, бывший в советские времена скромным агентом по снабжению, воспользовавшись неразберихой, царившей в законодательстве и в умах, ловко построил обширную финансовую пирамиду и получил практически в единоличное распоряжение огромные деньги. И тут же немедленно открылась вся широта его русской (артистической) натуры, и он предался безудержному меценатству: выделил грант для симфонического оркестра областной филармонии, назначил стипендии лучшим ученикам местного музучилища, десятками скупал для своего офиса картины русского авангарда (говорят, ему даже впарили один из фальшивых «Черных квадратов»). Страдая в тяжелой форме русской национальной болезнью – щедростью за чужой счет (так писали потом в газете), – этот "новый русский областного масштаба" оформил любимую женщину (конечно же, "актерку", приму местного театра – Тёлкину мать) в свой инвестиционный фонд бухгалтером, и под это дело купил ей за счет фонда прекрасную двухкомнатную квартиру в центре города. Впрочем, когда компаньоны, стремясь упрятать концы в воду, взорвали его в новом "шестисотом" «Мерседесе» (взрыв был такой силы, что остатки автомобиля с останками маминого друга повисли на дереве), квартиру у мамы отобрали. Но к тому времени Тёлка уже год проучилась в Москве, а мама вскоре вышла замуж за майора из пожарной инспекции, у которого было три квартиры в городе (две из них он оставил прежней жене и детям) и дом в пригородной курортной зоне. Однако майор оказался человеком прижимистым и Тёлке высылать деньги отказался: "Педагогически правильно, – рассудительно сказал он новой жене, – чтобы юное дарование проявляло жизнеспособность и пробивалось к успеху без посторонней помощи". Тёлка была уже на втором курсе, успела осмотреться в Москве и действительно нашла какие-то возможности для приработка, – вот, например, на подиуме в Доме моделей. Папа Робер возник как-то вдруг, по деловому (раньше, когда он здесь учился на военного летчика, его звали Роберт, и он ходил с мамой в загс и, хоть они не были расписаны, она с его согласия записала дочь как Нателлу Робертовну Бузони — В России эта фамилия произносилась с ударением на второй слог, по-итальянски.). Три дня назад он наугад позвонил в театр. Маму вызвали с репетиции ("Скорее, Париж на проводе!"), и она, услышав его голос, вдруг охрипла и, наверное, целую минуту не могла говорить, и слушала, как он кричит: "Алло, алло! Россия, куда же вы все провалились? „Будучи космополитом, ругался по-английски“. Damn country!" Он звонил, конечно, не потому что соскучился: не доверяя первому впечатлению от фотоснимков, он все-таки хотел убедиться, что это именно его дочь выходит на подиум в Москве. "Ты ей поможешь?" – спросила мама. "Она будет зарабатывать миллионы, – сказал Роберт-Робер. – Я рад, что таким образом смогу хотя бы отчасти компенсировать твои страдания". Он, видимо, заранее придумал эту красивую фразу, но дальше разговаривать ему было и не о чем, и не интересно. 69 70 Возникший в его воображении образ потускневшей пятидесятилетней русской провинциалки никак не воодушевлял его. Дай Бог ей счастья, но он здесь ни при чем. Он попрощался, даже не спросив, как она живет. Так, сугубо деловой звонок. Мог вообще поручить, чтобы кто-то из помощников позвонил. Вчера мама перезвонила Тёлке и со смехом рассказала о разговоре с Парижем, но, конечно, и обида в ее голосе угадывалась: "Да шут с ним совсем. Если он тебе поможет, можно считать, что у меня к нему нет претензий. Честно говоря, никогда и не было. Спасибо, он мне тебя сделал. А без тебя как бы я жила?" А так, как и жила, когда запихивала меня на два-три года в деревню, подумала Тёлка. "Мамочка, родная моя, – сказала она в трубку, – не принимай ты все это близко к сердцу. Есть он или нету его, какая разница. Тоже мне покупатель нашелся! Если я чего-то стою, покупатели будут. Это, мамочка, большой рынок. Он просто первый, кто всерьез предъявил спрос на мой товар". Она знала, что говорит, знала, как успокоить мать. И точно, угадала. "О Господи, как же ты повзрослела, моя девочка, – заплакала мама, – как же я рада, что ты стала такая разумная". Да не разумная она стала, а злая. Если бы мама не была старой сентиментальной дурой, она бы услышала, каким сухим, казенным голосом дочь говорит все эти слова о рынке и товаре. Представление матери о ее счастье как о выгодной коммерческой сделке бесило ее. Но хуже всего было то, что мама, похоже, была права. И дело даже не в возникновении папы Робера с его миллионами. Папа – что, он только цену хорошую дает, но и без него к ней постоянно кто-то приценивается, кто-то пытается купить ее: то это был деятель на телевидении, который предложил ей вести утреннюю кулинарную программу – и репетиции начать немедленно у него дома, но не на кухне, а в постели; то продюсер на киностудии, где она как-то подрабатывала в групповках, – этот прямо и просто, оглядев ее с ног до головы, спросил, сколько она стоит; а то просто какой-нибудь богатый мужик, из тех, что специально для этого приезжают в Дом моделей: посмотри на него благосклонно, и он тут же распахнет и дверцу своего «Мерседеса», и двери своего загородного дома, ну и, понятно, кошелек несколько приоткроет. Она потому и зацепилась за Протасова, что он давал ей некоторую защиту от этого постоянного напора рыночных потребителей. Но и самого Протасова она воспринимала тоже как одного из потребителей на этом рынке живого товара. Да, она верит, он любит ее, как умеет. Вот настойчиво предлагает выйти замуж. Но при этом он все время хочет демонстрировать ее как свое дорогое приобретение: то, не спросив даже ее желания, наверняка уверенный, что она будет в восторге, повез в Париж показывать друзьям, то на прием к американскому послу потащил ("Пусть все видят, какая у меня Тёлка", – в этом случае строчную букву употреблять не следует). Он хочет жить красиво, и она – дорогой атрибут этой красивой жизни. По крайней мере, так она сама ощущает себя рядом с ним. И единственный мужик, с кем рядом она никогда не чувствовала себя товаром, был Магорецкий, Быть может потому, что она и так, без всяких торгов душой принадлежала ему. Господи, какое это было счастье работать с ним. Сидеть вместе за одним столом, читать или слушать его чтение. Смотреть на его пальцы, листающие страницы. Слушать его советы, ощущать его прикосновение, когда он, недовольный пластикой актрисы, осторожно прикасался к ней и пытался буквально вылепить нужный жест. Счастьем было видеть даже его сомнения и огорчения, и уж тем более присутствовать при его 70 71 прозрениях. Дура она была, что когда-то прогнала его из своей постели. Ну, жена у него, что из того. Хоть три жены. Все равно он – ее хозяин. Хозяин ее жизни. Но она-то что для него? Материал для работы, актриса в труппе – и не более. Что ей теперь – отказаться от папиного предложения и остаться нищей актрисой, чтобы только быть с ним рядом? В каком качестве? И главное, сколь надолго? Завтра он уедет куда-нибудь, а она? А она потащится в свой город или точно в такой же – играть в театре, потом преподавать в студии, навсегда, на всю оставшуюся жизнь – повторять мамину судьбу. Но если она примет папино предложение, то дипломный спектакль уже не сыграет. Папа твердо и определенно дал понять, что в течение трех дней она должна решить и в случае согласия тут же выехать в Париж: предстоял мировой фестиваль моды в Лондоне, к которому он хотел должным образом подготовить ее и выпустить как свою сенсационную новинку. Такого удобного случая может потом долго не быть. "Поверьте, дитя мое, цена вашего решения – три-четыре миллиона долларов", – сказал папа. Но если она сорвется и уедет в Париж, что будет со спектаклем? Что будет с Магорецким? С любимыми и любящими ее друзьями – Васькой, Гришей Базыкиным, Веркой? Она пришлет им денег, и они снимут хорошую площадку и сыграют спектакль без нее. Господи, нужны Магорецкому ее жалкие деньги! Да и ребятам – что ее деньги? Она – стержень спектакля. Без нее надо всё репетировать заново. Тут она совсем потерялась в своих рассуждениях. Да и пора было настраиваться на работу и выходить на сцену. Магорецкому она хотела рассказать обо всем после репетиции, но он задолго до окончания прогнал ее из зала: она ему чем-то мешала сегодня. Она решила все-таки дождаться его и отправилась было в библиотеку на первом этаже, но, медленно спускаясь по лестнице (встретила Гречанку, поздоровалась, перекрестилась), вдруг поняла, что объясняться с ним у нее нет сил. Как это она ему скажет, что бросает всё и уезжает? И будет при этом смотреть, как меняется выражение его лица? Как хищно выпячивается его нижняя челюсть – это происходило всегда, когда он злился. Да никогда в жизни она на это не решится! Она прошла мимо дверей библиотеки, взяла в раздевалке свою дубленку и, одеваясь на ходу, буквально выбежала из института, оскальзываясь на оледеневших ступенях институтского подъезда. Она позвонит Протасову: как бы то ни было, а он ее друг, и она может просить его, например, встретиться с Магорецким и рассказать о возникновении папы. "Слушай, Маркиз, приезжай сегодня, мне нужно посоветоваться с тобой", – сказала она, набрав его номер. "Ты уже решила?" – спросил он. "Вот приедешь, и будем решать", – сказала она. "А чего решать, – сказал он, – выходи за меня замуж". Господи, тоска-то какая. Да глупости, конечно, Магорецкому она все сама расскажет. Он собирался вечером приехать к ребятам, и они все вместе пойдут смотреть какой-то зал на втором этаже. (Но разве их дом не сносят?) Ладно, он приедет, и тут она с ним и поговорит… Вдруг повалил густой снег. Двор перед домом был заставлен мебелью, тюками и чемоданами: две семьи из числа последних оставшихся жильцов выносили вещи и ждали машины. Но тюках сидели две девочки, и их засыпало снегом… Поднявшись к себе, Тёлка с удивлением увидела, что широкий коридор их квартиры пуст: ей казалось, что Настя назначила на сегодня вторую часть доклада о Сведенборге, и теперь уже должны были подходить первые слушатели, но никого еще не было, и из пустой комнаты не были даже выставлены стулья и скамейки (в свое время теософы натаскали их со всех 71 72 этажей и из соседнего подъезда – из всех опустевших квартир). "Я отменила чтения, – сказала Настя. – И может быть, навсегда". Она сидела на кухне, где сегодня как-то особенно отвратительно пахло из мусоропровода и по стене оживленно бегали тараканы. Но при этом перед ней был накрыт праздничный стол на два прибора: белоснежная крахмальная скатерть, тарелки из фамильного сервиза, серебро, даже два хрустальных бокала и уже открытая бутылка красного вина. Тёлка охнула: "Настенька Максовна, уж не меня ли вы собираетесь провожать?" Настя покачала головой. "Садитесь. Вы никуда не едете, – решительно сказала она и налила вина себе и Тёлке. – Мы выпьем с вами за великую русскую актрису Нателлу Бузони, за вашу роль в спектакле великого русского режиссера Магорецкого, за великого русского писателя Максима Горького, вообще за русский национальный талант". Глаза ее блестели. Она несла Бог знает что, и было такое впечатление, что она уже хорошо выпила. Но нет, просто она была дико возбуждена, и от этого в ее старческом мозгу что-то не так переключилось, и сознание начало работать в режиме высокой патетики. Накрывая стол, она предполагала, видимо, долгую и обстоятельную беседу, и какие-то свои вопросы, и Тёлкины ответы, "посидим, поговорим", но теперь возбуждение гнало ее вперед и вперед, и она говорила одна. "Вы правы, здесь рынок, и вас покупают, – она захлебывалась словами и по-прежнему держала в руке полный бокал. – Я это очень понимаю, моя девочка. Но я вас спасу. Я верну вас самой себе и всему русскому искусству: я перекуплю вас у всей этой сволочи… Сейчас скажу… сейчас", – и прежде чем Тёлка успела сесть за стол, Настя, как-то по-гусарски запрокинув голову, чуть ли не в два глотка выпила вино и резко поставила бокал на место. "Вот – и она, протянула над столом руку с широко растопыренными пальцами, и на одном из них, на указательном, сиял огромных размеров бриллиант, – нашла! Я наконец-то нашла это золото – и оно ваше, ваше, ваше!" Громко прошептав это, она широко и радостно улыбнулась своим щербатым ртом, и эта улыбка, продолженная от уголков рта вверх багровыми винными усами, была ужасна. 14. Ляпа Реальность все более и более размывалась в его сознании, и он уже не всегда мог понять, что происходит на самом деле, а что ему только кажется. Впрочем его это не очень тревожило. Зачем ему эта граница? Например, его теперь ежедневно посещали и допрашивали. Так черти постоянно посещают и самим своим присутствием мучают больного белой горячкой. Глюки это были или взаправду, но каждый день приходил глухой бригадир. Он садился на подлокотник Ляпиного кресла и, достав из кармана диктофон, крякал записанные на бумажке вопросы. И Ляпа, как когда-то перед лагерным гэбэшником, должен был покорно вспоминать все, что знал о Маркизе: подробности его поведения на зоне, его взаимоотношений с другими лагерниками (особенно с Глиной), черты его характера, чему радовался, что его огорчало, что рассказывал о прежней жизни, даже о детстве. О Маркизовой жене… Так же подробно Ляпа должен был рассказывать и обо всем, что знал о Тёлке и о ее друзьях с первого этажа… А недавно разговор пошел о Глине. В 72 73 частности о тех временах, когда Глина работал в обкоме комсомола, и его бригада трясла теневых цеховиков. Что за человек был Кискачи? Что еще за люди были в бригаде?.. Такой поворот интереса несколько удивил Ляпу – разве он здесь не у Глины в гостях? Но нет, похоже, здесь верховодили глухонемые черти… Сегодня с утра Ляпа вмазался как-то неудачно, быстро очнулся и сразу почувствовал дикую боль в спине, его гнуло и ломало, и надо было тут же, немедленно добавить, догнаться… но глухой был уже здесь: открыл дверь своим ключом и теперь что-то громко кричал и матерился в коридоре. Наконец он возник в дверях кухни, молча поманил Ляпу ,и когда тот поднялся и подошел, резко схватил за руку и потащил за собой. И Ляпа, почти теряя сознание, тупо соображал, что сегодня допрашивать, видимо, не будут. И может быть, глухой быстро уйдет, и он сможет принять… В центре туманной картины Ляпиного мира возникла голубая изразцовая печь. Возле нее на лакированном паркетном полу испоганенном мокрыми и грязными следами лежал раскрытый чемоданчик-дипломат, полный золотых браслетов, колец, цепочек и просто цветных камней россыпью. Сегодня утром Ляпа вот так же в тумане уже видел это золото – вот этот браслет – вещь какойто археологической, ископаемой красоты, вот этот вот кулон, эти камни: их нашла его подруга, соседка сверху, старуха, которую он знал как Настасью Филипповну. От радости она беззвучно хлопала в ладоши и мотала головой: "Наконец-то, наконец-то!" Только утром золото и камни были не в чемодане, где они теперь выглядели как отвратительная куча краденого, а в черном бархатном мешке – в его раскрытом чреве они таинственно поблескивали, как золото Монте-Кристо в миниатюре. "Теперь мы с вами богатые, Лаврентий Павлович", – прошептала сияющая Настасья Филипповна, но Ляпе всё это богатство было до фени. Он хорошо знал, что, если хотя бы самый маленький камушек он покажет уличному барыге, его тут же запорют. "А мне, милая хозяюшка, кроме героина в жизни ничего не нужно", – сказал он… "Ты – труп, – глухой так сильно, так больно сжимал Ляпину руку, что вполне мог сломать истончившуюся и хрупкую кость. – Ты… крыса… кто лазил в общак?" Последнее слово как-то прямо и остро вошло в сознание, и Ляпе стало смешно и радостно: это – общак? Настасья Филипповна искала клад, а нашла бригадный общак. Смешная старуха. Хорошо хоть что-то успела унести. Молодец! "Ты чего мне лохматого чешешь? – заорал он глухому. – Какой общак! Тут твои же глухонемые все время мельтешили", – для убедительности он показал глухонемых жестом: указательный палец поднес к уху и потом к губам. Да, поди, и не общак это никакой: небось, взяли какого-нибудь ювелира и куш здесь загасили, в пустой квартире. Сил у него нету, а надо бы вот прямо сейчас здесь замочить этого быка и все золотишко отдать Настасье Филипповне. Она это заслужила. Ах, надо бы замочить его. Доброе дело сделал бы. Пойти на кухню, взять самый простой нож – и в шею ему, в горло, вот туда, где у него мохнатая родинка… Но нет, он, Ляпа, не годится на это: в дрожащих руках и нож не удержит. Ни на что не годится. Глухой словно понял, что Ляпа никуда не денется, и отпустил руку. Он хотел что-то сказать, но, видимо, от волнения его крякалка осеклась, и он перешел на язык жестов: большим пальцем правой руки провел себе по щеке вниз, к подбородку, и тут же всей ладонью – по щеке вверх: "Завтра утром", – потом пальцем указал на Ляпу и кистью воспроизвел жест, которым на всех языках мира сопровождают слова "прочь отсюда". "Завтра утром ты уберешься 73 74 прочь отсюда". "Не понял", – сказал Ляпа, хотя, конечно же, хорошо все понял. Немой покрутил перед собой поднятым вверх большим пальцем и сложил ладони крестом: "Навсегда. Все закончилось". "Что закончилось?" – спросил Ляпа. Сложив пальцы обеих рук щепотью, немой подвигал ими вниз и вверх: Игра закончилась", – и он даже засмеялся, и тут же, сложив правую руку в кулак и оттопырив большой палец, он ткнул им себе в сгиб левой руки. Вот что закончилось: ширево для Ляпы закончилось. И опять показал: "Ты завтра уберешься отсюда". "Хорошо, – тоже жестами показал Ляпа, – завтра так завтра". Глухой мог и сейчас выгнать его. Взять за шиворот, вывести на лестничную площадку и дать пенделя под жопу. Всё! И то, что его оставляют до завтра, – это не любезность. До завтра "демоны глухонемые" будут расследовать пропажу из хорошо, казалось бы, загашенного общака… Ляпа не то чтобы ждал этого момента, но, конечно, всегда знал, что когда-нибудь фарт закончится. И твердо решил, что никуда отсюда не уйдет. Да и куда идти? Он здесь избаловался, разогнался до такой дозы, какую ему нигде и никогда больше не получить. Здесь надо все и закончить. Пора, он устал. Но, конечно, закончить не раньше, чем закончится лекарство. Тут можно хорошо рассчитать: вот сейчас он примет по максимуму, и потом еще у него останется хороший суточный дозняк, и он его примет на ночь одномоментно, – это будет "золотая доза", ее должно хватить, чтобы никогда уже не проснуться. Он не любил жаргон наркоманов – эти поверхностные слова, изобретенные порочными подростками или тупыми уголовниками, никак не соответствовали тому, что с ним происходило после того, как на своих больных, изжаленных, заизвесткованных венах он с трудом, но все-таки находил место для укола – и задвигал по вене. Это понятие – задвинуть по вене – казалось ему как раз довольно точным: именно венами, кровотоком, который становился самостоятельным органом чувств, он ощущал первое движение вошедшей в него силы – силы, о которой он знал, что это Она, его любовь, его жизнь, и только ради этого свидания с ней еще и стоило смотреть на белый свет. Но прежде чем он погружался в это счастье свидания, бывал после укола короткий промежуток времени – полчаса, иногда чуть больше, – когда перед ним раздвигался широкий горизонт жизни, и он понимал, что знает всё и обо всем, и, как сопливому винтовому пацану на приход нужна баба, которую он будет мять и мучить до изнеможения, так ему был нужен собеседник, которому он откроет всю широту открывшегося внутреннему взгляду горизонта. Но собеседник никогда не появлялся, и Ляпа с сожалением думал, что, если бы ему дано было прожить иную жизнь, он мог бы быть великим мыслителем. Впрочем, иногда на минуты прихода попадала Настасья Филипповна. Вчера, например, она пришла агитировать в пользу антропософии и принесла томик Сведенборга. Ляпа полистал книгу и рассмеялся: "Знаю я вашего Сведенборга, читал в далекой юности. Он злой псих – и ничего больше. Он считал, что память души всеобъемлюща, – правильно я помню суть его учения? И именно потому, что память всеобъемлюща, Сведенборг обещает, что после смерти вашу душу будут трясти (простите невольную рифму), как грушу, выбивая из нее показания. Послушайте, он же агент будущего КГБ, посланный в прошлое. Допрос, дознание – вот главное слово в его трудах. А после того как дознание проведено – всех по соответствующим загробным лагерям. Кого в общий режим, кого в строгий, а кого и по камерам адского "особняка" полосатого. Адские мучения по Сведенборгу – точь-в-точь как интрига земной жизни с ее борьбой за власть и насилием. Неужели Господь так жесток, чтобы 74 75 после ада здешней жизни низвергнуть человека еще и в адскую жизнь с теми же порядками! С тем же скрежетом зубовным… А что же вы, любезная, мне Блаватскую не принесли? У Блаватской „посвященные“ – это какая-то тайная организация, тоже вроде КГБ: они одни только знают, что должно считать правдой, а что есть „клевета на советский (или божественный?) государственный и общественный строй“… Нет, нет, дорогая, оставьте мне неопределенность Евангелия, возможность разночтений и толкований, и всепрощение к тем, кто по-разному понимает благодать. Я так, например, полагаю". Он сам не читал ни Сведенборга, ни Блаватскую и не знал, кто они такие, но – удивительно! – почти слово в слово помнил и вот теперь произнес монолог, услышанный некогда в лагере от Маркиза. А вот перед кем и по какому поводу Маркиз выступал, он забыл… С Настасьей Филипповной они в последнее время подружились: она подарила ему халат с шелковыми кистями, серебряную ложку, серебряную же коробочку для лекарства. Он обычно звонил ей после визита глухого, и она спускалась и приносила ему что-нибудь поесть и расхаживала по кухне и несла какой-то вздор о потусторонних силах, о медиумах, о кладе, точно заложенном здесь, в квартире, и что будто бы она давно уже слышит стуки полтергейста, указывающие, где клад находится. И если он позволит ей найти эти сокровища, она готова разделить их пополам. И он, уверенный, что она сумасшедшая, сказал, что она может взять себе всё. И вот сегодня утром она повела его к печи в зале и выдвинула два нижних изразца – так спокойно, словно сама сделала этот тайник, и показала черный бархатный мешок и в нем золото и камни. Тогда-то он и сказал, что ему ничего не нужно, кроме героина. И она сказала, что будет снабжать его лекарством до конца жизни и даже унесла мешок, но тут же вернулась: на лестнице сегодня дежурили какие-то подозрительные типы, пусть клад еще час-другой полежит там, где пролежал сто лет… Всё. Сразу после ухода глухого Ляпа задвинул и опустился в кресло. Теперь сознание опять утрачивало ясность, и наступало время бесконечного путешествия в никуда – к Ней… Ляпина покойная жена многие годы проработала костюмером в Театре мимики и жеста, в театре для глухонемых, и Ляпа, по вечерам приходя за ней, садился ждать в последних рядах на балконе, и поэтому если не все спектакли, то последние действия всех спектаклей знал превосходно. Особенно ему запомнился финал "На дне". Обитатели ночлежки пели. И хотя это было, конечно, не голосовое пение, а пластический этюд на тему "Песня", у зрителя не было никакого сомнения, что он слышит протяжное, печальное мужское пение. И тут дверь быстро отворяется и вбегает Барон, и в отчаянии раскидывает руки, словно хочет обнять всех, и все вдруг замолкают, то есть замирают, и в наступившей тишине рот Барона раздирает беззвучный крик, обращенный не к людям, а вверх, к небесам. Продолжая кричать (полная тишина и в зале, и на сцене), он слегка согнутыми средними пальцами обеих рук попеременно касается груди и тут же двумя руками показывает назад, в дверь, туда, на пустырь: "На пустыре… там… Актер удавился!" Жест средних пальцев и есть имя – Актер. И всякий раз, когда он видел эту сцену, Ляпа думал, что выражение истинного горя, страха, отчаяния не требует слов. Это инстинктивные, "дословесные" реакции человеческой души, и слова здесь не нужны, они мешают, и только жест может вполне выразить то, что чувствует человек… 75 76 Жена погибла нелепо. В какой-то вечер, когда он не смог ее встретить, она, садясь с задней двери в пустой троллейбус, оступилась, водитель ее не увидел, ногу зажало дверью, троллейбус тронулся и, не останавливаясь (было поздно и пассажиров не было), проволок ее километра три по Первомайской улице. И только на той остановке, где ей и надо было бы выходить, он остановился и открыл двери, чтобы с передней площадки запустить веселую бухую компанию, перебежавшую дорогу перед самым его носом. Никто их них не посмотрел, что там валяется у задней двери, и троллейбус поехал дальше. Ляпа и нашел ее тело с вытянутыми руками на мостовой, на решетке водостока. Не застав ее в театре, он бросился догонять ее и приехал уже со следующим троллейбусом. Кто-то из прохожих побежал к автомату вызвать скорую, но Ляпа, увидев то, что осталось от ее лица, сразу понял, что она умерла и что его жизнь кончилась тоже. Он укрыл ее голову своей ветровкой и сел рядом на бордюр тротуара и стал ждать, когда их вместе куда-нибудь заберут. Его любовь к жене составляла главное содержание жизни: то есть он, конечно, ходил на работу в издательство, читал рукописи, разговаривал с авторами, с художниками обсуждал макеты книг, работал с верстальщиками; он писал стихи, в которых была ярко выражена гражданская позиция, читал их где-то и кому-то (иногда даже на каких-то митингах), слушал чужие стихи и высказывал свое мнение, но все это была внешняя сторона его жизни, тогда как главным было то, что они с женой каждый вечер под шорох ярко освещенных пустых троллейбусов, идущих в депо, шли пешком от театра до дома, и дома, на скорую руку поужинав, принимали душ и ложились в постель. Он свихнулся, конечно же, свихнулся! – в стихах он стал описывать подробности строения и красоту ее женских органов и даже для описания самых глубоких, самых потаенных и сладостных недр ее тела находил точные и по смыслу емкие слова, – и он знал, что это еще никем и никогда не выраженная высокая поэзия, поэзия любви! Когда она умерла, а он уж совсем опустился, и, пытаясь заработать свой стакан водки, начинал читать собутыльникам что-то из тех стихов, они ничего не понимали, материли его и требовали Есенина: "Истаскали тебя, измызгали, – невтерпеж. Что ж ты смотришь синими брызгами? Или в морду хошь?" А теперь где они, те стихи? Нет их. Он их забыл. Только она их помнила, и когда он хорошо загружался, и она входила ему в кровь, и они вновь становились единым целым, она эти стихи вспоминала, и тогда они звучали, как небесная музыка, и он понимал, что там, где она, эти стихи будут звучать вечно… 15. Глина В детстве ему поставили диагноз: умеренная умственная отсталость и эмоциональная глухота. Приезжала в детдом ученая баба-психолог из областного пединститута, длинная худая доска, беспрестанно курила и говорила хриплым басом. Была зима, окна были закрыты, и она прокурила всю пионерскую комнату: воспитанников к ней туда заводили по одному, перед 76 77 каждым она клала чистый лист бумаги и заставляла нарисовать человечка – любого, какого хочешь. И потом беседовала. Глина (впрочем, ему тогда было лет десять, и звали его по фамилии – Пуго) любил рисовать и рисовал неплохо: его любимым сюжетом был бой двух боксеров – красного и синего: красный всегда посылал синего в нокаут, и на рисунках были различные стадии этого решающего момента: мощный прямой удар в голову, вот синий летит на пол, вот он валяется на полу, а красный торжествует, подняв обе руки, и вокруг орут зрители… Но курящая баба ему не понравилась, ей рисовать он не захотел и, чтобы поскорее отделаться, начертил, как малые дети чертят: "палка, палка, огуречик, вот и вышел человечек", – и когда дело дошло до беседы, на все вопросы («Кого ты нарисовал, мальчика или девочку? Это твой друг? Этот человек здоров? Он счастлив? Чего он хочет?») угрюмо отвечал: "Не знаю". Листок с этим рисунком и с диагнозом теперь хранился у него в кабинете в сейфе, как, впрочем, и все остальные документы, относящиеся к его пребыванию в детском доме: лет пять назад он командировал своего человека, профессионального следователя, и тот раскрутил его детдомовскую историю и по дешевке выкупил все бумаги. Насчет умственной отсталости баба, конечно, малость ошиблась, но вот насчет эмоциональной глухоты она, видимо, была отчасти права. Глухота, может, и не глухота, но некоторую притупленность эмоциональных реакций он и сам за собой замечал. Ну, вот женщины… Конечно, бывало в жизни, что какая-то влекла его больше, чем другие, но он всегда мог спокойно отойти в сторону, уступить женщину другу, если тот уж очень загорелся, всегда мог лечь в постель с другой бабой – да ради Бога! – и это его вполне устраивало. Хотя и так бывало, что иная приживалась при нем надолго: и на год, и на два, – и говорила, что любит и что жить без него не может; но сам он к таким словам относился довольно безразлично, и даже если с бабой долго жил под одной крышей, никогда никаких обязательств на себя не брал, и если считал, что пришла пора расстаться, ни слова не говоря, уходил и не возвращался. В юридических текстах такие отношения называются сожительством, и таких сожительниц у него в жизни было четыре или пять. Дай Бог им счастья. Но теперь он был официально женат – на вдове своего единственного настоящего друга (того самого, которого четыре года назад взорвали в «порше»). Как-то все само собой получилось. После похорон она попросила Глину пожить некоторое время в их доме в Переделкино, чтобы ей не страшно было с детьми. Так он и остался. Хорошая баба, на двадцать лет его моложе, добрая, нежная, детей строго держит, дети хорошие: было двое мальчиков, и с ним еще девочку родила. С домом, с прислугой хорошо справляется. Что еще нужно для счастливой семейной жизни – ей что нужно для счастливой жизни? Теперь все знали, что он женат, что у него очаровательная жена, дом, семья, дети. Но если начистоту, то упорядоченная семейная жизнь его сначала утомляла, а потом и начала раздражать, и в последнее время он почти совсем перестал бывать в Переделкине и семейные новости узнавал по телефону. У жены был свой небольшой, но успешный туристический бизнес, и, как она там одна обходится, Глину не слишком заботило. Вряд ли у нее появится постоянный любовник: она в общем-то человек рассудительный и рисковать своим благополучием не захочет. Ну а если раз-другой и оттянется на какомнибудь стриптизе, то он на это смотрит спокойно, и она это знает. Оба они современные люди, без предрассудков. 77 78 Но вот мысль, что любовник появится у Верки, приводила его в полную растерянность. Он, конечно, допускал такую теоретическую возможность, но дальше-то что будет? Замочить их обоих? Ну, тогда уж и себя: как ему жить? Эта любовь – ну просто какой-то сбой в его жизненном порядке, вывих души, не поддающийся осмыслению. Не мог же он всё случившееся понимать как обыкновенную привязанность к петуху, – такое он видывал много раз, особенно в лагере, но такое объяснение опускало его, оскорбляло, низводило до уровня какого-нибудь синего от наколок лагерника (с церквями о пяти куполах на груди и на спине), до уровня животного, воняющего потом и спермой. Нет, его роман был иного толка. Подобие ему он искал в высоких образцах и внимательно читал письма Оскара Уайльда юному любовнику: "Моя прелестная роза, мой нежный цветок, моя лилейная лилия... Мне предстоит узнать, смогу ли я силой своей любви к тебе превратить горькую воду в сладкую. Бывали у меня минуты, когда я полагал, что благоразумнее будет расстаться. А! То были минуты слабости и безумия… Даже забрызганный грязью, я стану восхвалять тебя, из глубочайших бездн я стану взывать к тебе…" Ну и так далее. Но что по-английски, может, и звучит возвышенно, по-русски воспринимается как напыщенная чернуха. Что для английского аристократа годится, не приспособишь к безродному детдомовцу, к лагернику, пусть даже начитавшемуся книжек и окунувшему руки в золото Монте-Кристо. Вот простая ситуация: Верка уже две недели как исчез, ссылается на репетиции, даже в стрип-клубе взял отпуск, общаются они только по телефону, и Глине кажется, что голос его – милого друга? или попросту сожителя? – стал каким-то отчужденным, потерял былую теплоту. И что ж теперь? Пропеть ему: "Моя прелестная роза, мой нежный цветок…"? Нет, он не мог и не хотел думать о том, как ему вести себя, если Верка от него отвернется. Время покажет. Пока же на сегодняшний вечер он пригласил и Магорецкого, и Протасова в Кривоконюшенный, посмотреть возможности для репетиций, и попросил Магорецкого, чтобы он привел студентов, хотя бы тех, что жили в этом доме. Он надеялся, что увидит Верку, посмотрит ему в лицо, в глаза, и сразу успокоится: ну, репетиции, что поделаешь… Совещание в "Президент-отеле" началось с того, что Президент пошел по кругу, здороваясь с каждым за руку. Подойдя к Глине, он хоть и протянул быстро свою маленькую и почему-то холодную ручку (с мороза, что ли?), но смотрел не в глаза, а куда-то в шею, в галстук, и тут же – еще не окончилось быстрое рукопожатие – перевел взгляд на следующего участника, и сразу прошел мимо. Все-таки в верхах Глину не любили, его прошлое вызывало сомнение, и еще сегодня утром не было решено, пригласят его или нет. По этому поводу в президентской администрации была полемика, и в конце концов дело решил один настойчивый голос "за" ("Чей бы вы думали? ФСБ", – смеясь, сообщил "свой" человек в администрации). В глубине души Глина, конечно, досадовал на всю эту кутерьму. Чем он так уж отличается от всех здесь присутствующих? Вот Президент приостановился около сибирского нефтяного принца и, доброжелательно улыбаясь, перемолвился парой слов. А ведь Глина точно знал – проведенное им расследование показало, – что как раз люди этого принца год назад увели у его ребят два цетнера героина, оставив семь трупов в луже крови… А вот у этого невысокого мужичка с тонким аристократическим лицом (банки, металл, рыба), возле которого Президент вообще задержался на целых полминуты, Глина сам (опять-таки, не сам, конечно, и не у него прямо – 78 79 всё люди делают, исполнители) откупил хороший сегмент дальневосточного рынка наркотиков. И Глина хорошо знал, что оба эти деятеля, да еще и пяток других за этим столом, при случае, глазом не моргнув, дадут распоряжение мочить его, – и потом будут вытирать слезы на похоронной церемонии и публично выступать с гневными речами о недопустимости криминального разгула в стране… Наконец все расселись, и наступила минутная пауза: все смотрели, как Президент, прежде чем заговорить, тихо переговаривается с руководителем администрации, который сидел рядом. И тут Глина вдруг ясно понял, что зря пришел сюда, что ему здесь не место и даже более того, что находиться здесь – стыдно. По крайней мере, ему стыдно. Приятно, конечно, что вот он наконец-то выбился в респектабельные и сидит за одним столом с Президентом и будет слушать, как влиятельнейшие люди России вслух размышляют о проблемах коррупции – такая сегодня тема, – и даже сам, когда придет его очередь, что-то скажет своим низким, мягким, хорошо поставленным голосом. Недаром же он когда-то учился: "Господа судьи! Господа присяжные заседатели"… Выбитьсято он выбился, но вдруг понял, что выбился он даже как-то слишком: не сюда выбился, в этот зал с богатыми хрустальными люстрами под потолком и мрачной статуей Фемиды (кого она здесь пугает? кого может напугать?), а сразу куда-то дальше – прочь из этого зала, из этого круга, и сидит не за одном столом со всеми, а где-то над ними, выше всех, выше малорослого Президента с холодными руками, чуть ли не рядом с Господом Богом, и на всё происходящее смотрит свысока. И даже не он, нынешний, смотрит – босс, вершитель судеб российской экономики и политики, – а мальчик шести лет от роду, круглый сирота, которого директор детского дома отдал на усыновление – или, попросту сказать, продал местному авторитету, татарину, чьи люди держали сбор милостыни на паперти известного на всю страну Заболотного Никольского монастыря, привлекавшего паломников чудотворной иконой Божьей Матери, покровительницы сирот и обездоленных. Кто это из великих сказал, что все мы родом из детства? А если не было детства – откуда мы родом? Из вонючей ямы, которая зияет на месте детства. Два года мальчоночка работал "родимчиком", в жару и в мороз сидел на каменных ступенях или, опоенный снотворным, а то и водкой, спал, положив голову на колени своей "мамке", сильно пьющей старухе (да какая там старуха! вряд ли ей было больше тридцати), стремившейся незаметно вынуть из кружки и спрятать где-нибудь на теле рублик-другой, за что по вечерам пьяные хозяйские "быки", притащив на хату, где все ночевали вповалку, раздевали ее донага, пытаясь вытрясти из одежды запрятанные копейки, и жестоко били. Но она к этому времени обычно уже успевала крепко заложить и громко стонала и смеялась, когда ее валтузили ногами по полу, – она свое взяла, и остальное ей было до фени. Пусть хоть убьют. Так же точно она стонала и смеялась, когда ее, растянув прямо тут же на полу, насиловали вдвоем или втроем. Должно быть, умом тронулась… На мальчика, понятно, никто внимания не обращал. Да его, видимо, и вообще не считали здесь за живое существо: он был инвентарем этого бизнеса, расходным материалом, на который и тратиться особенно не имело смысла – кормить, одевать: чем хуже он выглядел, тем большую жалость вызывал у богомольцев, а значит, и подавали больше. "Ты счастливый, – сладко улыбаясь, говорила ему "мамка", – тебя похоронят в церковной ограде. Девочку, которая до тебя была, в церковной ограде ночью закопали. А кого в церковной ограде хоронят, тот праведник". 79 80 Его бы, может, вскоре и закопали, но в какой-то момент всю эту уголовную хевру замели: то ли какая кампания была объявлена, а скорее, ментам не отстегнули, сколько следует, и те отдали бизнес конкурентам. Но так или иначе, а его снова привезли в тот же детский дом, и здесь оформили как "первичного", неизвестно откуда поступившего ребенка. Оказалось, что никакие его бумаги не сохранились: директор детдома, оформив усыновление, тогда же и сжег все бумаги, пожар случился во флигеле, где была контора. Говорят, откуда-то приходили запросы, родители искали мальчика, но детдом отвечал, что из-за пожара никакие сведения не сохранились. Видимо, боялся директор, что его делишки раскроются. Он, поди, не одного так выдал на усыновление или на удочерение… И когда мальчик вернулся в детдом, его оформили как найденного на улице беспризорника без имени, без возраста. Это было уже тогда, когда детдом под свое кураторство взял секретарь обкома партии: приезжая сюда, он всегда напивался и плакал – жалко ему было здешних сирот, мальчиков и девочек. Он-то на правах "красного крестного" и дал вновь поступившему воспитаннику имя: хотел назвать мальчика в честь латышского партийного деятеля Арвида Яновича Пельше, близким знакомством с которым весьма гордился и которого хотел как-нибудь затащить сюда и показать образцовый детдом. Но поскольку "крестный" был сильно пьян и фамилии и имена-отчества смешались в его сознании, мальчика записали как Яна Арвидовича Пуго: перечить пьяному секретарю, поправлять его никто не осмелился. Тем более что такая фамилия тоже мелькала где-то в партийных святцах… Когда посланный человек раскрутил всю эту историю, привез выкупленные бумаги и сказал, что директор детдома жив, что он на пенсии и живет в Рязани, Глина в тот же день сел в машину и поехал искать его. Сорок лет назад вроде бы не только запросы приходили, но и приезжала женщина, искала сына, и, поскольку документы сгорели, ей в лицо показали всех шестисеми летних пацанов, кроме него, потому что он, "родимчик" замученный, сидел в то время с кружкой на паперти или в смрадной избе смотрел, как намарафеченные скоты харят его потерявшую человеческий облик "мамку". Теперь он думал припереть этого директора: может, он что-то знает о той женщине, искавшей сына. Увы, директор умер месяц назад. И Глина не поленился, поехал на кладбище, нашел его могилу и, к полному изумлению сопровождавшего его кладбищенского сторожа, встал на свежий холмик, расстегнул ширинку и обильно помочился… Теперь, вспомнив, в каком состоянии он тогда пребывал, Глина вдруг замотал головой и заулыбался. "Вот я вижу, Ян Арвидович не верит этим цифрам. А напрасно", – сказал сибирский нефтяной принц. Он выступал и рассказывал, что один его знакомый давно уже пытается открыть магазин в Подмосковье, да все никак не откроет. Оказывается, нужны 137 подписей чиновников. Принц предлагал сделать так, чтобы подписей было не 137, а 10. "Ну и знакомый у тебя, – подумал Глина, – магазин открыть не может". "Да нет, нет, Густав Кириллович, я с вами совершенно солидарен", – сказал он, быстро включив и тут же выключив микрофон. "Ну, если здесь у нас не возникает противоречий, – сказал Президент, – перейдем к следующей проблеме. Я знаю, что у Максима Олеговича наболело в связи с безобразиями в рыбном хозяйстве. Пожалуйста, Максим Олегович", – сказал он, глядя в тонкое аристократическое лицо рыбного короля. 80 81 Господи, чем я занимаюсь, подумал Глина, обратившись глазами вверх на пышную хрустальную люстру. Сегодня Верка скажет, что я ему не нужен, и меня не спасут ни магазины, ни рыбные флотилии, ни благорасположение президентской администрации. И, знаете, это прекрасно, — вдруг подумал он, словно обращаясь к окружающим. Ему даже захотелось включить микрофон и сказать всем, что в жизни человека действительно важно только одно: любишь ты или нет. И не важно, насколько достоин тот, кого ты любишь. Достоин – не достоин: любовь не бросают на весы. Важно только, что любовь есть, что она жива. Цель любви – любить, и только. Даже если ради этого придется лишиться всего, что составляло смысл твоей жизни до сих пор. Всего без исключения! Осознав это, он вдруг понял, что попал в ту же сладкую ловушку, о какой читал у Оскара Уайльда: когда-нибудь придет время, и он с глубокой печалью скажет, что у него ничего нет, и даже самой любви уже нет, но сам он, благодаря пережитому чувству, стал совсем другим человеком. И это преображение человека любовью – не важно, какой: счастливой или несчастной – и составляет смысл жизни. Разве не так? И отгоняя эти несвоевременно пришедшие мысли, он снова улыбнулся и замотал головой. "Особенно приятно, что наше встреча продемонстрировала не только глубокое понимание проблем, – Президент озвучивал свое заключительное слово, – но и отличное настроение участников (говоря это, он явно смотрел в сторону широко улыбающегося Пуго Яна Арвидовича). А если у руководителей бизнеса хорошее настроение, значит, и в экономике дела идут неплохо". Совещание закончилось, и это было полной неожиданностью для Глины. Все это время он пребывал одновременно в двух мирах: в одном он слушал чужие речи, даже реагировал, сам говорил, отвечал на вопросы, с которыми к нему обращался Президент… но в другом ничего этого не было: здесь жил несчастный шестилетний ребенок, который всей душой был предан Верке и которому никто, кроме Верки, не был нужен. "Ты, Глина, отлично говорил, но что-то неважно выглядишь. Не заболел?" – заботливо спросил сибирский принц, когда они, выйдя из зала, присели тут же в холле, чтобы перетереть маленький вопросик – насчет цены поставок подсолнечного масла в нефтедобывающие регионы. "Душа скорбит, друг мой, – печально прикрыв глаза, сказал Глина. – Кто может оставаться здоров, глядя на страдания нашей Родины?" "Тебе бы всё шутить", – принц неодобрительно покачал головой: о "страданиях нашей Родины" он со всей серьезностью только что говорил на совещании. Потом его еще остановил рыбный король, и они выпили по чашке кофе, и, хотя на фуршет он не остался, всё вместе и без того сильно затянулось, и в машину он сел уже в одиннадцатом часу. А с Магорецким и Маркизом договаривались на восемь. Впрочем, ехать было недалеко, минут десять, да и когда договаривались, решили, что все будут ждать его в квартире на первом этаже, где жили студенты, и оттуда вместе поднимутся на второй: Глина распорядился, чтобы там кто-нибудь был и чтобы квартира была открыта. Машины оставили на улице, и два телохранителя быстро прошли в арку и дальше во двор, и Глина пошел за ними. Его попросили не торопиться, но он сказал, что и так опаздывает. Дом стоял в глубине темного двора, и в окнах нигде не было света. Глина посмотрел наверх и в сумерках увидел, что на самом верхнем этаже одно из окон наполовину открыто. И кто-то из охраны, наверное, тоже увидел это приоткрытое окно, и закричал что-то, и бросился, чтобы повалить Глину на землю и закрыть собой, но прежде чем он долетел, Глина увидел легкую вспышку и понял, что это выстрел. И тут же сразу, совершенно 81 82 без перехода, как переключают каналы телевидения, сознание его переключилось, и он увидел, что перед ним бескрайнее заснеженное поле, залитое чуть лиловым светом низкого солнца, висящего над горизонтом где-то сзади, – такой из-за спины вперед уходящий свет и такое бескрайнее поле, уходящее в вечность, он видел на севере, в тундре… И впереди идут два солдата с винтовками старого образца, а он плетется за ними. Он знает, куда и зачем они идут, но не думает об этом, потому что у него нет сил думать. Солдаты разговаривают между собой. Он видит их только со спины, но знает, как они выглядят. Один – огромный мужик, и лицом, и статью, и голосом похожий на батюшку, настоятеля Заболотновского Никольского монастыря. Второй – молоденький солдатик – ну точь-в-точь артист Збруев. Говорит в основном, батюшка-настоятель а молоденький Збруев только восторженно восклицает: "Во, бля!" "Запомни, у разных национальностей разные черепа. Вот ты когданибудь шведу приводил приговор? Нет. А я приводил. У шведа самая аккуратная дырочка остается, и чистенькая. У немцев и у татар, у тех почему-то всегда навылет получается, неряшливо. И как ни старайся, всё будет одинаково. Ну, наши русские – это по-всякому. Тут никакой строгости нет… А вот интереснее всего – это у жидов. У них почему-то череп всегда на мелкие осколки разлетается. Как от взрыва – в разные стороны. Вот сейчас увидишь. Хочешь на пайку спирта заложимся?" Они остановились и повернулись к Глине, и он остановился тоже. "Всё, сладкий мой, пришли, – сказал батюшка. – Сейчас отмучаешься… Последнее желание есть?" Солдат Збруев засмеялся: «И никто не узнает, где могилка моя», — пропел он. «Узнает, — неожиданно мягко сочувственно сказал батюшка, — сын узнает.» Почему – сын, – подумал Глина. – Откуда сын? У меня же нет сына… И тут он понял, что он-то и есть сын. А расстреливают... И в этот момент батюшка-настоятель выстрелил. 16. Магорецкий "Я, дорогой мой Сёма, в молодости, еще до института, три года болтался без дела. Никуда не мог поступить. Дворником устроился, чтобы иметь свою комнату и жить отдельно от родителей – вот здесь, за углом, в двух минутах отсюда, в полуподвале отличная была хата — метров тридцать размером. Называлась у нас "Семь ступеней вниз". На дне жил, без кавычек. Народу всегда полная хаза: мазилы какие-то непризнанные, лабухи, просто фарца залетная. И квасили, и травка уже тогда появилась — курили, ну и, понятно, дрючка перекрестная. Не все хиппи, но хипповатые. Когда спал, не знаю. С кем – не помню. На все сил хватало. Я был компанейский малый, такой … кент из кентов. Меня уже тогда звали Великий Маг… Я не хвастаюсь, напротив, я хочу тебе сказать, что я не избранный. Знаешь, "много званых, но мало избранных". А я поначалу даже и званым-то не был. Четыре года в разные вузы поступал, пока поступил. И во ВГИК пытался, и в ГИТИС, и в "Щуку", и в "Щепку". Но 82 83 ведь поступал же, не бросил! И всю последующую жизнь выползал из собственного говна. И сейчас еще не вполне выполз", – Магрецкий замолчал, потому что Протасов встал, чтобы снять чайник с огня и заварить кофе. Было, должно быть, часа три ночи. Сна ни в одном глазу, но для того чтобы поддерживать тонус, кофе надо было заваривать каждые полчаса. Как и договаривались, вчера они пришли сюда к ребятам в Кривоконюшенный к восьми вечера. Ждали Глину. Было известно, что он на совещании у Президента, телефон его был отключен и в восемь, и в девять, и в половине десятого. В десять и звонить, и ждать перестали, а поскольку выпивать начали сразу, как пришли, то встреча обещала плавно превратиться из делового свидания в товарищескую попойку. Спасибо Протасову, теперь он знал, куда идет, и принес с собой большую сумку с выпивкой и закуской. Не сам, понятно, принес, шофер, надрываясь, клонясь на один бок, притащил за ним, притащил и уехал: Протасов предполагал, что ночевать останется у Тёлки… И все-таки вечер с самого начала как-то не заладился. В десять собрался и уехал Верка Балабанов: сказал, что ему надо сегодня быть в стрипклубе. Тут же встала и ушла Тёлка: у нее там что-то произошло с хозяйкой, и ее надо было проведать. Она обещала вернуться, но, кажется, так больше и не пришла. Или приходила и опять ушла, но это уже позже, много позже... Гриша и Василиса, понимая себя хозяевами, мужественно развлекали мэтров разговором – в основном по теме дипломного спектакля, – но чувствовали себя неловко. И гости это тоже ощутили и собрались было уходить, и разлили по последней "на посошок", но в этот момент мобильный в кармане Протасова заиграл вечного Моцарта. Протасов сидел за столом и, прижав коробочку телефона к уху, слушал, что ему там говорят, и что-то тихо спрашивал, и все видели, что лицо его становится серым. Все молчали. Поговорив и спрятав телефон, Протасов взял было рюмку с водкой и хотел что-то сказать, но вместо этого поставил водку на место, налил полстакана коньяка и выпил. "Глину убили, — сказал он наконец. – Полчаса назад, здесь у нас во дворе, прямо за дверью"… Во двор их не выпустили. Там уже работали следователи, милиция, какие-то еще службы, двор был освещен сильными лампами, и по темным стенам окружающих домов метались гигантские тени. Кто-то фотографировал, и время от времени суетящиеся люди словно застывали на миг в свете голубой вспышки. Вообще все это было похоже на киносъемки. Темное тело героя фильма лежало прямо посредине двора. Магорецкий и Протасов постояли минуту в дверях подъезда и вернулись в квартиру. "Теперь нам есть что делать, – сказал Магорецкий. – Мы будем пить за упокой. А вы, ребята, идите-ка спать, – добавил он, видя ужас и отчаяние в глазах Василисы и растерянное лицо Гриши Базыкина. – Идите, и нам без вас будет спокойнее…" Оставшись одни, действительно выпили за Глину. Хороший был мужик, жить бы ему еще и жить… но больше о нем и не вспомнили ни разу. Говорили о своем. Так беседовали, словно давным-давно были знакомы. И даже дружны. Впрочем, говорил в основном Магорецкий, а Протасов обслуживал его монолог, подливая коньяку и заваривая кофе. "Папа очень переживал, что у меня ничего в жизни не получается. Мой бедный папа, мой старый еврейский папа так и умер, уверенный, что из меня уже ничего путного не выйдет. Я взрослым был, институт окончил, женился... Ну, конечно, меня в то время "Правда" замочила, назвали "театральным хиппи", 83 84 я вел кружок в каком-то сраном клубе, и все понимали, что со мной все кончено. "Поставь "Кремлевские куранты", и они от тебя отстанут, и ты сможешь работать в театре", – ему важно было, чтобы я вернулся в систему. Он всю жизнь был в системе, и никак иначе не представлял себе... Правда, систему эту он имел как хотел. Всюду у него были друзья и знакомые. Он был то, что называется блатмейстер. Если в театр, то на лучшие места, если на футбол, то чуть ли не в правительственную ложу, если в санаторий, то в санаторий Совета Министров. А по должности он был скромным строителем, инженер-строитель, жилые дома строил, но в последние годы работал в закрытом конструкторском бюро, и там его скромная должность громко называлась "заместитель генерального конструктора по строительству". И когда он умер, в "Вечорке" что ли, они дали такое маленькое сообщение "с прискорбием" о смерти "заместителя генерального конструктора Магорецкого". И всё. И старые знакомые звонили в изумлении: о нем ли это? "Ну, Венька – заместитель генерального! Даже после смерти взял больше, чем полагалось." В то время было четко расписано, кому что полагается. И каждый стремился ухватить побольше. Я очень любил отца. Он был еврей, некрещеный. За некрещеных молиться вроде нельзя. Но я молюсь: "Упокой, Господи, душу раба твоего некрещеного Вениамина". Ничего, молитвы не пропадают. И мою молитву Господь куда-нибудь пристроит… Когда отец умер, я как-то совсем потерялся. Весь день рыдал, как ребенок. Иду по улице, и вдруг подступает, и я начинаю рыдать – взрослый мужик, под тридцать уже. Или в магазине в очереди стою… Поминки надо было устраивать, по магазинам ходить, и я хожу и рыдаю. И у меня от слез лицо как-то изменилось, какая-то гримаса на нем застыла, словно я улыбаюсь. И все считали, что я рехнулся: у человека отец умер, а он ходит и улыбается блаженно. Или рехнулся, или мерзавец бездушный… Ты вот спрашивал, почему я в Японии не остался или почему японскую любовь сюда не привез… А я тебе расскажу. Ты вот налей, и я тебе расскажу… Ну, давай, светлой памяти Пуго Яна Арвидовича. Нет, это черт знает что. Это надо же, что с человеком сотворили: по-человечески и помянуть некого… А ведь его при рождении, может, крестили…Говоришь, обрезанный? Ну, все равно, имя-то дали ребенку… Ладно, Господь разберется, за чей вечный покой мы тут выпиваем. Господь вообще во всем разберется правильно. И Господь Вседержитель, и Пресвятая Дева Мария (тут он широко перекрестился)… Ты вот говоришь, японская любовь… Я ведь тебе про это и рассказываю… Ну вот, отец у меня умер, он перед этим болел, инфаркты и всё такое. Умер он дома, во сне, как праведник, и важные люди у него на предприятии решили, что в морг его можно не возить, вскрытие не делать. Наняли старушек возле церкви, те его обмыли, обрядили, мужики с предприятия гроб привезли, и гроб с телом оставили на ночь дома, на обеденном столе. А мать одна ночевать боится, квартирка маленькая, жутко ей. И попросила меня, и мы с женой приехали. А нам спать негде, – две комнаты всего в квартире, – и нам спать только на диване, где он умер, в комнате, где он теперь на столе лежит… Постелили, легли, а меня колотит, спать не могу. Жена меня гладит, жалко ей меня. И тут я ее захотел, – так сильно, как, может быть, никогда никого в жизни не хотел, и она мне дала – поняла, что мне это необходимо. Папин труп в гробу, а мы диваном скрипим… И я после этого успокоился и уснул… Так вот я тебе скажу: не дай мне Бог когда-нибудь так полюбить, что придется с женой расстаться. Лучше мне умереть, чем так рвать сердце. Мне сорок пять. Или сколько мне? 84 85 Да, сорок семь. Бывало, что я был раздавлен, растерт, уничтожен, и она была со мной, и без нее я бы погиб… Вот и вся японская любовь…" Часа в четыре вернулся Верка и увидев, что гости сильно пьяны, тут же ушел спать на таксишникову тахту. О Глине он, видимо, ничего не знал… В какое-то время, – они даже не отметили когда, – приходила Тёлка. Побыла с ними минут пятнадцать, тоже, видимо, поняла, что этим двоим сейчас никто не нужен, и исчезла. Наверное, тоже спать пошла. "А теперь что, теперь я мастер, – Магорецкий продолжал свой бесконечный монолог. Протасов слушал, не отрывая от него давно уже ничего не видящих глаз. – Я силу свою знаю и знаю свою цену. И знаю, что именно я сделал плохо, из рук вон… Но я всё умею. По крайней мере умею всё, что хочу… ("Мне по душе строптивый норов артиста в силе: он отвык от фраз, и прячется от взоров, и собственных стыдится книг", – раскачиваясь в такт, продекламировал Протасов. Ему было хорошо.) Слушай, Маркиз… А почему ты Маркиз? Ты Семен Протасов, известный журналист, я тебя знаю, читал. Ты русский интеллигент Сёма Протасов, который знает все стихи и все интеллигентские правила и примочки… Этих Протасовых в каждом театральном поколении… Посмотришь кругом – одни Протасовы… У тебя театральная фамилия, и ты должен понять, что театр – это игра. Игра – и больше ничего. И все, что вокруг театра – игра. Играем Горького, Чехова, самих себя играем. Горе играем, радость. А у игры нет цели, кроме самой игры… Если, конечно, это не соревнование… Но в театре не бывает соревнования… И ты велик только тогда, когда приходишь в эту игру с новыми, своими правилами. ("А где же правила, которые установил Господь? – вдруг строго спросил Протасов, словно проснулся. – Господь Вседержитель и Пресвятая Дева Мария?") Ну-ка, Сёма Протасов, скажи мне, скажи скорее, а какие правила установил Господь? – с подозрением глядя на собеседника, спросил Магорецкий. – Ты скрижаль с заповедями таскал? («На каменное плоскогорье!» - прокричал Протасов.) Разбудишь хозяев, – сказал Магорецкий. – Правила есть, но нам они неведомы. Каждый трактует по-своему… Но одни трактуют уже хорошо известное – и в третий, и в пятый, и в сто тридцать пятый раз, а другие приходят и приносят абсолютно новые правила. И новые правила создают новый порядок в мире несовершенства. Гений вносит в мир новый порядок. В мир театра, в мир музыки, в мир политики, какой там еще мир существует? И люди со временем убеждаются, что именно эти правила и лучше. С этими правилами и игра интереснее, и выигрыш больше. А впрочем, мне лично выигрыш не важен. Важен только сам процесс игры… Да не тревожься, Сёма, я тебе обещаю: поставлю я им этот диплом. И театр у меня будет. И мы этим спектаклем театр откроем. Сегодня помимо Глины, царствие ему небесное (он опять широко перекрестился), было два предложения. И оба хороши… О, Боже, ну пусть катится эта твоя Тёлка в свой вонючий Париж… Ну, прости, прости ради Бога, она действительно хорошая девочка. А где она? Она же тут только что была. Ушла спать… Ладно, все в порядке, я ее люблю. Правда, я ее люблю. И она очень, очень способная. Еще раз: о-ч-чень! Но это совершенно ничего не значит. Таких способных – с задатками гениальных актрис – ну уж по крайней мере по одной на каждом курсе каждого театрального вуза. Но… как бы тебе это объяснить… Раневская или кто там еще… Марлен Дитрих, что ли… это не только гениальные актрисы – это личности гениальные… Вот Гриша Базыкин, этот вот мальчик, который там, за стеной спит, обняв свою Василису, – вот у него задатки гениальной личности. Он дерзкий, но добрый и спокойный. Вот 85 86 увидишь, он меня превзойдет, потому что он меня добрее. И спокойнее ("Учитель, воспитай ученика, чтоб было, у кого потом учиться" – пробормотал Протасов. Силы были на исходе. Сутки прошли с тех пор, как Магорецкий завтракал с Глиной, а Протасов пил здесь с ребятами кофе и рассуждал о Михалкове и Хамдамове – и какие сутки! Теперь надо добираться домой, а для начала просто выйти на воздух.) Решили, что Протасов поднимется на минуту к Тёлке, а Магорецкий пойдет ловить какую-нибудь машину. Когда он вышел из подъезда, было уже часов семь утра и вполне рассвело. Во дворе было пусто, и хотя снег кругом было истоптан десятками ног, в том месте, где ночью лежало мертвое тело, остался белый незатоптанный островок. Возле него стояла Младая Гречанка. "Смотрите-ка, розовые лепестки на снегу. Как красиво!" - сказал она, обернувшись и узнав Магорецкого. "Да, да, - сказал он, - очень красиво". Он взял ее под локоть и повел прочь. Он-то сразу увидел, что это не розовые лепестки, а мелкие окровавленные осколки черепа. 17. Ляпа Из своей серебряной коробочки, постучав углом ее о подоконник, чтобы ничего не прилипло к стенкам и к донышку, он вытряхнул все до пылинки. Руки дрожали, и малая толика серого порошка все-таки просыпалась на тетрадный лист, который обязательно входил в состав его приблуда и который он, начиная химичить, всегда аккуратно раскладывал на подоконнике. Ценнее этого порошка в его жизни ничего не было, и, если бы он мог увидеть молекулу героина, он бы и ей не дал затеряться. Впрочем в этот раз в ложке и без того было раза в три больше его обычной суточной дозы. Этого должно хватить. Он посмотрел спиртовку на просвет и увидел, что в ней сухо. Но фитиль еще был влажным – на раз хватит. Последний раз. Вот и хорошо, ничего не остается. И в этом была успокаивающая гармония – гармония ухода: он уходил и не оставлял ничего лишнего. Ничего, что могло бы зацепить его, задержать… Как обычно, крича от боли и матерясь, он всё, до упора, "задвинул" по больной, исколотой и изъязвленной вене и издалека бросил свой фартовый баян в кухонную мойку и услышал, как он, разбившись, разлетелся осколками. Это его баян, часть его души, и он никому не должен достаться. Теперь надо было пойти и принять душ. Так он загодя решил: он знал, что, когда все будет кончено, никто его обмывать не станет, и он уже теперь, лучше все сделает сам: примет душ и в халате вернется в свое кресло и здесь будет ждать, когда его "загрузит"… Но он уже и под душем хорошо помылся, и в кресле давно сидел, а ему все не вставляло. Впрочем, это его не тревожило: он знал, что лекарство отличное, и в конце концов его загрузит, обязательно загрузит. "Меня не грузит, но загрузит… Меня не грузит, но загрузит, - повторял он про себя, и в другое время эта строка могла быть началом стихотворения. – Меня не грузит, 86 87 но загрузит, тара-та-та-та тара-та". Загрузит, загрузит, он хорошо разогнался. В жаргоне наркоманов образное понятие разогнался ему особенно нравилось. Сегодня он сам разогнался до смертельной дозы. Осознанно разогнался, и уже никто его не остановит. Вот и хорошо, вот и загрузило. Теперь он утратил ненужное тело и заполнил собой, своей легкой пустотой весь объем огромной квартиры. Он сам стал объемом, пространством, пронизанным светом. Это освобождение от тела и было счастьем. Но в этом пространстве в лучах света, нарушая абсолютную гармонию пустоты, иногда быстро возникали люди – возникали из ниоткуда и пропадали в никуда, – даже не люди, а только лица: они вдруг проявлялись и плавали в светлой пустоте размытыми желтыми пятнами, и он различал их нечетко, словно из-под воды. Иногда он слышал звук речи и по интонации догадывался, что это к нему обращенные просьбы или угрозы, но в чем их смысл, он не знал, да и знать не хотел. Время от времени пространство переворачивалось, и тогда бестелесные лица плавали вверху или, наоборот, внизу. И он понимал, что переворачивается не только пространство, но и время, потому что одни и те же люди появлялись по несколько раз, – как если бы снова и снова возвращались кадры однажды уже просмотренного фильма. Вот через все пространство приплыло и потом несколько раз вернулось и опять, опять повторило тот же путь размытое лицо Настасьи Филипповны, и рядом с темножелтым пятном ее лица плавали ее сухонькие старческие кулачки, и он догадывался, что она хочет ударить его, она, видимо, не знала, что ударить его нельзя, потому что теперь он всего только пустота, занимающая объем квартиры, а бить пустоту бессмысленно. В какой-то момент рядом с ней стало плавать белое пятно – лицо каркающего глухого. Но решить наверняка, действительно ли эти люди возникали в его пространстве или это только какоето воплощение его собственных мыслей об этих людях, он не мог. Так явилась Тёлка и вскоре исчезла, и он уже не был уверен, что она вообще появлялась. Хотя он даже разговаривал с ней, и ласкал ее, и утешал, потому что она – пьяная и обкуренная – рыдая, жаловалась, что она – товар и что никто ее не воспринимает как человека. Но она – человек. А там внизу двое пьяных мужиков даже не заметили, что она пришла к ним. И только у него, у Ляпы, есть душа. И она любит его. И она поцеловала его, и он ощутил ее влажный поцелуй, и она сказала, что хочет его, и тут он снова почувствовал свое тело, и увидел, что полулежит в кресле, распахнув халат, и она, наклонив к нему лицо, пытается вернуть ему мужскую силу, и ей это удается… Но куда и в какой момент она исчезла, он так и не отметил. Да и была ли вообще… И вдруг он понял, что она осталась здесь навсегда, и что их теперь трое: он, всеобъемлющая душа его любимой и колышащийся свет Тёлкиной души. И он знал о ней все. И знал, что сейчас она, обняв подушку, спит у себя там, на третьем этаже. И знал, что именно ей снится – так, словно сам видел этот сон… А снилось Тёлке, что она попала в дом престарелых. И там ее встретил старый князь. Или даже не сам встретил, а ее к нему послали. Князь сидел в кресле-качалке на освещенной солнцем летней веранде и курил трубку. На нем были какие-то свободные белые одежды, какие носят богатые индусы. Князю было лет сто пятьдесят. Там были и другие старики и старухи, но моложе, лет по сто. Вот они-то толпой и встретили Тёлку при входе и послали к князю: "Иди работай, чем зря болтаться", – сказали ей строго. Князь курил трубку и шил мешки. Левой рукой он чуть раскатывал штуку полотна и правой тут же легко отрывал кусок по размеру обычного мешка. Потом складывал ткань вдвое и 87 88 большой иглой сшивал с трех сторон, оставляя наверху небольшой проем, который закрывался кожаным клапаном и застегивался на пуговицу, обтянутую черной кожей. Через этот проем, отстегнув клапан, Тёлка должна была набивать мешки гречкой с мясом. Плотно набивать: просунуть руку в мешок и кулаком утрамбовывать, чтобы побольше поместилось. Гречку она жарила на сковороде тут же, под руководством князя: он стоял рядом и, казалось, несколько раздраженно пальцем указывал, куда двигать сковородку. Тёлка держала сковородку то над открытым огнем – и тогда гречневые зерна, приятно потрескивая, лопались, – то над кипящей водой, и тогда зерна размягчались, но все-таки не превращались в кашу, а оставались такими, что их можно было ссыпать. В гречку добавлялось белое куриное мясо, но откуда оно бралось, Тёлка не заметила. Князь тоже набивал мешки и торопил ее. Да она и сама старалась всё делать побыстрее, потому что ей очень хотелось есть, а есть князь не разрешал: сначала надо было набить мешки и отнести их в дом, и там их ждали три древние старухи, по-видимому сестры. Одна из них была чуть моложе. Или казалась моложе, потому что она единственная двигалась и говорила, тогда как две другие дремали в креслах. "Сегодня вы что-то долго, дорогой присяжный поверенный", – сказала бойкая старуха и беззвучно засмеялась, бесстыдно обнажая красные беззубые десны. И две другие старухи, не открывая глаз и не меняя положения в креслах, тоже беззвучно засмеялись, широко раскрывая свои беззубые красные рты. "Помощники такие", недовольно пробурчал князь. Тёлка поняла, что это она плохая помощница, и хотела поторопиться, но сделала какое-то неловкое движение, и мешок, который она несла на плече, зацепился за угол, лопнул, и из него вдруг густой струей потекла кровь… Ничего, подумала она, кровь – это к родне, и ничего больше, – и, поняв это, она во сне повернулась на другой бок и дальше спала без сновидений… "Ничего, кровь – это к родне", – повторил Ляпа, и с тоской понял, что онто просыпается, что из глубин счастливого подсознания его быстро и жестоко выносит на поверхность жизни. Он возвращается. Нет, не хочу, подумал он и проснулся окончательно. 18. К последнему акту К ним стучали, но просыпаться не хотелось. За дверью в коридоре громко говорили сразу несколько человек – все разом. Но особенно выделялся высокий и крикливый голосок милицейского старлея: "Я ничего не знаю. Сказано, что сегодня начинается снос. К десяти часам приедут машины. Дом надо освободить!" Что-то возражал Балабанов, но его почти не было слышно. И вдруг где-то в конце коридора, должно быть, у входной двери, громко, во весь голос закричала Тёлка: "Вы… иди… идите сюда! На втором этаже… там… Ляпа… повесился!" Гриша Базыкин повернулся на бок и погладил жену по щеке. "Просыпайся, моя любимая", – сказал он. "Что там?" – спросила она. "Всё то же, – сказал Гриша, – играем Горького ". Апрель 2003, 88 89 Москва 89 90 Содержание 1. Вместо пролога 2. Тёлка 3. Протасов 4. Магорецкий 5. Глина 6. Ляпа 7. Тёлка 8. Протасов 9. Настя 10. Магорецкий 11. Глина 12. Протасов 13. Тёлка 14. Ляпа 15. Глина 16. Магорецкий 17. Ляпа 18. К последнему акту 90