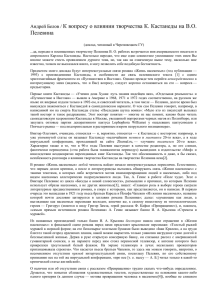(доклад на научной конференции в МГУ им
advertisement
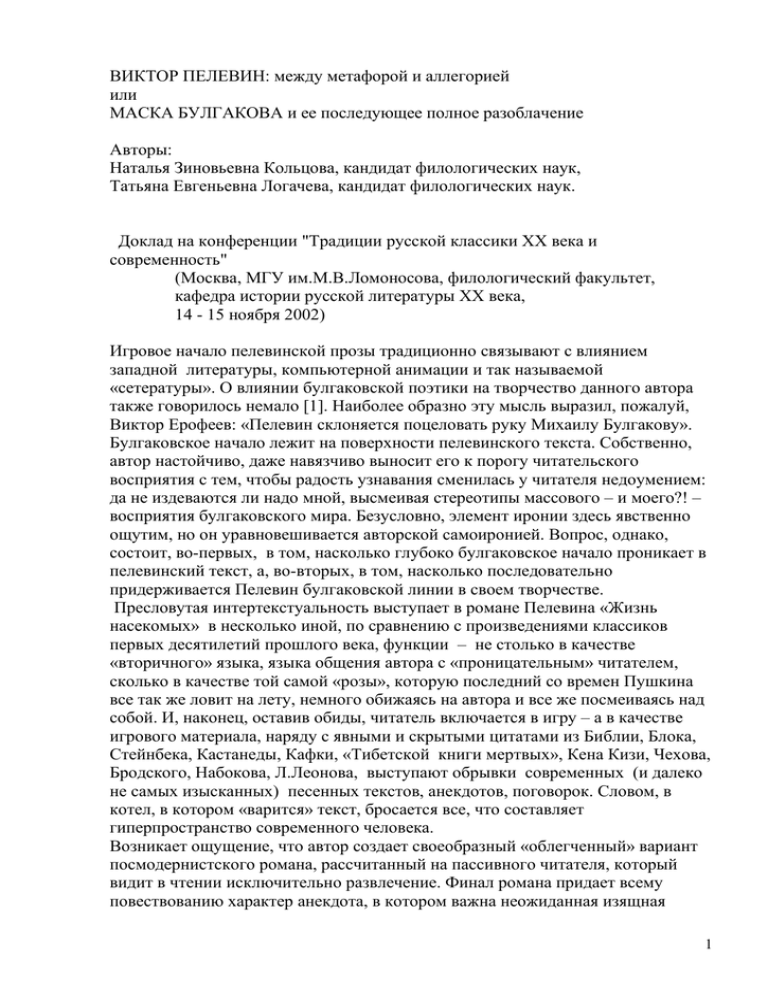
ВИКТОР ПЕЛЕВИН: между метафорой и аллегорией или МАСКА БУЛГАКОВА и ее последующее полное разоблачение Авторы: Наталья Зиновьевна Кольцова, кандидат филологических наук, Татьяна Евгеньевна Логачева, кандидат филологических наук. Доклад на конференции "Традиции русской классики ХХ века и современность" (Москва, МГУ им.М.В.Ломоносова, филологический факультет, кафедра истории русской литературы ХХ века, 14 - 15 ноября 2002) Игровое начало пелевинской прозы традиционно связывают с влиянием западной литературы, компьютерной анимации и так называемой «сетературы». О влиянии булгаковской поэтики на творчество данного автора также говорилось немало [1]. Наиболее образно эту мысль выразил, пожалуй, Виктор Ерофеев: «Пелевин склоняется поцеловать руку Михаилу Булгакову». Булгаковское начало лежит на поверхности пелевинского текста. Собственно, автор настойчиво, даже навязчиво выносит его к порогу читательского восприятия с тем, чтобы радость узнавания сменилась у читателя недоумением: да не издеваются ли надо мной, высмеивая стереотипы массового – и моего?! – восприятия булгаковского мира. Безусловно, элемент иронии здесь явственно ощутим, но он уравновешивается авторской самоиронией. Вопрос, однако, состоит, во-первых, в том, насколько глубоко булгаковское начало проникает в пелевинский текст, а, во-вторых, в том, насколько последовательно придерживается Пелевин булгаковской линии в своем творчестве. Пресловутая интертекстуальность выступает в романе Пелевина «Жизнь насекомых» в несколько иной, по сравнению с произведениями классиков первых десятилетий прошлого века, функции – не столько в качестве «вторичного» языка, языка общения автора с «проницательным» читателем, сколько в качестве той самой «розы», которую последний со времен Пушкина все так же ловит на лету, немного обижаясь на автора и все же посмеиваясь над собой. И, наконец, оставив обиды, читатель включается в игру – а в качестве игрового материала, наряду с явными и скрытыми цитатами из Библии, Блока, Стейнбека, Кастанеды, Кафки, «Тибетской книги мертвых», Кена Кизи, Чехова, Бродского, Набокова, Л.Леонова, выступают обрывки современных (и далеко не самых изысканных) песенных текстов, анекдотов, поговорок. Словом, в котел, в котором «варится» текст, бросается все, что составляет гиперпространство современного человека. Возникает ощущение, что автор создает своеобразный «облегченный» вариант посмодернистского романа, рассчитанный на пассивного читателя, который видит в чтении исключительно развлечение. Финал романа придает всему повествованию характер анекдота, в котором важна неожиданная изящная 1 концовка, point, органично, тем не менее, вытекающая из логики сюжета. Концовка пелевинского романа возвращает нас к его названию, апеллирующему к крыловской басенной традиции. Однако читатель не подозревает об этом, вспоминая о баснописце лишь на последней странице – при виде толстого рыжего муравья в морской форме, на бескозырке которого «золотыми буквами... выведено “Iван Крилов”», и подпрыгивающей на телеэкране стрекозы «с красивыми длинными крыльями». Оказывается, развернутая метафора «люди – насекомые» может быть «сплющена» до басенной аллегории, и читатель, погрузившийся в атмосферу гофманианы, вновь чувствует себя уязвленным. И все же, строго продуманная игровая манера пелевинского письма рассчитана на такую реакцию; она предполагает подобную «легкую», игровую форму восприятия – как со стороны читателя, так и со стороны критика. Уже название первой главы – «Русский лес», а также упоминание «иностранца», явившегося с «других берегов», вводит читателя в поле постмодернистской игры с чужими текстами. Однако тон действию задает, прежде всего гоголевско-булгаковский гротеск: репродуктор вначале вещает евангельские истины над пустым пляжем, затем несколько минут шипит вхолостую, а потом мечтательно говорит по-украински [2]. Пелевин деструктурирует текст булгаковского романа «Мастер и Маргарита», а затем заставляет читателя вновь собирать его, подобно мозаичной головоломке«паззлу». Элементами этой мета-мозаики могут являться имена («безумный Иванушка», Арчибальд, Наташа), образы (москит Сэм – «знатный иностранец», «низенький толстяк» Арнольд – Бегемот), детали («кулинарные ряды» – пародийное снижение проявляется на уровне меню «кафе ресторанного типа», предлагающего гостям не «филейчики из рябчика», а «бiточкi по-ciлянскi з цiбулей»), топосы («сталинский» пансионат на берегу моря «рифмуется» с клиникой доктора Стравинского, а также, по свойству транзитивности, если вспомнить наблюдения Б.Гаспарова, с Гефсиманским садом [3]; танцплощадка, на которой происходят «отвратительные танцы», сопоставима с театром Варьете), а также мотивы – жары, необычно пустого пространства, и даже реплики: «Я всегда один» – говорит персонаж Пелевина, цитируя Воланда. Мотив полета, столь важный для булгаковского текста, во многом определяет структуру и пелевинского романа. У Пелевина полет всегда происходит из «дольнего» мира в «горний», из реальности в «сверх»-реальность, и полет этот почти всегда означает для героев смерть: умирают муха Наташа, комар Арчибальд, таракан Сережа... У Булгакова же «невидимая и свободная» главная героиня вначале летит на бал к сатане, а последний полет Маргариты и Мастера совершается уже после смерти этих персонажей. Своеобразие композиции «Мастера и Маргариты» во многом определяется сменой повествовательного ракурса. Автор встает на точку зрения того или иного героя с тем, чтобы читатель мог видеть события сквозь призму восприятия разных персонажей. Причем одно и то же событие может освещаться под разными, иногда противоположными углами зрения. У Пелевина это, быть может, в наибольшей степени проявляется в главе 9 («Черный всадник»), где субъекты действия (наркоманы Максим и Никита) 2 оказываются одновременно и его объектами (конопляными клопами). Таким образом, Пелевин доводит булгаковский прием смены повествовательного ракурса до его логического завершения и заставляет читателя смотреть на события как извне, так и изнутри уже в буквальном смысле слова. Анализируя в предисловии к роману творческий метод Пелевина, В.Курицын объясняет частоту смены ракурсов и масштабов влиянием компьютерных технологий, когда «экран раздваивается, и вы можете выбирать, куда щелкнуть “мышкой”» [4]. Однако подобная смена ракурсов и «многовекторность» развития событий наблюдается уже со времен «Петербурга» А.Белого, а также постсимволистских романов К.Вагинова («Труды и дни Свистонова») и Ю. Олеши («Зависть»). У Булгакова же подобные эксперименты с «расширением» и «свертыванием» пространства можно обнаружить в эпизодах полета Маргариты над «вечерней землей» и особенно посещения ею «нехорошей квартиры», то раздвигающейся в бесконечность, то «съеживающейся» до нескольких комнат. Возможность альтернативного развития действия просматривается и в самой сюжетной линии Маргариты. Героиня несколько раз оказывается в ситуации выбора «куда щелкнуть мышкой»: когда в ненастную осеннюю ночь все же покидает дом Мастера, чтобы сообщить мужу о своем уходе, когда берет у Азазелло волшебный крем вместо того, чтобы сидеть со своей «обгоревшей тетрадкой и сушеной розой», и, наконец, когда просит Воланда за Фриду, а не за себя. Вполне в традиции полиэкранного кинематографа воспринимается финал истории любви Мастера и Маргариты, когда читатель действительно видит события одновременно и «с точки зрения вечности» и с позиций «земной» жизни. То, что традиционно объясняется незавершенностью авторского замысла, вполне укладывается в русло постмодернистской стилистики. Идея мениппейного повествования, многоплановости построения хронотопа, наиболее ярко воплотившаяся в «Мастере и Маргарите», безусловно, довлеет и Пелевину. Булгаков: Москва – Ершалаим – Рим; Пелевин: Крым – Магадан – и оставленные «за кадром» Америка, Рим и «третий Рим» (Москва). Кроме того, в романе Булгакова присутствует «план вечности» (там существуют Воланд со свитой, там отбывает наказание Пилат, туда уходят Мастер с Маргаритой). В романе Пелевина просматривается сходный план, который можно охарактеризовать как «подземный», «потусторонний». Причем в этом «подземном» мире у «насекомых» персонажей проявляются их сверх-ego, или, по пелевинской терминологии, сверх-«йа», иронично представленные автором в виде виртуальных навозных шаров. Наряду с травестирующей цитатностью, многоплановое построение хронотопа у Пелевина является элементом постмодернистской игры, не в последнюю очередь призванной погрузить читателя в состояние эпистемологической неуверенности. Виктор Шкловский в статье «Потолок Евгения Замятина» назвал последнего «писателем одного приема» – развернутой (и, добавим, реализованной) метафоры [5]. Однако подобный упрек в эксплуатировании данного приема можно адресовать всем творцам русской гофманианы, начиная с Гоголя. Безусловно, реализованная метафора лежит в основе замысла романа «Жизнь насекомых» и служит едва ли не самым главным средством выражения 3 авторской идеи, а также организует художественное пространство романа и постоянно «мелькает» перед читателем и как троп, и как каламбур, и как анекдот. Так, гиперболическое сравнение «нечеловечески острое зрение» по мере движения сюжета романа получает вполне реальное наполнение, ибо читателю предстоит воспринимать окружающий мир глазами не только человека, но и «не-человека», насекомого. Булгаковская «базовая» метафора взаимного обращения света и тьмы реализуется в «Мастере и Маргарите» историей мрачнейшего «фиолетового рыцаря», который однажды неудачно пошутил и за еретический каламбур был наказан тем, что ему (уже в образе Коровьева) «пришлось... прошутить немного больше, нежели он предполагал». У Пелевина герои-двойники Митя и Дима рассуждают о бинарной оппозиции свет/тьма на протяжении многих страниц. Можно высказать предположение, что Пелевин «восстанавливает» не проявленный в булгаковском тексте каламбур. Импульс размышлениям пелевинских героев дает булгаковский Воланд. Сентенция мотылька Димы: «Вся огромная жизнь, в которой ты собираешься со временем повернуть к свету, на самом деле и есть тот единственный момент, когда ты выбираешь тьму» [6], – воспринимается как «негатив» философского изречения Мефистофеля, которое Булгаков взял эпиграфом к своему роману. Еще одна булгаковская черта, восходящая к традиции символистского романа (а в пределе, возможно, к «Евгению Онегину»), – вынесение на поверхность текста внутреннего сюжета, что и происходит в одном из эпизодов «Жизни насекомых». Герои-двойники, находясь внутри текста, обдумывают план его создания [7]. Свет и тьма, взгляд извне и взгляд изнутри здесь вновь взаимодействуют, так что читатель, как и положено, оказывается и «соавтором», и «героем» постмодернистского авторефлективного текста. В финале романа автор заостряет нравственную проблематику, тему выбора пути. Надпись «Iван Крилов» на бескозырке рыжего муравья отнюдь не случайна. Однако, в отличие от персонажей Крылова, насекомые у Пелевина претерпевают метаморфозы, не детерминированные биологическими факторами. Таракан может стать цикадой, муравьиная самка – мухой, мотылек – светлячком. И просветление, инсайт, или сатори (если описывать ситуацию в категориях дзэн-буддизма), достигается здесь вовсе не за счет бегства из «третьего мира» (палиндромически отождествленного автором с «Третьим Римом») в «первый» (Америку-Paradise), а посредством погружения в себя, во «второй мир» – или, если угодно, в «нагуаль» (в терминологии К.Кастанеды). В конце концов, назидательность (то качество прозы Пелевина, которое предпочитают игнорировать не только читатели, но и критики) телеологически обусловлена русской литературной традицией (басенной у И.Крылова с его Попрыгуньей-Стрекозой, сказочной у К.Чуковского с его Мухой-Цокотухой, параболической у М.Булгакова с его гротескными зооморфными персонажами). Однако, если у Булгакова отсутствует классицистическая категоричность в оценке сотворенного им мира, то постмодернистская ирония Пелевина, попытка создать иллюзию этического релятивизма, оборачивается (быть может, помимо воли автора) вполне классицистическим морализаторством. 4 ЛИТЕРАТУРА 1 См.: Парамонов Б. Пелевин - муравьиный лев; Нефагина Г.Л. Русская проза второй половины 80-х — начала 90-х годов ХХ века; Мейер Э. Постсоветский сюрреализм 2 Пелевин В.О. Жизнь насекомых. – М.: Вагриус. 1999. С.156. 3 Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе ХХ века. – М.: Наука, 1993. С.43. 4 Курицын В. Группа продленного дня // Пелевин В.О. Жизнь насекомых. – М.: Вагриус. 1999. С.9. 5 Шкловский В.Б. Пять человек знакомых. – Тифлис. 1927 // Потолок Евгения Замятина. 6 Пелевин В.О. Жизнь насекомых. – М.: Вагриус. 1999. С.236. 7 ibid., С.207. 5