asdf x
advertisement
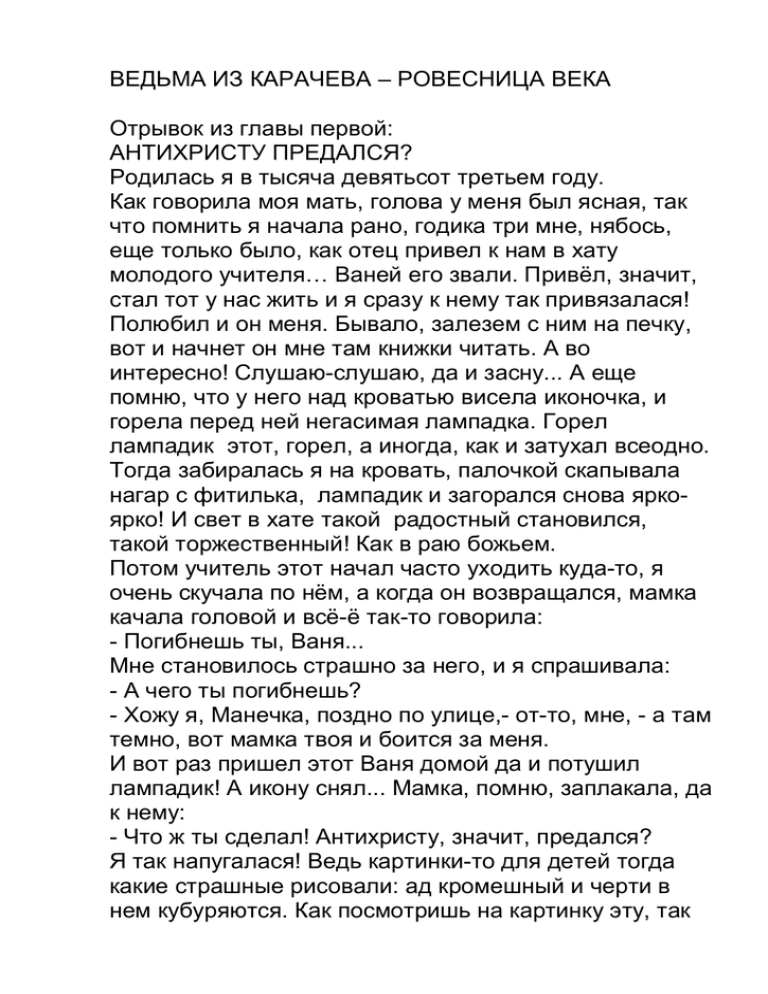
ВЕДЬМА ИЗ КАРАЧЕВА – РОВЕСНИЦА ВЕКА Отрывок из главы первой: АНТИХРИСТУ ПРЕДАЛСЯ? Родилась я в тысяча девятьсот третьем году. Как говорила моя мать, голова у меня был ясная, так что помнить я начала рано, годика три мне, нябось, еще только было, как отец привел к нам в хату молодого учителя… Ваней его звали. Привёл, значит, стал тот у нас жить и я сразу к нему так привязалася! Полюбил и он меня. Бывало, залезем с ним на печку, вот и начнет он мне там книжки читать. А во интересно! Слушаю-слушаю, да и засну... А еще помню, что у него над кроватью висела иконочка, и горела перед ней негасимая лампадка. Горел лампадик этот, горел, а иногда, как и затухал всеодно. Тогда забиралась я на кровать, палочкой скапывала нагар с фитилька, лампадик и загорался снова яркоярко! И свет в хате такой радостный становился, такой торжественный! Как в раю божьем. Потом учитель этот начал часто уходить куда-то, я очень скучала по нём, а когда он возвращался, мамка качала головой и всё-ё так-то говорила: - Погибнешь ты, Ваня... Мне становилось страшно за него, и я спрашивала: - А чего ты погибнешь? - Хожу я, Манечка, поздно по улице,- от-то, мне, - а там темно, вот мамка твоя и боится за меня. И вот раз пришел этот Ваня домой да и потушил лампадик! А икону снял... Мамка, помню, заплакала, да к нему: - Что ж ты сделал! Антихристу, значит, предался? Я так напугалася! Ведь картинки-то для детей тогда какие страшные рисовали: ад кромешный и черти в нем кубуряются. Как посмотришь на картинку эту, так сразу мурашки по коже и продяруть... Вот теперь Ваня и показался мне таким страшным, что я к нему больше и не подошла. Зовет, бывало, а я всё-ё убегаю. Вечерами он всё так же уходил куда-то, а потом и уезжать стал и на день, и на два, и на неделю, а когда приезжал, усаживались они с отцом за стол и подолгу разговаривали о чем-то. Я, конечно, не понимала их разговору, а вот только помню, как Ваня так-то и скажить: - Мне на вашей станции садиться нельзя, тут жандармерия. (По-видимому, находился под слежкой как революционер или террорист.) Тогда отец запрягал лошадь и вёз его до другой станции, километров за тридцать та от нас была. И вот раз так-то уехал этот Ваня от нас и больше не возвернулся. Но письмо потом прислал: пишет, мол, вам Ванька Крымкин... Это они с папашкой условились: если жандармы его схватють, то он так о себе даст знать. И больше мы его никогда не видели и ничего о нем не слышали. ----------------------------------------------Вот так начинается моя повесть о матери под названием «Ведьма из Карачева». Несколько лет записывала я короткие, словно вспышки, рассказики мамы о ее жизни. И делала это просто так, для своих детей. Потом начала переписывать их, осторожно редактировать, стараясь сохранить интонации, местный выговор, отдельные слова, произносимые зачастую «не литературно», и когда прочитала собранное, то подумала: а не «сшить» ли из этих эпизодов «лоскутное одеяло», которое послужит не только моим детям, но и тем, кто захочет узнать: а как жилось простому человеку в прошлом веке? Ведь маме «повезло» быть ровесницей того бурного столетия. И через несколько лет появилась, изданная за свой счет в местном издательстве, книга под названием «Свет негасимый». Потом я переименую её так: «Ведьма из Карачева». Почему ведьма?.. Об этом – во вступлении к повести, а сама она построена из ста тридцати небольших главок, и на этой странице я помещаю эпизоды только из восемнадцати, чтобы читатель мог представить себе: как и о чём пойдет речь. -------------------------------------------------------Из главы второй КАК В ИЗВОЗ МУЖИКИ ХОДИЛИ (Начало двадцатого века) Спокон веку деды наши и прадеды жили и работали на земле. Крепостными они никогда не были, а поэтому летом дома трудилися, а зимой подряжалися к купцам в Брянске: или овёс куда отвезти, или пеньку, вино, или еще какого товару. Этим занималися все обапальные деревни: Масловка, Вшивка, Трыковка, Песочня, Рясники. У кого лошади хорошие... что ж, стоять, они чтолича будуть? Ведь хлеб, картошка, масло, крупа, мясо - это все свое было, - а на расходы-то деньги нужны? Вот в извоз мужики и ездили. Помню, когда отец возвращался, то всегда нам гостинцев привозил, а для матери вынимал из кармана деньги. И вот как только начнет сыпать на стол золотые пятерки, а они блестять, как живые!.. Из главы четвёртой КАК ВРЕМЯ-ТО МАХНУЛО! Дед мой и лампу семилинейную (фитиль в сосуде с керосином и под стеклом) первым на деревне купил. Мужики, бывало, как зайдут, как ахнуть: о-о, свет-то, мол, какой яркий! Ча-асто дивиться на неё приходили, и наши бабы уже под лампой под этой, а не под лучиной и пряли, и дела все делали. А потом дед и самовар привез. Бо-ольшой! Ведра на полтора, должно. Сейчас как закипит он, так бабы откроют окно и выставят его на подоконник. Вот соседи и сходилися на него посмотреть только: дивото какое!.. Из главы шестой ПРАБАБКА МАРИЯ Звали мою бабку Мария, и была она с Песочни. Мать ее умерла рано, и пятеро девок остались с батей. Вот он потом и не считался с ними: как чуть подрастёт какая, присватается к ней кто, так и отдаст сразу. Одна девочка, правда, в лесу заблудилася, и пробыла там аж шесть недель. Потом лесник и нашел ее, и привез домой, но она недолго что-то прожила и все молчала... то ли с испугу, то ли с голоду? И я уже помню: висела у бабушки в углу иконка «Изыскание душ погибших», и она всё-ё молилася возле этой иконы, и под ней всегда лампадик горел… Из главы тринадцатой СЕРЫЕ ПЛАТЬИЦА С ЧЕРНЫМИ ОБИРОЧКАМИ Заболел отец тифом, и с ним жар приключился, да такой, что он весь красный сделался, а через день ему и вовсе худо стало, - метался, бредил. Привезли батюшку, причастили, пособоровали. Мать стояла у его изголовья и держала икону в руках. Стала у отца и память отходить. Мать плачет: - Дети, идите, отец вас видеть хочет... Подошли мы... а папашка посмотрел-посмотрел на нас какими-то мутными глазами, а потом поднял руку да как толкнет меня!.. Я аж упала, испугалась, заплакала! Он же меня так любил, а вот теперь и оттолкнул! Пошили нам серенькие платьица с черными обирочками, купили черные платочки, купили по новым ботинкам. И в Чистый Четверг, под Пасху, отца хоронили. Было жарко. Гроб забили, и мы всё плакали: - Зачем закрыли нашего папашку, зачем?.. Но приехал батюшка, дьячок певчий. Батюшка дал нам по красному яичку, и мы вроде как успокоилися. Дети ж! Много ли им надо? Из главы двадцать восьмой СИДЯКА И вот раз ляжить этот Сидяка на печке и вдруг открывается дверь и входить к нему Данила. А этот Данила уличный вор был. И хатка у него была ма-аленькая, по курному еще топилася. Детей у этого Данилы было штук двенадцать, так он, бывало, все ташшыть с чужих дворов: у кого - курицу, у кого рубаху какую, если ночью оставят сушить на веревке. Лупили, конечно, мужики его за это, но в суд не передавали, входили в его положение: надо ж было ему детей как-то кормить?.. И вот, значить, входить этот самый Данила к Сидяке, а тот как раз ляжить на печке и думаить: и зачем это он ко мне? Брать-то у него совсем нечего! И вдруг видить: как валить следом за Данилой артель цельная! Сидяка присмотрелся так-то, а это - черти! Копыта-то у них лошадиные, а хвосты дли-инные, как у коров! У маленьких чертенят рожки небольшие, а у самого Данилы аж калачом завернуты! Главный он у них, значить... Ввалилися они в хату, да и протопали гуртом пря-ямо к святому углу. И что они там делали… в святом-то углу?.. Сидяка уж и не помнил, а только, как дверь от них ослобонилася, свалился он кубарем с печки, да как стреканул чуть не голый к брату! Забился у того на печку и ни-ичегошеньки не выговорить... Ну, и что ж ты думаешь? Так перепугался, бедный, что всего с полгода только и прожил после этого. И в хату свою больше не вернулся. Из главы тридцать девятой ТАК-ТО И НАЧАЛАСЬ ВОЙНА (1914 год. Россия вступила в первую империалистическую войну.) Зиму проработала я на фабрике, а летом война началась. Помню, пришли мы на работу, а там уже суматоха: - Война! Война с немцем... Уже на другой день на лошадях едуть, пушки здоровенные вязуть. По мостовой гремять, по булыжникам, улицы сразу набились народом, солдатами... Стала с каждым днем таить и наша фабрика, мужиковто на войну забирали. Поташшыли их и из деревень. Помню, вышли мы так-то за ворота, стоим, смотрим… А напротив судья мировой жил... тот дом и сейчас цел. Смотрим мы, значит, а по дороге идет баба деревенская и в голос убивается: - Милый ты мой сыно-очек! Голубчик ты мой ненаглядный!..- А этот ненаглядный тащится по дороге, и рубаха-то у него холщёвая, дли-инная, и штаны-то ши-ирокие! А баба причитает: - Туды-то идешь ты цельный, а оттудова возвярнесси размялююжжанный! Топчет, значит, она за сыном, а мировой судья вышел на крыльцо да к ней: - Ну что ты страдаешь! По ком плачешь-то? Во, чучело идет огородное: в лаптях, лохматый, неграмотный... Баба посмотрела-посмотрела на него так-то и ни-ичего не сказала, а он опять: - Вот я проводил сына: красавец, умный, образованный... А мамка слышит все это да как вскинется: - Твой красавец, значит... И тебе он жалок, значит... А этой-то... что безграмотный, лохматый так и не жалок? - Как начала его песочить! - Что ж, не так она его рожала, чтолича, как твоя? Не так он у нее сиську сосал, как твой? - И пошла, и по-ошла! Она ж острая на язык была! - Да чтоб тебя за эти слова!.. да чтоб ты за это... И что ж она на него только не обрушила!.. Постоял он, постоял, посмотрел-посмотрел так-то на мамку, да повернулся и ушел. А наш хозяин, Владимир Иванович, слышал все это да как начал хохотать: - Дуняш, это ж мировой был! Что ж ты так с мировым… - Да черт с ним, что он мировой! Такие слова сказать!.. Никак мамка не успокоится, а Владимир Иванович все смеется: - Ну, молодец! Ну, отутюжила мирового! Из главы сорок пятой И СТАЛИ БУРЖУЕВ ГРОМИТЬ (После большевистского переворота в ноябре семнадцатого года.) Ну, а вскорости добрался до престола Ленин. Но зима прошла спокойно, а летом... Летом стали буржуев громить. И начали с Кочергина. Он же самый крупный промышленник в Карачеве был: масло гнал, складов с мукой у него много стояло. Помню, как вздорожает хлеб, а он и пустит его подешевле, вот и собьет цены. Злились за это на него остальные купцы, что тоже хлебом торговали, но ничего с ним поделать не могли. А вот теперь и арестовали этого Кочергина. Так что?.. Жена его подхватилась да к Ленину, - учились они, вроде, вместе с ее мужем. Съездила она и привезла от него бумагу, чтоб освободили мужа. Ну, а пока ездила, Кочергина и расстреляли. И еще человек семь с ним... Остались дети... Один, правда, уже взрослый был и не знаю: куда его потом дели? А двое других, Вася и Маня, моя ровесница… Когда остались они совсем одни, то поограбили их потом, пообчистили! Кто мог, тот и ташшыл что надо. А эта Маня... Холод же, как раз был, зима, а она собралась в платьице белое, в одежонку летнюю и - к матери на могилку. Пала там... рыдала-рыдала!.. Там-то ее и нашли. Привезли домой, а у нее - воспаление легких. За три дня она и готова... А Вася выжил. Бывало, смеются над ним, как над дурачком каким: буржуйский сын, буржуйский сын... А чего смеялись? Темнота!.. О-о, Господи! Ведь что тогда делалось-то! Народ осатанел прямо! Все ж агитировали большевики: буржуи во всем виноваты, буржуи! Вот народ и не давал прохода этому Васе, никто его и не призрел... Из главы пятидесятой НИКТО ИЗ НАС ДАЖЕ И НЕ ЗАПЛАКАЛ (Год 1919-й) Ну, а к весне совсем стало плохо. Начался голод и люди всё сдирали на хлеб: траву, кору разную. Помню, принесешь кусок хлеб, а в нем ржи-то... Овес один! Режешь кусок, а колючки так за ножом и волокутся, так и тянутся. Попробуй-ка, милая, съешь такой-то! А вскорости еще и эпидемия тифа началась, тифавозвратника. Вот и повезли гробы... а то и просто: завернут покойника в попону, да и на кладбище. Кто в силах могилку выроет, а кто нет - в снег зароет, да и ладно. Заболели и мы этим тифом… Лежим, бредим, мечемся, каждый своё лопочет! Помню, одумалась я так-то чуток и слышу: - Паравоз, паровоз я! Не цепляйтеся за меня! - А это мамка кричит на всю хату. - Не довезу я всех! Отстаньте, отцепитеся от меня! Ка-а засмеялась я, как захохотала!.. и аж память у меня отошла. Ну, стали потом соседи к нам заходить, в хате протопят, поесть кой-чего принесуть, и начали мы понемногу поправляться. А чем кормиться-то?.. И хранилася у нас еще редька под полом, вот мы и давай эту редьку... Достанем койкак, начистим, нарежем и грызем, как мыши. А после болезни этой были мы все… как не в своем уме. Мамка как задеревенела всеодно, а Динка... она ж еще меньше меня была… так и вовсе дурочкой стала: соображала плохо и все только есть просила. И вот тут-то и случилось у нас самое страшное. Помер наш братик Коля... Из главы пятьдесят восьмой ЭТОТ БЕДНЫЙ КОМБЕД А к весне сорганизовался у нас бедный комбед. И всем он стал заправлять: когда и что сажать, когда картошку окучивать, когда рожь убирать... И еще он отбирал у помещиков всё, что еще оставалося. Вот и начали с Дахнова, в лесу его владения были. А помещик он был крупный, мно-ого пахотной земли имел. И земли-то какой! У него ж стада в лесу отгуливалися, и коровы эти были запущены... не доились, значит. И вот, бывало, глядишь на этот скот: ну такой он гладкий да справный, что вода на нем не держится! Как постоит гурт полдня в загоне, так и удобрит его сразу. Назавтра перегонят его на другую делянку, а он - и там... а потом делянки эти рожью засевали... А потом, когда помещиков разорили-то... так эти делянки за два года кустарником позаросли. Лес же... вот и наступил сразу, да так, что и не найдешь, бывало, этих делянок. Ходили ж мы потом по ягодыто... Ну, а тогда на Дахновских землях, эта коммуна и сошлася. Захватили коммуншики земли, дома помещичьи, поселилися в них. И всё-ё тогда еще говорили про этих коммуншиков, что будуть они теперича с одного котла и есть, и спать под одним одеялом уляжуцца… Вот, бывало, и думаешь так-то: да как же это самое одеяло и шить, если под него всю коммуну уложить можно? Но они, правда, этого не делали, под одно одеяло не укладывалися, а вот черпать… так черпали с одного котла. Правда, когда коровки, телятки помещичьи оставалися, так можно было котел устраивать! А вот когда все поприкончили... Хлобохлыстнику наварють, вот и попробуй, заставь кого есть! Не каждый-то и полезить к котлу этому, вот комбед этот бедный и развалился. Из главы восемьдесят первой И СТАЛИ ЭТОТ НЭП РАЗОРЯТЬ Сначала не очень давили, это потом, после двадцать девятого года (тогда началась массовая коллективизация), нажали так, что и деться стало некуда. А тогда еще только все агитировали! Сгонят всех, выйдет представитель и начнет: - Надо все хозяйства объединять! Надо в колхоз всех… А Гарася такой-то встанить да и скажить: - С кем же я объединяться буду? У меня три коровы, две лошади, овцы, гуси… А у соседки моей только коровенка одна, да и та чуть жива. Зато детей семеро. Куда ж ей работать от такой оравы?.. И вот теперь, значит, я отдай всё в колхоз, иди, работай там, а потом с Танечкой этой все раздели? Как же это так получается? Ну, а те, у которых ничего не было, свое гнули: - В колхоз... Конечно в колхоз! Вот и начнется: шумят, кричат! Водой разливали... А агитаторы слушают да все на ус и наматывают, повысмотрят, повыслушают, кто против объединения этого и - в сельсовет: тех-то ликвидировать надо, техто. Ну и пошло!.. С Гарасиных как раз и начали. Самого-то его уже не было в живых, так с его сыновей... Сначала за младшего принялись, за Петьку. А у него детей штук семь было. Но пришли, посажали их на сани и повезли... А старшего, Гаврюшку, тогда-то не тронули, он же георгиевский кавалер был... ну, а в тридцать втором и его подгребли. И георгиевские, и всякие тогда в Сибирь загремели. Потом за Козлова принялись. Так малых дочек сестра его к себе взяла, а остальных погнали в Сибирь. Сам Козел еще в дороге помер, а Козлиха года через два и возвратилася. Хата ее была еще цела, вот и разрешили ей там жить. А старшую дочку её не отпустили, так она сбежала и приехала домой, но ее снова схватили и назад отправили… Из главы восемьдесят девятой ПОБРОСАЛИ ДЕТЕЙ НА ВОЗ И ПОВЕЗЛИ (Конец тридцатых годов) Принялись и Буниных раскулачивать-то... А Дуня-то из бедных была, только замуж вышла за крепкого мужика и жили они зажиточно. И тогда у нее шестеро детей уже было, а что б там обувки, одёжи какой для них… ни у кого почти не было! Да где ж их, шестерых, обутьодеть в крестьянстве-то? Если копейка какая у мужика и заводилася, то старался он прежде купить что-либо по хозяйству: лошадку получше, коровенку, поросеночка лишнего... И вот, помню, как начали их собирать!.. А во что? У Вальки, что к нам сейчас ходит, хоть ботинки какие-то были, вот и бросилась она их искать, но один нашла, а другого и нет! Провалился куда-то и все. А в поспешах же гонють-то! Так в одном ботинке и посадили ее в сани. Побросали и остальных детей на воз, кой-как попонками прикрыли и поовезли... и крестницу мамкину среди них, Райку. И вот везут-то их от дома, а Райка эта и кричит: - Мамочка! - тогда крёстных матерей мамками звали, Мамочка, не отдавай меня! А что сделаешь, милая моя? Тут же милиция! ---------------------------------------------Хотелось бы еще предложить отрывки из глав о том, как вдова с двумя детьми уехала искать спасения на Украину, о голоде и людоедстве там, о расстрелах тридцать седьмого года, но… И поэтому только ещё - из Великой отечественной и о житье после войны. ----------------------------------------------------Из главы девяносто первой ТАК И НАЧАЛАСЬ ОККУПАЦИЯ А немец к Карачеву уже подходит… Вырыли мы с Витькой ямку в огороде, спрятались в неё, сидим: я, Динка, её двое детей, моих двое... а тут еще и соседи своих приташшыли… Сами-то разбежалися ухватить поесть им что-нибудь, а я и осталась с оравой цельной: Собакиных двое, Кутеповых двое, Бариновых трое... Сбились все в этой ямке, сидим, ждем... Вотани! Стреляють, шумять, несутся на танках по болоту прямо!.. да к нам уже… с луга-то мчатся! Ну, думаю, сейчас со слепу наедуть танками своими на нашу ямку и прямо тут и передушуть всех… как котят слепых! Да выскочила из этой ямки и ка-ак начала вышвыривать детей оттудова!.. Подъехали немцы, вылезли из танков, окружили нас... Стоять и по-своему что-то гормочуть... а потом ка-ак начали хохотать! Вижу: детей считають: во, мол, крольчиха-то вылезла! Потом воды попросили, попили, а после завернули танки свои и по-оехали дальше… Тут-то у меня и от сердца отлегло. Я-то думала, что сейчас начнут нас всех расстреливать, а они... как и люди всеодно оказалися. Смеялись даже. Из глав девяносто третьей НЕ ПРИВЕДИ, ГОСПОДИ! Ох, и тяжко ж было смотреть, как наших пленных немцы гнали!.. Плетутся еле-еле, друг друга тащуть! Поднесу к колонне ведро с нашим варевом, а они как бросятся к нему!.. А немцы-то кричат, стреляют! О-о, сколько их тогда гнали! Сплошной колонной... Потом и холода начались, а пленные-то раздетые, босые почти! Или в тряпки какие завернуты… И уже к ведру моему не бросалися, сил у них не было. А следом немцы на лошадях ехали… подберут какого, швырнут в сани... Ле-ежит какой мертвый, зубы оскалимши... а какой и помирает только... Ох, Господи! Были ли лагеря пленных в Карачеве? А как же?.. И не один. Вот там-то, за базаром, церковь стояла, «Преображение» называлася. При советской власти её на театр переделали, а теперь вот... Сколько ж в ней пленных этих было набито!.. Так-то спустят сверху банку какую и просят: водички, мол!.. налейте хоть водички... А еще лагерь был... Вот как идешь сейчас на базар, так по левой стороне тут-то… Проволока в несколько рядов вокруг него была натянута, за ней-то они и находилися. Грязные, обросшие и до того отощавшие, что в чём только и душа держалася! А еще к больнице как-то раз я пошла, настряпала койчего и пошла. Боже мой!.. А там... все этими пленными забито! И лежать прямо на полу, стонут, доктора зовут! А тут еще таких же машину цельную подогнали, просят оттудова: снимите нас, снимите! Нет, не могу и вспоминать про это больше... И не приведи, Господи, пережить такое вам и детям вашим! Из главы девяносто пятой ОХ, И ИЗДЕВАТЕЛИ Ж БЫЛИ! Жили мы тогда уже в своей хате, немцы к зиме нас всё ж впустили в неё, отгородили себе уголок за печкой, там и толклись. Питались чем?.. Да тем, что бог пошлёт. Немец-то угощал нас, чтолича?.. Помню, когда начали они скот губить, так пойду, наберу требухи, печёнки, селезенки... они ж все это выбрасывали… потом вымочу в воде, накручу, котлет нажарю, вот вы и едите. Какими немцы были? Да разными... Были и добрые. Все так-то хоть печеник какой вам сунут. Да и совестливые попадалися. Выстираешь, выгладишь ему белье, он и даст буханку хлеба. А были и издеватели. Сварила я раз щи из крапивы, приправила требухой, а она ж пахнет-то... не мясом жареным! И вот сидите вы, едите. Смотрю, Курт входит. А вре-едный немец был! Посмотрел-посморел на вас, носом так-то подвигал, поводил, а потом подошел к столу, перегнулся через Виктора да как плюнет ему в щи! - Руссишь швайн! Свинья, значит, по-ихнему... Покачала я головой, покачала... да вылила миску и налила другую. Из главы девяносто девятой КТО НИ ПРИДЁТ К НАМ, ДОБРА НЕ ЖДИ! Вот тут-то они нас и помучили! Днями, бывало, воду грею, стираю на них. Они ж только теплой водой умывалися! И вот как-то раз заходит командир ихний, а я и ворчу при нём: - И что ж это за вояки такие! У нас дети, и то холодной водой умываются. Да разве ж выдержуть они морозы наши без закалки? Послушал он, послушал да к переводчику: что, мол, Мария говорит?.. А переводчик, видать, и объяснил. Вот он и скомандовал солдатам своим: хватит, мол! С тех пор они и довольно просить воды теплой. А стирать... все так же на них стирала. Они ж такие чистюли были, как чуть белье поносил, так и стирай! Особенно один мучитель был! Что раз удумал: сегодня, мол, я сам стирать буду. Да взял рубашку, три носовых платка и начал... Виктор таскает воду, я грею. Виктор носит, я - выношу... И так двенадцать вёдер воды только для него одного принесли! Ну ты подумай только: какой издеватель попался! А-а, они все, кто к нам ни придут… китайцы там, французы, японцы, - все такими будуть! А финны?.. Издевались хуже немцев! Один у нас стоял и что раз отмочил: - Топи, матка, печку, я сам картошку варить буду. И поставил чугунок туда-то, наверх, где мы сами греемся. Я ему объясняю: русские, мол, варят в печке, а не на печке, там-то она никогда не сварится! А он своё! И вот: сам носит дрова, а я топлю, носит, а я топлю... Вижу: печка моя уже вся раскалилася!.. как домна! И ты знаешь... Принёс он еще охапку дров, нагнулся так-то её сбросить, а я... Ка-ак хватила топор! Всё-то у меня в глазах потемнело!.. И что меня остановило? Кто-то из вас, должно, крикнул... тут-то только у меня и прочнулось сознание: да что ж это я?.. помилують они нас чтолича? Вот так они и все будут, как финны эти... Кто ни придет - добра не жди. Из главы сто седьмой ТАМ ЖЕ ВОЛКИ! Помню, после войны дрова на базаре санками продавали, так пойдешь, возочек купишь, вот вечером и протопишь печку. А потом кому-то это помешало, вот и запретили дрова эти на базаре продавать!.. Что делать? Да пошла я и выписала торфу, начала его возить. А до туда, до болот этих, двенадцать километров было. Наберешь его там, уложишь на санки, привезешь... а потом еще и мучаешься с ним. Он же совсем сырой был, ледышки одни! Затопишь печку, тлеет-тлеет этот торф... Полная хата дыму наберется, а тепла и нет. Недаром же чернила ваши и на грубке (верхняя полка из кирпича на печке) замерзали! Раз так-то поехала я за этим торфом… а метель уже начиналась. Ну, пока туда дошла, пока в мешки его набила... калоша возьми да и порвись! И вот как ты думаешь?.. Метель, мороз двадцать градусов, а я - в одной бурке этой (что-то вроде валенок, но из стеганой плотной ткани на вате. Шили сами). А уже темнеть стало, зимой-то ра-ано темнеет! Тяну я эти санки, гляжу: лошадь меня догоняет, и пар от неё столбом аж! Догоняет лошадь, приостанавливается... Богдатьев!.. Царство ему теперь небесное. - Что ты здесь?.. - Знал же меня немного. - Да вот, торф везу... - отвечаю. А он скореича хвать мои санки да на воз… да по лошади - кнутом! - Там же волки! - мне-то. - Они ж за мной гонятся! Боже мой!.. Да как начал погонять!.. А лошадь сильная была, крепкая, вот и ушли мы от волков этих, не догнали они нас... Да и метель видать помогла, во всю уже разыгралася! Из главы сто шестнадцатой ОТ БЕДНОСТИ ЧЕЛОВЕК ДУРЕЕТ Закончил и Виктор школу… во время войны-то он не учился, а только теперь… Кончил он, значит, десятый класс и уехал работать в деревню учителем физкультуры. Разошлись мои ребята в разные стороны, разлетелися... И было это как раз в тот год, когда запретили дрова на базаре продавать, а я увязалась за торфом ездить… и чуть себя не погубила. Прямо в пропасть какую-то лезла! И волки меня чуть не съели, и в речке чуть не утонула. Да и корову свою... Одурела, чтолича? А что ж, от бедности и забот человек дуреет? Мы-то коровку эту после Орла сразу купили. Она хоть и старая уже была, недорого за нее отдали, но молоко давала. А сено ела самое последнее, оборыши одни! Да и то не всегда могла я его купить... Вот в эту зиму бардой (отходы от выгонки спирта) ее и отпаивала, километров девять до ней было. Сведу к спиртзаводу, как напьется она этой барды!.. так еле-еле назад идет. Да и сама несу два ведра на коромысле, а в поле еще и жневника мешок надеру, притащу, отдышусь... а на ночь резь ей сделаю, бардой перелью, вот она и сыта была этим. И вот раз пошла под Велик день это было. А половодье уже начиналось. Воду несет!.. Мосточек-то через речку еле-еле дышить! Но крыг еще не было... не было еще крыг, а то бы я тогда подумала, что если свалюсь с мостика-то, то ухвачусь за крыгу и выплыву. И вот иду я по этому мосточку... А ветер!.. И мост-то подо мной весь ходуном ходить! Только я перебралась через него, а он... р-раз и сорвись в воду! Мостик-то... Я как пала со своей ношей на коленки!.. и молиться: Господи, слава тебе, что сохранил меня!.. А то юркнула бы в воду эту темную, да там-то меня б и нашли... с ношей этой. Опомнилась чуть, глядь: мужик какой-то идет! Куда деваться? Ну как увидит меня? «А-а, и вправду ты ведьма, - скажет. - Кто ж еще под Велик день ночью пойдет сюда?» Спряталась за куст, отлежалась чуть на своей ноше, а потом уже и пошла домой. Из главы сто восемнадцатой. ХЛЕБНУЛИ ГОРЯ ВСЯКОГО А-а, настрадалися мы, хлебнули горя всякого при советской власти. Сталин-то, когда царствовал... (1924 – 1953 годы) Его и назвать даже не знаешь как: ни то дракон, ни то еще как. Помню, как поставили его после Ленина, так люди сразу и заговорили: Ленин, мол, в ботинках ходил, а Сталин - в сапогах, напролом теперича, мол, полезить, и ничего под ногами разбирать не будить. И точно. Сколько-то он еще продержался, а потом как начал зажимать, как начал замуздывать! Аресты эти начались, расстрелы! Пойдет муж на работу, и не знаешь: вернется ли? Потом Маленков заступил (1953 – 1956годы.). С Маленковым дело стало получше, но он же мало правил... Потом – Хрущёв (1956 – 1963 год.) Он хоть и шухорной вождь был, но сначала Сталина разоблачил, а потом как попёр в дурь! Все: горшочки, горшочки, кукуруза (компания по выращиванию рассады в горшочках и повсеместным посевам кукурузы) это запретить, то запретить. Яблони налогом обложил, мужики сады выпиливать стали, у кого корова есть – продать немедленно!.. Помню, стоят на базаре мужик, его баба с матерью и коровку свою продают. И мать-то так плачет, так убивается, что света божьего из-за слез не видит! - Знаешь, - говорит, - если б сейчас меня похоронили, то семье легче было бы, чем корову продавать! Дочка сейчас двойню родила. Что ж она делать будить с детьми без коровки-то?.. Да ведь не только мы пропадём, всю деревню обобрали! ----------------------------------------------------Дорогой читатель! Вы прочитали отрывки лишь из некоторых главок повести «Ведьма из Карачева». Если читателей повесть заинтересует, то, возможно, начну помещать её по главам.