Н.И. Бердяев о современном искусстве
advertisement
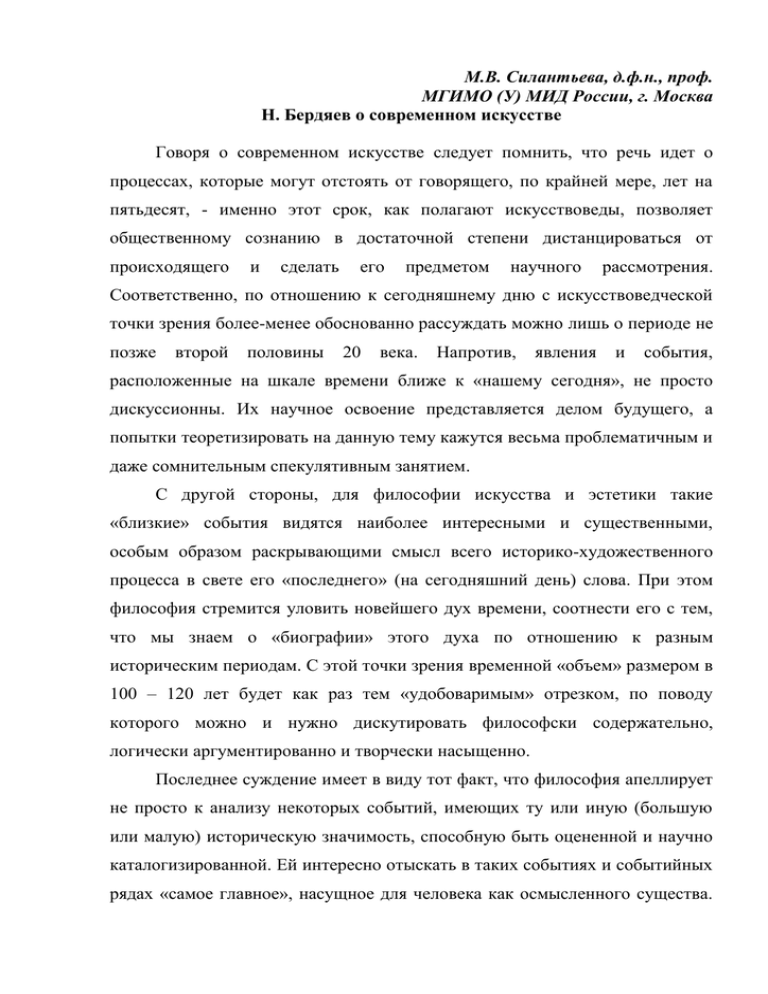
М.В. Силантьева, д.ф.н., проф. МГИМО (У) МИД России, г. Москва Н. Бердяев о современном искусстве Говоря о современном искусстве следует помнить, что речь идет о процессах, которые могут отстоять от говорящего, по крайней мере, лет на пятьдесят, - именно этот срок, как полагают искусствоведы, позволяет общественному сознанию в достаточной степени дистанцироваться от происходящего и сделать его предметом научного рассмотрения. Соответственно, по отношению к сегодняшнему дню с искусствоведческой точки зрения более-менее обоснованно рассуждать можно лишь о периоде не позже второй половины 20 века. Напротив, явления и события, расположенные на шкале времени ближе к «нашему сегодня», не просто дискуссионны. Их научное освоение представляется делом будущего, а попытки теоретизировать на данную тему кажутся весьма проблематичным и даже сомнительным спекулятивным занятием. С другой стороны, для философии искусства и эстетики такие «близкие» события видятся наиболее интересными и существенными, особым образом раскрывающими смысл всего историко-художественного процесса в свете его «последнего» (на сегодняшний день) слова. При этом философия стремится уловить новейшего дух времени, соотнести его с тем, что мы знаем о «биографии» этого духа по отношению к разным историческим периодам. С этой точки зрения временной «объем» размером в 100 – 120 лет будет как раз тем «удобоваримым» отрезком, по поводу которого можно и нужно дискутировать философски содержательно, логически аргументированно и творчески насыщенно. Последнее суждение имеет в виду тот факт, что философия апеллирует не просто к анализу некоторых событий, имеющих ту или иную (большую или малую) историческую значимость, способную быть оцененной и научно каталогизированной. Ей интересно отыскать в таких событиях и событийных рядах «самое главное», насущное для человека как осмысленного существа. Именно поэтому, между прочим, философское осмысление искусства оказывается столь значимым: ведь в искусстве непосредственно («в чувственной форме» - если чувственность понимать предельно широко, в кантовском смысле, - как опыт соприкосновения сознания с иным) представлены те поиски, которое ведет человек по отношению смыслу, миру и другим людям… Для обозначения данного парадоксального единства временного и вечного по отношению к процессам, происходящим в искусстве, в английском языке даже появился уточненный термин – «contemporary art», в смысле: «актуальное искусство»; не просто «искусство своего времени», но такое, которое отвечает новейшим запросам «самосознания культуры» (как называл философию великий русский философ Н.А. Бердяев). В свете сказанного можно предположить, что «запрос», сделанный культурой в адрес философии по поводу «современного» (во всех указанных смыслах) искусства, – не праздное любопытство, а любопытство «настоящее», философское. Становится также понятно, что обращение к философским рассуждениям на данные темы в пределах коридора в 100 – 120 лет может и должно сочетаться с путями концептуализации, пройденными философией за прошедшее с тех пор время. То есть по сути перед нами стоит вопрос о характере очередного «сообщения», извлекающего из прошлого смыслы, в свою очередь открытые готовностью настоящего услышать некогда произнесенное. Философские взгляды на проблемы, связанные с современным (в смысле концепции «сообщения») искусством, развернуто изложены в теоретических трудах Н.А. Бердяева. Его позиция настолько интересна, что заставляет обратиться не только к изучению самобытных подходов и оригинальных формулировок, предложенных этим мыслителем, но также предполагает использование особой теоретической установки, получившей в среде культурологов рабочее название теории «гипотетической резонансности». Данная теоретическая установка, уточняющая, конечно же, теорию «культурных циклов» [2, с.372], опирается на идею согласованного транспонирования (либо спонтанного диахронного когерентного возникновения) основных культурных форм в исторически параллельные периоды – например, период «вокруг» конца предыдущего и начала следующего века («синдром конца века»), когда – вот уже несколько веков подряд – в христианских культурах обостряются эсхатологические ожидания; период «середины века» (период перехода от тоталитарных систем к «оттепелям» разного рода) и т.д. «Диахроническая синхронность» подобных отрезков времени, конечно, не является бесспорной. Вместе с тем, аналогии напрашиваются, как говорится, сами собой. В ряду подобных аналогий – выводы, развитые в трудах Н.А. Бердяева, - в том числе, по поводу философии искусства, и в том числе, в первой трети 20 века. Обратимся к анализу некоторых его суждений. Для начала выделим несколько принципиально значимых мыслей Бердяева касательно особенностей современного ему искусства. Во-первых, философ обращает внимание на процесс, названный им «дегуманизация» и «утрата человеческого образа» [4, с.396-397]. С его точки зрения, изначально цельный, сбалансированный образ человека, стоявший в центре ренессансного искусства (как и искусства античности), в новое время и особенно в эпоху модерна начинает «разлагаться». К этому образу «начинают примешиваться другие стихии»; образец завершенного творения уступает место – как в живописи П. Пикассо и футуристов или в литературном творчестве А. Белого – своеобразной арматуре мироздания: срывая «покров за покровом», создатель произведения искусства стремится «обнаружить внутреннее строение природного существа» [4, с.396]. Видение целостности уступает место фрагментаризации. Вначале - сознательной, являющейся результатом творческой работы художника с его специфической авторской призмой, разбивающей исходную целостность и таким образом дешифрующей, как полагают представители творческой лаборатории модерна, пространственно-временные коды Вселенной (формы, ритмы, краски, звуки и т.д.). Затем данный взгляд постепенно втягивает в себя всё большую часть публики, - фрагментаризация становится доминирующей формой чувственного восприятия и мышления, общепринятой точкой отсчета. Причем художник, по мысли Бердяева, - при всей его роли «застрельщика», – вовсе не «ответчик» за происходящее, его фигуру не следует демонизировать. Бердяев специально подчеркивает, что автор произведения искусства лишь более тонко слышит происходящее в духовном мире, давая жизнь рожденному здесь – облекая ее в новые материальные формы. Творческая лаборатория, где создаются подобные формы, включает в себя, таким образом, не только художественно одаренную личность. К тому же процессы, происходящие в духе, могут воплощаться как результат усилий отдельной творческой личности; и вместе с тем, такая личность «привязана» к соборному духовному состоянию человечества. Тем самым она, опять же, выражает не только себя. Во-вторых, русский философ высказывает методологически важную мысль о необходимости установления связей между поисками, которые ведет искусство определенной эпохи, - с теми процессами, которые происходят в культуре в целом. То есть утверждается, с одной стороны, взаимная зависимость культурных форм друг от друга; с другой – изоморфизм их существования в различных локусах культуры. Или же, если истолковать данное положение несколько в ином ракурсе, обратимая зависимость культуры как целого и тех ее «элементов» (если, опять же, понимать культуру как систему), которые подвергаются радикальной трансформации. В качестве примера для последнего случая можно привести процесс модернизации культуры 19 века [3, с.481-484], когерентно происходивший в эпоху модерна во всех ее сферах, от инженерного дела до политики и архитектуры (в свое время такому сравнению был посвящен блестящий спецкурс А.Л. Доброхотова, прочитанный на философском факультете МГУ им. М.В. Ломоносова). В определенном смысле то, что имело место в искусстве, «заметнее» и для современников, и для «стороннего» наблюдателя (хотя с точки зрения А.Л. Доброхотова более показательной предстает политика). Вместе с тем, поиски искусства модерна во всех странах Европы удивительным образом изоморфны тем культурным формам, которые рождаются в это время в философии, науке и даже обыденном поведении людей. А.Н. Бердяев, теоретически обосновавший эвристическую ценность данного подхода, сосредотачивает свое внимание на параллелях [9, с.421] между наукой (физикой), где «материя исчезла», - и философсколитературными поисками, начиная с романа А. Белого «Петербург», творчеством писателей и поэтов, составивших ядро Религиозно- философского общества, вплоть до утонченных интеллектуальных поисков философии «нового религиозного сознания» [1; 5,с.405]. Фактически Бердяев предлагает заново осмыслить тот факт, что философия стремится как бы дистиллировать, зафиксировать «в чистом виде» те культурные формы, которые в гуманитарном знании принято называть несколько расплывчатым термином «стиль мышления». Искусство, в свою очередь, делает эти культурные формы наиболее «чувственно уловимыми», доступными для объективации в материальном предмете. Похоже, именно отсюда реплика Николая Александровича о том, что «философия – самосознание эпохи» [см.: 10]. И это при том, что Бердяев, пройдя «искушение марксизмом», полагал деятельность и отношения не менее «объективно существующими», как и физически наличествующие объекты. Понятно, что речь в разных случаях идет о разных типах существования, физическом и «не-физическом» (точнее, «не только» или «не совсем» физическом). В этом смысле Ульянов-Ленин со своей идеей материи, сформулированной в книге «Материализм и эмпириокритицизм», на самом деле не слишком далеко ушел от той позиции, которую разделяет Бердяев: «объективность» (Ленин) или «объективированность» (Бердяев) того или иного типа – важные виды существования, игнорировать которые не следует. На этом, правда, сходство заканчивается. Вождь пролетариата верит в ключевое значение «объектности» и почти поклоняется ей, совершенно отказывая «невидимому миру» в праве на существование («мракобесие» и «поповщина» здесь - наиболее мягкие выражения). Объективность социальных отношений, таким образом, оказывается для «диалектического материализма» едва ли не совпадающей с «физичностью» (только «другого», не-вещного типа). Поскольку мы можем судить об объективных процессах по их физическим проявлениям (по тем «следам» деятельности, которые можно зафиксировать, то есть по материальным результатам или сопутствующим феноменам и исключительно по ним), задачей науки становится визуализация любого значимого результата, - редукция его к фиксируемым сознанием показаниям прибора, например. Однако, если в естественных науках такой подход еще может быть оправдан (до сих пор идеал научного познания – даже в квантовой механике – предполагает наличие успешного, пусть и фантастически дорогостоящего, как Большой андронный коллайдер, эксперимента), - то в науках «не-естественных» (социогуманитарных) и «противоестественных» (философских и, возможно, теологических) призыв к сведению знания на уровень доступного чувственного восприятия часто противоречит здравому смыслу. Ситуацию можно уподобить исследованиям любви, по рассказам старожилов проведенным одним из подразделений Академии медицинских наук СССР в 1960-ые гг., когда солдатам, идущим в увольнение, выдавали хронометр для «замеров» исследуемого объекта (т.е. для определения точного времени коитуса). Объективированность, о которой рассуждает Бердяев, радикально отличается от описанной выше «диалектико-материалистической» версии. Хотя бы тем, что автор «Философии свободы» прекрасно понимает недопустимость редукции разных уровней существования и несводимость их не только к «вещественности» (это понимает и Ульянов), но и к физичности как таковой (даже если понимать под ней существование в пространственновременном континууме). Не всё существует здесь. Не всё существует в пространстве и времени, - по крайней мере, в том виде, как мы их знаем. Именно об этом, с точки зрения Бердяева, и начинает догадываться эпоха модерна, где синхронные открытия в науке, искусстве и философии четко проявили тот факт, что существование не сводится не только к веществу, но и к «энергии» как его «офизиченной» квинтэссенции. (Кстати, факт редукционизма, латентно принятого в методологии «опытного знания», хорошо проявляет весьма распространенное в научной среде сползание к разного рода мистическим версиям религиозности, когда Бог начинает интерпретироваться в качестве «энергии», «силы» и т.д., - как правило, за этим стоит именно редукционизм, переносящий на данные – вполне философские – понятия их трактовку по аналогии с веществом: «из чего все сделано»… а «сделано» не из этого!). Искусство начала 20 века, «развоплощая» объекты, с точки зрения Бердяева не только показало их несводимость ни к вещественности, ни к физичности вообще. Оно выявило еще одну особенность объективированности вещей в нашем мире – их попадание в сети «объективации». Последнее понятие видится одним из ключевых в философии Бердяева, поэтому стоит остановиться на нем отдельно. Объективация – процесс, описанный Бердяевым достаточно подробно. Русского философа по праву можно считать автором данного термина, хотя само понятие (в описательном либо и вовсе - в имплицитном виде) встречается в философии задолго до появления термина. Строго говоря, объективация означает «удвоение мира», когда вещи предстают в сознании имеющими «некую сущность», отдельную от «явления». Такой взгляд на мир (а это именно «взгляд на мир», «мировоззрение», - а не устройство мира самого по себе; в кантовской терминологии – «вещи самой по себе») заставляет воспринимать его как механическое соединение «духовного» и «материального», не обладающего никакой сколько-нибудь серьезной «сцепленностью». К тому же в этом случае имеет место упрощение за счет редукции «духовного» к «материальному»: как будто «внутри» вещи есть некая «середина», достичь которой можно, «раскурочив» ее «поверхностные слои». Материализм, как и спиритуализм, эксплуатируют крайние позиции такого интеллектуального «расклада». Первый настаивает на приоритете «внешнего» и сомнительности «внутреннего», если оно не тождественно все той же материальности; второй указывает на «мнимость» материального и «подлинность» исключительно духовного. Материя в последнем случае становится иллюзией, в лучшем случае – миражем, закономерно появляющимся в горизонте сознания. Релевантным методом познания такого миража полагается разного рода эзотеризм. Как, впрочем, в первом случае – случае материализма - таким методом провозглашается исключительно «позитивное знание», также не знающее «сплавленного воедино дуализма» материи и духа. Преодолеть «сбой зрения», каковым является объективация, по Бердяеву можно, следуя по пути особой философской работы, названной им «экзистенциальная диалектика». Экзистенциальная диалектика предполагает выход к «вещам», к «вещи самой по себе», преодолевающий «раздвоенность» и утверждающей возможность присутствия человека в целостном, а не раздвоенном – хотя при этом и парадоксально двойственном - мире. Правда, такое усилие дается человеку с большим трудом, сказывается «привычка» к «разбитому», «разорванному» и «раздвоенному» состоянию. Вместе с тем, это усилие возможно, и в культуре даже существует «специально выделенное место» его пребывания. Речь идет о творчестве в самом широком смысле: и в смысле «художественной лаборатории», представленной искусством; и в смысле собственного содержания творческого процесса, который Бердяев считает не эстетически, а морально значимым [8, с.37-51]. Для искусства, которое Бердяев в духе своего времени и идей «нового религиозного сознания» называет «теургией», такая постановка вопроса означает, помимо прочего, еще и установку на вторичность эстетического, его значимость не самого по себе, а только – в отличие от морали – в определенных контекстах. Здесь Бердяев также проявляет себя как «верный сын» Канта, для которого категория «прекрасного» оказалась субъективной оценкой чувства удовольствия от переживания случайного совпадения логической и эстетической целесообразности, и потому «прекрасное» не выходит за рамки деятельности трансцендентального субъекта. Мораль, по Канту, напротив – выводит человека за эти рамки, вводя его в «мир свободы» и моральной ответственности. «внутренними» погружает в Контекст эстетического, субъективными бесконечность таким переживаниями; творческой образом, ограничен этическое, напротив, активности, непредзаданной никакими «склонностями» и «зависимостями» (напомним, по Канту моральная свобода означает неотъемлемую способность человека «начинать цепь причинения с самого себя»). Итак, согласно Бердяеву, искусство вторично по отношению к морали. Во-первых, потому, что собственным содержанием искусства является попытка «определиться в свободе», - что для философа тождественно морали; правда, в отличие от практического разума (=морали), эти попытки оценочные, а не практические. Во-вторых, претензии искусства на «независимость» от морали и даже некоторое «превосходство» своего предмета (особенно характерные, как метко подмечает автор «Самопознания», для искусства современного) девальвируют всю «систему координат», необходимую человеку, чтобы состояться в своем существе, «найти себя». Никто не спорит: искусство не должно превращаться в идеологический рупор, выстраивая свои каноны исключительно (или даже отчасти) в соответствии с лекалами общественно-одобряемых ценностей, - в том числе, и деятельностно-поведенческих. Разумеется, взаимодействие этических норм с канонами эстетического, приемлемыми в каждую конкретную эпоху, носит, как минимум, значительно более тонкий характер, чем лобовая зависимость или расчетливая идеологическая выразительность. Правда, сам факт появления в 20 веке таких жанров изобразительного искусства, как плакат и постер (в одном случае – прямая «агитка», в другом – типичный «тираж»), заставляет усомниться в однозначной несовместимости искусства и суррогатных (часто) «идейных наполнителей». Согласно традиционной точке зрения, искусство все же дистанцировано от социального управления и политики, а посему не может служить в качестве средства явных или скрытых властных идеологических манипуляций. В этом случае приходится признать, что предписания нравственности являются для него привходящими факторами, в известной мере призванными социализировать объекты художественного творчества, но вовсе «не допущенные» в само таинство творческого процесса. Понимает ли это Бердяев? Несомненно. Как несомненно и то, что для него мораль не сводится ни к ценностным ориентациям, ни к психологическим установкам, ни к социально одобряемым лекалам поведения (хотя и может воплощаться на всех этих уровнях). Что же тогда мораль? Очень просто: это «различение добра и зла». Дело невероятно трудное… Ничем «стабильно- фундаментально-капитальным» не гарантируемая и не тестируемая, мораль оказывается хрупким цветком на тяжелой ветке жестких природных и социальных детерминаций, раскрывающимся под лучами Солнца Истины, совершается это самостоятельно (не Солнце же «раскрывает» цветок!). Итак, мораль понимается Бердяевым с одной стороны просто – как ориентация по азимуту понятий «добро – зло». С другой – он, как религиозный мыслитель, прекрасно осознает сложность, и даже «нереальность» в полной мере осуществить подобное различение силами самого человека, - ведь «различение духов» всегда составляло наиболее сложную, хотя и жизненно необходимую задачу «сынов Божиих», четко обозначенную приведенными выше словами Христа… Мораль, о которой ведет речь Бердяев, совсем не похожа на традиционные представления о системе норм, подкрепленных запретами и возможными санкциями - наказаниями и поощрениями; в этом смысле «творчество свободно от морали». Прежде всего потому, что мораль с его точки зрения - это не «свобода «от», а свобода «для»», то есть творчество. В данной связи уместно предположить, что искусство выступает по отношению к такой морали частным случаем, а вовсе не единственной полноценной «площадкой», на которой творчество может реализоваться. Более того. Искусство может как предоставлять одну из возможных площадок творческого самораскрытия личности, - так и блокировать саму эту возможность: сама по себе принадлежность к «художественному цеху» ничего не гарантирует в плане творчества. Как не гарантирует, впрочем, и принадлежность к любой другой форме деятельности (например, к профессиональным занятиям философией, богословием, этикой и т.д.). Творчество или есть, или его нет. Никакая «привязка» не удерживает этот «прорыв в свободу» в пространстве той или иной формы деятельности автоматически. Но верно и обратное: любая форма деятельности человека может стать полем приложения творческого усилия. В том числе, и потому, что оно призвано преодолеть объективацию, соединяя разъединенные фрагменты мира в стягивающей усилии личного подъема и прорыва. Последнее описание обычно относят к области психологии творчества. Здесь было бы уместно, опираясь на философию творчества Н. Бердяева, дать критический анализ некоторых мифов, связанных с данной сферой. Прежде всего, стоит упомянуть идею об особой миссии художника-творца. Да, в определенной мере художник исполняет особую миссию творческого преображения мира, и в определенной мере выступает при этом в качестве самостоятельного источника свободного творческого усилия. Но в том-то и дело, что такая миссия не монополизирована кастой художников. Любой человек не только может, - он обязан и призван осуществить на Земле свое призвание, творчески раскрыв себя миру и другим людям. С другой стороны, подобное самораскрытие не самоцель. Оно имеет смысл только тогда, когда оно диалогично и устремлено к поиску истины. В том же требовании «различать духов» или «различать добро и зло» просматривается та же интенция, поскольку вне света Истины подобное различение обречено оставаться неким «конструктом» или небезопасной «свободной игрой творческих способностей». По Бердяеву, парадокс свободы в том и состоит, что она оставляет очень мало места для произвола (или, как выражался Кант, свобода и ответственность «ссылаются друг на друга»). Для искусства последних полутора столетий последнее утверждение особенно кстати. Манифестация творческих способностей, за которую художник часто готов отдать самую дорогую цену, от жизни до спасения души [11, с.364] – в зависимости от сложившейся системы ценностных предпочтений, - нередко оказывается «пшиком»; «творчеством, отданным Антихристу». За эпатажем и громким скандалом, технично привлекающим внимание к той или иной персоне или художественной школе, часто следует недолгое внимание широкой публики, а затем – полное забвение. Значит ли это, что «мастера перевелись», «публика выродилась», а главная задача эстетики, сформулированная еще Александром Баумгартеном – «поиск истины в чувственной форме» - вообще является фантазией, навязывающей «чистому впечатлению» некие псевдоинтеллектуальные формы псевдоэстетических наслаждений? Если следовать логике Бердяева, то объективрованное творчество ничем не отличается от любой другой объективации: оно мертво, в нем остановлена динамика духовного движения и поиска Истины [5, с.413]; вещи зрительно распались, удвоившись за счет своих «телесных теней»; человек «потерялся в зеркалах», как выразился в одном из своих стихотворения М. Волошин. Искусство - ряд зеркал. Но видит ли в них человек только себя, или замечает свет истины, без которого не видно вообще ничего, - зависит от наиболее глубинного пласта его творческого состояния, способного как усилить эгоцентрическую замкнутость, так и помочь преодолеть ее. Современное искусство, отражая все искания эпохи, с точки зрения Бердяева позволяет наглядно ознакомиться с этими исканиями. Вместе с тем, оно, как и всякое дело человека на Земле, не только раздвоено, но еще и амбивалентно по характеру своего слияния на решение человеком своей главной задачи – встречи с Истиной в современном ее выражении. Литература 1. Бердяев Н.А. Астральный роман. Размышления по поводу романа А. Белого «Петербург» / Николай Бердяев. Философия творчества, культуры и искусства. М.: Издательство «Искусство». Т.2. 1994. – 512 с. – С.438446. 2. Бердяев Н.А. Варварство и упадничество / Николай Бердяев. Философия творчества, культуры и искусства. М.: Издательство «Искусство». Т.1. 1994. – 544 с. – С.371-375. 3. Бердяев Н.А. Духовное состояние современного мира / Николай Бердяев. Философия творчества, культуры и искусства. М.: Издательство «Искусство». Т.1. 1994. – 544 с. – С.464-498. 4. Бердяев Н.А. Конец Ренессанса и кризис гуманизма / Николай Бердяев. Философия творчества, культуры и искусства. М.: Издательство «Искусство». Т.1. 1994. – 544 с. – С.392-405. 5. Бердяев Н.А. Кризис искусства / Николай Бердяев. Философия творчества, культуры и искусства. М.: Издательство «Искусство». Т.2. 1994. – 512 с. – C.399-418. 6. Бердяев Н.А. Мутные лики / Николай Бердяев. Философия творчества, культуры и искусства. М.: Издательство «Искусство». Т.2. 1994. – 512 с. – С.447-455. 7. Бердяев Н.А. Новое средневековье / Николай Бердяев. Философия творчества, культуры и искусства. М.: Издательство «Искусство». Т.1. 1994. – 544 с. - С.406-463. 8. Бердяев Н.А. О назначении человека. Париж, YMCA-PRESS, 1939. 9. Бердяев Н.А. Пикассо / Николай Бердяев. Философия творчества, культуры и искусства. М.: Издательство «Искусство». Т.2. 1994. – 512 с. – С.419-424. 10.Бердяев Н.А. Самопознание. М.: Международные отношения, 1990. – 336 с. 11.Бердяев Н.А. Спасение и творчество / Николай Бердяев. Философия творчества, культуры и искусства. М.: Издательство «Искусство». Т.1. 1994. – 544 с. – С.343-366.