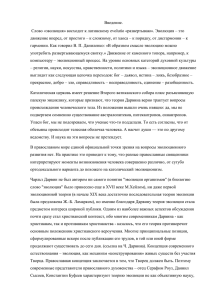За Абсолютом
advertisement
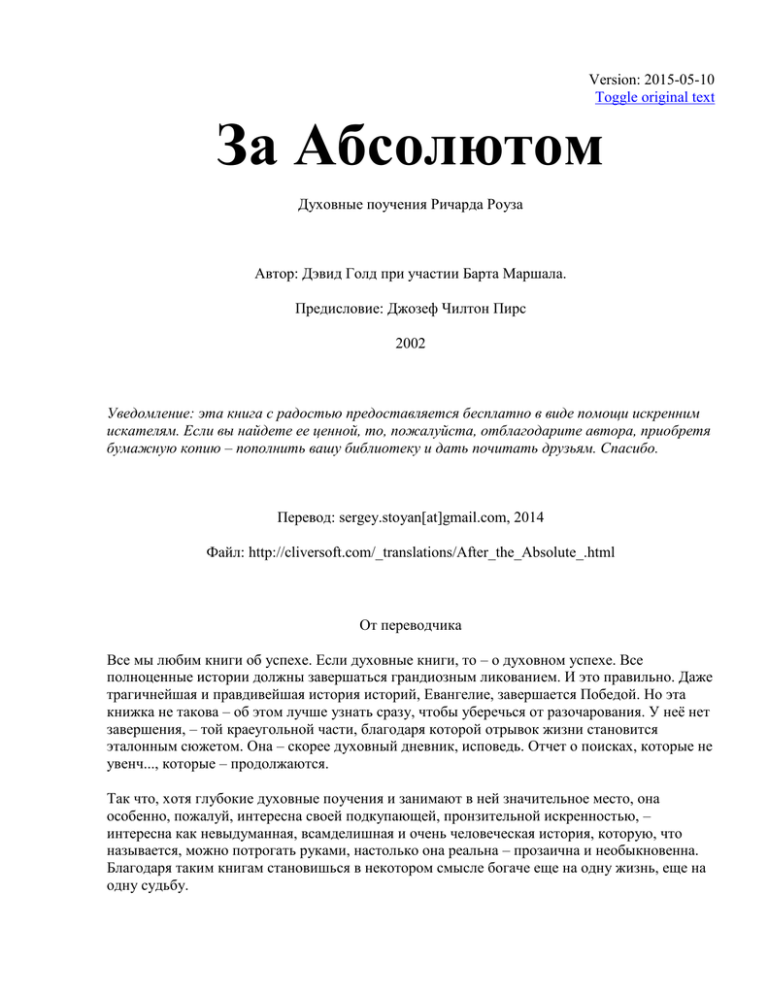
Version: 2015-05-10 Toggle original text За Абсолютом Духовные поучения Ричарда Роуза Автор: Дэвид Голд при участии Барта Маршала. Предисловие: Джозеф Чилтон Пирс 2002 Уведомление: эта книга с радостью предоставляется бесплатно в виде помощи искренним искателям. Если вы найдете ее ценной, то, пожалуйста, отблагодарите автора, приобретя бумажную копию – пополнить вашу библиотеку и дать почитать друзьям. Спасибо. Перевод: sergey.stoyan[at]gmail.com, 2014 Файл: http://cliversoft.com/_translations/After_the_Absolute_.html От переводчика Все мы любим книги об успехе. Если духовные книги, то – о духовном успехе. Все полноценные истории должны завершаться грандиозным ликованием. И это правильно. Даже трагичнейшая и правдивейшая история историй, Евангелие, завершается Победой. Но эта книжка не такова – об этом лучше узнать сразу, чтобы уберечься от разочарования. У неё нет завершения, – той краеугольной части, благодаря которой отрывок жизни становится эталонным сюжетом. Она – скорее духовный дневник, исповедь. Отчет о поисках, которые не увенч..., которые – продолжаются. Так что, хотя глубокие духовные поучения и занимают в ней значительное место, она особенно, пожалуй, интересна своей подкупающей, пронзительной искренностью, – интересна как невыдуманная, всамделишная и очень человеческая история, которую, что называется, можно потрогать руками, настолько она реальна – прозаична и необыкновенна. Благодаря таким книгам становишься в некотором смысле богаче еще на одну жизнь, еще на одну судьбу. Несмотря на исповедальность, это – отнюдь не беспорядочный поток излияний: годы жизненного опыта и медитаций сказались в том, автору удалось, не потеряв ни в живости, ни в юморе повествования, приблизить элементы своей личной истории к тому символическому уровню, на котором они уже обращаются если не ко всем, то ко многим. Каждый сюжет в книжке по-своему краеуголен и предлагает вход в глубину. При этом автору достает почтительности перед Тайной бытия не делать окончательных выводов. Он из тех, кто как бы говорит: если ты чувствуешь ее вибрацию, ее непостижимость, – это и есть лучший ответ. Если же сосредоточиться на самой сути явленной автором духовной судьбы, то движущая ею интрига оказывается мучительно близкой многим духовным искателям. Это – осваивание той коллизии, которая при первых с ней столкновениях представляется неразрешимым парадоксом: опыт запредельного пробуждает в человеке страстную жажду достичь того состояния, суть которого – отсутствие желаний и страстей, отчего стремление к нему, будучи атрибутом и проявлением эго, обречено на крах. Так начинается долгий и непростой процесс осознания человеком себя как части Целого, а через это – осознания Целым Самого Себя в человеке... Теперь о другом герое книги, и в известном смысле – главном: духовном учителе автора, Ричарде Роузе. Его имя на момент публикации этого перевода неизвестно в русскоязычной сети. Кроме переводной статьи в википедии гугл не даст ничего. В двух словах, Ричард Роуз (1917 - 2005) был спонтанным, а значит – подлинным – мистиком, философом и поэтом. В семидесятых-восьмидесятых прошлого века в США он сформировал вокруг себя группу искателей истины и создал нечто вроде ашрама. Написал и издал несколько духовных книг, в интернете есть его статьи и стихи. Подробнее – англоязычный гугл в помощь: существуют несколько сайтов, посвященные Роузу, его творчеству и работе его группы, на ютюбе можно найти сатсанги Роуза восьмидесятых годов. Что касается «духовной теории» Роуза, представленной в книге, то те, кто знаком с книгой Петра Успенского «Четвертый путь», во многих пассажах узнают мысли Гурждиева. Также, то тут, то там можно отметить перекличку с мыслями Платона, принципом апофатического восхождения, практику сократического вопрошания, ну и, конечно же, – море дзена. На протяжении всей книги мы встречаемся с высказываниями Роуза по поводу кажущегося противоречия между необходимостью личного усилия и безусильностью, сделанными в разных обстоятельствах разным людям и освещающими её – по-разному. Как это часто бывает, с уходом учителя его дело по видимости приходит в упадок. На сегодняшний день сайты, связанные с именем Роуза, выглядят заброшенными, скорее похожи на архивы. Но если рассматривать импульс, им заданный, как часть общего духовного движения в США, да и в мире, которое спонтанно проявляет себя то там, то здесь – дело другое. Люди, учившиеся у Розуа или как-то соприкасавшиеся с ним, активны и ведут духовные группы. О Роузе помнят. В англоязычной спиритуальной тусовке нередко можно увидеть ссылку на Ричарда Роуза, как на авторитет, достойный ознакомления. Кажется, считается, что он один из тех, кто проторил путь тому, что на Западе ныне называют недвойственностью. Особо следует отметить великолепное предисловие Джозефа Пирса, контрастно отличающееся от предваряемого текста глубокомысленностью стиля. Оно, можно сказать, само является тезисным изложением целой философской книжки, втиснутой в несколько страниц, и, хотя плотность затронутых в нем смыслов несколько затрудняет восприятие, оно заслуживает внимательнейшего и вдумчивого прочтения – возможно, неоднократного. И тогда всё сказанное в нём складывается в стройную, полную глубины и мудрости картину. Несколько замечаний о самом переводе. Курсивом выделены те же места, что и в оригинале, хотя и не всегда внятно, что хотел этим выделением сказать автор. То же касается и слов на заглавную букву. Возможно, – редакторская неряшливость. Все примечания сделаны переводчиком. И в заключение. Если позволительно выставлять эпиграф к переводу, то в этом качестве переводчик выбирает пожелание Роуза, выражавшееся им неоднократно: «Просто передавай это дальше. Просто передавай.» СОДЕРЖАНИЕ Предисловие 1. Встреча 2. Приглашение 3. Бенвуд 4. Абсолют 5. Путь 6. Ферма 7. За Абсолютом 8. Интенсив 9. Счастье 10. Промежуточность 11. Шатокуа 12. Передача 13. Гражданин Роуз 14. Успех 15. Сущности 16. Кришнаиты 17. Убийство 18. Пистолет 19. Рабочий сцены 20. Уединение 21. Соблазн 22. Ностальгия 23. Страх 24. Отверженный Эпилог ПРЕДИСЛОВИЕ Признание, как правило, приходит посмертно. Похоже, нам нужно несколько «психологически отдалиться», чтобы увидеть истинную стать какого-нибудь известного парня, если рост его выходит за пределы посредственности. Католическая церковь признает чью-то святость лишь по прошествии изрядного времени, – обычно тогда, когда реальный контакт со святым несколько проблематичен. И вот в результате этого обстоятельства возникает и довлеет себе феномен, названный Мирчей Элиаде «мифологическим напластованием» и который заключается в нашей склонности приписывать умершему человеку преувеличенные характеристики. К примеру, уже после смерти Авраама Линкольна, выяснилось, что он обладал, если судить по рассказам, такой силой, что подхватил как-то цыплятник, поднять который не могли и семь человек, и пронес его десять миль; при чём с годами и вес, и дистанция всё возрастали. Но Элиаде также отметил, что подобное напластование не образуется вокруг заурядностей: только подлинные тяжеловесы удостаиваются участия в этом историческом процессе. То есть под причудливой гиперболой, в которую мы оправляем наших мертвых героев, кроется, как правило, личность, достаточно выдающаяся для того, чтобы служить поводом для выдумок. Со временем из таких фантазий вокруг эпицентра притяжения формируется пласт, приводящий к неустранимому искажению первообраза; и тем не менее: ведь не бывает дыма россказней без огня истины. Но в отношении тех, кто еще пока с нами, обыкновенно можно услышать нечто подобное знаменитому вопросу: «из Назарета может ли быть что доброе?»1 или, в случае Ричарда Роуза: «из гор Западной Вирджинии...?» Один газетчик приехал в Оксфорд, Миссисипи, собрать мнения жителей об их знаменитом земляке, нобелевском лауреате, Уильяме Фолкнере. «Какой Уильям?» – обычно переспрашивали его. – «Вы о Билле Фолкнере? Этом старом пьянчуге?» – Воистину, не бывает пророк без чести, разве только...2 В случае Ричарда Роуза, главного героя этой книги, перед нами не нобелевский лауреат и не старый пьянчуга, а фермер из Западной Вирджинии, который, по всем признакам достиг высочайшего духовного состояния, выражаемого классическим восточным термином «единство с Богом». Более еретическим для нашего западного слуха звучит определение самого Роуза: «стал Богом». И вот, как по старой поговорке: «если ты такой умный, то почему такой бедный?», при известии о фермере из Западной Вирджинии, ставшим «единым с Абсолютом», первым делом задают вопрос: «почему же его не было на обложке журнала Тайм?» Или: «почему о нем никто не слышал? Где его последователи? Кто были менеджеры по связям с общественностью и бухгалтеры? Где его швейцарские счета и домишки на Багамах или Фиджи?» Дэвид Голд считает, что нам, несомненно, стоит узнать о Ричарде Роузе. Со своих первых дней в университете адвокат Голд был учеником Роуза и находился рядом с ним в течение десятилетий, подчиняясь требованиям его дисциплины. С помощью друга и соученика Барта Маршалла, Голд представил нам отчёт об этом, в высшей степени необычном, фермере, каким он виделся его приверженцу. Над этой книгой Голд проработал пятнадцать лет и наш долг перед ним не переоценить. Во-первых, перед нами, несомненно, – неустаревающая классическая духовная монография. Помимо этого, рассказ Голда – одна из наиболее захватывающих, волнующих, не чуждых лирических и героических вибраций, трогательночеловечных исповедей, которые мне только доводилось читать. Она – важное и глубокое свидетельство, на основе которого получился бы, если не фантастический, то – фантасмагорический фильм. Эта книга проливает свет на извечную загадку нашей природы, демонстрирует рождение «новой космологии» и дает некоторое представление о всё ещё неразработанном потенциале, который мы, люди, скрываем внутри себя. Всё в этом чрезвычайно увлекательном повествовании служит подтверждению старого афоризма: правда поразительнее выдумки. Как повествователь Дэвид Голд предстает обычным человеком – этаким архетипическим индивидуумом, жаждущим преодолеть ту самую деструктивную черную тень, которая преследует наш род. И слова Голда достигают нас по той причине, что всё, что он говорит, обращено к нам, и его повесть – не просто превосходное живописание, но универсальная драма, в основе которой лежит эволюция человека. История же самого Ричарда Роуза напоминает еще одно изречение: творящий «дух веет, где хочет»3 и час и место его прихода и ухода неведомы. Роуз, который сам получил католическое воспитание, вышел за рамки всех парадигм, унаследованных от прошлого, и призывает подвергать сомнению любые представления, доставшиеся нам от религий, – в частности, – представление о Боге как об ангеле или человеке. Разумеется, такими людьми как Роуз под вопрос ставятся и жесткие, механические и неизменные стадии просветления, исповедуемые популярными духовными философами. Ведь при том, что Роуз был чрезвычайно самодисциплинированным человеком, с железным самоконтролем, он в поиске себя установленным правилам не следовал. И, вероятно, событие, которое предшествовало его пробуждению к своей истинной природе, – лишь в последнюю очередь можно было бы представить в роли катализатора. (Что только подтверждает истину о неуловляемости «духа».) Роуз настаивает, что наша первая и величайшая задача как человеческих существ – познать, кто мы есть. Точно так же он настаивает на трюизме, известном и востоку, и западу, что мы и есть тот самый Бог, которого мы столь жадно ищем повсюду. Непрестанно стараясь подтолкнуть своих учеников к «видению» того, кто он есть, – с тем, чтобы и сами они стали такими, Роуз использовал «необычные» феномены, ошеломляющие чудеса, – всю эту пищу для вечно-голодного эго, которая питает почти всю нашу нью-эйджевскую литературу (но лишь немногие души, как это мы видим из Евангелий, и тут – ничего нового). Обретение единства с Абсолютом или переход из расщепленности в целостность открывает доступ к сверхъестественной силе, которая, по-видимому, достижима и вне единства с Абсолютом, и потому в учении Роуза акцент всегда ставился на состоянии единства, а не сверхъественных трюках. В Индии я видел факиров, которые демонстрировали вещи, бросающие вызов любым нашим концепциям реальности; внутри собственных жизненных тоннелей они могли обращать привычные причинно-следственные процессы этого мира вспять. Но то были «психические феномены», а пропасть между психическим и духовным велика. Духовное может в себе заключать и даже – порождать – нечто паранормальное, но вот обратное неверно: ведь бесконечное содержит конечное, а не наоборот. Роуз ссылался на состояние так называемой «промежуточности4», в котором на время преодолевается наша обычная расщепленность между мыслью, чувством и действием. Ведь мы, обычные люди, почти в любой момент нашей жизни думаем одно, чувствуем другое, а делаем третье, – что выставляет нас воистину домом, разделившимся в себе5. Мы все иллюстрируем собой знаменитую фрейдову троицу: подсознание, эго и супер-эго6, бесконечно воюющие между собой. Мы «делаем то, что не следует, и не делаем того, что должны, и нет в нас мира (т. е. целостности)»7, как сокрушается Павел. В состоянии подлинной целостности бытия, дома неразделённого, мы – суверенны в собственном мире, – каковое состояние нами, людьми, до сих пор не исследовано. Это состояние суверенности в корне отлично от овладения природой по типу научной технологии, и дверью в него является «промежуточность» Роуза. Пребывающий в нём человек может действовать «в миру», но быть свободным от его уродующих, жестких суждений и ограничений. В институте Хартмата8 говорят о «взаимововлеченности сердца и мозга», совпадение частот которых явственно регистрируется энцефало- и кардиографами. В этом состоянии взаимововлеченности головы и сердца все осциляторы тела синхронизируются и всё существо человека настраивается на единую частоту. При этом раскрываются целые нейронные зоны мозга, не задействованные до этого, и становятся доступными не исследованные прежде области переживаний и активностей. Совмещение частот сердца и мозга – суть новое выражение старой проблемы: каким образом воля индивидуальная и воля универсальная или «глобальная» могут достичь согласия. При таком согласии деятельность человека уже не диктуется исключительно его личными прихотями или фантазиями, а подчинена высшему состоянию, «высшей вибрации», к которой приводит синтез головы и сердца. И существует также состояние ума, называемое «бесконфликтное поведение», благодаря которому могут происходить необыкновенные вещи (по факту включая и губительные воздействия). Бесконфликтное поведение попросту осуществляется без внутреннего конфликта, – что легче сказать, чем сделать, – но оно необязательно благожелательно или служит единению. Подсознание, эго и супер-эго могут придти в согласие, отчего мысль, чувство и действие станут нераздельным целым и тогда человек сможет вложить в приключение себя всего, без остатка, и – отбросив осторожность, логику, эмоции, рассуждения, положившись только на свое намерение, – осуществить «приостановку онтологических правил». В такие моменты возможно почти всё, что угодно, и это может быть использовано в повседневных делах для получения огромной власти над ситуацией и предопределения ее исхода, не ограниченного ничем. При этом нет универсальной божественной этики, оценивающей результат как позитивный или негативный, потому что такие утончённости как «хорошо – плохо», «позитивный – негативный» – суть назначаемые нашими дежурными логикой и рассудком критерии, которые для входа в бесконфликтное поведение должны быть отставлены. (Ничто так не ослабляет нас как моральная коллизия.) Для хартматовской взаимововлеченности и роузовской «промежуточности» нужно одно и то же: однонаправленное намерение и приостановка самоозабоченности, – но без парадигмы «вложить-чтобы-получить», внутри которой мы обыкновенно действуем. Здесь чье-то намерение привязано не к одной цели или событию, а к сопряжению многих воль, каковое и определяет исход в соответствии с предначертанием, недоступным уму и логике и не подчиняющимся им. Негативные возможности, доступные в бесконфликтном поведении, при такой взаимововлеченности не могут актуализироваться, – поскольку единая система не может действовать против самой себя. Необусловленное совершение действия – с безразличием как к нему, так и к его результату, – отсылает нас к основной идее дона Хуана, этого полумифического героя Карлоса Кастанеды, или к понятию «веры», центральному у Иисуса, и оно же ясно высказывается Кришной в Бхагавад-Гите, и подразумевается в «Бесконечной игре» Джеймса Карса9. Чтобы преднамеренно осуществить нечто необыкновенное, нужно пребывать в одной из форм этого состояния, но, что гораздо важнее, – это же состояние требуется, чтобы «слиться с Бесконечностью» или стать «одно с Абсолютом», – какая из метафор вам больше нравится. Так что промежуточность предлагает либо неограниченный потенциал в мире повседневности, либо шанс полностью выйти «за пределы этого мира». Роуз рассматривал свое состояние единства с Абсолютом подобным дзену, но с дзеном, как и с любым другим духовным «путем», возникают проблемы, когда учитель начинает предписывать ученику маршрут и цель, посредством которых тот наверняка станет единым с Абсолютом. В результате мы получаем замкнутую, конечную, ориентированную на цель борьбу, для которой в уме заданы границы и конечный итог. И такова суть непреходящего парадокса непреходящей Философии: следуя ориентированным на цель фиксированным процедурам, вы ввязываетесь в битву не на жизнь, а на смерть, чрезвычайно серьезную битву, потому что – «душа» на кону. И эта серьезность неизбежно устанавливает критерии, которые в свою очередь приводят к чувству вины. И тут-то бесконечная открытость и игра заканчиваются, будучи замкнутыми в пространстве битвы, – каковую битву или погоню ученик жаждет завершить с тем, чтобы стать «постигшим» и преуспеть в реальной жизни. Таким образом, жизнь тратится в попытках «добраться туда», чтобы начать жить, и при этом фактически упускается момент, в котором всё пребывает. Истина «вот, теперь день спасения»10 выявляет парадокс большинства духовных учений, поскольку они представляют собой пути в некий час X, который наступит в будущем, – может быть. Суть в том, что стремление, исходящее из конечного, не может вывести за пределы наших ограничений. Конечное не может привести к бесконечному. Это как бы два отдельных логических мира, и логика одного не может привести к логике другого. Однако, являясь конечной структурой, мы не имеем иной возможности, кроме как действовать при помощи наших безнадежно ограниченных ума и понимания. Тут – реальный парадокс, но как сказал бы Джорж Джейдар11, – это порог истины, находящейся за парадоксом. Классическая логика справедливо говорит о невозможности утверждать А и не-А одномоментно. Мы не можем придерживаться одновременно двух различных и взаимоисключающих логик – их разделяет непреложный закон исключенного третьего: «или – или». Но это-то самое исключенное третье, находящееся между конечным и бесконечным, и есть та «трещина в космическом яйце», та истинная промежуточность, сквозь которую у нас есть возможность выскользнуть на свободу бесконечной игры. Мы, однако же, – либо там, либо тут. А моста между – нет, и измыслить его мы не можем, поскольку мысль – суть продукт всё той же конечности. Роуз, как и все духовные учителя, разрывался между крайностями этой неустаревающей парадоксальной дилеммы: как через конечный процесс привести человека к чуждой границам бесконечности? Пытаясь помочь другим уловить в себе свет, единый для всех, Роуз поневоле, – на что духовные учителя, похоже, обречены, – в надежде преодолеть перцепционноконцептуальные блоки учеников, вводил границы, дисциплину и практики. Но такое целеполагание, работа на просветление, сужает бесконечную открытость и погружает злополучного ученика в растерянность, поскольку, как это поясняет Джеймс Карс: кто должен играть – играть не может. Мне не известен такой духовный учитель, который разрешил бы эту дилемму, включая даже Иисуса, этого гиганта истории. Впрочем, она, пожалуй, скорее мнима, нежели реальна. Возможно, что ценность тех, кто «прорвался» и вышел в высшее измерение жизни, состоит не столько в их руководстве, сколько в их присутствии, самом их существовании. «И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе»12 – в этом вся суть. Здесь действует «императив идеала». Великая ценность наших великих, быть может, заключается не в «секретах мастеров», не в инструкциях к надежному духовному успеху, а попросту в том, что они жили среди нас, в их образе в нашем коллективном сознании и памяти, и в тех наших прозрениях в новую жизнь, которые вытряхивают нас из сна. Я никогда не встречал окончательного «выпускника» какой-либо духовной системы из тех многих, с которыми мне довелось ознакомиться или в них вовлечься, – поскольку последователи всех этих систем выглядели без конца сражающимися «за достижение цели». Ведь если б они ее достигли, они, скорее всего, попросту исчезли бы, ушли в неизвестность, оставляя шарлатанам эксплуатировать медиа, потрясать в воздухе дипломами своей просветленности и конкурировать за платежеспособных учеников. Как говорят на востоке, истинный суфий всегда анонимен и не может быть распознан, кроме как другим истинным суфием. Так что неудивительно, что Ричард Роуз никогда не выставлялся важным гусем, даже в собственном птичнике в Западной Вирджинии. Но, думаю, выдающиеся люди вроде Ричарда Роуза проявляются на протяжении истории постоянно, – пусть и в различной степени, – чтобы служить для нас своего рода клеткамимишенями. Феномен клетки-мишени наблюдается при развитии мозга и является загадочным и потрясающим явлением, которое может длиться на протяжении всей жизни. В течение первых четырех месяцев в матке матери, наш мозг представляет собой однородный «суп» из случайно перемешанных нейронов, этакий хаос неоформленной материи. Но между четвертым и пятым месяцами он достигает той критической массы, когда в нем начинают появляться клетки-мишени. Пока не ясен механизм внезапного появления этих странных и энергичных клеток, которые незамедлительно рассылают сигнал, прочитываемый как «соединяйся со мной». Он приводит миллиарды случайных клеток во внезапную и неистовую активность, с которой они начинают выпускать коннекторы и пихаться ими, в стремлении связаться с той замечательной клеткой, что появилась среди них. Полный же ее сигнал читается так: «соединяйся со мной или с клеткой, соединенной со мной». Благодаря ему этот хаотический суп из клеток с ошеломительной скоростью превращается в самый изумительный порядок, известный во вселенной, – мозг человека, со множеством его уникальных форм и структур, взаимодействующих в совершенном согласии, – чтобы триллионами связей создать бесконечно многообразный универсум нашего опыта. Заметьте, что подсоединяясь к клетке-мишени, нейрон сам не становится такой клеткой. Он делается полнофункциональным нейроном, связанным с его соседями энергичными, производительными и творческими способами. Изолированный нейрон – слаб и, скорее всего, бесполезен, но через акт трансформации и объединения он участвует в создании этого полнофункционального чуда между нашими ушами. Если бы все нейроны стали клеткамимишенями, то это, очевидно, привело бы к безнадежному хаосу. (Во всяком случае, это не был бы мозг, который нам известен.) Таким образом, клетки-мишени появляются, чтобы привести хаос к порядку, а не создавать клетки подобные себе. Подобным же образом, и великие существа неожиданно и необъяснимо появляются среди нас, когда в них нуждается некая критическая масса. И они необязательно бегут в Гималаи или еще куда, чтобы пройти необходимое обучение. Когда они появляются, то они уже готовы расцвести и начать работу, но не по клонированию себе подобных, а по соединению разделенных, изолированных, отчужденных и израненных одиночеством клеток в полностью человеческие и деятельные души, постепенно продвигаясь к тому, чтобы превратить социальный хаос в новый порядок. Я испытал большое сочувствие и уважение к адвокату Голду, когда он посетовал, что после всех этих лет он по-прежнему чувствует, что так и не смог раскрыть потенциала, который Роуз видел в нем. То есть, он до сих пор – Дэйв Голд, а не Ричард Роуз II. Большинство людей на духовном пути питают сходное чувство неудачи. Но, хотя я и не встречал полностью совершенных «выпускников» тех разнообразных духовных систем, с которыми соприкасался, я видел великое множество людей, которые достигли личностного роста, изменений, улучшения характера, качества жизни благодаря духовной дисциплине или контакту с великим существом, – людей, которые живут намного более богатой и полезной жизнью, и как результат – делают большой вклад в общественную жизнь и ауру Земли. И Дэвид Голд как раз – лучший пример исключительного человека, взрослого, сердечного, умного, ответственного, – настоящего гражданина, в котором наше общество и земля нуждаются столь отчаянно. Да увеличится их число. И в этом Ричард Роуз, несомненно, преуспел. Посему, читатель этой книги – безусловно, счастливец, – ведь даже чтение о Роузе может посеять в его уме семя. И брошенные клеткой-мишенью семена могут пустить корни, которые расколют глыбы, горы, миры и даже закрытые умы и их космические яйца. Эти семена станут неоценимыми образцами, ведущими нас к новой, более полной жизни. Так что, эта книга – бесценная жемчужина, упавшая на бесконечное поле человеческой дремучести, чтобы вывести того, кто ее найдет13. Да посодействуют читателю в его поиске советы и намеки Роуза из этой жемчужницы. Поскольку сказано: ищете и обрящете, – такова единственная возможность. *-*-*-* 1 ВСТРЕЧА Зимой 1973 года я встретился со странным и загадочным человеком из Западной Вирджинии по имени Ричард Роуз и с того момента всё в моей жизни изменилось. Я был тогда на первом курсе юридической академии и жил вместе с мамой ради экономии и чтобы ей не было одиноко. Мой отец скоропостижно умер за два года до этого. Как-то вечером мой приятель Ли, с недавнего времени зависавший в группе под названием дзен-сообщество Пирамида, подбивал меня по телефону пойти послушать Роуза, которого называл дзен-мастером. Я несколько раз отказался от его предложения, однако он не отставал, изображая Роуза и связанные с ним события со всё большим пиететом, пока тот не предстал в изумляющем, почти фантастическом, свете. «Ли», – отвечал я, – «мне это всё не интересно». Что было правдой. Я не питал ни малейшего интереса ни к философии, ни к религии, ни к чему бы то ни было, что хотя бы отдалённо касалось этих материй. Я был уверен, что знаю, кто я такой и что собираюсь делать. После юридической академии я бы женился, заимел детей, делал бы деньги, завел пару интрижек с секретаршами или женами друзей, потом в комфорте удалился бы от дел и возился с внуками. Жизнь. О чем тут думать? Ты делаешь лучшее, что можешь. «Дэйв», – сказал он, – «ты можешь умереть в любую минуту. Мы только убиваем время, пока не умрём. Понимаешь, о чем я?» «Уверен, что да,» – ответил я, хотя честный ответ был бы, – «нет». Даже теперь, спустя годы внутренней работы, мучительный факт личной смерти остаётся невоспринятым. Тем не менее тем вечером я почему-то согласился поехать с Ли и спустя пол-часа, как мы положили трубки, он вырулил на мою улицу. Мы поехали сквозь лёгкий снегопад в питсбургский университет, где проходила встреча, и, пока мы ехали, я мечтал вернуться домой смотреть хоккей. Когда мы вошли, помещение было уже полно народу. Мы протиснулись сквозь толпу к единственным незанятым двум стульям, стоявшим по сторонам от пожилого мужчины в красной фланелевой рубашке. Когда мы сели, моё внимание притянулось к двум миловидным женщинам поблизости. Выходило, что на этом собрании я мог иметь и кое-что приятное. Они были погружены в оживленную беседу, по-видимому о своих мужчинах. «Ну, чего Алекс не узнает, то и не причинит ему страданий,» – донеслось до меня. – «На твоём месте, я бы отдалась потоку.» Обе рассмеялись. Пожилой человек рядом со мной слушал тоже. «Ты можешь отдаться потоку, если хочешь,» – сказал он громко, – «но все потоки, какие я видел, приводили прямо в канализацию.» Он и несколько услышавших это, засмеялись, только не те женщины. Помещение было заполнено той разношерстной толпой, которая собиралась в ранних семидесятых, стоило только прикнопить вокруг университета объявления со словом «дзен». Я чувствовал себя не на месте и нетерпеливо ждал начала встречи. Чем раньше она начнется, тем больше шансов успеть к последнему периоду хоккея. Я повернулся к Ли, чтобы спросить, когда Роуз начнет, но он разговаривал с другим своим соседом. Все в помещении, казалось, говорили одновременно. Чтобы чем-то заняться, я стал прислушиваться к беседам. Недалеко от меня два длинноволосых юнца превозносили помощь наркотиков в расширении сознания. Было ясно, что накануне они последовали собственным советам. «Расширить сознание?» – вмешался опять пожилой мужчина. – «Вы хотите, чтобы ваши головы становились всё больше и больше, пока сам Господь не должен будет подвинуться, чтобы предоставить им место?» Он держал лицо серьезным, пока не рассмеялись Ли и остальные, а тогда и он захохотал с восхитительными беззаботностью и весёлостью. От его хохота комната несколько поутихла и остались лишь несколько разговоров, из которых самым слышным был тот, что вёлся тремя людьми среднего возраста, с виду похожими на профессоров. Они обсуждали причину человеческого существования, время от времени оглядывая комнату, вероятно, чтобы оценить успех своих слов у тех, кто их слышал. Пожилой какое-то время прислушивался к их беседе, а потом вмешался. «Я могу сказать, зачем вы существуете,» – сказал он перекрывая все прочие разговоры. В помещении стало тихо. «Вы здесь для того, чтобы осеменять женщин, сработаться, умереть и удобрить землю.» Несколько людей засмеялись, но на этот раз пожилой к ним не присоединился. Самый высокий и импозантный из профессоров снисходительно поглядел на прервавшего его «деревенщину» во фланелевой рубашке. «То есть, хотите сказать, что мы не более чем сложные животные?» – спросил он. «Нет,» – улыбнулся пожилой, – «не так уж мы и сложны». Вокруг раздался хохот. С выделанным прискорбием профессор покачал головой. – «С таким настроем нам никогда не построить лучший мир.» «Помилуйте» – отвечал пожилой с отвращением в голосе. – «Что мы имеем – четыре миллиарда муравьев в этой куче? И вы думаете, вместе они будут думать о чём-то, кроме размножения?» Те же люди рассмеялись опять и Ли громче всех, и я наконец понял, что этот пожилой и есть Ричард Роуз. До этого я о нем не особо и вспоминал. Однако ж у него оказывался необычный способ начать собрание или что там это было. Я повернулся на стуле, чтобы получше его разглядеть. Пока мы ехали, Ли постарался втолковать мне, что в тридцать лет с Роузом случилось нечто вроде «просветления» и он будто бы обладает необычными силами. Я отметил, что у него властный вид, однако походил он больше на портового грузчика, нежели мистика: низкий, широкоплечий и крепко сбитый. Ему было примерно под шестьдесят и был он почти лыс. Остатки его волос были седы и коротко стрижены. Одежда была чистой, но поношенной, так что было заметно, что у хозяина с деньгами не очень. Ли говорил, он написал несколько книг, но казалось, что его толстые руки со вздувшимися венами имели больше дела с топором, чем с печатной машинкой. Пока я его рассматривал, он бросил ответный взгляд и меня пронизали его острые светло-голубые глаза. У него были тяжелые мешковатые веки, придававшие ему восточный вид, который усиливала редкая седая бородка. Профессор казался задетым. – «Я лишь говорю о простом желании улучшить этот мир. Элементарный...» «Никто из знающих Истину не захочет менять что-либо, кроме собственного ошибочного воззрения на вещи,» – с нажимом сказал Роуз. – «Забудьте об изменении мира. Есть кое-что побольше и поважнее, что нужно сделать. Каждый человек должен подумать о спасении собственной души.» «Вот именно,» – сказала женщина сзади. Она была лет сорока с лишком, с несколькими седыми прядями среди длинных черных волос. На ней было полно украшений, свободное платье маскировало полную фигуру. «Бог поместил нас на земле не без причины,» – медленно, с назиданием, проговорила она. – «Каждому человеку дана возможность пройти уроки, необходимые для того, чтобы стать совершенным и воссоединиться с Богом.» Роуз взглянул на неё. – «Это не то, что я сказал. Если вы верите в это, то вы обманываете себя. Идея, что жизнь это обучение ради прославления Бога, – абсурдна. Зачем всемогущее существо сотворило кучу невежественных людей и потом мучает их, чтобы сделать их лучше?» Роуз говорил непринужденно, в манере образованного человека, но его выговор и язык несколько отдавали захолустьем, – так, определенные слова произносились им с непривычным ударением. Лицо женщины покраснело. – «Ваши представления о Боге отличаются от общепринятых.» «А почему вы думаете, что я вообще имею какие-то представления о Боге? Это ваше слово, а не моё,» – он не смотрел на неё и обращался ко всем. «Обычно то, как люди используют слово “Бог”, – просто бесстыдное треньканье словом, вот и всё. Мы слишком много берём на себя, когда измышляем некий космический разум, находящийся вне времени и пространства, а затем прикидываемся, что знакомы с ним накоротке. Все бросаются словом «Бог», будто знают его смысл, но не знают даже простейших вещей. Злоупотребление истощило всю его силу, которая в нём когда-то была. Каждый столь свободно обращается со словом «Бог», что у него не возникает потребности, нужды, пойти и по-настоящему найти Бога. Чтобы стать Богом.» Профессор заговорил опять. – «Хорошо, раз вы, похоже, такой авторитет в сём вопросе, то, вероятно, можете разъяснить нам старый философский вопрос: существует ли Бог?» «Да,» – тихо ответил Роуз, – «но вы – нет.» Наступила долгая тишина, заставившая меня и наверно большинство присутствующих почувствовать себя неуютно. Роуз же просто сидел. Наконец, женщина лет двадцати пяти, в униформе официантки, прервала молчание. Её лицо выражало необычную смесь силы и уязвимости, – весьма привлекательную, на мой взгляд. «Вы не верите, что нужно помогать Богу сделать этот мир лучше?» – спросила она. «А почему вы думаете, что Богу нужна какая-то помощь?» – Роуз тепло улыбался и продолжал смотреть на неё, ожидая ответа. Женщина не отвечала, но было видно, что она не может отвести от него взгляда. В комнате воцарилось молчание. Роуз пристально смотрел и смотрел на неё и тишина делалась всё глубже. «Не принимайте жизнь всерьёз,» – наконец сказал он. – «Она вас всерьёз не принимает. Космос смеётся над вами.» И он перестал на неё смотреть. Когда это случилось, её голова слегка вздрогнула, как если бы в этот момент она очнулась. Роуз достал из-под стула жестянку с газировкой и сделал глоток. Ученого вида молодой человек в проволочных очках вежливо поднял руку. Роуз кивнул ему. «Мистер Роуз, вы, очевидно, считаете, что имеете нечто предложить миру, но при этом отзываетесь о людях столь пренебрежительно.» «Нет мира,» – сказал Роуз. – «И нет людей.» «Вас не заботит человечество?» – выкрикнул кто-то. «Кое-кто заботит. Те, кому можно помочь.» – он помолчал мгновение, словно подбирая слова. – «Я не вышел спасать массы. Это невозможно и мне хватает ума это понять. Я обращаюсь к индивидуумам. Если за свою жизнь я найду горстку людей, которые смогут подняться на несколько ступеней над их теперешним состоянием запутанности, я буду счастливчиком.» «Но разве мы не все дети Бога?» – выкрикнул кто-то. – «Как насчет братства людей?» «Членство в клане не означает, что мы равны. Равен ли младенец умирающему? А гений – идиоту? Нет. И люди располагаются на различных ступенях духовной лестницы. Большинство – на нижних ступенях и для них не так много можно сделать. Они слишком увязли в животных наклонностях, чтобы искать чего-нибудь большего в жизни. Всё, что они знают, это секс, выпивка, драка, сила и тому подобные вещи.» «Однако я исхожу из того,» – продолжил Роуз, – «что поодаль стоят немногие, кто ищет чегото большего. Ищет что-то настоящее, что-то, что останется с ними. Что-то, о чём им не придется жалеть спустя двадцать лет. Люди, которые не удовлетворяются тем, чтобы просто прожить жизнь, как бессмысленное животное. Вот им я мог бы помочь. Они хотят знать, кто переживает этот опыт и что может продолжать жить и испытывать после смерти. И если я окажусь достаточно удачлив и столкнусь с такими людьми и они попросят меня о помощи, тогда я попытаюсь работать с ними любыми методами, мне доступными. Но для того, чтобы кому-то можно было помочь, этот кто-то должен стать способным принять помощь. Глупо спасать текущую лодку, не заткнув её дыры.» «Вы подразумеваете, что человек должен изменить свою жизнь,» – сказал Ли. «Верно, верно,» – сказал Роуз с энтузиазмом, – «Вы привязаны к плоти, но вскоре вы поймете, что вы ничем не лучше собаки на улице. Конечно, наше эго предлагает любые виды благих предлогов, чтобы потакать себе в удовольствиях – поэтические рационализации любви и «жить на полную». Но в конце-концов мы истощаемся среди оправданий, и, когда эго ослабляет свою хватку, слишком поздно что-либо поделать с тем, что нависло впереди. Вот почему так много людей умирает в криках.» Я ждал, что он по крайней мере улыбнется на своё последнее замечание, но напрасно. «Люди просто делают лучшее, что могут,» – выкрикнула женщина сзади. – «Следуют своей звезде, какой она им видится.» Какое-то время Роуз смотрел себе на руки, затем поднял взгляд. «Видите ли, если вы хотите открыть что-то важное,» – сказал он чрезвычайно серьезно, – «вы должны освободиться от этого идиотично-оптимистического дерьма. Люди думают, что могут потворствовать себе в каких угодно прихотях, их одолевающих, и это внезапно каким-то образом преобразует их в удивительные духовные существа, которых Бог просто не сможет не любить. Это бессмыслица. Жизнь это не удовольствие, а постоянная борьба, протекающая в упорном напряжении. Выгляните в окно. Там – кровавая бойня. Каждый стремится поглотить когонибудь ещё с целью прожить достаточно долго, чтобы произвести потомство и обеспечить больше еды и удобрения для этой скотобойни.» «Вы осуждаете нас за попытки быть счастливыми,» – сказал кто-то. «Никого не осуждаю. Что люди делают с их жизнями, это их дело. Кроме того, невозможно уговорить людей быть добродетельными. Это то же самое, что уговаривать козу воздержаться от еды. Люди должны выяснить для себя сами, что ценно в их жизни, а что нет. Ради чего стоит жить. В чём состоит ценность.» «Но вы советуете нам отказаться от поиска счастья...» «Нет-нет. Не считайте, будто знаете, что я делаю. Иногда я сам этого не знаю,» – засмеялся Роуз. – «Так будет лучше. Впрочем, я сознаю, что не годится давать прямые советы. Всё равно ими никто не пользуется. Иначе все начинали бы по крайней мере столь же разумными как их родители.» Уже с пол-часа я раздумывал над тем, как бы встрять в происходящее. Мой первоначальный дискомфорт от незнакомой ситуации исчез и я приискивал, какой бы вопрос задать, – не столько, чтобы узнать ответ, сколько чтобы продемонстрировать Ли и прочим в комнате моё «содержимое». По большей части то, что сказал Роуз, было для меня бессмыслицей; при этом в комнате не находилось никого способного сойтись с Роузом в интеллектуальном поединке и прищучить его. Что ни говори, а я был смышлёный еврейский юрист-студент, Роуз же, сколь ни был необычен, спотыкался в своей речи, демонстрировал простецкие манеры и... явился из Западной Вирджинии. Другими словами, я чувствовал, что смогу уложить его. После его последнего замечания как раз стояла пауза и я решился. «Я новичок во всём этом, мистер Роуз,» – начал я, – «и, вероятно, вы могли бы меня просветить». Я сдвинулся на край сиденья, перед тем как повернуться к нему, – словно адвокат, который смотрит в лицо свидетелю противной стороны. «Почему некто должен отказываться от своих инстинктов и эго в мире, где выживают только сильные?» – спросил я. – «Кто может нам сказать, какое поведение мы должны избрать, а какого – избегать? Что неправильного в том, чтобы обладать многогранной личностью, – уж хотя бы для того, чтоб защищаться от тех, кто хотел бы её уничтожить и заменить собственной программой?» Кажется, это не вполне попадало в русло его заявлений, но звучало зато здорово. Я был горд. Мне хотелось взглянуть на Ли и его реакцию, но я чувствовал, что должен «вести» Роуза во время «разбирательства». Несколько секунд Роуз разглядывал меня. «Нет ни черта неправильного с этим,» – сказал он твёрдо, – «при условии, что ты не собираешься быть безнадёжным роботом всю свою жизнь.» Затем отвернулся и обратился ко всей комнате. «Вот, к примеру, этот парень,» – он указал на меня. – «Нет сомнений, он про себя думает, что очень умён, что он – штучка большой важности. Ему нравится думать, что он благословлён выдающимся интеллектом и что он предназначен для великой судьбы. Он считает себя лучше других и потому никогда не принимает участия в том, что происходит вокруг него. Он только грезит о женщинах и выдумывает способы поупражнять своё эго. Но правда в том, что он запутан и жалок. Он ничего не знает и никогда не сделал ничего ценного. Всё, чем он занят, – это манипуляции ради баловства с собой и окружающими. Скорее всего, он изберет карьеру, основанную на трюках и манипуляциях. Возможно, он даже закончит одним из тех торгашей, что устанавливают правила в этом сумасшедшем доме. Но это не сделает его менее жалким. Он живет в добровольном мире соперничества и подозрительности, всегда настороже против остальных людей, стараясь защитить свою дутую важность. Он самодоволен и невежествен, а это – скверное сочетание. Но даже при этом, какая-то его часть чувствует, что в нём что-то ужасно неправильно, и он спрашивает себя, почему он всегда с краю, почему не способен радоваться даже самыми основными радостями жизни, такими как настоящая дружба.» Когда он закончил, комната молчала. Я не мог говорить, ни даже пошевельнуться. Я сидел без движения, лицо пылало от унижения и гнева. Изящное состязание в споре, предвкушаемое мной, завершилось с одного удара. Его слова, произнесенные гладко и без запинок, оглушили меня. Я боролся с желанием убежать. Ничего мне так не хотелось, как оказаться в другом месте, – где угодно, только не здесь. Что я такого сказал, чем заслужил то, что со мной он сделал? Что он, к чёрту, о себе воображает? Но, что ещё важней: откуда он всё это узнал? Он ведь прав, – я знал это. Только правда может так тяжело ранить, как ранили его слова. Как он мог узнать? Как мог узнать и постичь незнакомого человека столь точно и в таких деталях? Кто-то прервал тишину и задал вопрос, не имевший отношения к моей стычке с Роузом. Встреча продолжалась. Какое-то время я почти не слушал, путаясь в мыслях и испытывая облегчение оттого, что перестал находиться в центре внимания, коего столь откровенно домогался несколько минут назад. Мне помнилось каждое сказанное им слово. Меня жёг каждый оттенок его интонации и мимики. Я ненавидел его за причиненное унижение, но всё же стали формироваться и другие странные чувствования. Не знаю, как долго я пребывал внутри себя, но постепенно моё внимание вернулось к комнате и звуку голоса Роуза. «Если кто-то из вас имеет серьезные намерения насчет работы,» – говорил он, – «то одной из первых вещей, которую он откроет, это то, что он не существует, – по крайней мере, существует не так, как вы думаете. Вы глядитесь в зеркало и вас до смерти щекочет то, что вы видите: “Ой, гляньте, что Бог привел на эту землю – ей на украшение, остальным на зависть.” Но вскоре вы, возможно, поймёте, что вы ничего более как комок протоплазмы, дожидающийся смерти и зарытия, чтобы не завонять окрестность. Вот всё, чем вы являетесь, насколько это можно утверждать с очевидностью. Всё прочее – просто безосновательные фантазии и хотелки.» «Как по мне, звучит жутко негативно,» – крикнул юный голос. Некоторые согласно кивнули головами. Роуз усмехнулся, – «негативная реакция на негативную ситуацию может оказаться весьма позитивной.» Внезапно посыпались вопросы. «Сделает ли ваша система меня счастливым?» «Я не знаю, но если вы подобны мне, то вы дойдете до высокой степени неуязвимости.» «Но вы счастливы?» – допытывался кто-то. «Я свободен от счастья.» «То есть, вы утверждаете, что обладаете совершенной, вечной удовлетворенностью?» «Да, можно так сказать.» «Откуда вы знаете, что не обманываете самого себя?» «У меня нет себя, которого можно обманывать.» «Достигли ли вы успеха?» «Да, я уверен, что так. Я точно знаю, что хочу делать в жизни и я потратил 100% своего времени именно на это. А если вы имели в виду деньги, то – нет, я никогда не заботился о деньгах. Если у вас больше, чем нужно, то это проклятие.» «В действительности, можно использовать принципы духовной работы, чтобы получить от жизни всё, что хотите: деньги, силу, славу – любую разновидность успеха или удовольствия. Механизм достижения один и тот же независимо от цели. Но рано или поздно жизнь или смерть поставит вас лицом к лицу с единственной вещью, которая имеет ценность. Я потратил первые тридцать лет моей жизни в поисках её и последние двадцать пять – в стараниях найти людей, которые тоже могут её искать. Не потому, что я хочу их изменить, а потому, что мог бы дать им подсказку. Сказать: “эй, ты бодаешь стену, которая не поддастся”, или: “ты тратишь жизнь на одержимость удовольствиями или на мелочное эго”». «А любовь?» – выкрикнул кто-то. «Что – любовь?» – бросил Роуз в ответ. «Любовь между двумя людьми. Это немаловажно.» «Мы можем верить, что кто-то любит нас,» – сказал Роуз, – «но если мы живем достаточно долго, то открываем, что мы любимы только за любовь, которую можем дать в ответ. Всем отчаянно хочется верить в любовь, но это оттого, что мы так одиноки.» Все молчали, поэтому он продолжил. «Это злоупотребление словом “любовь” – сущее проклятье. Я прожил с моей женой двадцать лет и никогда не говорил ей, что я её люблю. Я считаю это враньём. У всех разное понятие о любви, но все врут. Нельзя выразить любовь словами. Если вы уважаете вашу женщину, вы это доказываете. Ваша жизнь это доказывает. Вы дарите вашу жизнь этой женщине и этим детям, и это всё.» «И людям это видно, верно?» – сказал кто-то. «Не имеет значения, видно или нет. Имеет значение только то, что вы знаете это в себе и она это знает в себе. Вот это учитывается. Но кругом ходить и твердить о том, как сильно вы любите людей...» – он тряхнул головой – «Этим словам грош цена.» «А материнская любовь?» – крикнул кто-то. «Самоотречение материнства прекрасно,» – спокойно ответил Роуз, – «есть невидимая пуповина между матерью и ребёнком на протяжении всей их жизни и, возможно, за её пределами тоже. Но справедливо и то, что родить ребенка – то же самое, что убить кого-то: в обоих случаях вы делаете то, чего по-настоящему не понимаете.» Роуз продолжал посреди ошеломленной тишины. «Худшая вещь с этой одержимостью любовью и счастьем, это то, что она удерживает нас от честного взгляда на жизнь. Если бы мы посмотрели, то распознали бы то, ради чего существуем, – миг сознания между двумя забвениями. Каждый день мы живем на краю пропасти, и свет может померкнуть на каждом шагу. Так что единственный ответ – это сделать ходку. А пока вы её не сделали, в вас нет основания.» «Ходку?» – переспросил кто-то. «Туда и обратно,» – сказал Роуз. – «Умрите, пока живёте.» «Вы имеете в виду что-то вроде сатори?» «Нет, я имею в виду состояние Абсолюта. Конечный опыт. Просветление.» Раздалось множество озадаченных возгласов. «Одна из популярных книжек о дзен рассказывает о достижении сатори, каковое на деле не более, чем опыт “вот-это-да”,» – продолжал Роуз. – «Парень рассказывает: “я пошел в этот ашрам и оставался там много месяцев или лет, и в один день меня стукнуло. 'Вот-это-да, я достиг!' И мы выпили чаю с моим коренным мастером и мы ушли, смеясь, вместе, поскольку мы оба достигли.”» – Роуз насупился. – «Это не Просветление. Потому что, если бы этот человек испытал Просветление, его унесли бы на носилках, – настолько оно перемалывает. А тут вы не умираете и смеетесь: “вот это да!” Смерть – более кардинальна, нежели это.» Снова долгая пауза. Наконец кто-то задал вопрос, витавший в воздухе, – «а вы сделали ходку?» «Да, сделал. Но то, что я узнал, не даст вам ничего. Причина, по которой большинство не открывает Истину, состоит в том, что они хотят получить ее телесно и личностно, предпочтительно в виде подарка от кого-то другого, не трудясь ради нее,» – Роуз фыркнул. – «Но ведь нельзя ухватить относительным мышлением то, что другому открылось в опыте непосредственного постижения. Все слова, включая и мои тоже, – бесполезны. Если вы хотите узнать, вы должны пойти туда сами. И чтобы туда пойти, вам нужно пройти через смерть.» В комнате воцарилось неловкое молчание, в то время как Роуз обводил всех взглядом. «Я исследователь, а не оратор,» – сказал он наконец. – «Исследователь рассказывает вам о том, что он нашел, не считаясь с последствиями для вашего внутреннего покоя.» «Что же вы нашли?» – спросила девушка в цветастой повязке на голове. Ее голос запинался, словно она боялась ответа. «Всё. И Ничего.» «Вы имеете в виду, вы стали единым с...» «Нет-нет. Я стал Одно. Нет ничего, с чем можно стать единым.» Он провёл глазами по озадаченным лицам, – «не надейтесь, что когда-нибудь будете способны уловить это логически, потому что – не будете. Я говорю о состоянии вне слов, и даже – вне ума.» Роуз на секунду прервался, как бы раздумывая, стоит ли продолжать. «Вся эта планета – вымысел,» – сказал он. – «Показ картинок. Они порой довольно завлекательны, но от этого не более реальны. Наши умы запрограммированы забиваться всеми видами увлечений и навязчивых идей. Иные из них высасывают годы и десятилетия жизни. Потом, когда заклятье спадает, вы качаете головой и удивляетесь: “Что это за наваждение было?” Но, повернувшись к нему спиной, вы тут же впадаете в одержимость чемто другим. Целые жизни проходят так, от одной ничтожной одержимости к другой. Наконец, если вы счастливец и ни одна из ваших одержимостей не убила вас, вы осознаете, что жизнь в лучшем случае – грёза, а в худшем – кошмар.» «Но вы-то уже сбежали из кошмара,» – сказал мальчик в переднем ряду. – «Зачем же вы остаётесь тут, поселившись в наших грезах?» «Ох, я всё ещё в этом кошмаре,» – сказал Роуз. – «Каждый на земле живет в кошмаре. Разница в том, что когда вы, люди, умрете, вы попадете в другой кошмар. К тому же последует ужасная агония, сопутствующая осознанию того факта, что вы всё ещё несвободны. Моя цель – найти пять человек и пробудить их в надежде, что каждый из них найдет ещё пятерых и так далее. Вот таким образом, человечество может получить пользу.» Долгое время в помещении царила тишина. Странно, но в самом разгаре конфликтующих эмоций, бурливших во мне тем вечером, в моей голове промелькнула мысль: что на самом-то деле я хочу быть одним из этих пятерых. Я поразился этому желанию и оно продлилось лишь несколько секунд до того, как я его прогнал. Но в эти секунды оно вспыхнуло с такой энергией, какой у моих мыслей прежде не бывало. С тех пор я верю, что мысль и желание способны управлять событиями и, пожалуй, даже их создавать. И потому я иногда склонен думать, – может быть, чересчур мелодраматизируя, – что весь тот непростой период моего общения с Ричардом Роузом: жизнь в непрестанной конфронтации14 в его доме, адвокатская практика на задворках Западной Вирджинии, ношение пистолета из-за того, что местные кришнаиты заказали убийство Роуза и меня, и всё остальное – был последствием одного этого мимолётного желания узнать, каково быть Пробужденным. 2 ПРИГЛАШЕНИЕ То, как я был публично и с такой точностью прочтен Роузом, оставило меня в переполохе мыслей и чувств. С одной стороны, я никак не мог отряхнуться от чувства растерянности и унижения, испытанного тем вечером. Неким странным, таинственным приёмом Роуз выставил мой внутренний нрав с безошибочной точностью. Он разоблачил не только черты, которые я знал за собой и пытался скрыть от остальных, но и такие вещи, что я успешно скрывал от самого себя. Под его взором я почувствовал себя голым и беспомощным, и значительной части меня хотелось никогда больше Роуза не видеть. Но другая часть меня, непривычная и неведомая, испытывала прилив энергии и возбуждения, и одновременно – тяжелое, но все же не неприятное – предчувствие. Само сознание того, что кто-то знает меня столь совершенно как Роуз, порождало во мне явственное чувство близости к нему, которому я не мог противиться. Ведь он прозрел в меня глубже, чем кто-либо, а, между тем, слова его, при всей их болезненности, были не осуждением, а лишь бесцеремонной оценкой испорченного молодого человека. И все же, сколь ни повелительны были мои ощущения, не они привели меня обратно к Роузу. На самом деле я вернулся из-за того, что мне безумно, почти до наваждения, хотелось узнать, как у него получилось сделать это маленькое чудо прочтения моих ума и души. Я был уверен, что тут кроется способность, которую я смогу развить и в себе, и которая неплохо мне послужит, когда я примусь делать себе имя на этой земле. Вот почему я решил посещать встречи с Роузом, – хотя бы до тех пор, пока не открою секрета его способностей. А там уж, обладая рецептом, ускользну за дверь, чтобы заняться своей жизнью. На следующей неделе я приехал на встречу один. Переминаясь в переполненном лифте питтсбургского Дома студента15, я нервно поигрывал в кармане ключами от машины и успокаивал себя, что могу уйти в любой момент. Не помогало. Как только двери лифта захлопнулись позади, живот начало закручивать в тугой узел, напряжение в котором росло с каждым шагом, приближавшим меня к комнате собрания. В дверях я приостановился, глубоко вдохнул и втолкнул себя внутрь, ещё не ведая, сколько же раз в течение последующих лет мне придется испытывать это опять и опять: ужасную нерешительность перед входом к Роузу. Комната, казалось, была набита еще тесней, чем в прошлый раз, и я постарался проюркнуть, пока меня не узнали те, кто были на прошлой неделе. Но сев, я понял, что для чувства неловкости и больного самолюбия не было оснований: никто меня даже не заметил, не считая Ли, показавшегося слегка удивленным, и Роуза, который вежливо кивнул в знак того, что узнал меня. Несмотря на то, что помещение выглядело и шумело так же как и на прошлой неделе, кое-что было по-другому. Оглядев комнату, я заметил множество людей, которых в предыдущий четверг не было, и таковые, наверно, даже составляли большинство. Это навело меня на вопрос, сколько же у этого человека наберется настоящих стойких приверженцев. Сам Роуз тоже выглядел иначе. Он казался ниже и, пожалуй, попузатей, в сравнении с тем устрашающим образом, который всю неделю сидел у меня в голове. На нем была другая рубашка и брюки, но вид у них был тот же: чистые, изрядно поношенные и вышедшие из моды. И вел он себя иначе. Не столь темпераментный, почти стушеванный, он пустил беседу на самотек и говорил только, когда к нему обращались. «Восемь!» – громко раздался чей-то бас. – «Пожалуй, начнем.» Это был низкорослый парень с залысинами, на вид примерно лет двадцати двух. Вместе с двумя другими мужчинами он сидел за деревянным столом перед аудиторией. «Меня зовут Рей,» – продолжал он. – «Мы – дзен-сообщество Пирамида в Питсбурге. Мы встречаемся по четвергам вечером. Наша цель – найти Истину, удаляя все неистинное. Наш метод зовется системой Альбигена16.» В последующие минут десять Рей пытался объяснить принципы общества. Голос у него был глухой и монотонный, а объяснения изобиловали непонятной терминологией, вроде: обратный вектор, экономия энергии, промежуточность. Закончив, он пригласил задавать вопросы. Их было в избытке. На первые несколько он, как мог, старался ответить, время от времени оглядываясь на Роуза как бы в ожидании, что тот придет ему на выручку из явно некомфортного положения. Роуз, однако, не вмешивался, и Рею около пятнадцати минут пришось отбиваться в расчете на свои силы. После того, как бестолковщина и напряжение достигли апогея, Роуз мягко перехватил инициативу, начав дополнять ответ Рея. С этого момента все вопросы стали адресоваться Роузу и комната оживилась. Встреча, ведомая Роузом, продолжалась примерно до десяти, после чего он объявил формальную часть законченной. Ли пустил по кругу банку из-под кофе с просьбой жертвовать на бензин Роузу сюда и обратно в Западную Вирджинию. Встав, люди разговаривали между собой или выходили. Некоторые пробирались к Роузу. Вскоре вокруг него образовалась небольшая толпа и диалог продолжился. Я и так сидел поблизости, поэтому остался на месте и слушал. Вопросы имели пробный характер, как будто люди нащупывали правила этого, более тесного, круга. Роуз отвечал на вопросы по очереди, никогда не торопясь с ответом и общаясь с каждым так, будто в комнате только он и его визави. Один парень спросил, как он может попасть к нему на приём, на что Роуз расхохотался и ответил, – «знаешь, это не то же самое, что приём у дантиста.» Парень смутился. «Ты можешь найти меня в Доме студента за час или два до этих занятий,» – подбодрил его Роуз. – «У меня пятидесятидолларовая машина с низкопрофильными шинами и четырьмя запасками на заднем сиденье. Из-за возможных проколов мне приходится выезжать из Западной Вирджинии на пару часов раньше.» Люди вокруг него стали расходиться и Ли подсел ко мне. «Что правда, то правда,» – сказал он, кивая в сторону Роуза. – «Его машина сущий металлолом. Не представляю, как он ее сюда дожимает.» «Сколько набралось?» – спросил я, лыбясь на банку. «Как обычно, херня» – ответил он, потряхивая содержимым. – «Долларов шесть, похоже. Думаю, на затраты Роуза хватит.» Он переложил шелестящие бумажки и мелочь в конверт. Я достал бумажник и добавил ему доллар. «Класс!» – сказал он, скалясь. Он сунул мою бумажку в конверт, затем лизнул и запечатал его. Роуз выглянул из гущи толпы и обратился к Ли. – «Что, пойдем перекусим?» Ли поднялся и объявил, что все приглашены в «Винкис», местную гамбургерную, где общение с Роузом продолжится. Я устал и чувствовал, что на сегодня с меня достаточно, но какая-то незнакомая часть меня боялась упустить что-то ценное, так что я последовал за остальными к выходу. В ресторане было тихо, когда мы туда ввалились – человек двадцать, предводительствуемых Роузом, который в длинном шерстяном плаще и выцветшей федоре напоминал гангстера из тридцатых. Когда мы проходили мимо одной хорошо одетой пары, они тревожно уставились на странное смешение людей, которое мы собой представляли. Роуз приостановился у их столика и сделал успокоительный жест. «Не беспокойтесь,» – сказал он, – «я верну их в изолятор, до того как успокоительное перестанет действовать.» Он направился к прилавку и громко произнес, – «не знаю, как вы, а я достаточно голоден, что поесть тут.» Он вынул древний бумажник коричневой кожи с добела потертыми швами и заказал два гамбургера и большой кофе. Меня удивило, что он ест мясо и даже пьет кофе. «Иногда единственным противоядием является другой яд,» – заметил он, ни к кому конкретно не обращаясь. Когда ему дали заказ, он подошел с ним к столику, занятому Ли, и уселся. Стулья вокруг и стоявшие поблизости столы немедленно заполнились. Пока я с собой боролся, мне осталось место на периферии. Напротив Роуза сидел высокий, бесшабашный молодец лет двадцати – двадцати пяти. У него было круглое крестьянское лицо и дебелая фигура, однако речь и манеры – как у интеллектуала. Я видел его на встрече рядом с Реем и несколькими другими «приближенными», но не потратил на него много внимания. Роуз звал его Оги, и, как было видно по их отношениям, Оги являлся чем-то вроде правой руки Роуза. Он без промедления втянул Роуза в оживленный разговор и самозабвенно хохотал на многое, сказанное Роузом. В один момент Оги заржал так, что привлек изумленные взоры всего ресторана. Роуз показал большим пальцем на Оги и покачал головой. «Вот почему Оги зависает в нашей группе,» – сказал он. – «Всё, чего ему надо – это посмеяться. Он думает, что если проторчит здесь достаточно долго, то когда умрет, там окажется армия небесных херувимов, чтобы целую вечность щекотать ему задницу перьевыми щетками.» Все, кроме Оги, разразились хохотом, включая и Роуза, которого, казалось, больше забавляло смущение Оги, чем сама шутка. Внезапно однако смех Роуза перешел в надрывный кашель. Восстановив, наконец, дыхание, он отхлебнул кофе и утер рот салфеткой. «Вы в порядке?» – спросил Оги. «Да. Это просто бронхит. Возвращается каждый год с той поры, как я замерз в метель.» «Когда это было?» «Давненько. Мои дети были еще маленькими.» «Как же вас застала метель?» Роуз откинулся, слегка качаясь на двух ножках, и несколько секунд скрёб затылок. Это был один из нескольких жестов, которые, как позднее я понял, предвещали рассказ о какойнибудь истории из его жизни. К открытиям, сделанным мной в последующие годы, относилось и то, что Роуз был, помимо многого другого, виртуозным рассказчиком. «Ладно,» – сказал он, – «это было, когда я крутился как белка, чтобы обеспечить семью. У меня был покрасочный бизнес в городе и подрастал скот на ферме. Я сходил с ума, всё время мотаясь между фермой и городом». Мало зная пока Роуза, я с большим трудом смог представить его в качестве семьянина с детьми и обычными заботами. «Как-то мой шурин, Арт, и просит поехать с ним в Лос-Анжелес. Не помню, заболел ли кто из его родни или было у него там дело. Но, в любом случае, я нуждался в коротком отдыхе, и потому решил: всё к черту, поехали.» Теперь перед нами сидел другой Роуз – расслабленный и говоривший словно в кругу старых друзей. «Мы туда славно съездили, безо всякой спешки. Остановились в Великом Каньоне. Добрались до Цветной Пустыни17. Никогда не видел ничего подобного тамошнему закату. Полностью небо вспыхивает как пламя. Исключительно красиво. Ну вот, добрались мы до Эл-Эй18, а через два дня жена звонит. Стояла ранняя весна, и она мне говорит, что как раз со стороны Канады движется аномальная метель. Весь штат покрыт снегом в фут.» Подошла полненькая девушка в форме Винкис в оранжевую клетку и предложила подлить кофе. Роуз мгновение колебался, но согласился. «Это – яд, милочка,» – сказал он, когда она добавила ему в чашку. – «Губит почки.» Когда она отошла, он засыпал несколько пакетиков сахара и продолжил. «Ну вот, прыгнули мы в машину и взяли курс прямо на Западную Вирджинию, поскольку я оставил скот пастись на ферме, – в это время года никакого снега, разумеется, не ожидая. И теперь из-за снега скот не мог добывать пищу. И если он останется под открытым небом, то – никакой надежды. Он погибнет либо от холода, либо от голода. Так что мы дали газу и полетели без остановки. Добрались меньше чем за 48 часов,» – произнес Роуз не без гордости. – «И это до того как провели магистрали, – по старым шоссе 40 и 66. У меня был старый Бьюик, купленный за 50 долларов. Не слишком надежный, но, уж если завёлся – прямо летал. Мы шли через Индиану сто миль в час, когда просвистели мимо патрульного штата, стоявшего у своей машины с той стороны дороги. Вы бы видели, как он засуетился. Арт начал тихо материться. “Да успокойся,” – говорю я, – “До Огайо меньше десяти миль. Пока он развернется, мы пересечем границу.”» – Роуз фыркнул и сдул пар над своим кофе. – «Никогда больше не видел того копа.» Я оглянул безмолвный ресторан. Мы оставались одни. «Ну, высадил я Арта в Бенвуде и поехал к ферме.» – он повернулся к Оги. – «Теперь это «бывшая» ферма, та, что теперь у кришнаитов, а не та, где, вы ребятки, были прошлым летом на интенсиве.» Ли упоминал, что у Роуза есть ферма, но никогда не говорил о второй, «бывшей». Я удивился про себя, чем там могут заниматься кришнаиты. А Роуз продолжал. «Последние две мили до фермы шли по такой слякотной грунтовке, что даже в сухую погоду до фермы можно было проехать не ближе чем на пол-мили. Когда я подъехал к грунтовке, там снега оказалось выше машины, так что пришлось остаток пути идти пешком.» Он покачал головой. – «Это была пара тяжелых миль. Некоторые сугробы были выше меня и мне оставалось просто бежать по ним, стараясь проваливаться не с головой. А всё, что на мне было, это – пара городских туфель и демисезонная куртка. Я уже наполовину замёрз, когда добрался туда. Туфли промокли и я не чувствовал пальцев на ногах. Как я и предполагал, несколько тёлок уже погибли, а остальные рассеялись по всей ферме. Целый час я расчищал от снега вход в коровник, только чтобы попасть к тому чёртовому коню,» – глаза Роуза блеснули, когда он заговорил о животном. «Это было мерзкое создание, хочу вам сказать. К нему нельзя было повернуться спиной, – он нападал сзади, и один раз сломал мне пару ребер. Иногда, чтобы запрячь его в плуг, мне требовалось два часа. Затем он утихомиривался и позволял вывести себя на поле. Однако, стоило взяться за плуг, как он ложился. Как ни лупил я его, он не поднимался, пока я его не распрягал,» – Роуз хмыкнул и качнул головой с невольным уважением. «Его было не удержать на пастбище, никак. Он перепрыгивал или проламывался через любую изгородь. Вот почему я запер его в сарае – иначе вне стен его было не поймать. Но соль была в том, что наряду со своим упрямством этот конь мог быть сущим демоном. Стоило мне сесть на него в тот день и дать шпоры, как он клубом дыма бросился сквозь снегопад. На той ферме было 170 акров19 и я проскакал каждый из них, ища скот. Только я начал его сгонять, как снег повалил ещё пуще. Вскоре я ни черта не видел, включая и коня. Он становился всё более напуган и неуправляем. Нас окружало бурлящее белое море. И тут он споткнулся, вступив в сурочью нору, отчего вконец обезумел. Принимается становиться на дыбы и брыкаться и следующее, что осознаю: я свисаю с его боку с одной ногой в стремени, а он продолжает бежать, волоча меня головой по земле. Пол-часа он таким образом таскал меня по снегу и зарослям, вверх и вниз по холмам. Даже через один или два ручья.» «Но вы держались?» «Пришлось,» – сказал Роуз без выражения. – «Кроме того, я знал, что рано или поздно он выдохнется. Действительно, наконец он замедлился и я смог забраться обратно в седло. В итоге мы завершили загон скота и спасли его от непогоды.» Роуз замолчал, оглядывая ресторан. Прыщавый юноша нетерпеливо глазел из-за прилавка. Другой припал к швабре. «Слушайте, а который час?» – сказал Роуз, добирая остатки еды. «А что с бронхитом, мистер Роуз?» «А! Ну, после того, как скот оказался в сарае, я пошел в дом и свалился на пол. Кишки мои замёрзли. То есть, они буквально замерзли. Я очень переохладился. А в доме не было ни единого сухого полена разжечь огонь. Три дня я не мог двинуться. Просто лежал на полу и кашлял так, что, казалось, выплюну внутренности. Вот с той поры мои легкие уже не те.» После краткого молчания Роуз и все остальные поднялись одновременно. «Почему вы попросту не вытащили ногу из стремени и не освободились от коня, вместо того, чтобы позволить ему таскать вас по ферме?» – спросил Оги. Роуз взял свой поднос. – «Да, я довольно легко мог освободиться, это так. Но я дал слово этого не делать. Когда я выводил коня из сарая, я знал, что это хороший шанс быть убитым. Поэтому перед тем, как я сел на него, я пообещал, что либо мы вернемся оба, либо ни один.» Роуз бросил мусор в корзину и двинулся к двери. «Стоил ли того конь?» – спросил я полушутливо. Он вдруг обернулся и без тени улыбки уперся в меня взглядом. Голос его был тверд и громче, чем при обычном разговоре. «Не имеет значения, стоил ли того конь,» – сказал он, прищуриваясь на меня. «Имеет значение то, что я дал слово. Однажды дав его, ты или его держишь или умираешь, стремясь удержать.» Затем он поднял руку и ткнул коротким, толстым пальцем мне в грудь. «И вот такой ты должен сделать свою адвокатскую практику!» – несколько секунд он пристально смотрел на меня без движения, затем повернулся и вышел за дверь. Меня сразили его сила и прямота. Этот вопрос был единственными словами, что я сказал ему в тот вечер, и он опять атаковал их, застав меня врасплох и ошеломив до глубины души. Какое-то время, показавшееся мне долгим, я смотрел ему вслед, ничего не видя и пережидая, когда кровь перестанет стучать в ушах. Я вышел из дверей последним и шёл, едва отдавая себе отчёт о происходящем вокруг. Стоя рядом с тротуаром, Оги напоследок получал от Роуза какие-то инструкции. Приблизившись, я успел разобрать, что в эти выходные Оги едет на ферму к Роузу и видимо собирается привезти новых людей. «Просто убедись, что в этот раз нет ведьм,» – сказал ему Роуз. Оги смущенно улыбнулся, а некоторые засмеялись. Помахав рукой, Роуз повернулся и шагнул было к своей машине, но остановился в нескольких футах от нас и обернулся опять. «Да, кстати,» – сказал он, снова наставив на меня палец, – «если он захочет приехать с тобой, – то всё в порядке, даже очень.» 3 БЕНВУД Следующим вечером мне позвонил Оги и сообщил, во сколько меня заберёт. «Ровно в восемь,» – сказал он тоном, из которого явствовало, что он – человек, ценящий пунктуальность превыше всего, и, если я опоздаю, не станет ждать и минуты. Субботним утром я, по-прежнему равно исполненный любопытства и сомнений, был готов к 7:30. Опасаясь, что Оги пропустит мой дом и ему не достанет терпения его искать, в 7:45 я вышел на декабрьский мороз, чтобы ждать на передней террасе. В 9:15 я всё ещё стоял там, постукивая нога о ногу и дуя в перчатки. Оги нету. В сотый раз я всматривался в окно, чтобы взглянуть на каминные часы. Стоя на крыльце, я прокручивал в уме последние десять дней и старался понять, ради чего стою на пронизывающем холоде в ожидании поездки к какому-то захолустному гуру. Почти противореча себе, я должен был признать, что этот человек мне нравится. Мне нравились прямота его оценок и язвительное чувство юмора. Мне нравилось странное сочетание уверенности и смирения, с которыми он держал себя. Нравилось то, что я почувствовал, когда он взглянул мне в глаза и сказал, какой должна быть моя адвокатская практика. Но он также и пугал меня. Он был мистик, человек с властью. Пока ещё я не знал пределов его власти, но не был уверен, что готов это выяснить. Думаю, я страшился того, что, отважившись зайти в его мир слишком далеко, я никогда не выберусь обратно в мой. Чем дольше я стоял на маминой террасе, тем больше ощущал себя маленьким мальчиком, ждущим лагерного автобуса, который увезет его из теплого уюта в неизвестность. И к тому моменту, когда белый форд-фургон Оги наконец заурчал на дороге, визжа шинами и сигналя, мне уже хотелось, чтобы он меня никогда не нашёл. Открывая дверцу, я ожидал бурных извинений за двухчасовое опоздание и приготовился быть великодушным, хотя и достаточно прохладным, чтобы дать понять меру моего недовольства. «Прыгай, мы опаздываем,» – бесстрастно сказал Оги, втыкая со скрежетом заднюю. Я заглянул внутрь. Пассажирского сиденья не было, на его месте возвышалась куча хлама. «Куда?» – полюбопытствовал я с принужденной усмешкой. Он не улыбнулся. – «Прояви изобретательность. Поехали.» Я съежился в тесном пространстве и захлопнул дверцу. «Ещё кого-нибудь будем брать?» – спросил я. «Нет, они едут из Кливленда,» – бросил он. Он сдал на дорогу и нажал на газ, по-видимому не имея настроения для разговора. Я осмотрелся, ища возможности устроиться поудобней. Между нами от задней двери до лобового стекла лежали два огромных свернутых ковра. Остальное пространство было завалено рейками, рулонами набивки, пятигаллонными банками клея и разным инструментом. Поблизости стоял ящик, полный рекламок дзен-сообщества Пирамида и полудюжиной экземпляров книги Роуза «Документы Альбигена20». За водительским сиденьем валялись спальный мешок и грязная подушка, а на приборной доске красовались потрепанные «Наставления Хуан По» и «Бхагавад-Гита». Я приспособил банку клея себе под сиденье и надеялся, что она не подведет. Когда, наконец, мы повернули на 79 магистраль и набрали скорость, Оги как будто несколько расслабился и я решил втянуть его в разговор. «Обчистил магазин ковров или вроде того?» «Ковры мне нужны, чтобы устроить жизнь,» – сказал он, повернувшись ко мне и скалясь, – «если это можно назвать жизнью.» Моего сдержанного смеха оказалось достаточно, чтобы он принялся болтать. С этого момента сложным было не разговорить его, а вставить хоть слово. Он сообщил, что из-за работы с Роузом ему приходится жить в дороге, поскольку он организовывает лекции и собирает группы. Примерно за год, что они проработали вместе, они отлично сладились. Оги отправляется в очередной кампус и назначает дату для лекции Роуза. После лекции Оги находит наиболее заинтересовавшегося ученика и уговаривает его сформировать при кампусе группу изучения дзен. «Но Роуз непредсказуем,» – сказал он. – «Гладко ничто не проходит. Никогда не известно, что он собирается сказать или сделать. Как-то на лекцию попал престарелый греховодник, – выглядел как пьянь с улицы, – и настойчиво упрашивал, чтобы мистер Роуз помог ему. Роуз старался не обращать на него внимания, но тот никак не хотел замолкнуть. Как заладил: “помогите, да помогите”. Наконец, Роуз ему и говорит: “я бы и рад тебе помочь, приятель, да оставил пистолет в Западной Вирджинии”.» Оги захохотал и затряс головой. – «Не много же заинтересовавшихся было у нас в тот вечер. Люди предпочитают гуру, которые говорят, что любят всех. А на другой лекции Роуза доставал один здоровенный парень из тусовки кришнаитов с кучей своих приспешников. Какое-то время Роуз терпел, но потом велел парню убираться. Здоровяк на это скрещивает руки и отвечает, что тут публичная встреча в университетском здании и уходить он не собирается. Роуз говорит: “ты уже уходишь. Это совершенно ясно. Вопрос только: в дверь или в окно!”» – от воспоминания Оги расхохотался так, что не мог говорить. – «Мы на шестом этаже... и Роуз говорит: “в дверь или в окно”.» «И парень ушёл?» «Да, чёрт возьми. Они все ушли. И правильно сделали – Роуз не шутил.» Когда Оги прекратил смеяться, он принялся рассказывать, что после того, как он собирает в кампусе группу, на её собрания иногда приезжает Роуз, а сам он, пока не подготовит себе замену, остается в ней старостой. Когда же Роуз одобряет нового старосту, то посылает Оги в следующий университет, проделать то же самое. Целью Роуза, по словам Оги, было использование таких групп для выявления по-настоящему искренних искателей, достаточно серьёзных для непосредственной работы с Роузом. «Что это за работа?» – спросил я. «Внутренняя работа. Работа над самим собой, чтобы стать меньшим дураком. Работать, чтобы достичь Просветления, как это сделал Роуз.» Оги замолчал на мгновение, как если бы собственные слова навели его на глубокую мысль. Это был энергичный, с ясной речью человек, находившийся, без сомнения, на своем месте. В этом отношении он, пожалуй, превосходил большинство людей, виденных мной на встречах. «И долго это уже длится?» «Около двух лет.» «То есть, еще два года назад у Роуза не было групп?» «Не было. Когда я встретил Роуза, он ещё красил дома и жил со своей женой.» «Но он выглядит так, словно занимается этим всю жизнь.» «Это потому, что он дожидался этого всю жизнь. Всё время, с момента своего Опыта. Это так, словно у Роуза в голове всегда сидела готовая идея о духовных группах, хотя казалось, что у него никогда не будет шанса собрать группу.» Вереница грузовиков заполнила обе полосы магистрали. Оги нетерпеливо взглянул на часы и подпёр грузовик на левой полосе. «Роуз перепробовал все. Помещал рекламу в журналы, давал сеансы гипноза, писал ко всем, кто только выказывал малейший интерес. Даже женившись, он изъездил всю долину Огайо21 в поисках людей, с которыми можно было бы встречаться регулярно. Но он так и не нашел никого настроенного серьезно – во всяком случае, не в смысле его серьезности.» Грузовик впереди ушел, наконец, на правую полосу и Оги поддал газу. Фургон изрядно дёрнуло, отчего моя банка с клеем повалилась и я оказался на полу. Оги буйно хохотал, пока я со всем достоинством, на какое был способен, отряхивался от пыли и восстанавливал своё сиденье. «Впрочем, для Роуза это характерно,» – продолжил Оги. – «Он никогда не сдавался. По нему – это рецепт успеха в любом деле. Упорство. “Если ты станешь плескать достаточно слякоти на потолок, кое-что в итоге прилипнет,” – он так говорит. Что и случилось. В поздние шестидесятые всё переменилось. “Окно открылось,” – как сказал он об этом. Он полагает, что тут замешан ЛСД, но не знает, была ли кислота катализатором или просто одним из симптомов духа времени. Как бы оно ни было, Роуз говорит, что, очевидно, галлюциногены дали людям достаточно искусственно вызванных прозрений, чтобы они могли улавливать то, о чём он говорит. До этого, когда он рассказывал о пребывании в ином измерении22 и видении земли как иллюзии, как это было в его Опыте, люди просто думали, что он псих. Теперь же благодаря кислоте у ребят было достаточно подобных же озарений, чтобы почувствовать, что Роуз, похоже, говорит о чём-то, что существует независимо от наркотического транса. И ещё одно – некоторые из местной молодежи стали наведываться на его ферму. Пошли слухи, что Роуз – сведущий мужик и может пообщаться с тобой, когда ты под кайфом. Уверен, что это и было знаком, которого он ждал, потому что он вложился в дело на сто процентов. Закрыл свой подрядный бизнес, оставил спокойную работу, несмотря на то, что едва сводил концы. Я провел у него дома целый день и единственное, что я видел, он ел, были вчерашние булки из дешёвой пекарни.» «А его жена?» – спросил я. «Ушла около года назад. В первый раз я приехал домой к Роузу вместе с Реем, – ты его знаешь: он теперь ведет питсбургскую группу. Ну понятно, мы были готовы увидеть, что угодно. Но даже так, мы едва не попадали, когда через дверь ответила его жена. Мы не могли и подумать, что такой человек как Роуз может быть женат. Она не скрывала, что не слишкомто рада нашему появлению, и держалась поодаль от нас всё время, пока мы там были. Не прошло и года, как она съехала. Думаю, слишком много брахмачарьев приезжало и уезжало круглые сутки. По-настоящему она никогда не знала этой стороны жизни Роуза. Его Опыт случился до того, как они встретились. Только один раз он говорил с ней о нём – в день свадьбы. Сказал, что всегда будет о ней заботиться и будет верен, но если ему предоставится шанс учить, – он воспользуется им.» Оги бросил на меня взгляд, – «уверен, у нее, конечно, и понятия не было, о чём он говорит. Наверно, подумала, – он имеет в виду учить в школе или как-то так. Но к тому времени, как я встретил Роуза, их супружество при любом раскладе было исчерпано. Дети выросли. Его жена вернулась в школу и стала медсестрой. Так что выглядит к закономерным, что группа возникла как раз тогда, когда она решила уйти.» «А на что это похоже – работать с ним?» Оги усмехнулся, не размыкая губ и медленно покачал головой. «Иногда это изрядная боль,» – сказал он. – «А в иные моменты – во всей вселенной нет места лучше.» Какое-то время он оставался непривычно тих, словно раздумывая, стоит ли углубляться. Когда он заговорил опять, у него был несколько иной тон. «К примеру, прошлым летом,» – начал он, – «Роуз затеял интенсив на своей ферме и куча наших приехала пробыть там несколько месяцев. Настоящая солянка индивидуальностей с различным опытом, – но все вдохновлены предстоящей серьезной работой с мастером дзен. И вот, Роуз завел нас на ферму, показал места для палаток, машин, еще чего-то, и уехал в город, в Бенвуд, – мы сейчас туда едем. Мы решили, что он появится утром, чтобы учить дзену, но его – нет. И на следующий день тоже. И еще день. Мы ждём неделю, но он не появляется. Наконец мы набрались смелости поехать в Бенвуд и повидаться. Он появляется в дверях, смотрит на нас и только спрашивает: «Ну, и чего вам надо?» Мы переминаемся, лепечем, что не понимаем, что, он хочет, мы делали. «Нам скучно,» – говорим. «Отлично!» – отвечает он, – «Это то, чего я и дожидался. Теперь у вас хотя бы один настрой на всех. Когда вы приехали, то блуждали каждый в своих грёзах, готовые разбежаться в дюжине разных направлений. Заходите, поговорим.» И вот, тем летом он приставил нас к работе по разборке доска за доской дома, принадлежавшего ему в городе. Потом весь лом мы вывезли на ферму и использовали при постройке бунгало. Ну, я не слишком дружу с руками, разговоры – вот, что у меня получается лучше всего. По сути, я и ковёр-то везу, чтобы усвоить практические навыки. Роуз это, конечно, заметил и даже не давал мне большинства своих инструментов и запретил лазить на крышу стройки – опасался, что я покалечу либо себя, либо других. Он давал мне задачи более интеллектуальные – вроде выпрямления старых гвоздей, – Роуз, однако, бывает экономным до крайности. Ну вот, а пока я был занят этими интеллектуальными делами, то развлекался подколками – кого-нибудь подначивал. Окружающим это не слишком понравилось и они пожаловались Роузу. А он им сказал перестать быть малыми детками и научиться бить меня в моей же игре. Когда я об этом услышал, то понял, что мне дан карт-бланш отрываться на тех ребятах по полной, чем я и занялся. Но тут-то Роуз принимается за меня и начинает не по-детски доставать. Поначалу-то он был остроумен и забавен, каким обычно бывает, когда он с кем-то в конфронтации, но через пару дней он отбросил свой юмор и попросту стал меня плющить, даже не стараясь выглядеть забавным. Несколько дней я думал: “ладно, он дает мне урок. Я этого заслуживаю.” Но он продолжал в этом духе, наверное, недели две. Я не мог ни есть, ни спать. Всё, что я мог – это думать о том, что это он делает со мной и зачем. День-деньской, что бы я ни сказал или сделал, он только и бранил меня. Даже ребята, над которыми я прикалывался, и те прониклись ко мне сочувствием. Одной ночью я пребывал в таком глубоком отчаянии, что сидел на улице в темноте со своей собакой – я привез свою немецкую овчарку Дхарму – и предавался жалости к себе. И тут Дхарма побежал в то место на ферме, куда все ходили срать. Роуз не доверяет уборным с ямами, поскольку не хочет, чтобы это дело попало в водный слой. Короче, той ночью Дхарма сбегал туда и вывалялся во всём свежем дерьме, какое только нашел. Потом прибежал и стал прыгать на меня, буквально вымазывая человеческими экскрементами.» Оги покачал головой, вспоминая. – «Я знал: уж если Роуз прослышит об этом эпизоде, то воспользуется им по полной программе, так что постарался вычиститься без лишних глаз. Без успеха. С пару человек меня засекли и унюхали, и мне пришлось рассказать, что случилось. И само-собой – через пару дней, когда у нас была встреча в городе у Роуза на кухне, один парень рассказал о случае с Дхармой. По этому поводу Роуз поимел день отрыва. Он сказал: “я всегда знал, что этот пес – мастер дзен. Ему тошно принимать гадости от Оги точно так же, как и всем нам, но сказать-то он не может. Поэтому он сообщает об этом в передаче без слов – он собирает всё и возвращает ему обратно!” Он это говорил снова и снова. Все поначалу ржали. Даже я какое-то время пытался смеяться и оценить шутку. Но Роуз и не думал оставлять меня в покое. Это продолжалось часами. Буквально часами. Я был совершенно раздавлен. В конце-концов это надоело и другим людям в комнате, – независимо от того, как сильно я им не нравился. Все смотрели в пол и избегали встречаться с Роузом глазами. Кроме одного парня, Эла, который на Роуза серьёзно разозлился и сверлил его взглядом. Я навсегда запомнил, что Эл это сделал. Для меня это много значило. Наконец, около полуночи Роуз резко прекратил разговор и мы ушли.» «У этого была концовка?» «В каком-то смысле – да. Спустя несколько дней я был на постройке бунгало – смотрел, как другие работают на крыше. Роуз проходил мимо меня и положил мне руку на плечо. “Было не так уж плохо,” – сказал он, – “выживешь”. Затем он пошел дальше и на этом все кончилось. Остаток лета прошел так, словно бы ничего и не было.» «А что ты испытывал в отношении Роуза, пока это длилось?» Оги помолчал немного, как бы раздумывая, что сказать и стоит ли вообще. «Забавная штука,» – ответил он, – «но, мои чувства к Роузу и тогда, и теперь – полная гамма. Он может привести меня в ярость и выбить из седла так, как этого никогда со мной не бывало, а через две минуты воодушевить и подвести буквально к слезам. Я всегда испытывал сильное возбуждение возле Роуза, но это меня пугало и приводило в замешательство. Мне не нравилось чувствовать, что в любую минуту могу сорваться и заплакать, поэтому я сражался с этим. Позже я услышал, как Роуз назвал это “напряжением”. Он говорит, что некоторые люди чувствуют его энергию – чувствуют, кто он такой. Всё лето это чувство то приходило, то уходило, – даже тогда, когда он меня плющил. Что-то во мне всё хотело спросить его об этом, но, догадываюсь, я боялся, что он сделает из меня посмешище либо решит, что я слабак или тряпка. Но потом одним вечером, уже к концу лета, мы собрались в Бенвуде на кухне. Роуз был в редком ударе, источал шутки, рассказывал истории, – в общем, смешил всех до коликов. Дом был наполнен ощущением всепоглощающего тепла и дружбы – не было и следа натянутости. Думаю, поэтому я и решился тем вечером что-то ему высказать, – я чувствовал себя в безопасности среди друзей и сама атмосфера в комнате располагала к разговору. Я сидел близко к нему, сзади наискосок, так что был вне поля его зрения. И в тот момент, когда все смеялись над чем-то, им сказанным, я подался вперед и заговорил ему о своем чувстве. Но мне по-прежнему не доставало смелости выразиться ясно, и я облёк его в расплывчатые слова. Я сказал: “знаете, мистер Роуз, мне иногда кажется, если я отпущу себя, со мной что-то случится.” Не промедлив и мгновения, он тут же обернулся ко мне с совершенно изменившимся, непередаваемым выражением на лице – и говорит: “да, но тебе придется заплакать. А ведь Оги не плачет, не так ли?” Он всё равно что заехал мне кирпичом. Мою голову буквально отбросило назад. И ещё до того как я понял, что не способен удержать его, – мой ум неконтролируемо помчался. Он стал как мотор, набирающий обороты за пределом допустимого уровня, быстрей, быстрей, и казалось, уже ничто не предотвратит его разрушение. И тогда, на некоторой пиковой точке, я осознал, что я – не человек, переживающий этот устрашающий опыт, но что я – из другого, более выгодного положения – наблюдаю за тем собой, который переживает. И я совершенно определенно знал в этот момент, что шанс смотреть на себя мне предоставлен для того, чтобы я смог увидеть того, кто смотрит. Что, если поверну свою ментальную голову, то увижу – кто я на самом деле.» «Ничего себе. И ты увидел?» «Чёрт побери, нет. Я был в ужасе. Это было последнее, чего я хотел в тот момент. Я знал: кого бы я ни увидел, это буду не я, не Оги. Ужас перед тем, кого я мог увидеть, сковал меня полностью. Ужас увидеть, – кто я в реальности.23» «А что мистер Роуз делал в это время?» «Роуз отвернулся сразу, как только произнес свои слова, и возвратился к разговору за столом. Я чувствовал, что меня словно уносит из комнаты, но я ещё сознавал в некоторой степени Роуза, хотя из остальных – никого. Потом мне говорили, что глаза у меня были с блюдца и по лицу текли слезы, но так как Роуз не обращал на меня внимания, остальные поступали так же.» Я был поражен этой историей. – «А дальше?» «В определенный момент, – когда я отказался от возможности увидеть себя – мой ум постепенно стал замедляться, пока снова не вернулись мысли. Я чувствовал, что возвращаюсь в комнату. Затем, как только я стал сознавать присутствующих и обстановку, Роуз небрежно повернулся ко мне и тихо сказал: “Мои глаза зрели славу пришествия Господня.”24» Оги перестал говорить, а я больше не задавал вопросов. Мы проехали под большим синежелтым щитом с приветствием: «Дикая, удивительная Западная Вирджиния», затем через несколько миль свернули с магистрали и стали взбираться на крутой подъём со скромными кирпичными домишками по бокам и пикапами возле них. От молчания мне стало неуютно. Проехав еще несколько миль, мы спустились в долину и вывернули на четырехполоску, шедшую вдоль Огайо. Я глазел на безотрадную индустриальную панораму: металлические склады и свалки, каменные карьеры и заброшенные фабрики, тянувшиеся по берегам реки. «Роуз пугает меня,» – сказал я. «Меня тоже,» – отозвался Оги тихо. – «Он страшит всякого, у кого достает интуиции почувствовать, кто он такой.» Мы проехали Уилинг, на выезде из которого была табличка «Бенвуд», и двинулись по узкой улице, которая, похоже, была основной дорогой до того, как провели четырехполосное шоссе. Оги ехал медленно, почти нерешительно, вероятно проходя через свою версию ментальной подготовки, которой был занят и мой ум. Я пытался рассеять нервозность, концентрируясь на примечательностях Бенвуда, который мы проезжали. Между Огайо с одной стороны и крутыми склонами гор с другой городу было мало места. Узкие дома стояли тесно друг к другу. Всё выглядело старым, ржавым и нуждающимся в покраске. В крошечных двориках росли сорняки. Не так уж много людей было на улицах, но те, кого я видел были усталыми и безжизненными. У женщин были толстые руки, у мужчин – каменные лица с глубоко врезанными линиями. Наконец, мы завернули на большую асфальтированную стоянку рядом с закопченным кирпичным строением. Выцветшая табличка гласила: «Единая неполная средняя школа». Оги встал рядом с единственным автомобилем на стоянке, старым белым хлебовозом, и заглушил двигатель. «Ну вот,» – произнес он, натянуто улыбаясь, – «представление начинается.» 4 АБСОЛЮТ Я выбрался из фургона и последовал за Оги через улицу. Мы прошли несколько мрачных каркасных домов, темных от фабричного дыма, и остановились перед крутыми бетонными ступенями, ведшими к дому 1686 на Маршалл-стрит. Оги посмотрел на высокий узкий дом, стоявший на склоне. Он был серо-стального цвета, почти идеально сливавшегося с зимним небом того дня, и казалось, что он с готической торжественностью всматривается в меня с вершины крутой лестницы. «Мы зовём его нашим домом, хотя это не совсем так,» – сказал Оги с усмешкой, откровенно забавляясь моим замешательством от представшего вида. Вдруг раздался громовой металлический лязг и вой, от которого под нами, казалось, сотрясся тротуар. Я инстинктивно отпрянул и закрутил головой в поиске источника шума. Оги зашелся в веселом хохоте и указал на длинные ряды товарных вагонов, стыковавшиеся на сортировке в нескольких кварталах отсюда. «Тебе надо тут поспать ночку для пробы,» – сказал он и полез по ступеням. Перед тем, как последовать за Оги, я несколько секунд изучал унылый, безрадостный дом и подумал, что спать там – последнее, что мне хотелось попробовать. Мы прошли мимо фасадной двери к задней маленькой террасе, загроможденной старым холодильником и несколькими шинами. Оги помедлил, переводя дыхание, затем сказал, – «ну, была ни была,» – и громко постучал. Вскоре дверь приоткрылась и оттуда выглянуло настороженное лицо. «Боже!» – взревел Роуз, увидев, кто это, и распахнул дверь. – «Так, как вы стучали, я решил: это копы или налоговая.» И оглядев нас с преувеличенным вниманием, добавил, – «может, оно было б и лучше.» Затем он расплылся в заразительной улыбке. – «Ну, давайте же, проходите.» Как только мы закрыли за собой дверь, он протянул мне свою широкую, мускулистую руку. «Хорошо, что ты здесь,» – сказал он. Его крепкое, дружеское пожатие и тёплый тон незамедлительно устранили мою робость и привели в кратковременное ощущение благополучия. Затем он повернулся к Оги. «Ты опоздал,» – сказал он, обводя рукой помещение. – «Твои подопечные из Кливленда здесь уже больше часа.» Я был так поглощен приветствием Роуза, что осмотрелся только теперь. Мы находились на кухне полной людей, сидевших вокруг жаростойкого стола на разнокалиберных стульях. В глаза бросались три старых холодильника, свежепокрашенных в эксцентричный персиковый цвет. Возле одной из стен стоял антикварный фарфоровый рукомойник. На газовой плите были включены две горелки, но ничего на них не готовилось, а в углу стояла, потрескивая и попыхивая, здоровенная газовая колонка коричневого цвета. На стене, которая только и была свободна от разводки труб и утвари, висела большая самодельная полка, заваленная книгами, бумагой и принадлежностями для письма. «Обождите,» – сказал Роуз, исчезая в коридоре, – «гляну, нет ли еще пары стульев.» Пока он отсутствовал, Оги представил меня десятку людей из кливлендской группы. Вскоре Роуз вернулся с дубовой скамеечкой для ног в одной руке и высоким красным стулом- стремянкой в другой. «Лучшее, что есть,» – сказал он, подвигая их к столу. Оги тут же ухватил скамеечку и мне осталась стремянка, которая была неудобно высокой и при том без подлокотников. Я подтянул ее поближе к столу и, сев, попытался было опереться на него локтями, но угол оказался неподходящим. На столе лежали ручки, записные книжки, прошитые спиралями, стояла старая железная печатная машинка. Между всем этим располагались разномастные чашки и вилки, ни одна не повторявшая другую. «Хотите чаю?» – спросил у нас Роуз, хватаясь за помятый чайник. «Да, спасибо,» – сказал я. Оги отказался и заместо чая вытащил из своей лыжной куртки большую бутылку диетического пепси. Роуз наполнил чайник водой и поставил на одну из включенных горелок. «Ну что, Оги,» – сказал Роуз, указывая на собрание, – «как минимум, ты прислал народ получше, чем в прошлый раз. По крайней мере в этой компании нет ведьм.» «Вы когда-нибудь дадите мне забыть об этом или нет?» – осклабился Оги. – «Вы же знаете, что я привел их только потому, что...» Роуз его проигнорировал и обратился к остальной группе. – «Несколько недель назад Оги нарисовался на пороге с двумя неопрятными женщинами, выглядевшими, между тем, столь надменно, сколь это вообще возможно. Кожи. Я посылаю его найти серьезных искателей, а все, что его заботит, это – количество. Он думает, его миссия в жизни – увидеть, как много кож он может притащить в дом мастера,» – рассмеялся Роуз. Несколько людей насупились на сравнение их с кожами для выделки, но Роуз то ли не заметил, то ли не озаботился этим. «Жутко выглядевшие женщины. У одной длинные черные волосы свисали по лицу, что было, впрочем, сущим благодеянием. Но время от времени она откидывала голову назад, отчего волосы открывали лицо. Боже всемогущий! – это походило на раздвижку занавеса в начале греческой трагедии.» Все захохотали и Оги громче всех. «Я вам, однако, скажу, что, как только они прошли на кухню, я учуял сильный запах серы,» – продолжал Роуз, – «и тут же понял, что они одержимы дьяволом.» Несколько бровей вокруг стола удивленно взлетели. Роуз посмотрел на это и адресовался одному из скептиков. «Разумеется,» – сказал он, – «психиатры сказали бы, что они давно не мылись, или что они ели спички, или что-нибудь ещё. Но конкретно у одной... Как её, черт возьми, звали?» «Лесли,» – сказал Оги. «Да-да. У меня ужасная память на имена. У нее были косые глаза – глазные яблоки двигались независимо. И вообще, мне всё время виделась та смутная фигура позади нее. Так что я ей сказал наконец: “не возражаете, если я задам вам личный вопрос?” Она ответила: “задавайте без обиняков”. Я спрашиваю: “у вас есть сущность, которая перемещается вместе с вами?” Она и отвечает: “о да, у меня их пять.”» При этом Роуз произносил ее реплики пискливым голосом столь смешно, что к своему удивлению я взорвался от смеха. Роуз бросил на меня взгляд и остаток истории рассказывал уже мне. «Ну, я говорю: “не откажетесь ли показать, где она?” Она отвечает: “не вопрос”, и указывает прямо на ту тень, что, я вижу, висит над её левым плечом. Вы бы видели Оги,» – сказал Роуз и приставил к глазам сложенные большими кругами пальцы, – «у него вот такие глаза были.» Оги кивал и смеялся. «Той ночью мы устроили цирковую пирамиду,» – проговорил он. – «Те две женщины были в комнате, что в конце коридора, а мы трое спали в средней. И никто не хотел спать под дверью. Каждый раз как я вставал, кто-то занимал мое место, так что я оказывался ближним к двери. Тогда я брал свой спальник и опять втискивался за остальными. К утру мы лежали в дальнем углу, скучившись друг на друге.» Роуз и Оги принялись опять хохотать, видно, припоминая новые подробности и с каждым воспоминанием расходясь ещё больше. Роуз уже держался за бока так, как если бы они ныли. Довольно долго они корчились от смеха, предоставив остальным самим догадываться, в чем юмор ситуации. Я заразился их смехом, но большинство из сидевших за столом чувствовали себя неловко. Когда Роуз и Оги, наконец, прекратили смеяться, в комнате, пока они откашливались и протирали глаза, повисла тишина. «Знаете, мистер Роуз,» – сказал Оги серьезным голосом, – «позже я выяснил, что Лесли принадлежала к подпольной организации, которая устанавливала бомбы и кое-кого убила в висконсинском университете.» «А, ну, тогда понятно, как ей удалось обзавестись своими сущностями,» – отвечал Роуз как ни в чем не бывало. – «Либо же она приобрела их до того, а они-то и вовлекли её в кровавое дело.» Мысль о том, что сущности и одержимость могут быть реальным феноменом, а не только основой для фильмов ужасов, была мне абсолютно чужда. Мне хотелось, чтобы Роуз это прояснил, но не решился задать вопрос. «Зачем же вы это терпели?» – спросил невысокий рыжий парень по имени Джереми. – «Я имею в виду, зачем вы тратите время на таких людей.» Роуз улыбнулся ему. – «Кто я такой, чтобы решать?» – сказал он. – «Конечно, я хотел бы работать с людьми посерьезней, людьми, которые уже на пороге, – которых я смогу подтолкнуть к чему-то грандиозному. Но мне следует помнить, что каждый, чей путь пересекается с моим, послан по какой-то причине, даже если она мне и неизвестна.» «Но вы же не разговариваете о вашей философии с каждым, кого знаете или встречаете: в магазине, с соседями? – не отставал Джереми. «Нет, чёрт возьми,» – ответил Роуз. Тут засвистел чайник и он убрал его с огня. «Люди здесь, в Бенвуде, думают, что я гангстер. Я этому содействую. Если б они знали, что я философ, они не держались бы от меня подальше.» Он взял с полки мятую жестяную кружку, чтобы налить мне чаю и заглянул внутрь. Очевидно, неудовлетворенный ее чистотой, он подошел к рукомойнику и прополоскал ее. «Вы не можете вести себя одинаково со всеми,» – сказал он. – «Когда вы находитесь среди деревенских, вы просто улыбаетесь и разговариваете о коровах.» Он кинул чайный пакетик в кружку и тщательно залил водой. «Спасибо, мистер Роуз,» – сказал я, когда он подал её мне, и с удивлением услышал, что мой голос слегка запинается. Что-то в последовательности его простых жестов, неожиданно растрогало меня. «Кому-нибудь ещё?» – он держал чайник. Несколько человек откликнулись на его предложение; Роуз долил им в чашки, поставил чайник на плиту и уселся в старое деревянное вращающееся кресло, из тех, что можно увидеть на чердаках, в подвалах или очень старых конторах. Он откинулся на спинку и хлебнул чаю, поворачиваясь медленно туда и сюда. Затем продолжил свою мысль. «Здешние люди знают меня и мою семью всю жизнь. Мой дед построил этот дом. В нескольких кварталах отсюда мой отец застрелил человека. Как правило, ваш город – последнее место, где вас воспримут серьезно. Как это сказано в библии про Христа, вернувшегося в свою деревню? Что-то о том, что из-за их неверия он не совершил чудес там. Это правда. Так и бывает.» «Вы сравниваете себя с Христом?» – спросил Джереми. В тоне его был вызов и легкий скепсис. «Ну, не так уж много известно об этом человеке,» – сказал Роуз, улыбаясь, – «но из того, что я читал в библии, я бы ответил: да, похоже, у него был Опыт Абсолюта. То же, что случилось и со мной.» «Но, но... Христос был сын Божий,» – настаивал Джереми. «Как и все мы, если позаботимся быть таковыми. Если станем теми, кто мы поистине есть. Как сказал Христос: “дела, которые творю Я, и вы сотворите, и больше сих сотворите.”25» «Я хочу сказать, что я изучал библию и...» «Я немало покорпел над библией, поверь мне. Я пробыл в семинарии пять лет, учась на священника. Поступил в двенадцать и вышел в семнадцать. Теперь в столь юном возрасте туда не поступишь, но в те дни было можно. Какое-то время мне нравилось там.» «Почему вы ушли?» – спросил кто-то. Лицо Джереми выразило раздражение сменой темы. «Ушёл потому, что не получал никаких ответов. Если я спрашивал о чём-то, беспокоившем меня, например, о происхождении времени или о границах вселенной, мне говорили забыть об этом всём и просто иметь веру. И цитировали Фому Аквинского: «Ограниченный ум никогда не постигнет бесконечное». Что, как будто бы, справедливо. Но к чему Фома так и не подобрался, так это к тому, что конечный ум может стать менее конечным. «Как бы то ни было, те священники устали от моих вопросов и сказали, что я просто должен выполнять божью волю так, как её определила церковь, иначе мне будет худо. Что за сомнения я отправлюсь в ад. То есть уже тогда я почувствовал явную абсурдность всего этого. Смотрите, нам дан в пользование этот микроскопический интеллект, и всё же Бог собирается проклясть нас навеки, если мы не сможем угадать, чего Он от нас хочет, но не говорит!» «Мистер Роуз,» – сказал Оги, – «как вы думаете, это ведь довольно необычно – интересоваться религией и философией в таком возрасте, в каком начали вы?» «Может быть, не знаю. Отчасти я обязан этим матери, которая была ревностной католичкой. Она меня убедила, что священники разговаривают с Богом напрямую. Это меня заинтриговало. Но интерес, определенно, проявлялся уже и в малом возрасте. Одно из моих ранних воспоминаний: я снова и снова пишу на листке бумаги: “много званых, да мало избранных”26.» «Вы думаете, ваш ранний интерес к этим вещам и стал в итоге причиной вашего опыта Просветления?» – спросил Оги. «Хм, не знаю, может быть,» – Роуз озорно усмехнулся. – «Это, а также то, что женщину, на которой собирался жениться, я застал в постели с лесбиянкой.» Раздались отдельные, неуверенные смешки, если не считать Оги, который прямо-таки покатился. Роуз отхлебнул чаю. «Не понимаю,» – заявил Джереми с озадаченными видом. Роуз усмехнулся ему и помолчал, как бы решая, откуда начать и что именно рассказать. «Когда мне было двадцать и больше, я вёл весьма аскетическую жизнь,» – заговорил он наконец, – «Я решил сделать своё тело скорее лабораторией, чем отстойником. Я занимался йогой и не ел мяса. Медитировал часами зараз. Каждые шесть месяцев менял работу, чтобы мозг не окостенел. Не имел привязанностей, ничего мешавшего моему уединению. Если моя интуиция говорила мне, что нечто могло принести мне пользу, то я пробовал это. И самым важным для моего конечного открытия был, как я уверен, целибат. Между двадцати одним и двадцати восемью годами я соблюдал полный целибат. Я был в целибате, потому что интуиция подсказывала, что это стоит попробовать, и, кроме того, все люди, о ком я читал и кто чего-то достиг в духовном плане, соблюдали условие сохранения энергии – они были целибатами. Сегодня наука приближается к объяснению того, как это работает. К примеру, открыты простагландин и серотонин, которые являются предпосылкой для гениальности. Но в то время мной руководили только интуиция и готовность пробовать всё, что могло помочь стать духовным существом. Целибат просто выглядел логичным, к тому же мне нравилось не иметь впившихся в меня крючков.» Я обвёл взглядом вокруг стола и заметил дискомфорт, который почувствовал каждый. Никому из нас не нравилось слышать, что целибат это важная часть пути. Что угодно, но не это. Роуз хлебнул чаю и продолжал. – «Но когда мне стукнуло двадцать восемь, я поразмыслил о себе хорошенько и вынужден был признать, что хотя у меня и бывали кое-какие красивые переживания, я по-прежнему ничего не знаю. Я до сих пор не знаю, кто я, или, что случится со мной после смерти. И тогда я решил, что попусту тратил жизнь на эти духовные дела. Я рассудил, что будет лучше забыть о поиске и преуспеть хотя бы в деле бытия хорошим животным. И поэтому я поехал к той женщине, с которой был знаком, в Сиетл. У нее была обеспеченная семья, мы хорошо ладили – во всяком случае ей нравилась моя поэзия, – так что я счёл её прекрасной партией. Я бы женился и жил на её деньги.» Роуз заразительно захохотал. «Но стоило мне выйти от неё, как я возвращался на прежние пути. Меня либо заносило в библиотеку читать эзотерические книги, либо я оказывался медитирующим в йогической позе. Я пытался забыть поиск Истины, так как уверился, что это пустая трата времени, но зашел слишком далеко, чтобы отвергнуть и отринуть это. Я не мог остановиться. Я стал поиском. Как бы то ни было, я работал официантом в сиетлском теннисном клубе. А она ставила заклепки на самолетах. Наши смены не совпадали, так что мы не так уж много виделись. Но как-то я освободился пораньше и решил к ней заглянуть в качестве сюрприза. Она жила на третьем этаже пансиона и её комната была прямо напротив лестницы. Когда я поднялся на этаж, то услышал странные звуки, доносившиеся из её комнаты. Я приложил ухо к двери и услышал её голос, скрип кроватных пружин и голос пониже. Я было поднял руку, чтобы толкнуть дверь, но передумал. На этаже был только один туалет и я решил присесть на ступеньках и подождать. Рано или поздно они выйдут и я увижу, кто этот парень. И действительно, где-то через час послышались звуки тяжелых рабочих ботинок. Я встаю. Дверь открывается. Она выходит со своим любовником. Только это оказался не мужчина. Любовником была толстоногая женщина с короткой стрижкой.» Воспоминание, казалось, забавляло Роуза. «Ну, в шоке я доковылял до своей комнаты в отеле, – у меня была дешевая комната над японским рестораном. Вы уже знаете, что я поддерживал себя медитацией, подобрав под себя ноги в йогической позе. Но стоило только мне начать, как случилось нечто. Началось с оглушающей боли прямо в макушке. Конечно, мне и прежде приходилось испытывать боль, но только ничего подобного. Слезы заструились по моему лицу. Это было невозможно стерпеть. Моя голова как будто собиралась взорваться и мне подумалось: «Ну, парень, до дому три тысячи миль – и вот что с тобой.» Я был убежден, что умираю. Невозможно иметь такую боль и жить. Помнится, я подумал, что это, верно, удар, и меня волновало, как придется выкручиваться моим домашним, чтобы доставить моё тело домой. На перевозку тела через всю страну у них не было денег. Затем, на пике боли, я вышел из окна. Из моей комнаты виднелись Каскадные горы, и вот туда я и вышел – из окна в направлении снежноверхих гор. Я осознавал, что вижу людей на улице, но только находился я над ними. Меня пронесло над людьми, потом над горами и я видел всё так, словно сидел в самолете. И я продолжал двигаться, пока не достиг «места». Не скажу какого. Это не были Каскады или что-то ещё, мне известное. Это было не на Земле, потому что не было ни солнца, ни неба. Я просто достиг высокого места, и оно было прекрасно. В какой-то момент я стал знать, что нахожусь в каузальной сфере, – что я являюсь причиной её существования, и всё, что я думаю, становится реальностью. Другими словами, я причинял вещи, которые происходили, – создавая их простым желанием или думанием о них. И тогда сквозь меня прошла мысль, что я один, а мне хочется увидеть человечество – всё его. И вот, они явились, – все люди – каждый, кто когда-либо жил, и каждый, кто когда-нибудь будет жить. Они покрывали исполинскую гору подо мной, ползая друг по другу словно личинки, пытаясь достичь вершины. Я сознавал, что они вовлечены в борьбу, у которой высшая духовная цель, но что их непосредственные жизни и удовольствия – жалки. На этой стадии я ещё пребывал в некоторой астральной форме, – всё ещё питая привязанность к телу и к этим людям, – и потому испытывал неимоверные горе и печаль из-за их, по-видимости, бессмысленных усилий. Я знал, что могу выбрать, кого захочу, и увидеть любого мужчину или женщину из когдалибо живших или будущих жить. Потому что не существовало такой вещи как время. Все эти люди были живыми в данный момент, земное время их жизни не имело значения, и всё, что мне нужно было сделать, – лишь выбрать, если я того хотел. И тогда я подумал, что раз там внизу – все, – значит, там должен быть и я. Я вгляделся вниз в кучу личинок и вот, там был я – Ричард Роуз. Я видел себя борющимся там внизу – маленького человечка, счастливого в своей иллюзии. Мне был ясен сюжет всей его жизни. И дальше я подумал: “если Ричард Роуз там внизу, то кто видит всё это?” Вдруг я понял, что являюсь не только индивидуальным “я”. Я был всей массой человечества и Наблюдателем, видящим всю её, – я был – Всё. Осознание этого выбросило меня в неописумое переживание того, что я могу только назвать “Все-стностью”27.» Роуз остановился и взглядом обвёл вокруг стола. Когда он продолжил, голос его звучал отстранённо. «Просто нет слов... нет способа говорить о том, что это... нет способа войти в описание...» – голос его запнулся, – «...Всеохватности.» В комнате царило молчание, Роуз глотнул чаю. – «Во время переживания этой Всестности, этой Всеобщности, мне подумалось: “если это – Всё, то что же – Ничто”? Ведь при том, что я пребывал в Абсолютном измерении, во мне сохранялись остатки и относительного ума, который всегда ищет двойственности, ищет оппозиций. Как только подумалась мысль о “Ничто”, я стал падать. Я падал сквозь невообразимые пустоту и черноту. И я подумал: «Ну, парень, вот и оно. Пропадаю.» Но этого не случилось. В конце Ничто я оказался на Земле, у себя в комнате в Сиетле. И вот что довольно странно: нечто осознавало Ничто, пока я падал, и Все-стность, – пока я осуществлял творение. Вот поэтому я говорю: воистину то, что вы есть – это Наблюдатель. А тот, кого вы видите, – никогда не вы. Вы – тот, кто видит. В комнате стояла гробовая тишина. Все впились в него глазами, – многие так, будто видели его впервые. Наконец, кто-то заговорил. «Как вы здесь функционируете, после того, как побывали там, где побывали, и потом опять обрели себя тут, где вы теперь, – где бы это “тут” ни было?» – вопрошавший, преждевременно лысеющий молодой человек с печальными черными глазами, запинался, подбирая слова. Роуз подбадривающе кивнул, показывая, что он понял вопрос. «Я ничего не делаю, и, однако же, всё делается. По возвращении вы сознаёте ваши проекции, чувство красивого и тому подобное, но вы всегда знаете, что они нереальны, что это ничто.» «Чем же вы занимаетесь теперь?» – спросил сидевший слева от меня книжной внешности юноша – худой, в толстых очках. «Не уверен, что понял твой вопрос,» – сказал Роуз. – «Мне не интересно быть человекомфункцией, если ты это имеешь в виду. Я занят многими вещами, но я не строю планов. «Я имею в виду, чем вы занимаетесь, чтобы заработать на жизнь?» Роуз повел руками вокруг. – «Это ты называешь жизнью?» Все грохнули от смеха. Я взглянул на Оги и он мне ответил необычной для него сконфуженной улыбкой. «Фактически, вот этим я и занимаюсь,» – продолжал Роуз. – «Возможно, такова моя личная форма суетности, но учительство – единственное оправдание моей жизни. Если бы не группа, я скорее всего сидел бы где-нибудь в пещере, бормоча себе под нос.» «Становится ли жизнь легче после Просветления?» – спросил кто-то. «Нет,» – быстро ответил Роуз, – «правда, делается забавней.» Кругом опять раздался громкий смех, но я почувствовал, что не могу присоединиться к нему. Внутри меня вихрились мысли и эмоции, которых я не мог распознать, и я испытывал необходимость побыть несколько минут одному. В течение утра я видел, как несколько людей выходили из кухни в прикрытую внутреннюю дверь, предположительно в туалет, поэтому я встал и пошел туда. «По лестнице и дальше по коридору,» – крикнул Роуз мне вслед. Дверь вела в темную прихожую, откуда, стоило мне в неё шагнуть, на меня хлынула волна холодного воздуха. Там было всё равно что на улице. Похоже, во всем доме обогревалась только кухня. Свет в коридор проникал лишь в дальнем конце – из узкого матового окна над входной дверью. Я заторопился мимо нескольких закрытых дверей, две из которых были заперты висячими замками, и взбежал по деревянной некрашенной лестнице. Мои шаги раздались эхом в холодном сумраке. Двери в комнаты на втором этаже были распахнуты. Комната у лестницы была женской спальней – с туалетными столиками, зеркалами и опрятно заправленными постелями. Среднюю комнату, с голыми матрасами на полу, картонными коробками, заваленными одеждой, и оранжевыми поддонами в качестве столов, несомненно, населяли мужчины. Третья была обклеена психоделическими плакатами и, по-видимому, принадлежала сыну Роуза, тинейджеру по имени Джеймс, про которого Оги сказал, что он всё ещё живет с Роузом. В ванной было теплее, чем в коридоре, благодаря небольшому обогревателю, лучившемуся в полумраке жаром. Здоровенная ванная на ножках-лапах громоздилась у стены. Над унитазом висел список правил, преследовавших цель упорядочить коллективную жизнь при наличии одной уборной. Я прочёл их, пока стоял там. Внизу список был подписан буквой Р. Я вымыл руки и взглянул на себя в старое кривое зеркало при умывальнике. Наверху была прилеплена бумажка с крупно начертанными буквами: «КАКОВО ТВОЁ НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦО?» Некоторое время я всматривался в своё отражение под этими словами, потом, судорожно тряхнул головой и выскочил за дверь, захлопнув ее. С лестницы я слышал приглушенный голос Роуза, перемежаемый всеобщим смехом, в котором слышался и его собственный. Словно параноидальный ребенок, я поймал себя на беспокойстве, а не смеются ли там надо мной. Я перестал прислушиваться, разбирая слова, и просто стоял в холодном, темном коридоре. В меня проникла странная печаль. Меня охватила страстная тоска, неодолимое чувство утраты и ностальгии. Мне захотелось домой. Я представил тёплый огонь в камине и запах маминых кушаний в воздухе, но печаль усугубилась, потому что, как ни странно, всё это было мимо. Это было не о доме. Коленки мои задрожали от холода и эмоций. Никогда я не чувствовал себя таким одиноким и потерянным. Я тяжело сел на середине лестницы и заплакал. После нескольких минут я услышал, как дверь в кухню открылась и последовал звук шагов в коридоре. Я вскочил на ноги и привел лицо в наилучшее выражение, какое только смог, и побежал вниз по лестнице. В коридоре стоял Роуз. «Смотри, не отморозь себе чего-нибудь,» – сказал он, когда я поравнялся с ним. Он уже приоткрыл в коридоре какую-то дверь, а я почти вошел на кухню, как вдруг я повернулся и заговорил: «Мистер Роуз, мы можем поговорить минуту?» «Разумеется,» – сказал он, залезая в свой карман и извлекая оттуда чудовищную связку ключей. Он затворил открытую было дверь и повел меня по коридору к комнате, дальней от кухни. Порывшись в ключах, нашел нужный и открыл дверь. «Входи,» – сказал он. Эта комната была захламлена еще больше, чем кухня. В угол была задвинута старая чугунная кровать с продавленным пуфом и несколькими одеждами поверх него. У стены стояли две чёрные стальные бухгалтерские тумбы, у одной из которых был выдвинут ящик. Я взглянул на корешки, затиснутые в нём, и заметил, что на каждом стояло чье-то имя. Полные газет и вырезок из журналов картонные коробки располагались под стенами, комод и столы были заставлены стопками книг и брошюр. Рукописи, являвшиеся, как позднее выяснилось, книгой, которую писал Роуз, были разложены на старом деревянном письменном столе. Он освободил от бумаг два деревянных стула с прямыми спинками и поставил их друг против друга в центре комнаты. Мы сели. «Тут пока небольшой беспорядок,» – сказал он без извинений. – «Вообще это мой кабинет, но нам недостает спальных мест, так что здесь теперь и моя спальня.» Я почувствовал внезапный прилив расположения к этому человеку, который собрал все свои вещи в этой каморке, чтобы освободить для приезжих комнату. «Вам платят эти люди аренду?» – спросил я. «Все скидываются по десять баков на свет и тепло,» – усмехнулся он. – «Вот как есть.» Он вкратце рассказал о предметах в комнате. Бухгалтерские шкафы содержат переписку за сорок лет, – все полученные им письма, и копии под кальку всех писем, написанных им. Некоторые являлись откликами на объявления, размещенные им в оккультных журналах, некоторые были от тех, кого затронула его книга, и мне стало ясно, что годами переписываться с незнакомыми людьми, не было для Роуза чем-то необычным. «В течение лет я откопал несколько стоящих людей,» – сказал он. – «Уверен, что так происходит с неизбежностью.» «А люди, которые живут здесь с вами?» «О, думаю, они в порядке. Некоторые, возможно, подлинные. Не моё дело судить. По какойто причине они вошли в эту дверь. Ты можешь сказать, что тем способом, каким это случилось, – это не случайно. Но исчезнув однажды, они, похоже, никогда уже не вернутся. Немногие остаются в контакте. Конечно, каждому предстоит в какой-то день уйти. Это так, если он думает когда-нибудь достичь определенного духовного раскрытия.» – Он улыбнулся. – «Если не уйдет, я вышвырну его.» Он замолк. Мне следовало высказать, что у меня на душе. «Знаете, мистер Роуз, не знаю, как поточнее выразиться, но прямо перед тем, как спуститься и встретиться с вами в коридоре, я был охвачен какая-то мощной ностальгией, чем-то в этом роде. Почти из ниоткуда. Я просто погрузился в невероятные печаль и одиночество.» Он тепло улыбнулся. – «Тебе не хватает маленького Дэйви.» Детская простота его выражения точно соответствовала моему состоянию и я почувствовал, как снова наворачиваются слезы. «Я боюсь, что, отпустив, утрачу его навсегда,» – сказал я. «Позволь ему уйти,» – невозмутимо сказал Роуз. – «Он – трус.» Его голос всё ещё был теплым и отеческим, но слова были подобны пощечине. Я вскинулся. Мое побуждение плакать испарилось совершенно. «Никто не хочет расстаться со своими иллюзиями,» – продолжал он, – «и не имеет значения, насколько они мучительны. Большинство людей никогда этого не делает. Никогда их не рассматривает. Однако с немногими – счастливцами – произошло нечто, что заставило их расти. Он начали прозревать сквозь иллюзию достаточно, чтобы пробудилось их любопытство. То есть, они сначала вглядываются в нее чуть-чуть, затем сильнее, и начинают понимать, что жизнь вовсе не то, чем кажется. После этого обретение Истины становится единственной вещью, имеющей значение.» «Не знаю, обо мне ли это,» – проговорил я, всё ещё страдая оттого, что был назван трусом. «Только ты и можешь знать,» – ответил Роуз. – «Я здесь для того, чтобы говорить с теми, кто уже встал на путь и ищет помощи. Я не занимаюсь обращением новичков. Вот, к примеру, мои собственные дети не имеют духовного интереса. И с этим мне ничего не поделать, как бы я им этого ни желал. Пару лет назад моя дочка, Рут, приехала из университета на летние каникулы. Я как раз закончил “Документы Альбигена” и надеялся: как знать, не пробудит ли в ней нечто духовное эта книга, если она прочтет ее? Но её следовало дать в правильное время и правильным образом. Как-то утром я зашел на кухню, Рут была там, возле умывальника, – мыла после завтрака посуду. Обратил внимание, какой он низкий?» Я кивнул. «Моя мать была низкого роста, – отец установил его для нее. Ну вот, Рут стоит там и я вижу, что как раз самое время обратиться к ней. Вот, вручил я ей рукопись и попросил дать о книге отзыв, чтобы помочь мне понять, стоит ли пытаться опубликовать ее. Что было правдой. Я ценил ее мнение, – она всегда была способной девочкой, восприимчивой и рассудительной. Она ответила: “конечно”. Через несколько дней прихожу я после работы домой и вижу: она сидит за кухонным столом, перед ней моя рукопись, и она глядит куда-то перед собой словно в трансе. Я простоял рядом с минуту, но она так и не произнесла ни слова, поэтому я просто забрал рукопись и ушел. Я думал, она рано или поздно скажет, что она думает, но прошла пара недель, а она так ничего и не сказала о книге. Так что, я, наконец, поднял эту тему, когда мы были вдвоем. “Кстати, Рут”, сказал я, “у нас еще не было случая поговорить о моей книге. Что ты думаешь?” Никогда не забуду ее лица, когда она, почти в гневе, повернулась. Она посмотрела мне в глаза и сказала: “папа, я знаю, что ты – Бог. Но я пришла в игру, чтобы играть в нее.”» Я не знал, что сказать. Роуз оставался безмолвен. Он смотрел на меня, но его глаза были сфокусированы не на мне, а, скорее, где-то позади. «Догадываюсь, что со мной та же история,» – сказал я наконец. – «Я боюсь, что если вовлекусь в эту работу, у меня никогда не будет шанса испытать все те вещи, которые я хочу, чтобы в моей жизни были.» Глаза Роуза сфокусировались на моем лице. «У каждого из нас есть игра, для которой, как чувствуем, мы предназначены,» – сказал он, – «в особенности, когда мы молоды. Мы думаем, что мы уникальны и важны, что мы приведены сюда Богом, чтобы купаться в веселии, потому что Он нас ужасно любит. Но это ловушка. Наши жизни – ничто иное, как серия отвлечений. Одной из вещей, от которых людям на духовном пути наиболее трудно отказываться, является малодушие, заключающееся в позволении чему-то происходить с ними, потому что: “Богу угодно, чтобы так случилось”. И пока ты подпал тому или иному очарованию, ты убежден: “Это важно, это – моя судьба, это и есть я настоящий”. Но насытив свой аппетит, ты оглядываешься, качаешь головой и удивляешься: что ж это было, что же тобой владело? Вся жизнь так и проходит, в движении от одного отвлечения и разочарования к другому и человек никак этого не понимает, – пока не становится слишком поздно.» Я тупо смотрел на него, снова растеряв все слова. Какую-то минуту Роуз ничего не говорил, а потом поднялся. – «Ну, пойдем лучше на кухню, пока Оги не развалил еще один стул,» – сказал он. – «На его счету уже два. У этого парня грация моржа.» Я последовал за Роузом по неотапливаемому коридору, минуя комнаты, покинутые им ради пришлецов, которые покинут некогда его самого, и вошел в тёплую, полную жизни кухню, где Оги с хохотом ловко качался вперед и назад на старом дубовом стуле, который скрипел и трещал, словно был готов вот-вот развалиться. «...и тот парень заявляет: “я не обязан уходить. Это публичная встреча и я могу тут делать, что хочу”. А мистер Роуз просто смотрит на него и говорит: “ты уже уходишь. Решено окончательно. Единственная неясность: в дверь или в окно...” 5 ПУТЬ Снова я месяц не видел Роуза. Каждый четверг вечером я заглядывал в дзен-сообщество Пирамида, но Роуза не было. Без него встречи были пустыми и безжизненными. Начинались они с того, что Рей почти дословно повторял то же самое вступление, которое я впервые услышал во второй свой приход. После чего он пытался модерировать дискуссию по какомулибо вопросу философии Роуза или вводить нас в конфронтацию, которую он пресно определял как: «упражнение в вопрошании, цель которого – обнаружить ложности в нашей философии и поведении.» Всё это выглядело натужным и натянутым. Без Роуза встречи постоянно меняли направление, не имея фокуса и реального предмета. В своём введении Рей всегда говорил, что цель встреч – уяснить систему Роуза. Но, если судить по мне, то каждая встреча без Роуза только запутывала меня ещё больше, и я опять начал задаваться вопросом, следует ли мне вообще приходить? Я чувствовал, что нахожусь у точки поворота, где завершается мой «испытательный срок», который я разрешил себе в отношении Роуза и его системы. Я сознавал, что надо теперь решать: принимать или нет тот образ жизни, который олицетворял Роуз. Странным образом это меня злило. Одна часть меня рвалась в духовное, но другая, сидящая во мне глубоко, возмущалась разрушением и обесцениванием моей жизни и планов. В один из четвергов, когда я ехал вечером на встречу, этот конфликт встал во мне с такой силой, что я затормозил на обочине и сидел, слепо уставившись сквозь ветровое стекло, в депрессии и замешательстве. Тем вечером я был близок к тому, чтобы развернуть машину и никогда не возвращаться. Но вместо этого я сидел, слушая мотор, и дожидался времени, когда станет слишком поздно ехать. Потом я включил передачу и медленно поехал на встречу. Там был Роуз. Никто не знал, что он приедет, и тем не менее в комнате было гораздо больше людей, чем обычно. Встреча уже шла полным ходом, когда я пробирался к стулу. «Это так, – я не отказываюсь лечить людей от случая к случаю,» – говорил Роуз худому юноше, – «но это не первоочередная моя задача. Я не собираюсь быть полезной вещью. Я заинтересован в решении раз навсегда той проблемы, которая решает и все другие.» «Хорошо, но я пришел сюда потому, что Фрэнк рассказывал про некоторые поразительные вещи, которые случились у вас в доме.» «Ах, так он рассказывал? – Роуз взглянул на Фрэнка, который с ним был почти с самого начала группы. Они обменялись улыбками. За последние несколько недель я познакомился с Фрэнком и он вызывал у меня уважение. Он был старше почти всех в группе, под тридцать, и был выдающимся футболистом в университете. «Я только упоминал про лечение пассами,» – сказал Фрэнк. – «В основном же говорил о передаче. Подобно той, которая произошла, когда Джейн вошла вместе с вами в Опыт, когда мы сидели в резонансе28.» «Передаче?» – переспросил кто-то. Роуз рассеянно подергивал свою седую бородку. «Да, – ну да – это еще одна целая история. Передача случается, когда кто-нибудь наваливается на дверь, а я её отпираю. Смотрите: принцип в том, что – да: я могу сосредоточить внимание на людях и вызвать вспышку жизни. Может быть, даже раскачать их для чего-то. Но я никогда не был уверен, хорошая ли это идея. Потому, что человек делается духовно зависим от меня. Его духовное постижение привязывается к моему. А между тем, когда он войдет в свой собственный Опыт, меня не будет29.» «Ну, а целительство? Я о том, что вы ведь лечили людей, верно?» – настаивал парень. Он был бледным и изможденным. «Люди исцелялись возле меня, да. Но я интересуюсь искателями, а не теми, кто ищет развлечений или омоложения. Среди тех, кто заглядывают сюда, есть люди, которые растратили свою энергию и жизненные силы в весьма негативном и самопотворствующем образе жизни. Они хотят, чтобы я наладил их машину увеселений и они пошли бы и расточили еще малость. У них нет намерения изменить свою жизнь.» «Но разве использование этих сил, чтобы больше людей привести...» Взмахом руки Роуз остановил его. – «Я не прочь сделать себе имя. Я ведь стараюсь передать сообщение по сию сторону, и всякие побочные вещи вроде этих могут тут пособить.» Он улыбнулся, – «Люди уже приходят в Бенвуд, чтобы посмотреть, как я живу. Есть ли у меня туалет? Нуждаюсь ли я в нём?» Комната взорвалась смехом. «Поиск Ответа не имеет ничего общего с целительством, чтением мыслей или производством сенсаций,» – продолжал он, легко переходя к полнейшей серьезности. – «В действительности, путь к Истине очень прост. Вы берете обязательство перед Истиной и на всяком перекрестке, где вы должны выбирать между Истиной и чем-то еще, вы подтверждаете вашу приверженность Истине, и это всё.» «Но это было легко для вас, мистер Роуз,» – сказал Фрэнк. – «Вы даже ребёнком были одержимы поиском Ответа. У большинства людей нет огня такой силы.» «Ничто ни для кого не легко. Во мне не больше Бога, чем в вас, – если вы потрудитесь увидеть. Истине не учатся так, как учат алгебру в школе. Христос не говорил, что он нашел Истину или, что он имеет Истину. Он сказал: “Я есть Истина”. То, о чём мы здесь говорим, – изменение вашего существа.» «Но как человеку сделать это?» – вежливо вопросили из конца комнаты. – «Изменить своё существо? Я имею в виду...» «Вы движетесь в направлении Истины точно так же, как вы работаете над чем-то. Если вы хотите быть игроком в бейсбол, вы позволяете себе увлечься бейсболом, стать одержимым бейсболом. Вы наблюдаете, практикуете, трётесь среди старых игроков и стараетесь набраться подсказок. В конце-концов вы врастаете в это. В определённый момент вы становитесь игроком. Так же и с духовной работой. Законы те же. Вы находите пути стать всё сильнее и сильнее одержимым Истиной. Вы живете маленькими истинами во всём, что вы делаете, и в итоге делаетесь более правильным существом. Благодаря тяжелому труду и удаче вы становитесь человеком, способным воспринимать Истину непосредственно.» «Сам поиск изменяет вас,» – продолжал Роуз. – «Он вас трансформирует. Вы отправляетесь от искренней констатации, что у вас большая проблема: вы не знаете, кто вы, или откуда явились, или куда после смерти уйдёте. Большинство людей тратит свою жизнь в слишком большом рассеянии, чтобы задуматься о таких вещах. Но некоторые заболевают знанием. На каком-то этапе они приходят к пониманию, что проблема должна быть разрешена, потому что на кону – нечто грандиозное. Вот такие и получают ответ. Они всё грузят этой проблемой свой ментальный компьютер, пока в итоге не приходят к пониманию, что он не в состоянии её решить, – что единственное решение – это изменение существа.» «К такой убежденности трудно придти,» – произнес я, вздрогнув от звука собственного голоса, – у меня не было осознанного намерения говорить. Роуз посмотрел в мою сторону. «Ты не можешь просто надеяться, что в какой-то день у тебя появится убежденность. Ты творишь убежденность благодаря действию. Действие предваряет уверенность. Большинство ждёт вдохновения, чтобы сделать что-то со своей жизнью, в то время как единственное, что им нужно, – просто потихоньку двигаться в позитивном направлении. Такое действие в итоге создаст вдохновение для всё более и более благотворных действий. Тебе нужно продолжать двигаться, продолжать задавать вопросы. “Кто я? Откуда я пришел? Что со мной произойдет, когда я умру?” Стучи головой в эту стену. Примири свой ум с мыслью, что ты будешь искать Истину независимо от того, во что это тебе обойдется, даже если это будет стоить тебе жизни. Если потребуется, – ты должен быть готов умереть за это, – тогда ты куда-нибудь доберешься.» Я заговорил опять. – «Я имею в виду, что не понимаю, как человек может сделать себя одержимым чем-то. Это ведь либо есть, либо нет, так ведь?» Роуз сначала глотнул газировки и поставил на пол. «Ошибка, которую делают люди, – это ждать, пока что-то случится с ними до того, как они начнут поиск,» – сказал он. – «Они хотят гласа Божьего или чего-то такого, что велит им начать. Либо они, возможно, знают, что должны что-то делать, но тянут, надеясь, что завтра у них будет больше уверенности и определенности. Вот что они забывают при этом, так это то, что завтра может не наступить.» «Но вне нашего контроля столь многое,» – сказал я. – «Мы рождаемся с определенной...» «Верно, верно,» – перебил он. – «Но ты всё равно должен работать так, словно всё зависит от тебя.» Его слова посыпались быстрее и он принялся сопровождать их оформляющими жестами. «Ты должен делать всё, от тебя зависящее. Подталкивай ум изнутри, толкай к пределу его возможностей. Упорствуй. Имей веру в то, что делаешь, и веру в себя, независимо от того, сойдешь ли ты с ума, упадешь замертво или ещё что-то. Упорствуй. Заставляй компьютер работать. В конце-концов, если ты счастливчик, твоя голова взорвется.» Он сделал паузу и продолжил более мягким тоном. «Упорство – это одна часть уравнения. Та, которую ты можешь контролировать. Другая же часть – это милость. Человек на пути обретает помощь. Когда есть приверженность Истине, – я имею в виду явную демонстрацию искреннего желания во что бы то ни стало найти Настоящего Себя, – приверженность привлечет помощь и защиту. Возникнут возможности. Исчезнут препятствия. Решения даже сами собой могут приниматься вам на пользу. Я потерял нитку и запутался, но не мог перестать спрашивать. – «Но кто?... Что принимает эти решения? То есть, откуда эта помо...?» «Я не хочу углубляться в это. Всё, что я говорю, так это то, что существуют уровни ума, которые помогают другим уровням. Существует взаимопроникновение миров. Но вы не можете рассчитывать на помощь оттуда или полагаться на знание, которое есть там. Стоит только подумать, что вам крайняя в них нужда, как они покидают вас и оставляют страдать в «черной ночи души», как назвал это Хуан де ла Крус. Потому как отчаяние – необходимо. Отчаяние – часть конечной формулы для взлома ума. Вы всё время должны поддерживать состояние промежуточности. Поскольку не имеет значения, как сильно вы ломитесь: на самом деле вы не можете изменить своё существо. Ваше существо изменяется ради вас.» «Тогда, я хочу сказать, какой же человек станет что-то делать, раз...» «Вы не можете сделать это сами, и тем не менее должны действовать так, как если вы можете,» – перебил меня Роуз. – «Действие – это всё. Каждому нужно составить карту своего собственного пути из невежества, а это требует планирования. Вам следует учредить внутреннюю “Комиссию Путей и Средств”30. Обратитесь ко всем вашим способностям: чувствам, логике, интуиции, памяти, эмоциям и попросите их предоставить план действий. А потом сделайте первые шаги по этому плану. Начните с малых вещей, например, регулярно приходите на эти встречи, если интуиция говорит вам, что это то место, где вам следует бывать. Тогда стройте дальше, делайте больше, планируйте следующие шаги. Следуйте связям и подсказкам, на которые натыкаетесь. Это трудно, но не сложно. Путь к Истине только кажется сложным, поскольку нам предстоит пройти между сложностей и «наводок» ума. Как только «наводки» ума устранены, дорога делается проще. Вот почему одна из первых вещей, что нужно сделать, это привести ваш дом в порядок. Организуйте вашу жизнь так, чтобы у вас была возможность как минимум думать. Честно посмотрите на вашу жизнь, чтобы увидеть, что вас держит. Может быть, это страх, или страсть, или привычка, которые никто не назвал бы вредными, – возможно, они и не вредны, – кроме как в отношении поиска. Осознав, что блокирует вас, вы начинаете избавляться от этого. И по мере того, как спадают ваши одержимости, к вам приходит все больше ясности и уверенности. И не только: теперь вы можете использовать ту энергию, которую прежде сжигали в одержимостях. Начните взращивать самодисциплину. Станьте тем, кто принимает решение и воплощает его. Поставьте перед собой задачу и доведите ее до конца. Тут ничего не требуется эффектного. Вот я посоветовал людям просто прогуливаться вокруг квартала каждый день после ужина. Буквально, просто вечером пройтись вокруг квартала. Делайте эту простую вещь в течение месяца и у вас появится сила. И она вам послужит для следующего шага. Так нет: большинство людей думает, что это слишком просто. Что это не достойно их великого духовного потенциала. Они хотят сразу вовлечься в тяжелую работу и делать нечто грандиозное. В результате они заканчивают тем, что не делают ничего. Если вы честны перед собой, – а вы обязаны быть честны перед собой, если вы собираетесь быть учеником Истины, – вы начинаете с признания, что вы не знаете, что такое Истина. В противном случае вам не надо было бы отправляться на ее поиски. А если вы не знаете, что это, то вы не знаете, и как подобраться к ней.» Роуз прервался и медленно обвёл взглядом комнату. «Общий знаменатель всех ищущих – это невежество,» – продолжал он, – «Люди, которые уверены, что знают ответ или знают, где найти его или – как, – не ищущие. Они – верующие. Как только только вы покидаете сомнение и начинаете верить, – это конец для вашего поиска. Если же вы хотите обрести настоящие ответы, в противоположность простому приятию того, что было вам кем-то сказано, – тогда вы начинаете копать. Христос сказал: «ищите и обрящете», а не «верьте и обрящете». Невозможно начать с требования предварительно выяснить, во что вы собираетесь вляпаться. Так делают верующие. Верующие постулируют, что такое Истина, – это то, на что они надеются, то, чем, как им хочется, она должна быть, – и зависают на этом всю свою жизнь. Ищущие ищут Истину прямо и просто: ей может оказаться что угодно. Истина существует ради себя. Чтобы закончить в состоянии, свободном от заблуждений, вы должны начать с нулевой уверенностью в чём-либо и оттуда двигаться. Вера – это не доказательство веры. Верить, значит – выдумывать. Знать, значит – знать без тени сомнения в том, что так есть. Узнать, значит – перейти в тот мир и вернуться. Вера и все наши мыслительные процессы – просто галлюцинации. Потому что мы не мыслим, а воображаем.31» «Если не знать, что ищешь, как можно знать, где искать?» – спросил я. «Вот об этом я и говорю!» – обрадованно откликнулся Роуз. – «Вы не можете прямо подобраться к этому, поскольку не знаете направления. Единственное, что вы можете, это создать обратный вектор – движение от невежества. Вы приближаетесь к Истине посредством отталкивания от не-истинного. Вам неизвестно, какова конечная или Абсолютная Истина, но вам видно, что вокруг вас не-истинно всякий день жизни. Эти-то неистины вы и ищете, чтобы отвергать их по мере обнаружения.» «Не-истины?» «Обманы, несовместимости, фальшивости...» – сказал Роуз. «Враньё,» – выкрикнул кто-то. Повисла выжидательная пауза, пока Роуз не отыскал сказавшего и не спросил, – «это что, критика от редакции?» «Нет, что вы,» – пробормотал молодой человек, – «я хотел сказать, что надо избавиться от вранья.» Роуз улыбнулся. – «Верно, верно. Настоящему ищущему Истины предстоит пересмотреть свои верования и действия, чтобы отличить правду от лжи. К примеру, многие из вас, скорее всего, верят в Санта Клауса. Может, и не в толстого мужика в красном костюме. Но у вас есть подсознательное верование в то, что вселенная устроена чудесным отцеподобным существом, которое озабочено вашими лучшими устремлениями, и всё, что вам надо сделать, чтобы попасть в рай, – это идти в ногу со стадом и надеяться на лучшее. Либо, может быть, привычка или страсть истощает ваши силы. Либо вы напуганы, а страх может парализовать ищущего. Кто-то встречает страх лицом к лицу и делает следующий шаг, а кто-то убегает и потом говорит себе: “Чёрт возьми, ни под каким видом я больше не зайду в эти темные закоулки.” Есть миллионы способов, которыми человек дурачит себя, и сначала ему следует посмотреть со стороны на все те трюки, которыми он играл сам с собой, перед тем как он сможет раскрыть природу Бога или универсума или даже истинную суть человеческого существа. Ему надо распознать не-истину где бы то ни было: в своих ли верованиях насчет жизни после смерти, в фасаде ли, который он обращает к людям. И когда человек засёк эти иллюзии, следующим шагом он избавляется от них, выбрасывает из своей жизни, и потом высматривает что-то менее ложное и более стоящее. И когда эти очки спадают, он автоматически продвигается в истинном направлении. Таков путь.» Роуз замолчал и посмотрел на каждого. Его взгляд остановился на мне. Как бы подбодрённый, я задал следующий вопрос. – «Но если вы правы и мы не можем знать, что истинно, как же мы можем быть знать, что ваша система в самом деле полезна?» «Вы и не знаете,» – решительно сказал Роуз. – «И я не ожидаю или хочу, чтобы кто-то просто принимал её на веру. Всё для себя проверяйте. В этой группе священно сомнение, а не вера. Человек должен сомневаться во всём, кроме своей способности сомневаться. В том числе и во мне, и в том, что я говорю. Не верьте мне слепо. Я, может, просто старый вахлак со штаниной, подвернутой выше другой, пьющий кофе из консервной банки.» Роуз продолжал поверх раздавшегося смеха. – «Смотрите, я не нужен вам. И никому не нужен. Всё, что вам нужно, – ваша собственная внутренняя решимость. Может быть, вам помогут несколько слов или строк в книге, а может быть – нет. Но, если вы слышите что-то, на что отзывается ваша интуиция, – проверьте это. Докажите или опровергните это для себя. Потому что, когда вы оказываетесь в такой ситуации, вы можете двигаться только благодаря вашей интуиции. И чем более совершенной она становится, ваше чутье делается тоньше.» «Но если я не могу распознать Истину, когда вижу её, то как я смогу распознать не-истину?» – спросил кто-то. «Это не так уж и сложно. Довольно быстро вы узнаёте, как пахнут отходы, и просто не вступаете в них. Наибольшее препятствие для Истины – мы сами. Вот почему невозможно установить свод правил продвижения к ней, – потому что у разных людей разные препятствия, закрывающие от них Просветление. «Но есть эффективные практики,» – продолжал Роуз, – «эффективные методы, которые могут быть использованы серьезным ищущим. И каждый даст нечто для вашего пути. Есть философия, которая пытается открыть Истину. Наука, нацеленная на Реальность. Религия, ищущая путь к Богу. На самом деле, когда вы находите себя – своё конечное, абсолютное, вечное знание Себя, – вы становитесь всеми тремя: Истиной, Реальностью, Богом. Они суть – Одно.» «А что вы скажете насчет медитации, мистер Роуз?» – спросила молодая женщина. – «Полезна ли она?» «Я не люблю это слово, поскольку потребуются рыбацкие сапоги, чтобы пробраться через всё все то, что сегодня зовут медитацией.» Кто-то из присутствующих засмеялся. «Главное же то, что мудрость приходит с работой, а не с медитацией,» – продолжал Роуз. – «Однако я уверен, что людям полезно сидеть спокойно в установленное время в течение получаса – часа каждый день.» «С мантрой?» «Нет. Это тот тип медитации, который я не советую. Повторение громкого звука или слова не поможет вам открыть себя. В медитации вы должны испытывать ваш ум, а не усыплять его. Я не рекомендую визуализаций, – любых, где вы воображаете успокаивающие сцены и повторяете, как вы счастливы и святы. Это просто еще одна форма самовнушения. Мы достаточно гипнотизированы жизнью, как она есть. Нам не следует усугублять это ещё более. Мы не ищем покоя или релаксации, мы ищем Истину – ради окончательного ответа. Сейчас это звучит как требование почти невозможного. Но некоторые понимают, что жизнь не стоит жить, пока они не узнают, кто живет и зачем.» «Какой вид медитации вы рекомендуете?» – кто-то задал вопрос. «Для начала рассматривайте людей и события, имевшие место в вашей жизни, особенно травмы. У каждого есть счет по этому вопросу, который следует закрыть. Небесполезно медитировать на тех людей или ситуации, после которых осталось чувство травмы. Случаи, когда с вами дурно обошлись, случаи, когда вы, возможно, испытывали жалость к себе. Я не имею в виду, их воскрешать или подвергать психоанализу. Просто обратитесь к прошлому и попытайтесь их припомнить, а потом смотрите, можете ли вы наблюдать их бесстрастно. Достаточно побыть с этим недолгое время, чтобы, увидев, что же лишило вас покоя, в концеконцов понять, каким олухом вы были. И если вы продолжите, возможно, увидите, что совершаете те же ошибки прямо теперь. По мере вашего развития, кое-что станет приходить в порядок,» – произнес Роуз с улыбкой. – «Я просто рекомендую ускорение процесса осознания того, какой ты дурень, чтобы начать исправляться быстрее, чем за девяносто лет или девяносто жизней.» Молодая женщина с длинными светлыми волосами тихо проговорила, – «вы, похоже, намекаете, что существуют высшие формы медитации?» «О, да. Я написал короткую брошюру об этом. Не знаю, может, есть несколько экземпляров здесь у парня на столе. Но, да: когда вы приучили тело сидеть спокойно и приобрели знакомство с тем, как протекают ваши мыслительные процессы, вы можете наблюдать ум непосредственно. Наблюдайте ваши мысли, когда они приходят, как они появляются и исчезают. Вот это соединяет вас со скрытой способностью ума – наблюдателем. Этот наблюдатель – тот, кто видит, – более реальная часть нас, потому что он не является частью кино, которое мы проживаем.» Заговорил Тед, парень, который приходил уже пару недель, но Роуза до сего дня не видел. – «В традиционном дзен всё время выпячивают работу с коанами, знаете, таких неразрешимых загадок, которые...» «Я не даю коанов,» – отвечал Роуз с улыбкой. – «Ваша повседневная жизнь даст вам коаны, нужные для просветления.» «Я хотел сказать, что это вроде системы, которая должна...» «Дзен – система, которая учитывает тот факт, что бОльшая часть дела уже сделана. Дзен утверждает, что лучше видеть всё, как оно есть, чем пытаться изменить то, что изменить нельзя. Всё это правда и я восхищаюсь дзен. Но в то же время не существует предустановленной формулы для поиска Истины. Её нельзя вычитать из книги рецептов. У каждого человека свой путь. У просветленных общее только одно – то, что они нашли. Я говорю людям переворачивать каждый камень, – читать всё, что можете достать, искать учителей, разговаривать с друзьями, сравнивать записи. Но я не намерен предписывать определенные практики. Это задача каждого – найти свой путь. Нет ритуала или учения, о которых можно провозгласить, что они работают для каждого. Всё, что вам нужно – это всепожирающий голод.» «То есть, у вас нет системы?» – спросил кто-то. «О, у нас совершенно определенно система есть. В ней-то и смысл, зачем мы здесь: испытывать и находить пути и средства для открытия невыразимого. Но это не некое искусно возведенное концептуальное здание, где одно на другом лежат голословные утверждения.» «Но, получается, нет никаких особых техник или практик, которые вы...» «Те, кто преподносят техники,» – перебил Роуз, – «если эти техники не для самонаблюдения или умирания, на самом деле учат упорядочению досуга, самогипнозу или самообману.» Роуз сидел, положив руки на колени, бесстрастно пережидая долгую тишину. Наконец, мужчина лет за тридцать, прилизанной внешности, сидевший рядом с хорошо одетой женщиной того же возраста, поднял руку. «Мистер Роуз, вы постоянно побуждаете людей работать, учиться, создавать вектор своей жизни, но в вашей книге «Документы Альбигена», вы пишете, что Просветление всегда случайно. «Да, это так. Духовный опыт невозможно предвидеть заблаговременно,» – ответил Роуз. – «Спонтанность и крайнее изумление по поводу того, что вы обрели, – вот, что подтверждает подлинность вашего опыта. Если у вас был духовный опыт, который соответствовал вашим ожиданиям, видению Иисуса или чему угодно, – вы никогда не можете быть уверенными, что не сами создали этот опыт для самоудовлетворения.» «Но это то, о чем я и говорю,» – продолжал мужчина. – «Если Просветление, по определению, случайно, то зачем нам нужно пытаться работать ради него?» «А у вас нет выбора,» – ответил Роуз, повысив голос. – «Вы становитесь тем, что вы делаете. Если вы ничего не делаете, вы становитесь ничем. И поэтому вы работаете. Работаете, не зная, почему вы это делаете. Даже не понимая, ради чего. Вам просто нужен ответ, при этом вы знаете, что он не придет, если предаваться вялости и отчаянию. Это правда, что Абсолютный Ответ приходит непреднамеренно. Но всё же он является результатом работы. Работы, благодаря которой совокупность и итог вашей жизни превращается в вашу молитву об ответе. И если молитва достаточно настойчива и искрення, то, возможно, вы разовьетесь в кого-то, с кем непреднамеренность может случиться.» «Но как я...» «Сделав Истину вашим Богом. Живя, свидетельствуя и ища истину во всем, что делаете. Отказываясь допустить и малейшую долю неправды в вашу жизнь или философию. Потому что, если вы оправдаете даже “малую” ложь, вы сделаетесь способны утешаться ложью и оправдывать ее. Если вы не можете встретиться с малыми истинами о себе, вам никогда не стать достаточно сильным, чтобы выдержать встречу с Абсолютной Истиной. В этом случае вам ее не пережить.» В комнате было тихо, когда Роуз сделал паузу. «Истина доброжелательна,» – заговорил он наконец. – «Если вы слабы, она держится на расстоянии. Она никогда не открывается, пока вы недостаточно сильны, чтобы овладеть ей.» Из гущи толпы нерешительно поднялась рука. «Что именно вы пытаетесь делать на этих вечерах?» – в голосе юноши слышались одновременно уважительность и смятение. «Делать? На самом деле – ничего. Я просто стараюсь найти людей, чьи умы приоткрыты, и взломать их еще немного. Я уверен, что любой, у кого есть духовное послание, делает только одно, и может делать только одно: когда кто-то готов – быть рядом. Если у вас зуд идти и обращать людей, то это просто эго. В то же время, если вам что-то открылось, вы обязаны это передать, если можете. Я знаю, что это выглядит парадоксально, но если у вас есть нечто, что, как вы полагаете, может помочь кому-то перейти на следующий уровень, то вы должны сделать себя известным. Потому что люди, ищущие следующего уровня, слепы на нем, – они не могут найти вас. Но если вы встанете на их пути, они могут столкнуться с вами в нужный момент. Вот тогда, вероятно, вы и сослужите службу. Мне открылось. Не знаю, скольким людям открытие пришло таким же способом, что и мне, но я испытываю необходимость сделать этот способ известным. Поэтому я рисую диаграммы, создаю шум, как будто это имеет значение. Но в глубине души я знаю, что каждый должен найти свой способ. Когда мне было за двадцать, я проклинал тьму. В каждом месте, виденном мной на пути, я, казалось, находил только лапшевешателей да барышников, даже людей с откровенно плохими наклонностями. И это заставило меня усомниться в правильности того, что пытался делать. Я начал чувствовать, что трачу лучшие годы, когда бы мог развлекаться, напиваясь, клепая кучу детишек или занимаясь чем-то еще. Действительно, соблазн был всегда, но я отстранялся от него, надеясь все же обрести Истину. И когда я продирался на моем пути, я поклялся, что если когда-нибудь что-то найду, то постараюсь это передать, и если мне попадется кто-то, ищущий помощи, я постараюсь помочь. Таков был мой зарок. Глядя в прошлое, я уверен, что он мог оказаться завершающей деталью паззла, которая протолкнула меня в Опыт, и я поощряю всех на пути, сделать такой же зарок. Я поощряю тех, кто со мной работает, работать с другими, – учить на пути, по мере того, как они продвигаются на нем. Я думаю, каждый в группе должен учить. Когда люди говорят мне: “но я ничего не знаю”, то я отвечаю: “чепуха”. Вы определенно что-то знаете. Что-то, что пригодится людям ступенькой ниже вас.» «Что значит: “ступенькой ниже вас?”» – спросил кто-то. «Все человеческие усилия и достижения имеют пирамидальную форму,» – ответил Роуз, – «включая и духовные. Например, в финансовом отношении имеется большое количество людей на нижних уровнях, и все меньше и меньше по мере подъема, пока на вершине не оказывается лишь несколько миллиардеров. То же самое и в отношении любого другого деления населения: по IQ, артистизму, атлетизму, чему угодно. То же и с духовными уровнями. Большинство людей находится на низших уровнях, и чем выше, тем число их меньше. Иногда я описываю это как духовную лестницу, на которой ступеньки, чем ближе вы к верхушке, становятся меньше. Вам предстоит бороться за ваш подъем по ней, и с каждой ступенью вы будете оставлять позади все больше и больше людей. И это хорошо. Это правильно. Это не автоколонна, где нужно двигаться со скоростью самого медленного участника с тем, чтобы прибыть на место в одно время. Вы ответственны за вашу участь. Вы отвечаете за спасение вашей собственной души. Во время моих лекций в университетах на меня всегда нападают возмущенные этой идеей. В наши дни повсеместное представление заключается в том, что все мы имеем право на равные доли, и что никому не позволено выдвинуться слишком далеко из толпы. Но я не верю в тот вид равенства, где все остаются у подножия пирамиды ради того, чтобы никто не чувствовал себя неудачником. Я верю в то, что нужно взобраться на пирамиду сколь возможно быстро, и помогать тем, кто хочет сделать то же самое.» «А не оказываются ли другие помехой вашему духовному поиску?» «Именно. Вот почему я настаиваю на том, что называю “Законом Лестницы”. Я советую людям в группе работать со своими друзьями, но при этом соблюдать этот закон. Закон Лестницы говорит, что вам следует работать только на трех ступенях лестницы, но на всех трех одновременно. Вы учитесь у тех, кто на ступени выше, учите тех, кто на ступень ниже, и соединяете усилия с друзьями на вашей ступени. Если вы дотянетесь до второй ступени выше вас, вы не поймете, о чем говорят люди на ней. А если спуститесь на пару ступеней вниз – вас распнут.» «Но если человек не просветлен, как он сможет учить, не сползая в очередной мираж эго?» «Делайте, как я,» – осклабился Роуз. – «Не брейтесь, не мойтесь и носите саван.» Посыпались смешки. «А как насчет заработка на жизнь?» – спросил я. – «Какую работу можно выполнять при том, что быть духовным учителем или учеником?» «Если вы искренни, это не имеет значения. Какие-то занятия оставляют больше времени для ваших собственных мыслей, чем другие, но для всех это по-разному.» «Значит ли это, что можно иметь материальный успех, и все равно находиться на духовном пути?» «Зависит от того, к чему вы привязаны. Если к деньгам, то – нет. Если к духовной работе, то – может быть. Но человек может иметь только одну основную привязанность в жизни. Невозможно делать всё, что желается, и при этом достичь окончательного ответа. Нельзя позволить себе запутаться в слишком многих идеях или устремлениях. Это раздробит ваше внимание и опустошит вас. Для поиска человеку нужен каждый грамм энергии, которую он может собрать. Вам предстоит пройти сквозь смерть, а это требует определенной силы.» Я не отставал. – «То есть, тому, кто честно привержен духовной работе, денежный успех повредить не может?» «Не должен. Если человек хочет быть успешным в духовности, он должен быть успешен на всех уровнях своей жизни. Успеха не достигают, будь то духовного или материального, им становятся. А это требует привычки к успеху, постановки вектора удачи, который может быть повернут в любом направлении.» «Но разве материальный успех не раскармливает эго?» – кто-то задал вопрос. «Если вы это позволяете. Фокус в том, что вы изо всех сил работаете для достижения ваших целей, пока где-то на середине пути, – если вы счастливчик – вы не поймете, что вы не делаете в жизни ничего. Что вы – просто наблюдатель вашей судьбы. После этого эго растворяется.» «Но тогда в чем смысл что-либо делать, если всё, что вам открывается, так это то, что делать ничего не надо?» – выпалил я. «Потому что вы никогда ничего не выясните, если ничего не делать, – вот, в чём смысл,» – резкость голоса Роуза граничила с раздражением. – «Вы превратились в людей, которые не могут и носа себе вытереть, так как думают, что их лень и несостоятельность – что-то вроде духовной отстраненности. Они думают прыгнуть через материальное, так им и не овладев, прямо в Просветление. В результате они кончают бездельничаньем как на материальном, так и на духовном планах. Вам следует расширить ваше материальное бытие до предела. Только в этом случае вам откроется, что вы не существуете, – во всяком случае, – не так, как вы думаете. Вы предстоит откормить свою голову32, перед тем как ее отсечь.» Роуз замолчал, чтобы хлебнуть газировки, и продолжил более тихо. «Вам надлежит каким-то образом создать огромный шар энергии, если хотите найти Ответ, а этого не случится без некоторого участия эго. Вы используете эго, позволяете ему пройти дорогу. Примите мир, беритесь за проекты, практикуйте какие-то аскезы, – может, совершите одно-два чуда, если для этого проявится возможность. Удача в этих вещах даст вам уверенность и импульс – вектор, который можно будет использовать и для большей задачи. И когда открывается дверь в Абсолютное, ваш вектор – это то, что проводит вас сквозь нее. Эго само не может пройти.» «Суть в том,» – добавил он, – «что вам не следует оставлять материальный мир, чтобы отдаться духовному поиску. Если вы искренни и что-то находится у вас на пути, то вы не станете этому отдаваться. Оно будет забрано у вас.» «Предполагается, это будет облегчением?» – сказал Фрэнк. Все засмеялись. «В определенном смысле, – да,» – сказал Роуз. – «Это значит, что вы можете делать, что хотите33, при условии, что вы удерживаете ум на верном курсе.» «Промежуточность,» – серьезно произнес Фрэнк. «Да, промежуточность,» – кивнул Роуз. – «Пробежать между струями дождя. Если сделать свою жизнь молитвой, настоящей молитвой, когда один человек непрестанно просит одного ответа, тогда всё остальное – просто подробности. 6 ФЕРМА После того вечера я решил отложить «большое решение» – вовлекаться ли мне в духовную работу или нет, – и просто начал «приводить дом в порядок», как назвал это Роуз. Я прояснил и упорядочил всё, что у меня было. Я перестал выпивать. Начал пытаться медитировать. Завёл дневник. Ежевечерне обходил вокруг квартала. Почти незамедлительно я почувствовал себя лучше, или, по крайней мере, улучшил своё мнение о себе. Помимо повышения энергии и уверенности, я открыл, что, чем больше получал контроля над чем-то малым, тем меньше беспокойства у меня было в отношении моей жизни в целом. У меня даже стали происходить прозрения в такие ситуации и человеческое поведение, которые я прежде считал неисправимыми или необъяснимыми. Вскоре моя жизнь начала мало-помалу исправляться сама собой, и я с большим энтузиазмом дожидался следующего визита Роуза. Однако без него опять прошло несколько еженедельных встреч. Как-то вечером мы с Оги расклеивали по кампусу приглашения на собрания и я поинтересовался, когда же Роуз сможет приехать. «Трудно сказать. Он заперся на ферме и пишет новую книгу. Пока не может выбраться.» «Без него собрания – ничто,» – сказал я, – «чувствую, что мне нужно его видеть.» Оги приложил приглашение к телефонному столбу и пару раз стукнул по нему скрепочным молотком. «Знаешь, дорога идет в двух направлениях,» – сказал он. «Глубоко сказано,» – рассмеялся я. «Ага. Я это у мистера Роуза стащил. Иногда он общается с людьми, чтобы задать вопрос: “что вы знаете наверняка?” и посмотреть, что ответят. В основном, с членами группы, но также и с друзьями или соседями. И вот он говорит, что при всех тех университетских студентах и интеллектуалах, с кем он беседовал, стоящий ответ дал только один человек – необразованный фермер. На вопрос «что вы знаете наверняка?», он ответил: «дорога идет в двух направлениях и она заканчивается в мраморном саду.» Роуз обожает эту историю. С тех пор кладбища он называет мраморными садами. «Можно ли просто нагрянуть на ферму, чтобы встретиться с ним?» «Сначала лучше позвонить. Он не всегда на месте.» «Мне как-то неудобно звонить ему.» «Тем больше причин сделать это.» «Не знаю. У тебя есть с собой его номер?» «Вот что. Я собираюсь туда в пятницу, чтобы отвезти его на лекцию в Огайо. Если хочешь, можем поехать вместе.» Это было заманчиво и мы договорились о встрече. Тем вечером мы оба были в приподнятом настроении и, покончив с приглашениями, шутили и хохотали. Однако, через несколько дней, когда Оги подобрал меня, он выглядел обеспокоенным и был немногословен, – таким же как и когда вёз меня в Бенвуд. Я всё ждал, что он расслабится, но, чем дольше мы ехали, тем раздражённей он становился. Я почувствовал, что его недовольство было каким-то образом связано с его восприятием фермы. Пару раз я затронул эту тему, но он не ответил, а я не настаивал. Мы съехали с автомагистрали там же, где и раньше, но вместо подъема на холм, свернули тут же на светофоре влево и направились прочь из города. Со сменой пейзажа настроение у Оги испортилось еще сильнее, и я понял, что он попросту не любит сельскую местность. Что бы мы ни проезжали, он неуклонно выражал своё недовольство этим. С его точки зрения, горная речка с форелью, вившаяся вдоль дороги, являла собой очередной источник проблем из-за весенних паводков, а каждый поворот извилистых, непредсказуемых дорог мог скрывать пикап с пьяной деревенщиной за рулем. Он не пропускал ни одной хибары, ржавой машины, списанного школьного автобуса или заросшего сарая, если они подкрепляли его недовольство и скверное настроение. Постепенно я перестал обращать на него внимание. Дорога стала уже и ухабистей, а дальше покрытие и вовсе пропало, уступив место колеям грунтовки, выбитым в каменистом склоне горы. Прямо на хребте дорога поворачивала под прямым углом, открывая захватывающий вид на реку и долину внизу. Оги погрузился в совершенное молчание, из чего я понял, что мы подъезжаем. Проехав еще немного, мы оказались в окружении фермерских домов и Оги вывернул на земляную стоянку поблизости. Там стояли ещё две машины. «Похоже, всё в порядке, – Роуз здесь,» – сказал Оги, – «вон его машина – черный олдсмобиль.» Я оглядел окрестности. Помня дом Роуза в Бенвуде, я, разумеется, не ждал увидеть какой-то открыточный уединенный особняк, но даже при этом я был огорошен и разочарован. Непритязательный фермерский домик служил исключительно практическим потребностям и отчаянно нуждался в покраске. Семифутовый забор из заостренных бревен, от которого веяло мрачным предзнаменованием, шёл вдоль дороги, закрывая дом, отчего всё вместе было похоже на острог или крепость. Несколько сарайчиков из бросового пиломатериала, покрашенных в зеленый странного оттенка, окружали дом, старый голубой школьный автобус ржавел в сорняках в нескольких ярдах от места, где мы остановились. Оги не глушил мотора. «Идёшь?» – с надеждой спросил я. «Хотел бы, да опаздываю. Мне надо кое-что забрать в городе. Скажи мистеру Роузу, я буду через несколько часов.» Я вылез и смотрел как белый микроавтобус прыгал и дребезжал по грунтовке, пока не исчез, оставив меня одного посреди напряженной тишины. Я огляделся. Рядом с домом и хозпостройками находились несколько амбаров разных размеров и ржавый трейлер. Постояв с минуту, я направился к дому и постучал в фасадную дверь. Никого. После второй попытки я пошел на заднюю террасу. Там была сеточная дверь, а дверь за ней была открыта и вела на кухню. Я всмотрелся внутрь. «Есть кто-нибудь?» Тишина. Я вышел со двора и осмотрел ферму. Место выглядело заброшенным, но со стороны склона из-за дороги доносилось меканье козы. На возвышенности виднелись еще амбары и постройки, относившиеся, похоже, к ферме Роуза, так что, за неимением лучшего варианта, я направился туда. В итоге я прояснил источник меканья. Близ края пашни, какой-то человек старался высвободить запутавшуюся козу. По мере приближения стало ясно, что коза, очевидно, привязанная пастись, умудрилась обвить свою цепь вокруг деревца, так что от удушения ее отделяли только несколько звеньев. Пока человек пытался ее освободить, она делала всё, чтобы остаться запутанной. С минуту я наблюдал за его попытками сдвинуть козу в нужном направлении. Но коза уселась. Изо всех сил напрягаясь, человек поставил ее на ноги и попытался погнать вокруг дерева. Коза повернула к его коленям рога и стояла насмерть. «Помочь?» – спросил я, тихо приблизившись. «Да, подержи ей ошейник,» – отвечал он, как будто с самого начала знал, что я здесь. Он был лет двадцати восьми, высокий и жилистый, с рыжеватыми волосами и выглядел так исступленно, словно внутри себя двигался раза в два быстрей, чем это делал снаружи. Его одежда была выпачкана в засохшей грязи, из заднего кармана джинсов торчала рукоятка пистолета. «Оги говорил, что он сегодня забросит кого-то,» – сказал он. «Верно. Я – Дэйв.» Он быстро взглянул на меня. «Лари,» – бросил он, не протягивая руки. Затем указал подбородком на козу. Я осторожно взялся за ошейник, выглядевший как собачий. Шерсть козы была шершавой, горячей и неприятной на ощупь. Лари увидел мою нерешительную хватку и мотнул головой. – «Лучше возьми покрепче, иначе мы будем гоняться за ней по всей ферме.» Я ухватил ошейник обеими руками и Лари отцепил цепь. Поразительно, но, пока Лари отматывал с деревца цепь, коза стояла под моими руками безучастно. Потом он с внезапной силой схватился за ошейник и стал оттаскивать козу от дерева. Под ее громкий визг он оттащил ее футов на двадцать и наконец пристегнул цепь к ошейнику. «Есть еще парочка в такой же напасти,» – сказал он и я пошел за ним к другой запутавшейся козе, где мы повторили ту же процедуру. «Они бесятся оттого, что привязаны, и это их способ мести,» – сказал он, снимая цепь со ствола сломанного дерева. «Почему бы им не бегать на свободе?» «Они лезут на кукурузные поля. Это самые тупые животные в мире, пока дело не доходит до поиска дыры в заборе, а вот тут уж они превращаются в чертовых гениев.» «Кукурузные поля? А что ещё вы выращиваете на ферме?» «Поля не наши. Кришнаитов.» Мы занялись третьей козой. «Кришнаитов? Это которые «Харе Кришна»?» «Угу,» – тут он беспричинно дернул козу. – «Они окружили нас.» Я посмотрел кругом, но ничего кроме деревьев не увидел, окрестности выглядели как первозданная земля. От меня не ускользнуло, что Лари наслаждается моим недоумением. «Их сотни. Тысячи акров. Ферма Роуза – единственный кусок земли на хребте, который им не принадлежит,» – посмотрел он на меня со зловещей ухмылкой. – «И им ужасно хочется его заполучить.» Мы закончили распутывать последнюю козу и какое-то время постояли в молчании. Я разглядывал густой лес, покрывавший склоны во всех направлениях, и старался представить сотни преданных в оранжевых одеждах, толпящихся кругом нас. Это было настолько нелепо, что этой картины я не смог даже вообразить. «Ладно, а они хоть дружественны? Вроде духовных братьев?» – сказал я. Лари похлопал по пистолету в заднем кармане. – «Он у меня не для белок.» Это было неожиданно. – «Что? Пистолет из-за кришнаитов?» «Здесь эта компания немного другая.» Словно чтобы поставить точку в нашем разговоре, грянул ружейный выстрел. Я вздрогнул и непроизвольно пригнулся, хотя выстрелили явно не по-близости. Лари захохотал над этим. «Это Фил. Еноты залезли в сад.» «А я подумал, это ружье Кришны,» – нервно пошутил я. Лари насмешливо посмотрел на меня, видимо, гадая, не говорю ли я серьезно. «Мистер Роуз где-то здесь?» – спросил я. «Здесь. Внизу у ручья, я думаю.» – Он неопределенно махнул в сторону дома. – «С той стороны дома есть тропка. Просто иди по ней.» «Спасибо.» Я пошел вниз по склону. Когда я достиг задней части дома, то заметил человека, стоявшего на коленях у садового забора. На плече у него висела винтовка. «Привет!» – крикнул я с безопасного расстояния. – «Кто-нибудь дома?» Юноша поднял худое лицо. «Только я,» – ответил он и вернулся к своему занятию. Подойдя ближе я увидел, что он освежёвывает енота. Я впервые лицезрел внутренности животного. «Ты, наверно, Фил,» – сказал я. «Одним выстрелом с сорока ярдов,» – произнес он, указывая на ранку кончиком ножа. «Что ты будешь с ним делать?» «Шкурку повешу на забор. Я читал, что это заставит других енотов держаться подальше от сада.» Говоря, он подсунул нож под край кожи и стал подрезать ее. Мне вдруг стало тошно и я отвернулся, притворяясь, что хочу рассмотреть окрестности. «Мистер Роуз неподалеку?» Перед тем как ответить, Фил оглядел меня, как будто сомневался в моей способности передвигаться по ферме. Наконец он показал на протоптанную тропу, ведшую из сада в сторону рощи. «Да, по этой тропе к ручью. Ты его увидишь.» Я было двинулся, но он меня окликнул. «Смотри за змеями,» – сказал он со смешком. Тропа шла через старое пастбище, отделявшее дом от рощи. Оно заросло древесными побегами и колючими сорняками, которые делались всё гуще по мере приближения к деревьям. По краю поля шла проволочная ограда, натянутая между корявыми столбами, и возвышались ворота, сделанные из негодных деревянных поддонов. По ту сторону ворот тропа расширялась в то, что оказалось старой лесозаготовочной дорогой, уходившей вглубь рощи. Я прошел несколько ярдов и услышал звук бегущей воды, доносившийся из-за крутого вала. Я заглянул через край и увидел воду, бежавшую из стальной трубы, которая торчала из кривобокой цементной тумбы. Сильная чистая струя хлестала в старую фарфоровую ванну, отороченную водорослями. Куски мыла и бутылки с шампунем располагались наготове на круглых колодах возле лохани, несколько истертых полотенец были развешаны тут же на ветках. Мистера Роуза, однако, видно не было. Мне стало жарко, я вспотел, – вероятно, более от волнения, чем от короткой прогулки. Я спустился к источнику и, не пробуя воды, окунул голову в переполненную ванну. У меня едва не остановилось сердце: никогда бы не поверил, что вода может быть настолько холодной, не превращаясь в лед. Я поспешно вытер голову одним из полотенец, взобрался обратно на бруствер и пошел дальше вниз по дороге, делавшейся все уже, пока не превратилась в оленью тропу. Когда она в конце-концов исчезла, я сел на выступ на крутом склоне и принялся разглядывать долину внизу. Просвет между деревьями открывал ясный вид на красивую ферму, далеко раскинувшуюся по всей долине. Широкий ручей рассекал зеленые поля, где под полуденным солнцем паслись черно-белые стада. Большие, свежеокрашенные строения, полные живности, сочные пастбища и аккуратные загороди – все в соседской ферме являло полную противоположность ферме Роуза. Внезапно мне стала понятной неприязнь Оги к этому месту. Ферма Роуза, как и его дом, машина, одежда – как, всё что его окружало, – была аскетически убогой и неуютной. Вдруг за моей спиной метрах в трех раздался голос. – «Неужто это маленький Дэйви?» От испуга я буквально подпрыгнул из сидячего положения на ноги. «Мистер Роуз,» – произнес я заикаясь, моё сердце колотилось, – «я вас не услышал.» «А я хотел увидеть, как близко смогу подобраться, не выводя тебя из комы,» – сказал он. «Лари сказал, что вы у источника, и я спустился, ища вас.» «Да, горловина всё время требует ремонта,» – сказал он широко улыбаясь, – «Оги ее обустраивал.» Мы оба рассмеялись и я почувствовал себя лучше. Несколько минут мы говорили, а затем Роуз направился в рощу. Я шагал рядом с ним. Пока мы шли, он рассказал об участке, о том, как давно была сделана просека, куда доходит его земля в каждом направлении, и где можно, если захочется, повстречать оленя. Мы обогнули оконечность крутого хребта, спустились по пологому склону и перешли через маленький ручей. На другой его стороне была большая пустошь. Когда мы вышли из окружения деревьев, я увидел несколько старых легковушек и грузовиков, ржавевших в сорняках. «Это вот гоночный трек,» – сказал Роуз. Я рассмеялся, так как расценил его слова как эвфмеизм для деревенской свалки, но он продолжал. «Не так давно одни ребята договорились со мной построить тут трек. Это вот, что они успели сделать до того, как их дела пошли под гору.» Осмотревшись, я заметил явственный след, окольцовывавший пустырь по овальному периметру, – в том месте сорняки росли ниже и не было древесных побегов. «В обмен за использование моей земли, я получал все права на продажу билетов. В дни гонок тут было бы шумно, но я всё время искал способы обеспечить семью.» Мы продолжили наш путь и в конце-концов пересекли грунтовую дорогу и стали подниматься на холм в направлении того места, где мы с Лари высвобождали коз. Мы избрали другую, пробитую в густой чаще, просеку и, пока шли, Роуз рассказывал об всём, мимо чего мы проходили, – козах, воротах, требующих починки, деревьях, готовящихся распуститься, и небольших растениях. «Вот это выглядит как мох, но на самом деле это скопления крошечных вечнозеленых,» – сказал он, наклонившись погладить распластанное по земле растение. «Мистер Роуз, я рад, что у меня сегодня есть случай поговорить с вами,» – сказал я. – «Коечто произошло с моим умом.» «Да ну?» «В-общем, ничего такого, на что я мог бы чётко указать. Скорее всего, я просто в тупике насчет того, что мне нужно делать.» «Один из худших вариантов эго, какой только может быть, – встать на духовный путь и думать о себе, как о духовном человеке. Но человек на истинном духовном пути никогда не знает, как действовать. Он просто действует. По этой причине я не делаю того, что, как люди думают, духовному человеку свойственно делать. Они постарались бы меня скопировать, и, научившись меня повторять, решили бы, что теперь они духовны.» – Он рассмеялся. – «Они всё равно пытаются, но я таких раскусываю.» «Мне кажется, для меня сейчас главный вопрос,» – сказал я, – «стоит ли мне идти на интенсив летом.» Время от времени Роуз устраивал на ферме «интенсивы», и тот, который планировался на это лето, был предметом обсуждений в группе. Он являлся возможностью жить и работать с Роузом каждый день, а не только один или два раза в месяц на встречах. На него, казалось, собирались все, кроме меня. «Моя проблема в том, что летом мне нужно заработать денег, чтобы заплатить за обучение в университете осенью. Не пойму, как это совместить.» «Ну, иногда кажется, что всё против нас, это правда,» – проговорил Роуз задумчиво, как будто сам себе. – «К примеру, когда мне было под тридцать, у меня всё валилось из рук. Всё время и все усилия я положил на поиск, но так ничего и не достиг. Вместо того, чтобы наградить за мою, как я думал, духовную жизнь, Бог, казалось, карал меня. У других людей были деньги, уверенность, семьи, а всё, что имел я, было – лысая голова да гнилые зубы.» Смысл его примера до меня не дошел. «Я хочу сказать, что сомневаюсь теперь, стоит ли мне вообще учиться на юридическом,» – сказал я. – «Мне кажется, что карьера законника несовместима с духовной работой.» «Оставайся там,» – твёрдо сказал он. – «В мире нужен хотя бы один честный адвокат. И кроме того, ты не создан быть монахом, колющим дрова. Это не твой путь.» Я был одновременно заинтригован и смущен уверенностью, прозвучавшей в его голосе. «Может быть я обманываю себя, мистер Роуз, но я чувствую, что хочу найти какие-то ответы. Может быть, не так сильно как вы, но достаточно, чтобы не хотеть препятствий от карьеры.» «Ты не знаешь, что может воспрепятствовать, а что послужить прорыву. Никогда неизвестно, какая ждёт человека судьба, или как повернет его жизненный путь. Вот, как я хотел жениться. Если б я нашел жену, когда её искал, то – совершенно уверен – со мной не случился бы Опыт. Но спустя пару лет я соединился с женщиной, которой нужен был муж. Она была беременна, отец ребенка жениться не собирался. Я сказал, что согласен, и мы поженились. Забавно то, что за год до того я увидел эту женщину во сне. Она шла в красном платье по дороге к моей ферме. Я не знал, кто она, и никогда не видел до этого, но после пробуждения я сказал себе: “это женщина, на которой я женюсь”. Кстати, когда я потом ее встретил, она была одета в то самое красное платье из сна.» Он ещё несколько минут говорил о снах и рассуждал об их источнике, а также о достоверности получаемой из них информации. Мне же казалось, что он не дал ответа на мой вопрос, либо я не уловил его. «Похоже, вот, что я хочу знать: как вы думаете – надо ли мне приехать на ферму на Интенсив и не беспокоиться о работе и учёбе?» «Нет способа предугадать хитросплетения судьбы. Делай то, что ты чувствуешь правильным, и потом принимай последствия. Мой отец застрелил насмерть человека, потому что был уверен, что это правильно. И причудливым образом это, возможно, оказалось позитивным фактором для моего духовного вектора и итогового Опыта.» «Ваш отец убил человека?» «Человека по имени Вильям Портер. Убил, из-за того, что тот столкнул мою мать с тротуара. И не потому, что был в гневе, или хотел доказать, что он крутой парень. Он это сделал, потому что его жена была беременна, а он считал, что мужчина обязан защищать свою семью. Он даже не пытался бежать. Пошел прямо в полицию и сдался. Обвинитель постарался сделать из него монстра, но присяжные признали его только убийцей второй степени. Ему дали девять лет. На следующий день моя мать отправилась в Чарльстон и поселилась на крыльце у губернатора. Буквально поселилась, – днюя и ночуя там и отказываясь уйти, пока губернатор не даст отцу помилование. Она была беременна мной, была середина зимы, но её невозможно было сдвинуть с места. Она простояла на лестнице два с половиной месяца на морозе, в снегу, и была готова умереть, если придется. В конце-концов они сдались. Губернатору не нужна была беременная женщина, замёрзшая у него на руках. У меня где-то до сих пор есть копия этого помилования. Позже мой отец говаривал, что в каждом из его сыновей отразился тот настрой матери, в котором она была, когда его носила, – из нас все четверо были разными. Здесь многие горцы в это верят, – что характер ребенка формируется в утробе. До определенной степени я тоже так считаю. В моём случае, я верю, что на мне сказались две вещи: то, что по стечению обстоятельств моя мать, будучи беременной мной, не знала соитий, и вторая – её железная решимость, которая у неё была на крыльце в ту зиму.» 7 ЗА АБСОЛЮТОМ Когда мы с Роузом вернулись на ферму, там уже были фургон Оги и оранжевый фольксваген. Рядом стояли Оги и четверо незнакомых мне ребят. Роуз спросил у Оги, захватил ли тот все необходимое для лекции. Они углубились в детали и выяснилось, что Оги-таки что-то забыл, отчего Роуз пришел в раздражение. Так что мы отошли подальше, пока он переносил ящики с книгами из фольксвагена в фургон. Когда же Роуз сел в фургон, все, кроме меня и Оги, предпочли залезть в другую машину. «Поехали,» – нетерпеливо сказал он. Он сидел в раскладном кресле, поставленном на пассажирском месте, а я рылся в барахле сзади, расчищая для себя место. Роуз наблюдал за моими стараниями. «Бог мой, Оги, почему бы, черт возьми, тебе не выкинуть из машины часть этого мусора?» – проворчал он. – «Нам может понадобиться взять больше людей.» Оги привел было невразумительное объяснение, но Роуз сходу его отверг. «Оги из тех парней, кто выбросит за борт любого, только бы иметь место растянуться самому,» – обернувшись ко мне, без улыбки проговорил он. – «Ему и в голову не приходит, что людям требуется какое-то место, чтобы разместиться в его фургоне.» Я приспособил какое-то ковровое покрытие себе под мало-мальски удобное сиденье и радовался, что сижу сзади, вне линии огня. Впрочем, через несколько миль Роуз смягчился. «Ребёнком я сто раз ездил по этому маршруту автостопом,» – сказал он. – «Не по этой магистрали, разумеется, – а старой дорогой №40. Во времена депрессии. У нас не было денег на развлечения, так что мы поднимали большой палец, просто чтобы куда-нибудь поехать. И если везло, в пути можно было даже разжиться какой-нибудь едой. Иначе приходилось несколько дней голодать. Но на самом деле мы никогда не думали о себе как о бедняках. Тогда все голодали. Быть голодным – таков был стиль жизни. В университете я жил на четверть доллара в день. Конфеты и литр молока. Вот чем я питался два года в Вест Либерти.» «Вы не кончили?» – спросил я. «Нет, даже при двадцати пяти центах в день мои денежки вышли. Но это, скорее, и к лучшему. Было время двигаться дальше. Ведь то, что я пошел изучать химию и физику, было реакцией на промывание мозгов в семинарии. Я был сыт верой по горло, и потому искал какого-то научного доказательства Бога и бытия, чего-то в этом роде. Думал: если проникнуть внутрь атома, то тем самым можно открыть тайны мироздания. Конечно, позже я понял, что наука – это просто еще одна бесконечная касательная. Так что к двадцати одному году я перегорел и религией, и наукой. В определенной смысле это был травмирующий опыт, зато он помог мне понять, что нельзя нечто постичь изучением. Нужно измениться. Ты – то, что ты делаешь, а не то, что знаешь. Человек не изучает, он становится. А чтобы стать, нужно найти пути и средства изменить фундаментальное состояние ума. В свою очередь это приведет к изменению сущности человека. Так или иначе, тогда-то я и занялся экспериментами с йогой, целибатом и медитацией. Я превратил свое тело в лабораторию. Я путешествовал по стране в поисках тех, кому были известны ещё какие-нибудь пути, которыми человек может изменить себя и стать чем-то большим. Также я проводил много времени в одиночестве на моей старой ферме. Уединение – это прекрасно.» «У вас две фермы?» – спросил я. «Было. Старую я сдал в аренду на девяносто девять лет двум парням, которые говорили, что хотят создать внеконфессиональную духовную общину. В итоге оказалось, что они кришнаиты. Как только бумаги были подписаны, они стали ходить в простынях и распевать тарабарщину. Сейчас мы не слишком ладим с ними.» «Знаете, мистер Роуз,» – произнес Оги осторожно, – «меня всегда удивляло, как так получилось, что вы допустили, чтобы кришнаиты завладели вашей фермой таким образом. То есть, вы – просветленный человек...» Роуз покосился на него, как если бы вопрос был тривиален. «Я был одурачен,» – сказал он. Оги поглядел в ответ и их обоих прорвало хохотом. Роуз переходил от истории к истории и мили пролетали быстро. Когда мы въехали на окраины Коламбуса, Роуз спросил который час. Оги ответил, что у нас еще три часа до начала лекции. «Раз так, давайте перекусим,» – сказал Роуз. Оги свернул в первый же переулок и остановился у какого-то фастфуда. Сзади нас встал оранжевый фольксваген и, когда мы вышли, из него донеслись шуточки и болтовня. И тут, после внимания рассказам Роуза и задушевной атмосферы фургона, я поймал себя на неприязни к присутствию этих других. Это ощущение удивило и смутило меня, поэтому, пока мы шли к ресторану, я держался позади, ожидая, когда оно пройдет. Оги поотстал от Роуза, чтобы пройти со мной. «Я знаю, что ты чувствуешь,» – сказал он тихо. – «Но как бы ты ни приблизился, он никогда не станет твоим собственным.» Пока мы шли, завсегдатаи ресторана пялились на нас: шестеро молодых парней, уважительно окружающих шестидесятилетнего человека в ярко-оранжевой охотничьей шапочке. Зная, что у нас уйма времени, мы ели медленно, а потом ещё просто сидели какое-то время, беседуя за кофе. Девушки за стойкой не могли отвести глаз от Роуза. Казалось, они старались уловить каждое слово, немного смущаясь его неприличным юмором и перешептываясь между собой, когда беседа касалась более эзотерических материй. Одна из них вышла и вернулась с менеджером, который встал рядом и слушал, безуспешно пытаясь это скрывать. Роуз, казалось, ничего не замечал, но потом, когда мы на пути к выходу проходили мимо стойки, он ему прощально махнул. «Это шестеро моих незаконорожденных сыновей,» – пояснил он. – «Потребовалось море сил и настойчивости, – но-таки удалось их на время забрать из исправительного дома, чтобы мать в последний раз взглянула на них перед смертью.» Через два часа мистер Роуз стоял перед сотней людей в зале в Дома Студентов огайского университета. Собрание выглядело таким же эклектичным смешением людей, как это было на встречах в Питсбурге. Роуз попросил меня заняться продажей книг, что явилось для меня неожиданной честью, и я гордо сел за карточным столом в конце помещения, с дюжиной экземпляров «Документов Альбигена», сложенных аккуратно в стопку передо мной. Первые слова Роуза потонули в визге микрофона, так что он его отстранил от себя и громко спросил: «Вам слышно так?» С задних рядов последовали кивки и подтверждения, поэтому он отставил микрофон и начал снова. Речь его пошла медленно, нескладно. Он путался в своих заметках и подыскивал слова. Я знал, что это не от волнения, и мне было странно, почему он не позволит потечь тому безусильному потоку озвученных мыслей, как он это делал на собраниях у него в доме и всюду, где мне ни приходилось слышать его. Оги, оставшийся на сцене после того, как представил Роуза, ёрзал на своём складном железном стуле. И вдруг ритм Роуза изменился, его настрой переключился в иную тональность. Это выглядело так, словно внутри него к власти пришел другой человек. «Я знаю, что у нас мало времени,» – сказал Роуз. – «Вместе мы только пару часов, а я хочу ответить на как можно больше ваших вопросов. Так что, хотя у меня и подготовлен конспект лекции, я хочу, чтобы вы задавали вопросы. Не бойтесь прервать меня, если что-то непонятно или требуются уточнения. Теперь, хоть я и поощряю диалог, нам надо принять некоторые правила разговора. Главное – это то, что я не хочу вступать в споры. Убедить людей в Истине невозможно. Если мы не согласны, то это нормально, – мы ведь здесь для того, чтобы отличить правду от лжи. Но я не собираюсь тут стоять, пока вы сыплете измышленными вопросами, цель которых доказать, что вы умнее, чем я. Если вам необходимо верить в это, то – ладно: я вперёд признаю, что все вы умнее меня.» Последовало несколько нервных смешков и Роуз тоже улыбнулся. Затем он расстегнул голубую пластиковую папку и достал несколько бумаг. «Пока Оги представлял меня, я говорил с одним человеком из присутствующих и он спросил, буду ли я говорить о моей философии. Я ответил, что нет. Потому что моя жизнь – не философия. Она – данная в опыте история раскрытия. Я не говорю, что если вы станете делать всё, что делал я, то есть некая гарантия того, что вы тоже откроете что-то. На самом деле я усиленно отговариваю людей от подражания. Вам нужно раскрыть глубинные условия, способствующие Опыту, а не пытаться копировать поверхностные манеры, либо склонности учителя. Но мне приходилось читать о людях, у которых был духовный опыт, сходный с моим, – даже нескольких встречал лично, – и я отметил некоторые общие черты в наших жизнях. Независимо от географии. Люди, переживавшие это знание, были во всех уголках мира и во все времена. Вам не нужно идти в Индию или Тибет, чтобы найти Истину. Вы начинаете там, где вы есть, и прямо теперь. Так или иначе, но я пришел к убеждению, что есть три основные вещи, которые человеку необходимо иметь или взращивать, для того, чтобы иметь какую-то надежду на успех в этой области, – некоторую надежду стать. Первое. Вы должны хотеть Истины сильнее, чего бы то ни было. Не сначала, быть может. Возможно, вы начнете с простого любопытства. Но в конечном счёте, если вам суждено чтото откупорить, вам потребуется чрезвычайная жажда Истины. Есть история об ученике, который спросил дзен-мастера, что тому понадобилось, чтобы достичь Просветления. Мастер завёл ученика по грудь в бывшее неподалеку озеро, а потом схватил его и погрузил в воду с головой. Поначалу ученик не сопротивлялся, поскольку подумал, что это – мастер и, следовательно, знает, что делает. Но когда воздуха стало не хватать, он затрепыхался все сильнее и сильнее, пока не стал бороться со всем, что ему препятствовало. Наконец мастер позволил ему вынырнуть и тот, едва живой, кашлял и ловил воздух. Когда же он пришел в себя, то спросил мастера, зачем тот так поступил. Мастер ответил: “когда ты хочешь Истину так же сильно, как только что хотел воздуха, ты ее не упустишь”.» По аудитории прокатился смех, но Роуз не улыбался и не останавливался. «Второе,» – сказал он, – «вам нужна энергия. Вы должны быть достаточно динамичны для самопознания и необходимой для него работы – поиска книг, учителей, методов и действий в соответствии с тем, что вам открылось на пути. Всё это требует уймы энергии, поэтому вам нужно беречь ту, что имеете, и использовать ее по назначению. И третье. Требуется обязательство. Простое обещание себе и любому Богу, который только может услышать. Вот, три эти вещи. Без них все философии – пустые слова.» Роузу пока не понадобилось заглядывать в свои записи. Он, казалось, почерпал нужные слова из настроения зала. «Не существует гарантий в этом деле, в работе по становлению,» – сказал он. – «Тот, кто скажет вам обратное, просто хочет вам что-то продать. Есть только одно, что я или любой другой, кто прошел этот путь, может сделать, – это поделиться с вами уроком, извлеченным из собственного опыта.» Дальше Роуз перешел именно к этому, рассказав аудитории об этапах поиска в его жизни – о времени веры в семинарии, об увлечении логикой и наукой в университете и годах медитации и аскетических практик. «Затем,» – сказал он, – «в тридцать лет со мной случился опыт, который не был результатом ни одного из этих факторов.» Здесь Роуз рассказал историю его опыта Просветления почти в тех же словах, как это было на кухне в Бенвуде в моё первое появление там. И однако по какой-то причине рассказ на лекции этим вечером подействовал на меня гораздо сильнее. В некоторый момент у меня даже появилось ощущение физического прикосновения, но когда я оглянулся, рядом со мной никого не было. Когда я снова поднял глаза на Роуза, он, не прерывая речи, пристально смотрел на меня. Безо всякой причины на моем затылке волосы встали дыбом и меня сотряс холодный озноб. Тогда Роуз отвел взгляд, продолжая описывать, на что это было похоже – стать Абсолютом. Когда он кончил, установилось долгое молчание, во время которого Роуз взял стакан воды со стола позади себя и отпил. Наконец человек, примерно одного возраста с Роузом, поднял руку. «В итоге, вы можете сказать, что нашли Бога в вашем Опыте?» «Вы становитесь Богом, да,» – прозаически сказал Роуз. – «Хотя я предпочитаю не использовать это слово, поскольку за ним тянется долгая история детских представлений. Мы говорим не о здоровом мужике с седой щетиной, который ведёт учет наших прегрешений.» «Я думаю о Боге скорее как о “Вселенском Разуме”,» – спокойно заметил мужчина. «Ну, допустим,» – ответил Роуз. – «Но Абсолют – за пределами Вселенского Разума. Разум – всё ещё измерение. Когда уходит ваш индивидуальный ум, вам это становится очевидным. В тот момент вы осознаете, – так как Разум всё ещё остаётся, – что то, чем вы владели всю вашу жизнь, было не индивидуальным умом, как вы думали, а попросту контактом с единым измерением Разума. Так что, будет справедливым сказать, что я нашел Бога, или, что я стал Богом в моем Опыте. Однако не менее справедливым будет сказать и то, что я ничего не нашел. Ничего, отдельного от меня, там не было. Вы руководите творением, и всё же при этом вы не исходите из иллюзии, будто можете изменить что угодно.» Высокий человек, делавший пометки на протяжении разговора, поднял руку. «Значит, вам не встретились другие умы во время вашего Опыта?» «Я не видел там никого, кроме себя. Однако я чувствовал, как нечто помогает мне, даже, возможно, ведёт меня, – нечто, что просто находилось за пределами картинки. В самом деле, я иногда думаю, что весь тот опыт был срежессирован с целью показать мне, что Ричард Роуз, это тело, не существует. «То есть, у вас была помощь?» – спросил другой человек. «Да. Я уверен, что опыт был целиком сконструирован. Просто мне так и не удалось как следует увидеть, кто или что помогает мне. То была благожелательная помощь, конечно, но – не защита. Когда вы собираетесь посетить Тотальность и Ничто, ваш Ангел Хранитель вперёд вам не скажет, что всё будет в порядке, что он прямо там будет с вами. Нет. Вам предстоит умереть как собаке. Без надежды. И только тогда вы сделаете личное открытие, что и пройдя через всё это – вы по-прежнему наблюдаете: “я всё ещё здесь!” Было ведь не так, что ещё до того, как я вернулся, мне было известно, что нечто создало этот Опыт и даже те условия в материальном мире, которые предварили его.» «А разве нет других систем, которые могут привести к Истине без всего этого кошмара?» «Чтобы истинно познать смерть, нужно умереть.» «Тогда зачем кто-то захочет добиваться чего-то подобного, – то есть, если он знает об этом условии: чтобы попасть туда, ему предстоит умереть?» «Кто умирает? Что умирает?» – возразил Роуз с ударением. – «Иногда приходится развалить город, чтобы построить что-то красивое.» Зал молчал. «Да, знаю. Никто не ищет смерти,» – продолжил Роуз. – «Я не искал ее. И не хотел найти Небытие. В действительности я всегда хотел утвердить свою индивидуальность в высочайшем градусе ее интенсивности.» Я услышал молодой женский голос из первого ряда. – «Весь этот опыт выглядит не слишком приятным.» «А кто сказал, что он должен?» «Я говорю, что это не такой тип духовных опытов, про которые я читала.» «Значит, вы читаете о незначительных опытах. Просветление – это смерть ума. Смерть. Вы уверены, что умираете – полностью и навсегда. И это хорошо – думать так, потому что это убивает эго. Когда человек чувствует, что умирает, он немедленно отбрасывает все свои эго. Так должно быть. Вам нужно пройти через смерть без надежды выжить. Потому что вы должны быть честны с собой, – все эти рассказы о жизни после смерти могут быть выдумкой. Но, когда вы умираете по-настоящему, вы умираете в абсолютном отчаянии. И это абсолютное отчаяние убирает последнее эго, оставшееся у вас, – духовное эго, которое верит, что индивидуальный ум бессмертен. И вот тут происходит нечто поразительное. Когда ты умер, ты обнаруживаешь, что ты всё ещё здесь и наблюдаешь весь этот бардак. Это-то вот наблюдение и есть секрет бессмертия. Я полагаю даже, что только одно и достойно того, чтобы об этом знать: когда ты умер, Наблюдатель по-прежнему жив. Что я понял благодаря Опыту, так это то, что душа человека – Бог. У каждого человеческого существа есть потенциал, чтобы открыть это. Открыть свою суть, свою душу. И в акте открытия человек становится тем, что он открывает. Если бы мы были не более, чем проецируемой иллюзией, которую мы зовем «я», то при смерти мы исчезали бы подобно сгоревшей свече.» Сидевший на ступенях в проходе студент поднял руку. «Откуда приходит человеческая душа?» – спросил он. «А нужно ли ей откуда-то приходить? Разве не может она просто быть? Она – есть.» «Раз душа человека может просто быть, то почему мы не можем просто быть? Зачем все эти усилия?» «А потому что мы не души,» – ответил Роуз, вдруг оживляясь. – «Мы – не души! Мы – тени на стене платоновой пещеры. У каждого индивида на этой планете есть потенциал обрести свою душу, стать душой. Но вы не душа, пока не открыли себя, свое Истинное Я. И в то же время правильно также сказать, что то, чем вы являетесь, есть душа. Вы не имеете душу, вы и есть душа. Что вы имеете, так это проецируемый аппарат тела-ума, действующий в присутствии души, которая наблюдает вашу условную жизнь. Но вам не приобрести бессмертия, услышав мою или чью-то попытку это объяснить, или же поверив то ли мне, то ли кому-то еще. Единственно возможное бессмертие – это стать полностью отождествленным с душой, – с Наблюдателем, вашим Истинным Я, – до того, как ваше тело умрет. Тогда вы не умрете вместе с телом. В традиционном дзен это выражается афоризмом: “если ты умер, до того как умер, то ты не умрёшь, когда умрёшь”.» «Но вы сказали, что нашли Небытие.» «Да, но личность не может постичь Небытие. В Опыте вы не думаете о Небытии. Небытие обрушивается на вас.» «Это забвение?» «Небытие – не забвение. Не думаю, что кто-либо действительно обретает при смерти забвение. Определенные люди, чисто инстинктивные, живущие примитивной животной жизнью, возможно, погружаются во мрак на время. Но на какое, – я не знаю.» «Получается, смерть для всех разная?» «Именно. Если бы каждый обретал по смерти одно и то же, если бы ваши действия на земле не имели бы последствий после смерти, тогда не много смысла было бы мне говорить тут.» «Тогда на что это будет похоже для вас?» Роуз улыбнулся. – «Моя жизнь больше не привязана к этой планете. Это место – сцена, и, когда вы уходите, вы гасите прожектора.» Повисла долгая пауза перед следующим вопросом. «Вы не верите в реинкарнацию, мистер Роуз?» – проговорила привлекательная женщина средних лет. «Я ни верю, ни не верю в нее. У меня нет доказательств за или против. Возможно, я был здесь прежде, но не имею памяти об этом. Но вот, что я, однако, заметил: люди, которые особенно напирают на реинкарнацию, обыкновенно используют ее как отговорку, чтобы не прилагать каких-либо духовных усилий в этой жизни. Надо сказать, что как объяснение человеческих страданий и неравенства, которое вы видите в социуме, реинкарнация более удобоварима для человеческого рассудка, нежели концепция: “один шанс, а затем – рай или ад навечно”. Но то, что она более приемлема, ещё не делает её истинной. Даже наоборот: чем более истолкование вещей приятно, тем с большей вероятностью оно является порождением руководствующимся желаниями человеческого ума.» «Кроме того,» – добавил он, поворачиваясь к женщине, задавшей вопрос, – «если люди-таки возвращаются, то это потому только, что они не понимают, что могли бы просто оставаться мёртвыми и находиться в гораздо лучшем положении. В своём невежестве они почему-то чувствуют себя принужденными к продолжению этой игры, к возвращению на сцену.» Юноша прямо передо мной поднял руку и Роуз кивнул в его направлении. «Чем стало для вас возвращение, мистер Роуз?» – спросил юноша. – «Стал ли мир другим или Опыт прошёл бесследно?» «Мир никогда уже не был тем же. Сейчас я чувствую себя сумасшедшим, наблюдающим это всё. И, разумеется, это весьма освобождающее чувство,» – сказал он с усмешкой, – «ведь сумасшедший свободен делать любые сумасшедшие вещи.» Смех проложил долгожданный отход от серьезности. Расслабилась вся комната, включая и Роуза. «Но поначалу мне пришлось очень несладко. В ту ночь, когда я вернулся, я не мог перестать плакать. Бесконтрольно рыдая, я бродил по улицам и искал моста, достаточно высокого, чтобы с него прыгнуть. Правда. Мне не хотелось жить. Я не мог отделаться от мысли, что вернулся в этот кошмар. И не прыгнул я только потому, что там мелкие речки и я бы влип попросту в ил. Потом я набрел на церковь и у меня мелькнула надежда. Я подумал, что священники всю жизнь проводят в наблюдении, и, возможно, кто-то из них читал о том, что со мной случилось. Так что я постучал в дверь. Выходит эдакий поп-чугунный лоб с чудовищным пузом и глядит на меня как червя. Я понял, что от него помощи не будет, и спросил, нет ли старого священника. И вот, я стою на ступенях церкви с бегущими по щекам слезами, а он даже не пригласит меня войти. Только хмуро на меня пялится и говорит: “как давно не был ты на исповеди?” И я подумал: “где мой пистолет?”» – Роуз продолжал на фоне смеха. – «Ну да! Мне захотелось пристрелить ублюдка. Но злость оказалась кстати. Она помогла мне выбраться из того состояния и перестать плакать. Постепенно рана стала затягиваться и я вновь начал возвращаться к жизни. Но я всё равно чувствовал себя не в своей тарелке в мире, который, как я знал без тени сомнения, был иллюзией, поскольку недавно посетил настоящий. Несколько недель люди были прозрачными для меня. В буквальном смысле прозрачными, – я видел прямо сквозь их тела. Так что я решил, что лучше направиться домой, поскольку никак не приходил в норму. У меня был старый друг в Элаенсе, в Огайо, и он устроил меня, где работал сам. Вот, когда всё у меня стало прекрасно. Там открываются холмы за холмами, долины за долинами. Дети как куколки. Исключительная пустынность Абсолюта, испытанная мной, позволила мне узреть жизнь и движение как красоту. Месяцы, последовавшие за моим Опытом, были счастливейшими в моей жизни, разве что, может, за исключением тех лет покоя и блаженства, когда после двадцати я вёл весьма аскетическую жизнь. Каждый день я приходил с работы домой и садился за печатную машинку. Я отказался от попыток говорить об Опыте, потому что нельзя описать Абсолют, используя относительные понятия, но я надеялся написать поэтическую книгу и хотя бы выразить красоту иллюзии, в которую вынужден был вернуться. Большинство из написанного я тут же рвал. Но в один день нечто снизошло на меня и мне удалось написать о моем Опыте. Тогда и появились “Три книги из Абсолюта”. Это было как автоматическое письмо,» – продолжал Роуз, – «слова просто появлялись на бумаге.» Из передних рядов поднялась рука. – «Считаете ли вы, что вас привели к Опыту годы аскетизма?» «На самом деле, – нет. Они были как юность на пути к зрелости. Они были необходимы, но не являлись прямой причиной. Хотя, я думаю, что всё это экспериментирование, изучение и, в особенности, экономия энергии – несомненно явилось частью того, что подготовило меня к Опыту.» «А какова другая часть?» «Основной подготовкой к Просветлению была травма. Но, чтобы ее спровоцировать, специальные учения не нужны. Жизнь даст вам изобилие травм независимо от того, на духовном вы пути или нет. Предавайтесь ей, пока возможно. У вас будет предостаточно покоя в мраморном саду, – быть может,» – Роуз засмеялся с таким выражением, что мне стало не по себе. «Что я хочу сказать,» – продолжал он, – «вам следует пройти через все эти травмы в жизни – теперь, пока вы на Земле, – чтобы улучшить вашу ситуацию после смерти. Каждый может быть бессмертным, но не все мы, умирая, попадаем в одно место. Сознавание34 не может прекратиться ни для кого, но вы не можете попасть в измерение, которое ментально не привили себе заранее. Если бы обыкновенный ум, с его убеждениями и ограничениями, попал в Абсолютное измерение, ему показалось бы, что он в забытьи или что это – ад.» «Будет ли тот, кто занимается духовными практиками, например, регулярно медитирует, иметь некоторое предвосхищение того, что вы в конце-концов пережили?» «Нет. Это не накапливается постепенно. Это происходит вдруг и никогда не похоже на то, что вы могли бы представить заранее. Я всегда думал, что духовный опыт – это что-то исключительно прекрасное. У меня были видения каких-то прекрасных цветущих полей или бог знает чего ещё. И тот факт, что найденное мной оказалось столь до крайности опустошающим и противоречащим моим чаяниям, убедил меня в том, что опыт – подлинный, а не порождение мысли, питаемой вожделениями. Это не аккумулирование знаний, а усилие, которое вы развиваете, вектор, который создаете, чтобы он продвинул вас туда. Да, вы вовлекаетесь в упорную погоню за Истиной, но даже в ее разгаре вы допускаете, что неспособны постичь Истину. То есть, вы заняты всепоглощающим преследованием цели, и в то же время считаете, что никогда не достигнете успеха. Вы этим живете! Человек на духовном пути проживает каждый момент каждого дня своей жизни. Вы толкаете, толкаете и толкаете без надежды. И потом не находится слов или логики, чтобы объяснить то, что в итоге происходит. Это взрыв. Ваше существо меняется.» «Разве мудрость, которую вы приобретаете во время поиска, не входит в Просветление?» «Нет,» – решительно сказал Роуз. – «Путь не таков. Вы не можете приобрести мудрость, потому что не знаете, что она такое. Суть пути – в отбрасывании. Вы разгребаете кучу мусора, чтобы посмотреть, нет ли под ней чего-то стоящего. И вот, когда всё отброшено, остается Абсолютное состояние. Вот это – реальное, а не всевозможные штучки, которые вы для себя отобрали, полагая, что они – истина на пути. Вы не знаете ничего, пока не узнаете Всё.» «Как вы думаете, имел ли ещё кто-то такой же тип Опыта как ваш?» «О, да, теперь-то я это знаю. Но после моего Опыта я чувствовал себя совершенным одиночкой. На протяжении лет мне не удавалось узнать ни об одном духовном случае. Я был в Стьюбенвиле, Огайо, – там у нас была маленькая группа, – и после встречи одна женщина вручила мне книгу «Космическое Сознание» Ричарда Бака. Прочтя её, я понял, что не одинок. Но, космическое сознание – не предельный опыт,» – продолжал Роуз. – «Люди в книге Бака описывают опыт, в котором им открывается гармоническая взаимосвязь всего со всем во вселенной. Они видят сияния и испытывают блаженство. Это прекрасно. Однако переживание Абсолюта находится за всем этим. В Абсолюте нет ни блаженства, ни горя.» Роуз дотянулся до старого чёрного «ранца», как он его называл, и, порывшись, вынул из него книгу «Документы Альбигена». «Как я сказал, наиболее близко подобраться к описанию этого мне удалось в «Трех книгах из Абсолюта». До того я предпринял несколько попыток написать о моем Опыте, но отступил. Просто не было способа это сделать. Слова и язык существуют, так бы выразиться, в одном измерении, а Опыт в другом, – в измерении без слов, которое даже не может быть и помыслено в тех измерениях, где существуют слова. И потому попросту не было способа. Но в один день эта поэма, или как ее назвать, просто пришла ко мне, завершенная, вся сразу. Я мог слышать ее и чувствовать, и всё, что я сделал, – это записал ее так быстро, как смог. Закончив, я никогда к ней не возвращался и не менял35. Она опубликована в том виде, как она пришла ко мне. Как бы то ни было, она есть здесь, в конце этой книжки. Она довольно большая и я не хочу заставлять вас слушать ее всю, но, думаю, что неплохо бы прочесть вам последние несколько строк.» Роуз похлопал себя по карманам и оглянул подиум, ища очки. Они нашлись во внутреннем кармане пиджака. Он их надел и пролистал книгу до нужного места. Несколько мгновений он молча просматривал слова и, когда начал читать, в зале стало невероятно тихо. «И скоро я вижу, глядя вперед, что всех моих радостей нет, что нет и всей моей любви, нет и всего моего существа. И вижу, что всего Постижения нет. И вздымающийся принцип я тает в объятиях забвения. Он тает в объятиях забвения как покоренный любовник: и борющийся с чарами, и истаивающий в них. И теперь я дышу Пространством и гуляю в Пустоте. Моя душа остывает в вакууме и мысли растворяются во вневременном мраке. Мое сознание бьётся, неспособное выразиться, и кричит в собственные бездны. Но эха нет. Всё, что осталось, и есть – Всё. Моя искра жизни падает сквозь ущелья вселенной, но душа не может оплакать её утрату... ведь сожаления и печали – сами по себе. Всё, что осталось, и есть – Всё. Вселенные проходят как брезжащее видение. Мрак и вакуум – это часть Незнания... Ничто – повсюду... Смерть будет всегда... Всё, что осталось, и есть – Всё.» 8 ИНТЕНСИВ Интенсив на ферме начинался с июня. Я решил пол-лета проработать и присоединиться в середине июля. Кроме того, я позвонил Роузу и спросил, можно ли мне пока что приезжать на выходные. «Нет,» – ответил он резко, – «ферма закрыта для всех, кто не участвует в интенсиве. Мне не нужны гости, которые налетают поживиться мёдом.» Приехав, наконец, на ферму, я поразился количеству машин и движению, кипевшему тут. Когда я был здесь два месяца назад, на ферме, пустынной и аскетической, царили интимность и уединение. Теперь же парковочная площадка была заполнена старыми фургонами и ярко раскрашенными легковушками, а склон вдоль дороги был уставлен палатками. Во дворе молодые люди, многие из которых были длинноволосыми и бородатыми, группками сидели на террасе или развалились под здоровенным платаном, росшим в углу двора. Я вдруг почувствовал себя посторонним. Двух членов группы, которых я знал лучше всего, Ли и Оги, на интенсиве не было. Ли в последнее время гораздо меньше участвовал в питтсбургской группе, а Оги работал над созданием новых групп. Я поздоровался с несколькими, кого знал, и был представлен тем, с кем ещё не был знаком. В целом, никто не выказал неприязни, но их отчужденность дала мне понять, что на меня смотрят как на опоздавшего, которому предстоит выплатить массу задолженностей, прежде чем он станет одним из них. В попытке завязать разговор я спросил у знакомого парня, чем они занимались до сих пор. «Рытьем,» – ответил он и все засмеялись. Я улыбнулся и кивнул, но не стал продолжать эту тему. «А где мистер Роуз?» – спросил я. – «Мне, наверно, надо как-то отметиться.» «Внутри. Если понадобится коридорный, – только позвони.» – Все снова рассмеялись. Я сделал ручкой и направился к дому. Отворив сетчатую дверь и пройдя в маленькую кухню, я услышал голос Роуза из узкой столовой справа. «Как это ты заявился сюда совсем без еды? Ты что, думал, тут коммуна?» – Роуз стоял, прислонившись к древнему холодильнику, и смотрел в лицо костлявому юнцу, который вжался спиной в железный шкаф. «Ну да, я так считал.» Последовало несколько сдавленных смешков среди ребят, сидевших за длинным, загромождавшим комнату, деревянным столом. «Мне казалось, что на дзенритрите так и должно быть.» «Не издевайся,» – сказал Роуз комично, но с раздражением достаточным, чтобы никто не рассмеялся, – «Я бы скорее спалил это место дотла. Стоит только нивелировать индивидуальность, как вся группа автоматически скатывается на уровень наименьшего общего знаменателя. Фил здесь?» Он оглянул помещение. Увидев меня, он сказал «привет» и продолжал. «Ну, да ладно. Когда Фил со своей подружкой подтянулись прошлым летом, тут уже жили несколько людей: Оги, Фрэнк с женой и...» – он повернулся к кому-то из сидевших за столом. – «Как звали того амфетаминового торчка?» «Рик,» – ответил ему. «Да, – Рик. И вот в первый же свой вечер здесь Фил сказал: “Давайте сделаем рагу. Мы все cможем что-нибудь кинуть в кастрюлю.” Идея всем понравилась. Это – делиться. Это – духовно. И вот, Фрэнк дал немного риса и картофель, Оги – кусок жареной лопатки, – у него всегда есть мясо. Этот парень может съесть говяжий окорок в один присест. Не помню, что было у наркомана. Но, когда дошла очередь до Фила, он лезет в грязный рюкзак и вынимает оттуда гнилую луковицу и чахлую морковину. Таков был его вклад в рагу. И таков,» – сказал Роуз, завершая, – «был наш первый и последний эксперимент с коммунальной жизнью. На этой ферме никто не попользуется другими, пока я жив.» Но тощий юноша не сдавался. – «А вы не думаете, что при большем терпении к этим людям, они бы подправились и смогли жить в справедливости и гармонии? То есть, жизнью коммуны?» «Терпением?» – воскликнул Роуз. – «Думаешь, у меня нет терпения? Да если б я имел хоть немного здравого смысла, я бы давным-давно заколотил это место досками. Ты не поверишь, какие номера тут люди откалывали.» И он начал перечислять. То был не короткий список. Кто-то сломал его почвофрезу, пытаясь довести каменистое высохшее русло до сада. Двое других весь день швыряли ножи в большой древний платан во дворе и почти угробили его. Еще кто-то вырезал сиденье в одном из старинных плетеных кресел Роуза, чтобы водрузить в нужнике в качестве унитаза. И прочая, и прочая. Парни за столом ухохатывались, хватаясь друг за друга. Мне тоже было смешно, но я не забывал о машине, полной вещей, которые мне надо было дотащить до рощи и к сумеркам разбить лагерь. Я ждал случая вежливо уйти, но казалось, что вереница критикуемых балбесов нескончаема. В конце-концов я сдался и направился к двери. Роуз остановился на полуслове. «Не обращай внимания, Дэвид Голд,» – сказал он, достаточно громко, чтобы быть уверенным, что я слышу. – «По-правде, он не такой уж недружелюбный. Просто он изнурён, всё лето занимаясь в Питсбурге подражанием птице гуфу.» «Птице гуфу?» – спросил кто-то. «Птица гуфу такая смущённая, что летает по кругу, который всё сжимается и сжимается, пока она не утыкается клювом в задницу и не исчезает.» Все завыли от смеха и я чувствовал, как горит мое лицо, когда пробирался к машине. Потерявши нитку, я какое-то время стоял, уставившись в багажник, полный привезенных мной вещей. Внезапно за спиной послышался голос. «Помощь не нужна?» Я повернулся и увидел двух приближавшихся парней. «Конечно,» – сказал я, – «спасибо.» «Мы сообразили, что трудновато перетащить всё это в одиночку, да ещё клювом к заднице,» – сказал, ухмыляясь, один из них. У него было крепкое телосложение невысокого роста как у Роуза и длинные волосы, редевшие на макушке. «Я Эл,» – сказал он, пожимая мне руку. «Роб,» – сказал другой. Мы ухватили из машины, сколько смогли, и пошли в направлении источника, подыскивая место для стоянки. Место, на которое я надеялся, – ровная, травянистая площадка, примеченная мной в первый приезд, оказалась занята тёмно-синей палаткой. Но примерно через сотню ярдов вниз по тропе мы нашли еще одну плоскую пустошь, достаточную для лагеря. Эл и Роб помогли мне поставить палатку и мы отправились за остальными вещами и припасами. За работой мы стали ближе и они мне очень понравились. Я спросил Эла, как он повстречал Роуза. «Пришел на одну его лекцию в кентском университете. Мой специальный предмет – психология, а неосновной – восточные религии, и я был уверен, что я – вроде эксперта по дзен. Лекция Роуза ничем не походила на то, что я читал или слышал на курсе, так что я решил, что он шарлатан. Когда стали задавать вопросы, я вывалил ему всё, что мог. Хуэй-нэн, Рамана Махарши, Тибетская книга мертвых. Я цитировал всё, что ни приходило в голову. Он дождался, когда я закончу, а потом показал на меня и сказал: “Первое, что тебе следует сделать перед тем как изучать дзен, – это освободить голову от дурмана.” Просто прорвался сквозь всю мою чушь и пригвоздил меня. Думаю, поэтому я тут и остался.» «Ага. Он и меня увидел насквозь,» – сказал Роб. Это был мужчина с тихим голосом, который казался старше большинства остальных на несколько лет. Он носил проволочные очки и выглядел так, как будто провел уйму времени в библиотеках. «Я читал самоучители и посещал группы обсуждения, психотерапевтов, всё в этом духе, – и думал, – ничто не сможет мне помочь преодолеть застенчивость и чувство неполноценности. В первый раз, когда я пришел на встречу дзен-Пирамиды, Роуз был там; потом мы вышли за гамбургерами. Я сидел за одним столом с Роузом, рассказывая всем об одной радикальной новой терапии, которой я занялся и которая гарантированно вытаскивала людей из их скорлуп. Роуз взглянул из-за своего гамбургера и сказал: “Не трать время. Хочешь исцелиться? Это элементарно. Просто отыщи самого дохлого полицейского, какого только сможешь, и двинь его. Может на голове у тебя и появится вмятина, но ты никогда больше не будешь жить в страхе.”» Я рассмеялся. – «И ты воспользовался его советом?» «Я еще не нашел копа, достаточного слабого, чтобы меня это устроило,» – усмехнулся Роб. Через несколько минут они ушли в дом, а я остался, чтобы распаковаться и устроиться. Когда закончил, уже темнело и обильный туман собирался в долине внизу. Некоторое время я стоял, наблюдая как он густеет и сползает по склону, на котором я находился. Звуки вечерней дойки на молочной ферме в долине достигали горы с изумительной ясностью, хотя до фермы было не меньше мили. Звяканье вёдер и мычание коров, даже ласковое приговаривание фермера казались столь же близкими как и собирающийся туман. И тут меня внезапно охватили чрезвычайное одиночество и тоска по дому, – такие же, как я испытал при первом посещении дома Роуза в Бенвуде. Под тяжестью этого чувства я опустился на землю и через меня перекатывались гигантские волны печали. Мне не верилось, что причиной этой возвращающейся эмоции могла быть моя незрелость или то, что я соскучился по дому в Питсбурге, который отставил лишь шесть часов назад. Это было связано с Роузом. Каким-то образом пребывание возле него наполняло меня невыразимым чувством утраты. Было ли это о чём-то, что мне предстояло потерять? Или о чём-то, что я потерял давно-давно, и к чему он звал меня вернуться? Через какое-то время звуки дойки прекратились и я сидел в тишине, окутанный темнотой. Резкий крик большой птицы заставил меня вздрогнуть и очнуться. Я схватил из палатки фонарик и, жаждая общества, заторопился в дом. Взбежав на террасу, я был озадачен тишиной в доме. Я отворил скрипучую сеточную дверь и тихо прошел через пустую кухню. Из главной комнаты, располагавшейся за углом, доносились звуки осторожных движений, и, зайдя в нишу, я заглянул внутрь. Комната была полна народу. Роуз и еще пятнадцать – двадцать человек сидели в абсолютном молчании. Роуз сидел совершенно прямо, безо всякого выражения, и его светло-голубые глаза медленно скользили по комнате. Я тихо, как только мог, проскользнул за дверь и нашел место, где встать. Примерно через минуту я почувствовал то, что могу описать только как энергию, которая находилась одновременно и снаружи, и внутри меня. Это была целенаправленная, возможно разумная, сила, которая пронизывала комнату, но казалась исходящей от Роуза. «Я знаю, что думает каждый из вас,» – сказал он вдруг. Он повернулся к крепкому белобрысому малому, который, казалось, задержался в тинейджерском возрасте. «Вот Эрик, к примеру, думает, что если бы завтра показалась его подружка, то он в минуту уехал бы отсюда.» – Его голос, как мне показалось, звучал иначе, чем обычно. Более звучно, что-ли. Эрик шаркнул и кивнул со смущенной ухмылкой. – «Я прямо видел, как она едет в своей старой синей тойоте.» – Он погладил свой редко заросший подбородок. – «Полагаю, это была бы большая ошибка, да?» «Я не читаю судеб. Кто знает, через что человеку предстоит пройти, чтобы наконец его голова раскололась? Но, вот что скажу. С того момента как человек встал на этот путь, его всегда будут преследовать вызовы и соблазны. И если у тебя нет неколебимой приверженности к этой работе, ты будешь сбиваем с пути всем, что попадется. Поэтому, если ты серьезен, у тебя нет другого выбора, кроме как поклясться себе и какому угодно Богу, который может услышать, что ты не хочешь от этой жизни ничего, кроме Истины. Тогда ты чего-нибудь достигнешь.» «А ты, Пол,» – сказал он, повернувшись к здоровяку в круглых проволочных очках. – «Как только энергия поднялась, ты подумал, что она тебя затопит. Ты испугался, что потеряешься в ней и никогда не найдешь пути обратно.» Повисла долгая тишина. «Вы правы,» – сказал Пол, наконец. – «Я упустил это. Испугался.» Роуз сказал с ободряющей интонацией. – «Страх это не то, чего следует стыдиться. Все принуждены жить со страхом. Если кто-то боится, он встретит вызов во всеоружии.» «Вы не кажетесь боящимся чего-либо.» «Поверь мне,» – сказал Роуз, – «никто не вступает в серьезный духовный поиск без здорового страха смерти. Конечно, также требуется и немного смелости, – чтобы выйти навстречу смерти до отмеренного срока. Такой здесь парадокс.» Он продолжал. «Так, теперь Дэн. Он размышляет, стоит ли рискнуть и отказаться от того задиристого эго, с которым он носился все эти годы.» Дэн, который выглядел как качок и имел лицо боксера, отреагировал тут же, – «это правда. Вы что думаете? Должен?» «Ты неправильно на это смотришь. Ты не можешь намеренно собраться и отказаться от какого-то эго. Слишком много других эго бросятся ему на помощь. Ты можешь делать только одно: продолжать работать, продолжать фокусировать свой вектор, пока не случится прорыв, который оставит эго позади.» «А ещё у нас есть маленький Дэйви,» – сказал он, бросая на меня взгляд. – «Он чувствует себя так, как будто только что упустил последний шанс драпануть.» Все посмотрели на меня, словно только теперь заметили, что я здесь. А я, как обычно, был занят мыслями о себе. Мыслями о печали и тоске, которые, казалось, наполняли меня, когда я был вблизи Роуза. «Мистер Роуз, как можно удержаться, чтобы не быть захлёстнутым настроением?» – спросил я. «Идти, не колебаться,» – быстро ответил он, почти ещё до того, как я закончил вопрос. – «Здравый человек всё время идет прямо.» Это прозвучало как загадочное послание в печенье удачи36, но я всё равно кивнул, будто бы понял. Он улыбнулся мне, зная, что у меня нет разгадки. Тон его смягчился. «Настроения – это посланцы с сообщениями в страну грёз,» – сказал он, глядя на меня в упор. – «Они – словно цветное стекло, сквозь которое мы смотрим на мир. Это благодаря настроениям формируются более постоянные состояния ума. Я утверждаю, что существуют только три базовые настроения: Страх, Соблазн и Ностальгия. Девяносто процентов из того, что делают люди в этом мире снов, может быть подведено под состояние ностальгии. Ностальгия – это язык души. Ею внутренний человек пытается проникнуть сквозь призмы земного человека, пытается общаться с ним.» Я был обезоружен его необычным объяснением и тем, как он смотрел на меня, пока говорил. Когда он замолчал, я сообразил, что почти ничего не воспринял из сказанного мне. Я начал было просить разъяснений, но он уже перешел к парню справа от меня, тинейджеру, который, очевидно, пережевывал обиду на родителей. «Никому не следует ненавидеть своих родителей,» – сказал ему Роуз. – «Ради тебя они пожертвовали своим духовным будущим. Они вЫносили тебя, а затем, вместо того, чтобы читать и медитировать, они провели двадцать непростых лет в заботах и беспокойстве, чтобы ты выжил и имел возможность быть сегодня в этой комнате, если ты того хочешь.» И он так прошел по всей комнате. Каким-то образом он держал наши умы в своем уме и запросто находил нужные слова, интонацию и выражение лица, чтобы донести до нас не только то, что мы думаем, но и почему мы это думаем. Вскоре люди начали ходить туда и сюда, чтобы взять яблоко или сготовить бутерброд с арахисовым маслом. Роуз на это, казалось, не обращал внимания. Пока в комнате кто-то оставался, он продолжал говорить. Постепенно толпа поредела, поскольку люди стали расходиться. Роуз закончил встречу, спросив время и отметив, что на час задержались. Тут все направились на кухню и начали вытаскивать продукты и тормозки из персональных припасов. Возможно, тут просто сказывалась непривычная для меня атмосфера интенсива, но мне не хотелось ни есть, ни общаться. Я ушел, не сказав никому ни слова, и добрался до своей палатки. Всё, чего мне хотелось – это побыть одному и поразмышлять о происходившем на встрече. Однако, забравшись в спальный мешок, через несколько минут я уже спал. Следующим утром меня разбудил мотор, громко тарахтевший в отдалении. Я понял, что слышу его уже какое-то время, и что он даже проник в мой сон. Мне потребовалась минута, чтобы понять, где я. Шум казался исходящим со стороны дома, поэтому я поспешно оделся и побежал посмотреть, что там без меня происходит. Добравшись до двора я увидел нескольких ребят, стоявших вокруг гигантской железнодорожной шпалы, футов двенадцати в длину и дюймов восемнадцати с торца. Было ясно, что к этому месту ее притащил массивный черный пикап, который всё ещё тарахтел рядом. Дэн отцеплял цепь, другие же стояли и пялились на шпалу, как на мертвеца. «Что вы собираетесь с ней делать?» – спросил я. Дэн поднял голову. «Мистер Роуз хочет погрузить ее туда,» – сказал он, указав на старый грузовик с открытой платформой, находившийся в нескольких ярдах, – «но как – не понятно. Этакое чудище.» «Нас тут шестеро,» – сказал я, радуясь возможности в чём-то поучаствовать. Дэн закончил отцеплять цепь, сунулся в кабину и заглушил мотор. «Порядок,» – сказал он, – «ну, давайте.» Мы выстроились поровну с каждой стороны шпалы, присели и сделали мощный и шумный рывок. Ничего не случилось. Кто-то сказал, – «возьмемся за концы.» Мы быстро встали у концов по-три и изо всех сил поднатужились. Ничего. «Нужны веревки,» – сказал Лари и направился к сараю поблизости. Через несколько минут он вернулся с тремя толстыми отрезами, которые мы пропустили под шпалой в равноудаленных местах. Все взяли по концу и приготовились к очередной попытке. «Эдак столб на грузовик не втащить, да ещё веревками,» – раздался знакомый голос. В нескольких ярдах стоял Роуз с ящиком, заполненным чем-то, похожим на детали мотора, с которым он возился. Мы переглянулись с неудовольствием и решимостью. Как долго он тут уже наблюдает? Никому не хотелось сплоховать на его глазах. «Ну, девочки,» – едва слышно произнес Дэн. – «Пусть это будет наш лучший рывок. Готовы? Раз, два...» На «три!» мы начали тужиться и кряхтеть так, что на висках повздувались жилы. Шпала не двигалась. Роуз поставил ящик и прошел к нам. «Посмотрим, поднимете ли вы один конец. Сможете?» – спросил он. Мы столпились вшестером у одного конца и после одной или двух неудачных попыток, нам удалось наконец поднять его на пять футов. Ни сказав ни слова, Роуз поднырнул под середину чудовищной шпалы и принял весь ее вес на себя. «Теперь,» – проговорил он, – «выровняйте эту чертовину.» Мы засуетились как белки, подыскивая место, толкаясь и выкрикивая команды. Никому не хотелось одному оказаться ответственным за сокрушение Мастера. Для Роуза мы, должно быть, выглядели как кейстоунские полицейские37. «Чёрт, просто уберитесь с дороги,» – выговорил он в итоге и, демонстрируя потрясающие силу и сноровку, подбежал к платформе и свалил шпалу туда. Мощные пружины просели и заскрипели под её тяжестью. «Не могу смотреть, когда что-то помирает долго,» – произнес он. Мы стояли и только пялились на шпалу и друг на друга. «Мистер Роуз,» – сказал Дэн, – «как, черт возьми, вам удалось? Вы промежуточность для этого использовали или как?» Роуз достал из кармана белый платок и вытер лоб. «Ага, зашел промежду толпы остолопов и свалил столб на грузовик.» Мы все рассмеялись, за исключением Фила, не оправившегося от изумления. «Не могу поверить,» – проговорил он. – «Потрясающе!» «Даже внедорожник её едва приволок с трека,» – сказал Дэн, махнув на ржавый автомобиль черного цвета, который и разбудил меня. Это был буксировочный грузовичок 50-х годов. На потрепанных дверях были надписи «для фермы»38, а в кузове красовалось несколько пулевых дырок, включая и лобовое стекло, разошедшееся причудливой паутиной трещин. «Теперь мотор сдохнет после этого,» – сказал Роуз. – «Компрессия упала.» «Грузовик, похоже, служит кому-то для учебной стрельбы,» – сказал я. «Да уж, ему досталось во время перестрелки,» – ответил Роуз. «Перестрелки?» – я не был уверен, что расслышал правильно. «У нас были здесь небольшие проблемы несколько лет назад, когда я пытался создать первую группу. У меня тут на улице настоящие извращенцы жили. Торчки, хиппи.» – он провел взглядом по нашим лицам. «Ты был здесь тогда, Пит, не так ли?» Пит, высокий короткостриженный парень, кивнул. – «Угу, я единственный, кто с тех дней остался. Местные, похоже, никогда не видели людей вроде нас. Они всполошились.» «Что тут творится, местные не знали,» – продолжил Роуз, – «но, что бы ни было, они решили положить этому конец. Одной ночью, около двух, перед домом останавливается пара машин с деревенскими и открывает стрельбу. Пули залетали в окна и сквозь стены.39» Роуз покачал головой, вспоминая, и вытер лоб еще раз. «Внутри натуральный цирк был,» – продолжил он. – «Мы похватали мои охотничьи винтовки и ответили. Эти хиппи, что тут были, всё время проповедовали мир да любовь, но когда пошла пальба, они отлично поладили с винтовками. Этот амфетаминовый торчок – как его звали-то?» «Рик,» – подсказал Пит. «Да, верно. Так он заряжал и стрелял из однозарядной винтовки с такой скоростью, что стучало как пулемет.» «Кто-нибудь пострадал?» – спросил я. «В доме никто. Подстрелили одного парнишку в машине. Из-за этого меня арестовали, несмотря на то, что деревенские напали на мой дом и открыли огонь первыми.» «Но ведь у человека есть право защищать своё имущество,» – сказал я. «Попали в подростка, который сидел в машине. Он принадлежал к одному из влиятельных кланов в долине и, как я понимаю, копам надо было кого-то арестовать. Они надели на меня наручники и запихнули в патрульную машину. Прикинь, мой сын жил тогда не в доме. Ему было двенадцать. Пуля прошла сквозь трейлер, в котором он спал, всего футом выше его головы. Можешь мне поверить: если бы с ним что-нибудь случилось, в этом они не нашли бы особой проблемы.» «Что было после вашего ареста?» – спросил я. «Я внёс залог и вернулся на ферму. Но когда сел в доме, меня ударило: ведь это могло быть концом всего. Я мог потерять ферму, семью, группу – всё. И хотя я никогда не забывал о том, что этот мир нереален, стоит только начать переживать из-за него, как из-за реального, – и у тебя не оказывается иного выбора, кроме как реагировать. Поэтому я принял решение бороться – защищать мою ферму, мою семью, мою работу. Умереть или убить, если придется. Потому что, хоть та группа и была просто собранием придурков, но это было начало. Если я позволю деревенским распугать их, тогда у серьезных людей, кто может придти на следующей волне, не окажется места, где пристроиться. Кроме того, ещё раньше в своей жизни я принял решение: что бы со мной ни случилось, я никогда не поддамся страху. Меня спрашивали, почему я так поступил – поднял ружье, чтобы защитить ферму. Так вот, я это сделал потому, что те люди боролись за непорочность, старались стать как дети40. И ты обязан защищать эту жажду так же, как ты защищал бы ребенка.» Мы немного постояли в молчании, затем Роуз взглянул на наши запястья. – «У кого есть часы? Почти восемь, так?» После этого все стали потихоньку расходиться, а Роуз зашел в дом. Я заметил нескольких людей, взбиравшихся по склону за дорогой, и решил присоединиться. Я нагнал их и поравнялся с Филом. «Куда идем?» – спросил я у него. «К яме.» «Какой яме?» «Увидишь.» «Что увижу? А каков дневной распорядок?» «Нет распорядка. Единственное запланированное мероприятие – вечерняя встреча.» «Да, но восемь часов что-то означает? – ведь все разбежались.» «Если ты доброволец на физическую работу, то это время ее начала,» – ответил он. – «Конец в полдень. Остальные проводят день, как им заблагорассудится.» «А мистер Роуз чем сейчас занят?» «Наверное, завтракает. Может, поехал в город посмотреть почту.» Ямой оказался здоровенный котлован, – должно быть, восемьдесят на сорок футов и пять или шесть в глубину. По периметру шел цементный фундамент с начатками кирпичных колон по углам. Все разобрали кирки и совковые лопаты и принялись за работу. «Что это?» – спросил я у Фила. «В один прекрасный день это будет дом общины,» – ответил Фил с серьезным видом. – «Прямо сейчас – это котлован.» Я был в самом деле изумлен. – «Вы сделали это кирками и лопатами?» Фил улыбнулся мне, затем подобрал лопату и спрыгнул. Какое-то время я просто стоял и смотрел. В яме было девять или десять человек и было ясно, что они работают вместе не первый день. Те, кто с кирками, крушили склон, а кто с лопатами – загружали отбитые камни и грунт в тачку. Затем Дейл, как сильнейший в команде, встал к ручкам тачки, а еще двое взялись за веревки, привязанные к ее передку. «Н-но, мулы!» – гаркнул Дейл. Двое впереди потянули. Дейл приподнимал и толкал. С разбега они выкатили тачку по гнущимся доскам наверх из ямы. Оказавшись на поверхности, Дейл прокатил её еще двадцать ярдов и с триумфальным возгласом опрокинул с крутого склона. Это выглядело чистой и пристойной работой с грязью, так что, подрыгав плечами, я соскочил вниз. Вскоре я махал киркой и поочередно исполнял роль мула. Первые несколько минут дались нелегко, даже очень, но, после того, как открылось второе дыхание, я стал получать удовольствие. К полудню я был изнурен, но счастлив. Я чувствовал, что зарекомендовал себя хорошо, и ребята больше не смотрят испуганными незнакомцами. Мы все вымылись у источника, и я вернулся к палатке, чтобы пообедать. Затем я поспешил наверх к дому, разузнать, что там следующее на повестке. Но Фил оказался прав. Повестки не было. У каждого было своё времяпрепровождение: кто занимался всякими мелкими делами, а кто, погрузившись в себя, читал или медитировал. Я тоже был слишком утомлен для физической активности и слишком вял, чтобы неподвижно сидеть, предаваясь ментальной работе. Мой лагерь оказался местом, неподходящим ни для какой деятельности. Духовка внутри палатки была столь же невыносимой, как и насекомые снаружи нее. Около трёх я снова побрел к дому и увидел, что фургон Роуза уже на месте. Не найдя его ни в доме, ни во дворе, я спросил Фила, где он. «Там же, где обычно в это время. Наверху, на яме, – кладет кирпич.» «Это нормально, если туда подняться, когда он работает?» Он взглянул на меня с уже знакомой, слегка раздражавшей снисходительностью. – «Думаю, да. Если не станешь мешать.» Когда я добрался до вершины холма, я понял, почему работы киркой и лопатой проводились утром. После полудня солнце безжалостно жарило в открытую яму. Роуз стоял на ступеньке лестницы, прислоненной к одной из колон, и аккуратно клал кирпичи. Двое ребят из Огайо – Арт и Сэнди – чистили и подносили старые кирпичи от огромного штабеля футах в тридцати от котлована. Фрэнк, из питтсбургской группы, мешал мотыгой раствор в большом, покрытом коркой, корыте. Шорты и футболки троих молодых мужчин были мокры от обильного пота, в то время как Роуз выглядел сухим и свежим в длинных брюках, сорочке с длинным рукавом и широкополой соломенной шляпе. Я смотрел, как он кладет кирпич за кирпичом своими широкими загорелыми руками. Если бы не медленный ровный темп Роуза и не неуклюжесть его помощников, их можно было бы принять за семейную фирму «отец и сыновья», подрядившихся где-то класть кирпич. Ни философии, ни споров, ни дзен. Разговор между ними был краток и точен, и касался только кирпича, корыта, бечёвок и уровней. Моим первым импульсом было предложить свою помощь, но тут же я понял, что этого делать не стоит. Несмотря на их молчание и внимание к тому, чем были заняты их руки, казалось, между ними происходит нечто ещё. Нечто, о чём я не был уверен, что могу это прервать. Я повернулся и пошёл прочь, довольствуясь ожиданием вечерней встречи, когда смогу побыть с Роузом. Но когда после ужина я вернулся из палатки, фургон Роуза отсутствовал. К своему удивлению, я узнал, что Роуз редко остаётся для вечерних встреч, – хотя в группе и было разногласие насчет причин этого: умышленно ли он предоставляет нас самим себе или у него есть более важные дела в городе. Вечерние встречи превратились по большей части в сеансы конфронтации. То ли потому, что мы стали такими «интенсивными», то ли потому, что мы были восемнадцатилетними петушками, запертыми без куриц, встречи проходили в задиристой атмосфере, доходившей до жестокости. Никто не стеснялся сказать тебе, что с тобой не так, и если это болезненно уязвляло тебя, то в этом видели ещё одно эго, которое тут же ставили тебе на вид. Но что меня постоянно изумляло, так это то, что после этого ни у кого не оставалось тяжелого чувства. Ребята, которые вечером вцеплялись другу другу в глотки, наутро бок о бок работали в котловане, шутя и обмениваясь подначками и историями. Основной темой для разговоров на стройке был Роуз, и я заметил, что стоило кому-то упомянуть его имя или начать рассказывать случай с ним, как все остальные смолкали. Насколько Роуз, похоже, знал каждого из нас, настолько никто из нас, кажется, даже отдаленно не понимал, кто или что он есть. Каждая новая история, рассказанная кем-то, воспринималась как подсказка, деталь пазла, и, хотя никто не выражал этого прямо, я уверен, что все мы чувствовали, что в одиночку этот пазл не разгадать. Лишь соединяя наши маленькие фрагменты вместе, его можно было сложить. Однажды мы говорили о том, как нам повезло встретить Роуза и строили теории насчет того, почему он принимает в нас особое участие. Крейг, здоровила и весельчак, какое-то время живший в Южной Америке, предположил, что мы заслужили наше пребывание здесь прошлыми деяниями, что это карма. Еще кто-то сказал, что это судьба. Я сказал, что Роуз что-то видит внутри каждого из нас, некий значительный скрытый потенциал. В каждой из этих теорий крылась та общая идея, что мы так или иначе «избранные». Дэн, с ловкостью и силой орудовавший киркой, не разделил этого. – «Ерунда. Просто вы здесь есть, вот и всё.» Мы ждали продолжения, но Дэн и вообще был немногословным. Наконец, Роб спросил, – «может, пояснишь, что имеешь в виду?» Не прерываясь, Дэн заговорил, выплевывая фразы, пока кирка падала вниз. – «Ноябрьское собрание ТАТ41. Прошлым годом. Мы все сидели в комнате за кухней. Резонанс. Энергия. Океан силы – воздух гудел.» «Помню,» – сказал Скотт, тихий студент-технолог из Карнеги Меллон. – «Случай с Бобом Мартином, верно?» «Точно,» – сказал Боб, продолжая махать. – «Боб – старый приятель Роуза. Алкоголик. Когда пьян, достаёт до печенок, но уж совсем невыносим, когда трезв.» «При этом Боб в своем роде – невероятный человек,» – сказал Скотт. – «Сущий гений в математике, физике. Лично знал Эйнштейна. И он прочёл эзотерической философии больше, чем кто-либо ещё. На этой почве они с Роузом и сошлись. Проблема Боба в том, что он не может воплотить знания в жизнь. Его жизнь это алкоголь и женщины.» – Скотт замолчал и посмотрел на Дэна, вероятно, вспомнив, что это его история. Дэн махнул киркой несколько раз в молчании, как если бы раздумывая, стоит ли продолжать. Затем остановился и оперся о ручку, переводя дыхание. «В тот день Боб умолял Роуза помочь ему. Сказал, что лечился, был на курсах анонимных алкоголиков, перепробовал всё, что можно, но никак не может завязать. Роуз просто смотрел на него с минуту, затем встал и положил руку ему на голову. Он продержал её так примерно десять секунд, а потом отдёрнул, словно на него что-то набросилось. И, когда он убрал руку, было так, словно из головы Боба вылетели все демоны ада.» Мы все посмотрели на Скотта, как бы ожидая более традиционного пояснения. «Почти так и было,» – произнес Скотт, задумчиво кивая. – «Я помню, тогда был очень тихий день. На улице не было ни ветерка, и вдруг порыв ветра сквозанул в печной трубе, рассеяв пепел по всему полу. Лицо мистера Роуза покраснело. Оно стало свекольно-красным, – таким я его еще не видел. Вены выступили на его голове и при том, что было холодно, он весь взмок от пота. Серьёзно, – я решил, что сейчас у него будет сердечный приступ. А тем временем Боб буквально сиял, я никогда не видел его столь счастливым. Как будто только что он стал свободен.» Дэн снова подхватил нить истории. – «Где-то через минуту мистер Роуз вышел в столовую, а я через несколько секунд пошел за ним, потому что, как и Скотт, подумал, что он может рухнуть и отдать концы. Роуз сидел за столом и плакал. Кто-нибудь из вас видел, чтобы Роуз плакал?» Никто не видел. Мне и вообразить это было трудно. «Я тоже. Я расчувствовался и говорю ему: “мистер Роуз, он не стоит этого”. И вот Роуз поднимает на меня глаза, слезы бегут по его лицу, – он даже не пытается их вытереть, – и говорит: “Кто я, чтобы сказать так?”» Мы постояли в молчании неподвижно, затем Дэн поднял кирку и вернулся к работе. «Так что, не вешайте медали друг на друга просто потому, что мистер Роуз позволяет вам крутиться рядом,» – сказал он между взмахами. – «Он работает со всеми, кто входит в дверь. Да, – он готов бороться и умереть за нас, но не потому что мы особенные. А потому, что мы здесь, вот и всё. Когда мы испугаемся или станем скучать и вернемся к нашим играм, он посвятит себя обучению кого-то ещё, кто придет следующим.» 9 СЧАСТЬЕ За недели на интенсиве у меня выработался свой распорядок. Работа в котловане была хорошим упражнением и мои сила и выносливость росли прямо-таки с каждым днем. После обеда я спускался с книжкой к Большому Уилингу42 и садился на берегу читать и размышлять до тех пор, пока уже не сиделось на месте, и тогда плавал или выискивал между камнями раков. По мере того, как я узнал всех на ферме и начал им доверять, вечерние собрания и сеансы конфронтации уже не были столь пугающими; я видел в них теперь вызов, а не угрозу. Даже стал их ждать. В общем, я находил себя довольным всем, что касалось интенсива, включая и то, что Роуза видел нечасто. Затем все переменилось. Прошла неделя без дождя и котлован превратился в неумолимое место зноя и пыли. Несколько дней мы долбили жилу твердой скалы и часы текли медленно. Каждый день, когда наступал, наконец-то, полдень и мы стояли, обозревая результаты нашего труда, нам казалось, что мы уже сюда не вернемся. Примерно через неделю наш дух упал значительно. И как-то в полдень мы тащились мимо дома, чтобы помыться в источнике, и к своему удивлению увидели на террасе сидевшего Роуза. Распорядок Роуза тем летом, как и всё почти, что его касалось, был непредсказуем. До сего момента появиться на ферме до времени укладки кирпича было для него необычным. Какое-то мгновение он походил на любого другого фермера в этих краях, – в широкополой соломенной шляпе покачиваясь в диванекачалке и обозревая свою землю. «Вы похожи на арабских гробокопателей,» – громко сказал он, когда мы подходили к нему, – «если они существуют.» Наши голые торсы были покрыты тонким слоем смеси пыли и пота. «Сегодня вы решили начать класть кирпичи пораньше, мистер Роуз?» – спросил Дэн. «Сегодня кирпичей не будет,» – ответил Роуз. – «У меня другие планы для всех вас.» Он загадочно усмехнулся, и мы ждали его пояснений. Вместо этого он откинулся назад и мотнул подбородком в сторону дороги. «С десять минут назад умотал Эрик,» – сказал он. – «Подъехала какая-то девушка в драндулете и посигналила. Он прибежал с горы. Минуту они поговорили, он впрыгнул и уехал. Он не вернется.» Я поискал глазами с краю поля через дорогу. Синяя палатка Эрика виднелась между деревьями. «Его палатка всё ещё здесь,» – сказал я. «Да, он всё бросил,» – сказал Роуз. – «Но он не вернется.» В его голосе была такая определенность, что у меня озноб пробежал по спине. Это звучало так, как если бы он говорил о ком-то, только что умершем. «Почему вы думаете, что он ушел?» – спросил Роб. Роуз взглянул на него и покачал головой в насмешливом недоумении от того, как можно задавать столь наивные вопросы. «Это та же причина, по которой обыкновенный мужчина делает в жизни всё,» – сказал он. – «Секс. Девица ему посигналила и он прибежал, вот и всё. Как славная собачка.» Роуз весело хихикнул и хлопнул по старому черному портфелю, лежавшему рядом с ним. – «Худшее тут, однако, то, что ему никогда не узнать, что в этом ранце. Надо всем передать, – сделаешь, Фил? – мы собираемся в два.» Помывшись, я приготовил в своём лагере обед. Две мысли крутились в моём уме. Одной было острое любопытство, что там в сумке Роуза. Другой были неотвязчивые фантазии насчет того же, из-за чего Эрик оставил ферму. Если бы в этот момент появилась девушка и посигналила мне, я, может, и не уехал бы с ней, но жестоко искушался бы на это. В два часа мы собрались в гостиной и возбужденно хихикали, как подростки на школьных танцах. Когда вошел Роуз, в комнате повисла тишина. Он сел в традиционно своё кресло и положил портфель на оттоманку перед собой. «Для тех, кто ещё не слышал,» – сказал он, похлопывая по латунным застежкам, – «эта штука начинена динамитом. Я поразмыслил и вижу, что единственный способ, которым вы, ребятки, можете стать просветленными, – это если высадить нас всех в Абсолют одновременно.» Все нервно рассмеялись. Часом позже, однако, многим из нас уже хотелось, чтобы он не шутил. Так бы мы хоть умерли быстро. В его ранце оказались откопированные листы, невинно озаглавленные: «Числа», магнитофон и полудюжина кассет к нему. Он разбил нас на пары и каждой паре вручил экземпляр «чисел», состоявший из шести страниц с арифметическими задачами. Один должен был читать задачи вслух, а его партнер должен был их решать в уме. Через час нам предстояло поменяться ролями. Всё это звучало совершенно невинно, и мы с задором приступили к делу. Вскоре комната наполнилась голосами, называвшими числа. Листы оказались у моего партнера, Марка, так что я кивнул, показывая, что готов попробовать первым. Марк принялся палить вопросами. Первая страница была относительно простой – сложение попарно двухразрядных чисел. Вторая была несколько трудней – там требовался перенос из одной колонки в другую. Всё равно, это было еще довольно просто, почти забавой. Но дальше трудность возрастала – трехразрядные числа, трехразрядные с переносом, – шум в комнате увеличивался вместе с уровнем напряжения. Затем, когда все уже были близки к нервному срыву, Роуз включил магнитофон и, перекрывая всю многоголосицу, загремела запись одной из его лекций. К половине третьего комната была как парная. Складывать в уме достаточно трудно и без семнадцати других людей, выкрикивающих числа, в то время как запись лекции Роуза, объясняющего разницу между Проявленным Умом и Непроявленным Умом, громко проигрывается в качестве фона. С каждой новой задачей я уже подумывал остановиться, но Марк продолжал выкрикивать числа. Я огляделся вокруг: никто не сдавался, поэтому я продолжал тоже. Иногда голова моя пустела. Иногда же ответы приходили немедленно, интуитивно, без действий над числами. В какие-то моменты голос Роуза на пленке был просто белым шумом, раздражающим пятном, но когда заканчивалась страница с числами, я понимал, что помню каждое сказанное им слово. Когда мой час истек, я был полностью выжат, и взглянул на Марка с неподдельным сочувствием, зная, что ему предстоит. По прошествии второго часа Роуз объявил, что, начиная с сегодняшнего дня, мы будем заниматься этим с двух часов ежедневно. Все свободны. Измотанный и разбитый я побрел в позднеполуденном зное по направлению к притоку. Вышло так, что когда я уже чувствовал, что попал в ритм фермы и всё теперь ясно, этим упражнением Роуз всё перевернул. В особенности я досадовал из-за того, что сегодня была моя очередь председательствовать на вечернем собрании. Я планировал его часами, придумывая для каждого вопросы и предугадывая его ответы, и мечтал блеснуть своими начальными навыками перекрестного допроса. Теперь же я предчувствовал, что встреча окажется пустышкой: после «чисел» кто сможет думать, не говоря уж о конфронтации? Когда я вышел из рощи, направляясь на встречу, то увидел, что фургон Роуза всё ещё стоит на площадке, и вконец расстроился. Теперь мое собрание не просто провалится, а ещё и Роуз увидит, как это произойдет. Внутри дом был полон гама и жизни. В столовой сидел Роуз и забрасывал слушателей вопросами, читая их из каких-то рукописных заметок. Оказалось, что это часть лекции, над которой он работал. Она называлась «Лекция из вопросов» и целиком состояла из долгого списка провоцирующих вопросов, или коанов. «Наслаждается ли человек или же он раб наслаждения?» – читал Роуз с выражением. Дешевые очки для чтения восседали на его носу. «Вы обладаете вещами или вещи – вами?» «Вы владеете домом или дом владеет вами?» «Человек одолевает или преодолевается?» «Что такое грех?» «Грешно ли есть мясо?» «Являются ли животные нашими братьями?» «Грешат ли животные, когда едят других животных?» «Грешно ли убивать не для еды?» «Если так, то не грешим ли мы, если не едим людей, которых убили?» Некоторые из присутствовавших, казалось, погрузились в себя и раздумывали над тем, что было ещё три или четыре вопроса назад. Другие же были активны, даже возбуждены, и расспрашивали Роуза насчет его вопросов или обсуждали их между собой. Я попытался скрыть свою досаду: Роуз перехватил мой звездный вечер. Или так мне казалось. «А знаете, уже восьмой час, – если вы идёте на собрание,» – сказал он. Его замечание прозвучало как директива, так что люди с неохотой повставали из-за стола и потянулись в гостиную. Я всё ещё опасался, что Роуз присоединится к нам и заполнит собой собрание, но он остался в столовой. Я начал цитатой из «Четвертого пути» Успенского. Так как все были разогреты вопросами Роуза, встреча быстро набрала обороты и вскоре превратилась в горячий сеанс конфронтации. Основная нагрузка пришлась на Джека, который недавно разозлил нескольких парней, и запаса острот которого хватило бы и на месяц таких встреч. Джек был вспыльчив и эмоционален, и всегда выглядел так, будто вот-вот готов во что-то сорваться – смех, слезы, неконтролируемую ярость – никогда нельзя было предугадать, во что именно. Все по очереди отпускали ему жесткие комментарии и вопросы. Я сидел с самодовольным видом сзади, радуясь, что «моя» встреча всё же удалась. Тут в дверях появилась коренастая, представительная фигура Роуза. «Может быть, это не моё дело,» – спокойно сказал он, – «но всё это чепуха. Совершенно бесполезная.» В комнате воцарилось молчание. «Я вам говорил раньше, ребята, что если конфронтация слишком непосредственная, то человек просто разозлится, вместо того, чтобы что-то осознать.» – После этого он опять исчез в столовой. Формально вечер оставался моим. Но огонь погас и разжечь его вновь не получалось. Люди выходили по одному, пока в столовой вокруг Роуза опять не образовался кружок. Он сказал, что раз так, то он останется на ферме, пока не дойдет до конца лекции. Затем снова стал читать свои записи. «Что именно ты делаешь сам, а что делают с тобой?» «Думаем ли мы или мы воображаем, что думаем?» «Создает ли дерево ветер, качая ветками?» «Когда мы наблюдаем за нашими мыслями – кто наблюдающий?» «Есть ли душа?» «Существует ли она до тела или она должна быть создана, взращена либо развита?» «Можно ли человеком стать?» «Как некто может узнать, кем он должен стать?» Следующим утром в котловане было не повернуться. Ветераны хоть и дивились громко внезапному осознанию духовной пользы от работы киркой и лопатой теми, кто прежде считал себя выше этого, но были признательны за свежее пополнение. Теперь у нас было достаточно людей для двух смен и возникла здоровая конкуренция между двумя командами. Посыпались шутки и подначки и, благодаря этому, утро прямо-таки пролетело. Перед самым полднем я заметил, что все существенно ускорили темп. Я был озадачен столь поздним приливом сил, пока не поднял голову и не увидел Роуза, стоявшего на краю котлована вместе с Филом. Несколько минут он ничего не говорил, потом повернулся к Филу и сказал довольно громко, так что все услышали, – «они работают неразумно.» Кирки и лопаты смолкли. Роб, работавший рядом со мной, едва слышно пробормотал, – «насколько разумным надо быть, чтобы рыть яму?» Роуз указал в направлении угла, который мы сочли законченным. – «Вон там, похоже, уже слишком глубоко.» «Но, мистер Роуз,» – возразил Фил, – «мы меряли – там восемь футов.» «Может, где-то и восемь, но если не брать доску и уровень, то узнать глубину невозможно.» Он обвел нас взглядом. – «Кстати, восьмеро из вас мне нужны возле источника,» – сказал он. Затем повернулся и ушел. Менее, чем за минуту он ухитрился сделать нашу работу вдвое трудней, ещё и переполовинив команду. Дни беззаботного рытья кончились. С этого момента нам надо было останавливаться, чтобы промерять каждый дюйм. Несколько дней спустя, когда к двум часам я шел в дом на «числа», у доски объявлений стояла толпа. Записка, несомненно принадлежавшая руке Роуза, сообщала, что теперь ежедневно с часу дня будут проводиться резонанс-собрания. Тут же было и разделение нас на три группы, членам которых следовало садиться вместе. Я огорчился, увидев, что нахожусь не в группе, рассматривавшейся как наиболее энергетическая. Я почувствовал, что мной пренебрегли, даже оскорбили, но попытался напомнить себе, что Роуз подбирал группы, руководствуясь потенциальной энергетической совместимостью их членов, а не в желанием наградить или наказать кого-либо. Странно, но никто, кажется, не обрадовался резонанс-собраниям, даже при том, что Роуз всячески подчеркивал, что сидение в резонансе – важный элемент, ускоряющий развитие проницательности и интуиции. Вместо этого ворчали, что, поскольку перед сидением в резонансе принято воздерживаться от еды, то, по сути, из-за нововведения пропадает и час обеда. Новое состояние ума немедленно распространилось. В тот день во время «чисел» никто не шутил. А после никто не сидел на террасе и не трепался, что уже стало нашей привычкой, никто не предлагал искупаться в притоке, как некоторые имели обыкновение делать, – мы попросту разбрелись по нашим стоянкам на ферме. И вечером перед собранием тоже не было привычной оживленной болтовни. Мы молча сидели в гостиной и ждали, когда Роуз закончит говорить по телефону. Положив трубку, он сел в кресло, которое считалось его, хотя оно было не удобней прочих, и, перед тем как заговорить, оглядел нас. Его голос был размерен и он выглядел исключительно умиротворенным. «Я думал насчет вас, ребята, – почему вы не продвигаетесь духовно,» – заговорил он. Прозаичность его слов только увеличила их эффект. Все мы полагали, что достаточно страдаем, чтобы рассчитывать на существенный духовный прогресс. «Всех вас держат ваши эго. Но поскольку вы смотрите изнутри, то не можете этого видеть.» Сказав так, он стал двигаться по комнате, отмечая в каждом основную черту его личности, – то что Гурджиев называл «главной особенностью»43. Говоря по очереди о каждом, Роуз указывал на его главное качество, у одного было себялюбие, у другого – трусость, у третьего – склонность к манипуляции и так далее. Также, дав пример такой черты, он рассказал, как она пропитывает всю личность человека, и объяснил, почему она оказывается психологически или духовно разрушительной для своего носителя. Он двигался против часовой стрелки, а так как для него я был третьим слева, то у меня было достаточно времени поволноваться насчет того, какое качество окажется у меня. Наконец, настала моя очередь. «Так, теперь Дэвид Голд. Это – тщеславие. В определенный момент жизни он принял ошибочную идею, что он чрезвычайно важный индивид. Для него все прочие из нас – просто второстепенные фигуры. Он – звезда шоу, а мы – дополнение. Если вы работаете с Дэйвом Голдом, то делаете это на свой страх и риск, потому что он не обращает внимания ни на кого, кроме себя. И вы не можете ему ничего донести, потому что он уверен, что уже знает всё, что нужно.» На этом он не остановился, а продолжил разбирать мои изъяны, вдаваясь в болезненные подробности. На каждого он потратил четыре или пять минут и не было повода считать, что на меня ушло больше. Но показалось что, это длилось часами, поскольку каждое слово снимало новый слой кожи. Когда он кончил, я чувствовал себя таким же раздетым и уязвимым, как и тогда, когда он бросился на меня во время нашей первой встречи. С того момента рядом с Роузом стало невозможно расслабиться. Каждое слово, каждую склонность или привычку он превращал в повод для потока беспощадной конфронтации, который он изливал на всех нас. Иногда его колкости были подслащены юмором, как например при объяснении, почему он не слишком часто трогает Крейга. «Ни у кого не выйдет уязвить этого парня,» – сказал он. – «Крейг ходит среди лошадиного дерьма, полагая, что это зефиры.» Чаще, однако, его слова били напрямую с силой, граничившей с яростью. Мы обсуждали это, как и всё, что говорил или делал Роуз, и пытались понять, в самом ли деле он злится, или, будучи просветленным, просто предоставляет проявлению гнева довести кого-то до понимания. Такой разговор состоялся через несколько дней после того, как Роуз увидел, что кто-то срубил старый орех перед бараком, потому что он загораживал вид на закат. Мы продирались сквозь «числа», когда он ворвался, с малиновым от бешенства лицом и вздувшимися по бокам шеи венами. Роуз так и не назвал грешника по имени, но сорок пять минут он бушевал и рычал, перечисляя все, что этим летом на ферме было потеряно, повреждено или сломано. «Это моя ферма, черт побери! Это мои деревья. Это мои инструменты. Мне не приходится сейчас работать ради куска хлеба, потому что за всю жизнь я ничего не испортил. А теперь сборище торчков крушит всё, что у меня есть.» После этого он установил новые правила на ферме. Деревьев не пилить. Старую мебель не трогать ни для чего без согласования с ним. Сарай будет на замке и без расписки никто не получит и гвоздя. «И мне надоели те, кто смывается отсюда, когда становится слишком напряжно,» – он в упор посмотрел на Стива, который неделю назад ездил в Кливленд, чтобы быть шафером на свадьбе брата. «Единственная причина – похороны,» – сказал Роуз. – «Если кто-то в вашей семье умер, вам нужно похоронить покойника. Но вам не следует плясать на их свадьбах и участвовать в их дуростях.» И заключительное постановление: «Если вы покинули ферму – по любой причине – не возвращайтесь.» «Резня Большого Ореха», как мы окрестили этот скандал, явился еще одной поворотной точкой в интенсиве. Прежде можно было пробежать мимо Роуза раз или два за день и он обычно смотрел, чем ты занят, не говоря ни слова. Теперь же он казался вездесущим со своими комментариями по любому поводу. Я попал в число его основных мишеней. Как-то он назначил четырёх из нас вытаскивать ржавые гвозди из кучи деревянного хлама и спрямлять для дальнейшего использования. На это ушло несколько дней, и время от времени Роуз появлялся проинспектировать растущую кучу гвоздей. Всякий раз, когда находился гвоздь, который по его мнению был не достаточно вылечен, он называл его: «от Дэвида Голда – особый». На одном вечернем собрании он уязвил мое самолюбие, поддевши тем, что довольно заметный прыщ у меня посреди лба назвал третьим глазом и от души посмеялся. Позже на той же встрече он классифицировал меня как «полу-искренний», что было по его мнению таким же оксюмороном как «немножко беременная» или «слегка мертвый». Через два дня он сместил меня в низкоэнергетическую группу резонанса, пошутив, что это все из-за надувной Барби в натуральную величину, которую я держу у себя в палатке. Но что было всего хуже и более всего ставило меня в тупик, так это его упорный отказ принимать от меня что-либо, будь то печенье или предложение замесить для него раствор. Старания угодить ему были похожи на попытки поразить движущуюся мишень. Когда нам стало казаться, что наши усилия на ферме уже пришли в соответствие с его ожиданиями, Роуз заявил, что мы превратились в автоматы. Наша физическая активность, сказал он нам, только отвлекает нас от «настоящей работы» по наблюдению себя. С сего дня по понедельникам работы не будет – хотим мы ее или нет. Следующий понедельник прошел нудно. Над фермой висело беспокойство, граничившее с депрессией, и наше настроение отразилось на вечерней встрече. Вместо обычных осмотрительности или воинственности, люди стали сознаваться в безнадежном несоответствии. Особенно был строг к себе Дейл, пожаловавшись, что он ничего не достиг, несмотря на целое лето, проведенное на ферме. Тут же из столовой, где он читал вечернюю газету и слушал наше собрание, вошел Роуз. Он посмотрел на Лари и сказал, – «ты в одной упряжке с Дейлом все лето. Ты заметил какиенибудь перемены в нём за это время?» «Трудно сказать,» – ответил Лари осторожно, – «но, по-моему, он более уверен в себе, чем был в начале?» Роуз все время прессовал Дейла очень жестко и Лари, похоже, опасался сказать что-то слишком положительное. Ничего не сказав, Роуз повернулся к Марку. – «А ты? Скажешь еще что-нибудь о Дейле?» Марк подумал с секунду. – «Он работает больше, чем когда начал. Он гораздо более энергичен.» Роуз продолжал идти по комнате, спрашивая о Дейле. Кто-то сказал, что с ним стало легче разговаривать. Другой отметил, что он стал более уравновешенным. Роуз дождался, пока не выскажется каждый. «Узнать, сделали ли вы прыжок, можно только задним числом,» – сказал он. – «Не тратьте время на сожаления о себе. Продолжайте работать, продолжайте добиваться. Будьте упорны.» Он направился к дверям, чтобы уйти, но повернулся к нам опять. «Есть дверь, открытая для вас, ребята, – для всех вас,» – сказал он. – «Но вам предстоит побороться за ваш путь к ней.» Назавтра в котловане мы обсуждали, что Роуз хотел сказать последней репликой. Дверь открытая куда? Некоторые полагали, что Роуз имел в виду дверь, которая ведет в его ум, в его опыт Просветления. Передача. Как долго эта дверь будет открытой? Как человек становится достойным кандидатом для передачи? Всегда ли открыта для нас эта возможность? Или интенсив был особым шансом? Всё утро мы проспорили об этом. После работы мы пришли в дом с намерением спросить Роуза, что он имел в виду, но в столовой сидел новый человек, так что время после полудня прошло в другой атмосфере. Роуз упоминал, что кто-то прилетает сюда из Лос-Анджелеса, и мы поняли, что это и есть тот самый человек, хотя ничто в нем не говорило, что он из Калифорнии. Звали его Джон. Он был высок и худощав, с острыми чертами лица, откровенно семитскими, которые делали его старше, чем он, вероятно, был. С его лица никогда не сходило серьезное выражение – «скорбное», как потом охарактеризовал его Роуз, – и позже я узнал, что оба его родителя пережили Аушвиц. Джон прочел некоторые книги Роуза и был настолько заинтересован, что вступил с ним в переписку. Теперь же, пролетев три тысячи миль, чтобы встретиться с ним лично, он, очевидно, готовился к поединку дхармы44. Он достал блокнотик из кармана рубашки и начал задавать Роузу вопросы из длинного списка. Его интересовали трудные и тяжелые материи, касавшиеся пустоты, забвения, смерти эго и мрака. Роуз был в приподнятом настроении, в котором он был почти всегда, когда впервые встречался с интересующимся, потенциальным учеником, так что его ответы, при всей их уместности, имели налёт веселости. Джон ни разу не улыбнулся, а только продолжал читать депрессивные вопросы из блокнота. «Не утомляет ли когда-либо – быть духовным учителем, пытающимся перебросить мост между земным миром и Абсолютом?» – вопросил он. «Утомляют ли меня люди, едущие на моей спине? Нет, я не обращаю внимания. Беспрерывное уклонение от моста – вот, что вгоняет меня в тоску,» – добродушно рассмеялся Роуз. «Я хочу сказать,» – продолжил Джон, – «ведь вы – как бы связующее звено с Богом для все этих людей...» «Э, нет. Не ждите, что я замолвлю за кого-то словечко перед дядей наверху. Поверьте, у меня не то положение.» Все засмеялись, кроме Джона. Он даже не моргнул. «Но разве у духовного учителя нет ответственности за своих учеников в вечности, чтобы удостовериться, что все они достигли полного Просветления?» «Грхм,» – Роуз поморщился, словно в рот ему попала какая-то дрянь. – «Когда я умру, то покину это место навсегда. Больше, ребятки, вам не получить от меня помощи. И не молите подать совета, как будто я всё еще здесь витаю и присматриваю за вами.» Джону было не до шуток. – «Но как же мы найдем дорогу к Абсолюту, если у нас не будет учителя, чтобы вести нас?» «Эй,» – голос Роуза посерьёзнел, но глаза всё ещё смеялись. – «Нет никакой дороги. Нет ни учителей, ни учеников. Никого тут нет. Никто ничего не делает. Ты должен понять это. Есть только комната полная манекенов, сидящих в темноте и спрашивающих друг у друга: “мы что – манекены?”» Роуз раскатисто захохотал и все черты его лица выразили всепоглощающее, ничем не замутненное веселье. Даже Джон не удержался в этот раз. Когда смех прекратился, он сказал Роузу, – «вы только что выглядели как смеющийся Будда.» Тут мы сообразили, что звонит телефон. Фил пошёл ответить в другую комнату. Когда он вернулся, то посмотрел на меня. «Дэйв Голд,» – сказал он, – «звонит твоя мама.» В комнате замолчали. Смущенный и слегка обеспокоенный, я пожал плечами и прошел к телефону. «Привет. Что случилось?» «Извини, что я звоню. Ты же знаешь, я бы не стала вмешиваться, если бы не важное дело...» «Всё в порядке?» «Конечно, конечно. Всё отлично. Это твой босс. Он специально позвонил. Сказал, что-то случилось, и ему нужно переговорить с тобой. Он, кажется, очень приятный человек. Я обещала, что ты ему позвонишь.» Я записал номер, который она мне продиктовала и пообещал уладить дело. Положив трубку, я посидел на оттоманке, уставившись на телефон. Из столовой раздался очередной взрыв хохота. Я сложил номер, сунул в карман и вернулся туда. Роуз был на середине истории с его братом Джо. Как только он кончил, он повернулся ко мне. – «Что там в Питсбурге?» Неожиданное внимание всех застигло меня врасплох. Я ответил, не думая. – «Мой босс звонил зачем-то. Моя мама сказала ему, что я перезвоню.» «Позвони ему,» – сказал Роуз с нажимом. Это было больше приказом, нежели советом. – «У него могут быть неприятности.» «Я знаю, чего он хочет. Ему нужен человек и я его последняя надежда.» «Ну, если ты ему нужен, тебе лучше идти.» У меня в голове все еще звучало распоряжение Роуза насчет невозвращения, сделанное им недавно. «Я не хочу уходить,» – сказал я. «Это не дело. Он был справедлив с тобой, а тебе не следует поворачиваться спиной к друзьям.» Выглядело почти так, что Роуз старается избавиться от меня, подбивая уйти, а потом не пустить обратно. Удрученный, я пошел в гостиную и позвонил боссу. Как я и предвидел, он был в цейтноте и ему не на кого больше было рассчитывать. Я вернулся в столовую и сказал Роузу, что должен ехать прямо сейчас. «Хорошо,» – только и ответил он. Через несколько минут я стоял перед моей палаткой, сбитый с толку и не зная что делать. Стоило ли мне уезжать? Мысль уйти и не вернуться потом была слишком невыносима. Все вещи я оставил, – просто сложил их на несколько дней отсутствия. Затем возвратился в дом, намереваясь, до того как уехать, прояснить свое положение. Но когда я оказался с Роузом лицом к лицу, всё, что я смог сказать, было: «до свиданья»; он ответил мне тем же. Мое неожиданное возвращение в мир оказалось ни столь болезненным, как я опасался, ни столь возбуждающим, как втайне надеялся. Выполняя обязанности по работе, я был приятно удивлен тем, сколь отстраненным я себя чувствовал от игры жизни вокруг. То, что от меня требовалось по работе, заняло лишь три дня, но еще до того, как это стало ясно, меня потянуло обратно на интенсив. Когда вечером я ехал извилистыми дорогами обратно на ферму, то размышлял, что меня ждет там. Отлучка больно ударила по моему чувству принадлежности к ферме – ее энергии, коллективу, ощущению общей цели, и я задавался вопросом, смогу ли, или даже – будет ли мне позволено – влиться обратно. Было почти одинадцать, когда я приехал. Роуз и несколько задержавшихся сидели в столовой и обсуждали встречу. Я внимательно смотрел, что будет: улыбки или нахмуренные брови, но заметил только немые взгляды, брошенные сначала на меня, потом на Роуза. «Тут кое-что произошло, пока тебя не было,» – сказал Роуз. Он подождал, как бы наблюдая за моей реакцией. «Прошлой ночью была гроза,» – продолжил он. – «Молния ударила в большую вишню, что была на север от твоей палатки, и повалила ее. Палатку твою смяло.» Я не знал, ни что сказать, ни что подумать. «Мы спасли, что можно было из твоих вещей,» – сказал Роуз. – «Дейл сложил их в голубом автобусе. В нем ты можешь остаться до конца лета.» В состоянии легкого ошеломления, не зная, как реагировать, я поблагодарил всех. Затем одолжил фонарик и поспешил к моему лагерю. Огромное вишневое дерево, прежде затенявшее мою палатку, переломилось примерно в двадцати футах над землей, и верхняя часть, минимум два фута диаметром, лежала на земле, рваный кусок коричневого брезента выглядывал из-под нее. Я невольно содрогнулся. Никто в палатке бы не выжил. Внезапно мной овладело смешение противоречивых эмоций – сожаление о пропавшей палатке, пьянящее облегчение оттого, что меня в ней не было, недоумение, за что мне такая напасть, но более всего – изумление перед неправдоподобным стечением обстоятельств, которые, повидимому, предотвратили мою смерть. Опустошенный и усталый, я направился к голубому автобусу. Там было ужасно. Душно и затхло. Дышать было тяжело, спать невозможно. Над ухом пищали комары, по полу и стенам шастала мышь, а перед самым рассветом летучие мыши, вернувшиеся с охоты, затарахтели по жести над самой койкой. На заре я встал и вышел, глубоко вдыхая свежий утренний воздух и гадая о том, как прожить оставшуюся неделю на ферме. «Доброе утро.» Я повернулся, не ожидая в такую рань услышать кого-нибудь. Это был Роб, шедший вниз с большим рюкзаком. За несколько дней до того, как я уехал в Питсбург, Роб перебрался на дальнюю окраину фермы, где поставил палатку и, очевидно, оставался там до сего времени. Загружая свою машину, он рассказал мне о неделе, проведенной им в роще, и мы вместе пошли к его лагерю, чтобы перенести оставшиеся вещи. Мы вышли на вершину холма на западной оконечности фермы, потом спустились по откосу, такому крутому, что несколько раз нам пришлось хвататься обеими руками, чтобы не упасть. С пол-пути вниз стали просматриваться небольшие фрагменты извилистой речки, и, спустившись с холма, мы вышли на травянистую лужайку с маленькой палаткой в десяти футах от воды. Мы прошли несколько сотен ярдов вверх по течению реки и Роб показал мне водопад, под который он вставал по утрам. Пока мы сидели в молчании на большом плоском камне посередине потока, уставившись на крутые сланцевые стены, защищавшие лощину от звуков цивилизации, я понял, что хочу сделать. Роб широко улыбнулся, когда я спросил, можно ли занять его палатку на остаток лета. «Я как раз надеялся, что мне не придется тащить ее обратно в гору,» – сказал он. Пока мы пробирались обратно к дому, он помог мне продумать детали. Он постился всю неделю, пока жил у реки, и перспектива переносить туда продукты и кухонные принадлежности склонила меня к такому же решению. Спальный мешок, бутылка для воды, фонарик и, может быть, одна-две книги – вот всё, что мне было нужно. Я смог принести всё это за одну ходку, и, когда стемнело, устроился в своем новом жилище, слушая шум воды и звуки леса. Я полагал, что буду скучать за котлованом, «числами», резонансом. Но время пролетело быстро, даже славно. Голодание расслабило тело и успокоило ум, и через пару дней я совсем забыл о еде. Погода была хорошей, насекомые не беспокоили. Каждое утро я стоял под водопадом, ухая и вопя от холодной воды. Медитация пошла легче, чем когда-либо. А по вечерам я выходил вдоль потока к ясному голубому озеру и смотрел на закат над водой. На шестой вечер, когда я лежал в палатке, раздумывая, чем бы мне ознаменовать последнюю ночь на ферме, ветер, ровно дувший весь день, внезапно стих, и я услышал далекое громыхание. Вскоре раскаты приблизились и сделались громче, и я понял, что спокойная погода завершается. Я взял фонарик и вышел проверить палатку. Из восьми крепежных петель, только четыре имели колышки, да и те были пластмассовые и сидели в каменистом грунте неглубоко. Пока только начинало капать, я бросился вырезать колышки из веток, но вскоре оказался вместе с палаткой под проливной грозой, пытаясь каблуком рабочего ботинка загнать самодельные колышки в землю. Молнии сверкали всё ближе, и вскоре между вспышкой света и оглушающим грохотом совсем не осталось паузы. И когда я во время порывов старался удержать палатку, то вдруг осознал, что воспринимаю происходящее, бесстрастно наблюдая за собственными усилиями с непривычными покоем и детальностью. Это было столь приятное ощущение, что я даже замедлил свои усилия, чтобы продлить его. Когда закончил, я снял мокрую одежду и лег на спальным мешок, с наслаждением слушая неослабевающее громыхание и рев переполненной реки и восторгаясь каждой вспышкой молнии, просвечивавшей палатку как солнце. Утром я проснулся дважды. Первый раз – из сна к бодрственному сознанию. Затем вдруг, без всякой причины – из обычного сознания к такому уровню осознавания, который прежде мне никогда не был знаком. Я лежал и изумленно осознавал собственное бытие, просто как безымянную сущность, растянувшуюся в тесной нейлоновой капусле и разглядывающую металлическую стойку. Не было чувства личности, и всего того негативного багажа, который приходит с ним. Я чувствовал себя очищенным. Это, – подумалось мне, – должно быть, и есть тот наблюдатель, о котором говорил Роуз. Тот, кто на самом деле видит жизнь через твои глаза. Наблюдатель, который может привести тебя к твоему Истинному Я. В эти мгновения мне стало пронзительно ясно, что это и есть путь к Реальности, та сущность, то бытие, которое, – независимо от того, что я исполню, чего достигну, кем в жизни окружу себя, – является неотъемлемой основой моей жизни, и что оно движет моей судьбой, если она у меня была. Это явилось не исключительно приятным открытием, скорее – воспоминанием из детства, давно погребенным под хламом на чердаке моего ума и вдруг оказавшимся наверху. «Ах, да!» – такое было чувство, – «я вспомнил теперь.» Я выполз из палатки и вошел в воду, позволяя холодным струям обегать мои щиколотки, голени, колени. Я встал посреди быстрого течения, глядя на отвесную скалу, шедшую вдоль потока, и слушал шум напоенного дождем водопада. Постепенно мои физические восприятия смешались воедино, так что я больше не мог отделить вид от звука, а звук от ощущения. Окружающее становилось все менее и менее реальным, пока внешний мир не поблек, и внутренние чувства не создали на его месте новый. В первый и единственный раз в моей жизни я был совершенно счастлив, и мир возвращал мне это любыми возможными способами. Я чувствовал себя окутанным светом блаженства. «Вот оно – счастье,» – подумал я, поглощенный и приведенный в благоговейный трепет охватившими меня экстазом и радостью. Незамедлительно это чувство меня покинуло, стремясь, полагаю, остаться неназванным, непойманным мыслью. Но после себя оно оставило вовсе не печаль, а ясное знание, которого во мне не было, когда я только начинал мою работу. За час я сложился, очистил место, стараясь убрать все следы моего пребывания, и стал взбираться по круче, ведшей к ферме. Все пожитки были упакованы мной еще до того, как я переселился в палатку Роба, так что положив в машину то, что принес с собой, я был готов ехать. Мне пришло в голову прогуляться в последний раз к месту старого лагеря, чтобы привести мысли в порядок перед тем, как попрощаться с Роузом, но, когда я закрыл дверцу машины и повернулся, он стоял рядом, всего в нескольких футах. «Уезжаешь, что ли?» – сказал он. «Да, попросту нет выбора. С понедельника начинается учёба.» – я посмотрел в его светлоголубые глаза – смеющиеся, пронизывающие и всё же неизменно беспристрастные. «Хочу поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали,» – сказал я, вдруг чувствуя, как перехватывает горло. На мгновение Роуз сузил глаза, как если бы изучал меня, но не сказал ничего. «Есть ли что-нибудь, что я могу сделать, чтобы отплатить вам?» – спросил я. Он тепло улыбнулся. – «Просто передавай это дальше,» – сказал он. – «Это всё, о чём я прошу каждого. Просто передавай.» 10 ПРОМЕЖУТОЧНОСТЬ Спустя два года, депрессуя по поводу отсутствия духовного прогресса, я стал мысленно возвращаться к разговору, который у меня был с Роузом на том первом интенсиве. Я спросил его, на чём мне следует сосредоточиться, после того, как покину ферму, каков должен быть мой следующий шаг, чтобы сделать духовную работу частью моей повседневной жизни. «Получи контроль над собой,» – ответил он. – «Получи контроль над твоими аппетитами и привычками. Приобретя контроль, ты почувствуешь себя мощным, готовым принять некоторые труднейшие вызовы, с которыми тебе предстоит столкнуться. Не имея контроля над собой ты всегда будешь чувствовать себя неадекватным, низшего сорта. Ты будешь всегда...» – он подыскивал верное слово – «...протестующим.» Слово, которое он подобрал, было для меня неожиданностью. По сути, я не знал, к чему оно. Естественная речь Роуза была эксцентричной смесью учености и деревенского просторечия. Его способ изъясняться во многом являлся продуктом гор, откуда он был родом, что иногда выражалось в неверной грамматике или затемнённости смысла, из-за чего его можно было принять за обитателя глуши или за необразованного фермера. Тем не менее итоговое впечатление о нём складывалось как об исключительно образованном человеке, но чьё образование, пожалуй, принадлежало другой эпохе, или, скорее, было получено самостоятельно – представьте только – по книгам, найденным в подвале упраздненной викторианской школы или даже – средневекового монастыря. Я кивнул, как если бы понял. Он увидел, что это не так. «Тебе следует создать свою пригодность к работе,» – продолжил он. – «Тебе требуется быть достаточно сильным, чтобы выстоять под натиском невзгод, которые будут на тебя обрушиваться. Способ увеличить свою пригодность – добиваться, не взирая ни на что. Мера человеку – его способность выдерживать напряжение.» Наибольшее напряжение в моей жизни приходило от Роуза и группы. В основном через отсев людей, я постепенно принял на себя всё больше обязанностей в питсбургском дзенсообществе Пирамида, сначала как кассир, затем как староста. Сидеть за столом было не так легко, как казалось, – стремиться пробудить мышление в каждом, храня при этом спокойствие, стараться провести людей, не отпугивая их, через целительную конфронтацию, пытаться разумно говорить о духовности, не будучи в ней укорененным самому. Я припоминал время, когда группу вел Рей, и не мог надивиться, как много новичков судили меня столь же строго, как я судил Рея. По-прежнему Роуз без объявления показывался на встречах один или два раза в месяц. Иногда, когда я приезжал, он уже со всеми балагурил, шутил и беседовал. В такие вечера я бывал на встрече просто еще одним зрителем. Но в иные свои появления он оставался безучастен и предоставлял мне вести встречу, в то время как сам молча сидел, насупившись, в нескольких футах от меня, словно внутренне критикуя мою некомпетентность. В таких случаях я пытался следовать совету Оги – просто продолжать встречу, как если Роуза на ней нет, что на словах звучало легко, но на деле было подобно стараниям вести непринужденный разговор, имея под стулом тикающую бомбу. Каждую пятницу, вечером, ядро питсбургской группы собиралось посидеть в резонансе в «ашраме» – в заброшенном доме в районе Сквирл-Хил, где несколько членов группы жили вместе. Суть сессий резонанса заключалась в безмолвном сидении в кругу друзей по поиску. В учении Роуза на этом делалось ударение, как на чрезвычайно эффективном способе обострить интуицию и извлечь силу и чутье из энергии группы. Я предвкушал эти сессии как то время, когда напряжение недели растворялось и открывало путь для покойной ясности, которая столь успешно ускользала от меня во время дневных дел. В остальных ситуациях я воспринимал людей и взаимодействовал с ними так, словно они были двумерными вспомогательными фигурами в драме моей жизни. Для меня было трудным, если не невозможным, разглядеть в них любые черты, не являвшиеся простым продолжением моей собственной мнительной личности. Но сидя в резонансе я иногда мог оглянуться и увидеть как бы впервые, что другие люди являются сложными индивидуальностями, чьи мыслительные паттерны совершенно отличаются от моего. Изредка у меня появлялось интенсивное переживание, во время которого я чувствовал себя так, словно воплотился в одного из моих партнеров по резонансу, – по-настоящему «был в его шкуре», как сказал бы Роуз – и это бывало для меня чрезвычайным откровением. Обыкновенно Роуза на этих сессиях не было, но, в соответствии со своей непредсказуемостью, он иногда мог предпринять двухчасовую поездку, чтобы посидеть с нами. В таких случаях, когда я входил в ашрам и видел его пьющим чай в оборванном мягком кресле, которое принадлежало ему во время его приездов, мой пульс тут же ускорялся, потому что присутствие Роуза всегда означало возможность волшебства. В отличие от наших обыкновенных встреч, которые предварялись кратким вдохновляющим чтением, у сессий, на которых председательствовал Роуз, явного начала не было. В концеконцов он просто замолкал и оставался в безмолвии. Иногда уровень энергии был такой же, как и на сессиях без него. Чаще, однако, он достигал сверхъестественной интенсивности. У Роуза была способность фокусировать и направлять энергию на конкретного человека в комнате, иногда незаметно, иногда указав на него. Когда это случалось, ум человека на краткое время останавливался и человек получал опыт определенного рода. Роуз говорил, что ему и самому не известно, действительно ли он направляет энергию или же просто указывает ее цель, распознав или предузнав, куда она направится сама по себе. Роуз никогда не указывал на меня, и энергия сама по себе никогда не направлялась в мою сторону. Наибольший опыт в этом у меня был на той сессии, когда Роуз поднял свой палец, чтобы указать, – как он потом сказал, – на Эдварда, регулярного участника наших сидений. Однако в этот момент Перри, новичок, впервые сидевший на резонанс-встрече, случайно наклонившись, попал на линию огня и принял заряд на себя. Его лицо исказилось в испуге от шока и он заплакал. Пока я смотрел на происходящее, я понял, что плачу тоже. И не от сострадания к Перри, а от отчётливейшего сознания ложности моей жизни, которое пронзило меня в тот момент. Это сознание потом сохранялось во мне несколько недель и окрашивало фактически все, что я делал. Не знаю, что случилось с Перри. Больше он не приходил. Недолгое время спустя после этого случая, одним вечером я бесцельно ездил по улицам, угнетённый и озадаченный неопределенностями и противоречиями в моей жизни, как вдруг обнаружил, что безо всякого сознательного намерения еду по трассе I-79, ведущую в Западную Вирджинию. Я рассмеялся про себя, но подумал не о том, что на самом деле хочу увидеть Роуза, а просто, что I-79 – хорошая дорога для того, чтобы размышлять во время езды. Даже когда я вышел из машины на школьной парковке наискосок от дома Роуза, я не был уверен, что действительно постучу в его дверь. К тому времени был уже двенадцатый час, и, кроме того, я уже так давно по-настоящему не разговаривал с Роузом, что в моих мыслях он представал незнакомцем. Пройдя по крутым ступеням к его дому, я увидел, что свет на кухне ещё горит. Я постоял несколько минут на задней террасе, потом постучал. Дверь медленно открылась и выглянул Роуз. «Привет,» – сказал он, будто ждал меня. – «Вечный Жид вернулся.» Затем он предоставил мне войти и закрыть дверь, а сам вернулся на кухню, досматривать местные новости по старому чёрно-белому телевизору, водруженному на один из холодильников. Хотя в доме жили семь или восемь членов группы, Роуз был на кухне один. Скорее всего, через несколько минут он тоже пошел бы в постель, если бы я не нагрянул. Я закрыл дверь и сел за стол. Роуз стоял перед холодильником и внимательно смотрел, как местный ведущий рассказывает о беглеце, который в Маундсвиле вместе с женой забаррикадировался в трейлере, отказываясь сдаться окружившей его полиции. «Я знал папашу этого парня,» – заметил Роуз. – «Совершенно не боится копов. Как-то они арестовали его за глушение рыбы динамитом внизу на ручье Стола, так он...» Роуз прервался, пока диктор читал сводку, которую держал в руках. Подозреваемый только что совершил самоубийство, после обмена выстрелами с полицией. «Эти ребята всегда совершают самоубийство,» – с негодованием произнес Роуз, – «сразу после того, как их застрелят копы.» Последовал прогноз погоды и Роуз усилил звук. «Саду чертовски нужен дождь,» – сказал он. В молчании мы прослушали как синоптик предвестил жаркую сухую погоду на следующие пять дней. «Похоже, придется завтра выехать на ферму и немного полить,» – почти сам себе прокомментировал Роуз. Когда пошел спорт, мой интерес возрос. «Пираты» начали день с разницей только в пол-игры и я гадал, где они теперь. Роуз подошел и выключил телевизор. «Половина новостей в наши дни это – идиоты, пинающие мяч и ищущие предлога, чтобы хлопнуть друг друга по заднице под видом похвалы,» – сказал он. Поймав мой взгляд, он добавил, – «с трудом верится, что где-то есть действительно разумные люди, которым до лампочки, кто там на первом месте.» Я кивнул, лицемерно соглашаясь. Он наполнил под краном чайник и поставил на плиту. «Когда я приехал на восток Штатов из Сиетла, я остановился ненадолго в Кливленде. Я всё ещё был слишком потрясен Опытом, чтобы ехать прямо домой. Я снял комнату в ночлежке в районе Парма и решил пройтись в центр, взглянуть, сильно ли там изменилось с той поры, как я там был в двадцать с чем-то лет. Бывал в Кливленде?» «Нет.» «Ну, иду я там вниз к озеру Ири и неожиданно вижу толпу народа, который валит навстречу. Идут по четыре, по пять в ряд с чрезвычайным напряжением в лицах и все молчат. Из-за моего Опыта я был абсолютно далек от происходившего вокруг и решил про себя, что случилась какая-то катастрофа. Землетрясение. Или атомная бомба. И вот, кого-то останавливаю, спрашиваю, что случилось. А он смотрит на меня, как будто я не в своем уме, и идет дальше. То же самое и с парой следующих ребят. Ответа нет. Они просто идут мимо. Наконец остановил парня, который увидел, что я на полном серьезе, и тот говорит: “о чем ты? Ничего не случилось.” “Тогда, куда все идут?” – спрашиваю я. Он смотрит на меня как на придурка и указывает на стадион в двух кварталах от нас. “На бейсбол,” – говорит, – “'Индейцы' приехали.”» Роуз достал две чашки с сушилки над раковиной и, не спрашивая, хочу ли я, положил в них пакетики с чаем. «Я не мог поверить. Я просто стоял там и смотрел, как мимо меня текут все эти люди с таким выражением на каменных лицах, будто им только что явилась смерть. И всё, что у них на уме, это – бейсбол? Я только и смог подумать: “Бог мой! Это вот сюда-то я вернулся?”» Чайник засвистел. Роуз наполнил чашки, затем сел напротив меня. «Ну, что в Питсбурге нового?» – спросил он. Это был удобный момент выложить, что у меня на сердце. Но и тогда, уже сидя на кухне напротив него, я не вполне знал, что меня привело. «В-общем, всё по-старому. Встречи проходят нормально. Я сдал тест на адвоката. Результаты будут только через несколько месяцев, но и теперь работа в юридической фирме отнимает у меня всё время. Похоже, сейчас я попросту пытаюсь решить, как быть дальше.» Он кивнул. – «Иногда ум человека столь захламлен подробностями, что он не задумывается о будущем. Вот тогда он получает проблемы. Тебе следует всегда смотреть на шаг вперед.» «Именно так, мистер Роуз. Я не знаю, что впереди. Не уверен даже, что знаю, чего я там впереди хочу. Трудно двигаться вперед, когда не знаешь, где хочешь остановиться.» «У тебя нет выбора. Ни у кого из нас выбора нет. В духовном отношении или в обычной жизни, ты или растешь, или умираешь. Не такой вещи, как оставаться в покое. Как только ты оставишь движение, ты заскользишь к смерти. Такую ситуацию я наблюдаю в группе,» – продолжал он. – «Каждый довольствуется тем, что есть. Никто не хочет раскачивать лодку. Но я постоянно всем твержу, что дух времени меняется. И группа должна меняться вместе с ним. Ведь больше не достаточно повесить несколько рекламок, чтобы зазвать сотню людей на лекцию. Правительство закручивает гайки и молодежь в университете думает о заработке на жизнь после учебы, а не о смысле жизни. Духовность превращается в роскошь, которую никто не может себе позволить.» «А что насчет людей, которые сейчас в группе?» «Большинство из вас сдастся и вернется в драму жизни, но несколькие останутся. Они будут духовными гигантами завтрашнего дня. И кем бы эти уцелевшие ни были, им предстоит объединиться вместе на общем пути и неутомимо искать попутчиков. Они всё ещё здесь – люди, ищущие Истину. Тебе просто следует изменить слова, чтобы соответствовать времени. Говорить на их языке. Физическое измерение – это единственное пространство, общее для всех нас. Ведь никакая философия, которая не может быть растолкована современным языком и через сегодняшние представления мира, не будет ни понята, ни пользоваться доверием.» «Что вы собираетесь делать, мистер Роуз?» Он улыбнулся с абсолютной беззаботностью. «Расслабиться,» – сказал он, закладывая руки за голову, как будто демонстрировал, что имеет в виду. – «Расслабиться, а потом работать как проклятый, когда загорится зеленый свет.» Это была неожиданная философия для человека, который утверждал, что бычья непреклонность является ключом к духовному росту. «Ты не можешь ускорить вещи, если они к тому не расположены,» – продолжал он. – «Когда ты пытаешься заставить что-то произойти, всё, что ты делаешь, так это подпитываешь силы, действующие против тебя. Всё, что когда-либо происходило в группе, является чудом. Сама группа – чудо. Годами я пытался получить что-то жизнеспособное и ничего не выходило. Я бился головой в стены, которые не поддавались. Потом, неожиданно, дверь открылась и я просто прошел в нее.» «Но вам пришлось что-то делать, чтобы она открылась, так ведь?» «И да, и нет. Годы бесплодных сражений были необходимы, чтобы поднять достаточное давление в котле. Но я ничего не делал. Ты устраняешься и вещи происходят. Ты позволяешь дверям открыться. Ты перестаешь быть помехой, ты изгоняешь эго. Это – промежуточность45.» «Я никогда на самом деле не понимал, что такое промежуточность,» – сказал я. «А ты не можешь изучить промежуточность,» – ответил он. – «Но если ты живешь жизнь, она придёт к тебе естественным образом.» «Придёт как?» «Когда ты окончательно поймешь, что ты не делаешь ничего в этой жизни – что ты неспособен46 что-либо делать, – тогда ты входишь в состояние беззаботности, которая оказывается творческой, вот и всё.» Он рассмеялся в ответ на мое озадаченное выражение. – «Не пытайся это сообразить. А то сломаешь себе что-нибудь.» Мы помолчали около минуты, затем он неожиданно продолжил объяснение, словно решив, что, может быть, у меня есть возможность понять это через слова. «Эго – единственное большое препятствие для достижения чего-либо,» – сказал он. – «Промежуточность – это акт действования без эго. Ты действуешь, но ты не деятель. Ты делаешь нечто, но ты не делатель – и ты знаешь, что ты не делатель. Это способность удерживать ум в полном бездействии, чтобы произвести определенные изменения. Ты желаешь изменение, но ты не озабочен тем, чтобы оно случилось. Промежуточность не изменяет вечной данности. Она – способ открывать вечную данность. Это происходит, когда ты хочешь того, что правильно, что независимо от твоих желаний. Есть механизм для удержания твоего ума в этом срединном состоянии: между заинтересованностью и безразличием. Ты волишь это, затем забываешь об этом, – без страха поражения или надежды на победу. Промежуточность – продукт целой жизни, прожитой в безличностности.» «Об этом знают дети,» – продолжал он. – «Некоторое время я мальчиком жил в сиротском доме, чтобы быть поближе к католической школе, в которую собирался поступить. Помню, как однажды увидел ребенка, прижавшегося носом к окну и приговаривавшего: “Снег, снежок, уходи, дружок”. Нам всем хотелось, чтобы пошел снег, поэтому я спросил, почему же он не хочет. Он ответил: “Мне тоже этого хочется, но если чего-нибудь хочется слишком сильно, оно знает об этом и не случается”.» Роуз пристально посмотрел на меня, – «Улавливаешь? Он сказал: “оно знает”. Этот ребенок что-то понимал.» Я кивнул и хлебнул чаю. «Промежуточность не обязательно духовна,» – продолжил Роуз. – «Это закон, вроде гравитации. Она работает во всех видах земных дел. Был период, когда, будучи женатым, я ужасно разболелся. Я не мог понять, в чём дело. Один врач сказал, что у меня случился небольшой удар. Но скорее всего я просто был истощен нескончаемой битвой с моей женой.» Я рассмеялся, но Роуз – нет. «Что бы это ни было, оно делало меня постоянно уставшим. Я приходил домой с покраски, садился в кресло и вставал уже с трудом. Поэтому по вечерам я начал ходить в пивнарик, лишь бы заставить себя двигаться и выйти из дому. Я не пил, а брал газировку и трепался с соседями, просто чтобы провести время и отвлечься от забот. Ну вот, там в задней комнате всегда шла игра в покер, и в итоге я стал посиживать там. Все это приветствовали, поскольку играть я не умел и они загребали все мои денежки. Какую-то мелочь, впрочем, так что я не переживал. Я сообразил, что это хороший способ провести время, не хуже другого. Но потом ставки были подняты до четвертака. Вот тогда-то я и начал практиковать промежуточность.» Мы оба рассмеялись. «Меня не заботило, выиграю я или проиграю. На самом деле, если бы у меня была лучшая рука47, я бы сказал всем пасовать48. Но я выигрывал каждый вечер, просто уравнивая ставку и никогда не пасуя, если меня не побеждали вскрытием карт. Когда мне нужна была карта, я о ней думал, и – банкомёт мне ее сдавал. Я был изумлен. Дошло до того, что я стал просить нужные карты вслух. Ну что-то невероятное – вроде заполнения дырявого стрита. Я говорил: «Стейни, дай мне девятку и валета.» И это было то, что он мне сдавал. Остальные просто с ума сходили. В точности я не знал, что делаю, но знал, почему это работает, – потому что я не был озабочен и никогда не был алчным. После игры я всех приглашал в круглосуточный ресторан за рекой в Белейре и всем заказывал обед со стейком в счет моего выигрыша. Если бы я начал беспокоиться о деньгах, я бы потерял эту точку милости и равновесия. Понимаешь, о чем я?» Я кивнул. Я начинал понимать концепцию, по крайней мере интеллектуально. «В промежуточности есть поразительная сила,» – продолжал он. – «Если обстоятельства правильные, вещи случаются. Когда это используется в духовной работе, я называю это окончательной промежуточностью. Каждая настоящая духовная система так или иначе выражает эту же мысль: отчаянно пытайся и в то же время предайся Богу.» Несколько минут мы сидели молча. В очередной раз он ответил на вопросы, которые я не вполне осознавал, чтобы их задать. У меня хотя бы на мгновение пропало беспокойство о моём будущем. «Любопытно, который час?» – сказал Роуз, оглядываясь на небольшие дорожные часы на полке сзади. – «Ого, третий час. Хочешь переночевать тут?» Я тут же забормотал отговорки, но, похоже, страх, который я внезапно ощутил, отразился на моем лице. Роуз громко захохотал. «Чёрт возьми, это место не так уж плохо. Никто ещё не умер, живя тут неделями.» «Дело не в этом,» – возразил я робко. – «Просто утром у меня должна быть встреча с моими боссами насчет моих планов. У меня куча мелких дел, которые нужно закончить после тестирования.» «Тогда заявляйся, когда будет возможность. В эти выходные меня в городе не будет. Наверное, в следующие можешь приезжать свободно.» Я пообещал появиться в следующие выходные и направился уже к двери, но по какой-то причине он продолжил разговор. Несколько минут он простоял со мной у двери, рассказывая о полученном им приглашении выступить в эту субботу на выездном симпозиуме в северозападной Пенсильвании. Было поздно и я чувствовал себя уставшим. Я не мог понять, почему он решил рассказать мне об этом уже на выходе, и вообще – зачем. «Добро. Думаю, тебе лучше отправляться,» – наконец сказал он, включив для меня свет на террасе. – «Заканчивай свои дела и, давай, возвращайся.» Я осторожно сошёл по неравным каменным ступеням и через погруженную в сон улицу подошёл к машине. Это правда: я изобрёл бы приличествующий предлог, если б было необходимо избежать ночевки в аскетически голом, но переполненном людьми доме Роуза. Но у меня действительно на утро была встреча с Доном, главным компаньоном юридической фирмы, где я работал, – чтобы обсудить мое будущее теперь, после сдачи теста. Работать у них мне нравилось, к тому же это означало надежный источник дохода, но я решил, что сейчас время двигаться дальше и открывать собственное дело. Во время дороги обратно из Бенвуда мой ум поочередно был занят мыслями то о промежуточности, то о том, что буду говорить Дону через несколько часов. Утренняя встреча завершилась быстро. Что обсуждать, когда тебе делают предложение, от которого нельзя отказаться? Дон предложил мне начать своё дело в их офисе. Они обеспечат секретаря, возьмут на себя накладные расходы, привлекут ко мне клиентов, и даже станут платить зарплату. Взамен я буду работать на их фирму двадцать часов в неделю. Остальное время будет моим, чтобы создать собственную практику, или, если того хочу, как сказал Дон, подмигивая, чтобы вставать на голову и медитировать на пупке. Мы договорились, что я останусь на почасовой оплате все лето, а новое соглашение войдет в силу с первого сентября. Это соглашение было столь прекрасно, что я не мог о таком и помыслить. Оно не только обеспечивало мне и свободу, и уверенность, но мои боссы явно прознали о моем интересе к эзотерическим вопросам и, похоже, не имели ничего против. В один щелчок то безымянное напряжение, которое я претерпевал, но не мог идентифицировать, было выявлено и ликвидировано. Меня опьянил головокружительный приступ облегчения. Я не мог дождаться, чтобы поговорить с Роузом: рассказать, что произошло, и спросить, было ли это то самое, о чём он говорил ночью на кухне, – результатом некоторого рода промежуточности с моей или его стороны. На встрече в четверг я услышал, как Оги кому-то говорил, что Роуз его призывает в Бенвуд на выходные, поэтому я позвонил ему и мы договорились поехать вместе. Возможно, из-за того, что я сидел за рулем, почти всё время говорил я. В деталях я передал Оги разговор с Роузом о промежуточности и рассказал о невероятном предложении по работе, полученном мной на следующий же день. «Это очень похоже на то, что ты говорил во время нашей первой совместной поездки,» – сказал я, возбужденно, – «есть какая-то магия вокруг этого человека.» Оги даже не притворялся, будто слушает с интересом. Я вгляделся в его лицо и увидел то, чего никогда в нем не видел. «Ты выглядишь изможденным,» – сказал я. «Так и есть,» – он продолжал смотреть прямо перед собой. – «Два года организации групп в Питсбурге и Огайо. Новые группы в Новой Англии. В этот год выездные интенсивы с Роузом. Я чувствую себя солдатом, марширующим через Европу. Как только ему кажется, что он может снять ботинки, как его вызывают в штаб для другого задания.» «Другое задание? Ты уверен? Когда Роуз говорил со мной на кухне, он не знал, куда направить группу. С этого, по сути, и начался разговор о промежуточности.» «Ну, значит, что-то его завело опять на том симпозиуме в прошлые выходные. Что бы это ни было, мы скоро всё услышим.» У меня были большие сомнения в том, что на симпозиуме что-то могло разрешить роузову дилемму насчет будущего направления группы. В ту ночь у двери, когда я собирался выходить, Роуз сказал, что он даже не знает, зачем туда едет. По его словам там было полно «ковыряльщиков», – так он называл тех, кто балуется духовностью в том же роде, в каком другие наблюдают за птичками или собирают почтовые марки. Он показал мне программку: массажная терапия, кристаллы, духи-проводники, винтовые лестницы на небеса – как раз тот набор спиритуальной ерунды, которую он всегда высмеивал. Кроме того, в свои шестьдесят, он оказывался там самым молодым, а он всегда предостерегал нас от людей, которые уже слишком стары для изменений – людей, чьи жизни были слишком трудны или чьи умы слишком затвердели, чтобы перенести радикальные и болезненные исправления, необходимые, чтобы стать. Но, как Роуз писал в «Документах Альбигена», даже больная курица, может снести здоровое яйцо. Описывая полученный на симпозиуме опыт, он был в приподнятом духе. Действительно, программа была пресной, компания престарелой, условия примитивными, но он был уверен, что получил намек насчёт того, как группа может выжить и даже процветать во время надвигающегося духовного спада. «Чёрт, мы могли бы сделать гораздо лучшую программу,» – с воодушевлением сказал Роуз. – «Можно взять десяток завсегдатаев пивной и услышать больше мудрости, чем на этом симпозиуме. И ферма подходит не хуже, чем место, где он был устроен, – он проходил просто под цирковым тентом. Конечно, с первого раза у нас не получится залучить серьезных людей, но мы будем расширять наши контакты и в конечном счете найдем несколько людей, достойных составить эзотерическое ядро.» То ли в самом деле вдохновлённый, то ли просто слишком измотанный, чтобы сопротивляться роузову энтузиазму, Оги снова принялся зашнуровывать свои солдатские ботинки. «Возможно, первый симпозиум лучше провести в городе,» – сказал он. – «Так мы отладим организацию до того, как переместим его на ферму.» Роуз обнадеживающе кивнул и Оги развил мысль. – «Я знаю некоторых людей, которые, возможно, выступят в Питсбурге бесплатно. Джим принадлежит унитарной церкви в Маунт Лебаноне. Мы, наверное, найдем его в церкви. И у Дэйва вот есть теперь свободное время, поскольку нет уже экзамена, который был его оправданием для неучастия в работе группы.» Позже, через шесть часов непрерывного чаепития и мозговой атаки, я чувствовал себя очевидцем рождения империи. Одно лишь меня беспокоило – что мое имя часто всплывает в разговоре. То, что я вообще присутствовал при нём, было ведь более или менее совпадением. На обратном пути я объяснил Оги, что имею только немногим больше месяца, чтобы капитально приготовиться к карьере, и у меня мало или совсем нет времени на это предприятие. «Пустяки, Адвокат. Всё, что мне от тебя надо, это место для работы. Просто предоставь мне твой офис на вечера и я обещаю не мешать твоему духовному гниению.» В первые несколько вечеров Оги был верен своим словам. Около семи я впускал его в офис и занимался своей адвокатской работой, пока он пользовался техникой и делал звонки, сидя в кресле Дона из тонкой кожи. Потом одним вечером он попросил меня просмотреть прессрелиз, который он написал, и я согласился, хотя и видел, куда идет. Несколько дней я печатал письма, помогал ему звонить и составлял интервью для наших выступающих на местных токшоу. Каждый день «шатокуа»49, – как Роуз окрестил наш симпозиум, – вторгался в мою жизнь всё больше. Оги и я переехали в небольшую квартирку в Лоренсвиле, принадлежавшую его дедушке, так что я всегда оказывался под рукой, когда Оги нужна была помощь. Ему ничего не стоило работать в адвокатском офисе до двух или трех ночи, потому что он мог спать до двенадцати, в то время как мне надо было утром являться в офис к восьми ради полного рабочего дня. После месяца таких условий я уже ничего не успевал сделать, но духом не падал, потому что помнил о сентябре, когда вступит в силу новое соглашение с компаньонами-адвокатами. Впрочем я не был уверен, что, собственно, изменится по сравнению с теперешней почасовой работой, но в моём сознании новое соглашение представлялось чрезвычайно важным, поскольку знаменовало начало моей адвокатской карьеры. Когда, наконец, наступило это утро, я отверг мои полиестровые галстуки и одолжил у Оги шелковый. Вместо автостопа я поехал на работу на автобусе. В вестибюле здания я изучил офисный справочник и прикинул, надо ли включить в него свое имя. Подымаясь в лифте в «наши» адвокатские офисы я посвистывал и представлял благожелательные приветственные рукопожатия, которые формально ознаменуют мой переход из лакеев в равные. Однако, когда я вошел в приемную, секретарша уперлась в меня холодным взглядом, от которого я оторопел. «Мистер Харвел, хочет вас видеть,» – сказала она. Дон дожидался меня в холле. «Сядем, где мы можем поговорить,» – сказал он, и я последовал за ним в его просторный угловой кабинет. Он жестом предложил мне сесть на диван, а сам скользнул в кожаное кресло с высокой спинкой, стоявшее за массивным, красного дерева, письменным столом. «Я всегда относился к этой фирме, как к своего рода семье,» – начал он. – «Я старался точно также обращаться со всеми, и, думаю, в большинстве случаев мне это удавалось.» Он замолчал, как бы ожидая моего согласия. Я чувствовал, что меня к чему-то готовят, и ничего не произносил. «Как и в семье, действия каждого сотрудника отражаются на всех остальных. Если кто-то в семье делает успехи, польза от этого всем. Если кто-то создает себе проблемы, – выглядят неважно все.» Он выдвинул ящик стола и достал желтую брошюру, в которой я немедленно узнал рекламку питсбругского шатокуа. Он подтолкнул ее через стол ко мне, словно представляя улику свидетелю. «Я знаю, что ты приходил сюда по вечерам и что-то делал. И, говоря откровенно, меня не волнует, чем ты занимался. Но я, совершенно точно, не могу позволить, чтобы эта адвокатская фирма ассоциировалась с прибабахами вроде этих!» Он уставился на меня, ожидая, вероятно, извинений, признаний, заискивающих объяснений. Мое лицо вспыхнуло, но, что сказать – я ничего не мог придумать. Он откинулся на спинку кресла и выждал полную минуту, прежде чем заговорить вновь. Тон его стал мягче. «Мне жаль, Дэйв,» – сказал он, взаимно постукивая кончиками длинных тонких пальцев, – «но тебе придется найти другое место работы.» Ошарашенный я покинул офисное здание и попал в сутолоку юристов, спешивших вниз на Гранд Стрит по пути в здание суда. Никогда прежде я не чувствовал себя в их мире таким посторонним. У них была работа, жизнь, карьера, будущее – путь к угробленному мной успеху, а я – бесцельно блуждал по запруженному людьми центру. Я поехал на первом же автобусе обратно в Лоуренсвиль, сидя среди пожилых людей, чьи дела в городе могли завершиться к десяти дня. У некоторых были пакеты из аптек, у других – правительственные конверты из офиса социального обеспечения. Я зашел в пустую квартиру и лёг на кровать, пытаясь совладать с реалиями моего положения. Мне не на что было опереться. У меня не было связей в мире юриспруденции, чтобы найти запасной вариант, и не было ни денег, ни опыта, чтобы в кратчайший срок открыть собственный офис. Погруженный в жалость к себе, я не обращал внимания на трезвонивший телефон, пока не сообразил, что скорее всего это кто-то перезванивает в ответ на бесчисленные звонки Оги, посвященные шатокуа. Меня удивило, что звонившему хватало терпения звонить так долго, но ещё больше удивил его голос. Это был Роуз. «Господи, я уж думал, что вы, верно, попали под облаву полиции и оба теперь в кутузке,» – сказал он. По телефону трудно было догадаться насколько он серьезен. «Нет, абсолютно ничего столь драматичного,» – отвечал я, хотя не был уверен в тот момент, что чувствовал бы себя существенно хуже, оказавшись за решеткой. «Оги нету,» – сказал я. – «У него ранняя встреча с профессором философии в Карнеги Мелон. Он хочет его уговорить привести на шатокуа всех своих студентов.» «В любом случае я искал не Оги,» – сказал он, – «Я искал тебя.» Ноги мои сделались ватными. Я сел на пол. Роуз считал междугородние звонки излишним злом, дорогим баловством, приемлемым лишь в критических случаях. Чтобы он позвонил мне, да ещё и в середине дня, – это было почти невообразимо. «Знаешь,» – начал он в задумчиво-протяжной манере жителя Западной Вирджинии. – «Мне только что пришла идея. И ты не должен давать мне ответ прямо сейчас.» Вот теперь моё сердце заколотилось по-настоящему. «Не знаю, насколько гибка сейчас у тебя ситуация с работой, но я думаю, что у этого шатокуа есть реальный потенциал. Нет границ тому, что мы можем с ним сделать.» Он вошел в подробности его планов. Пока он говорил, стало ясно, что проект шатокуа уже устоялся у него в уме и учитывает каждую деталь, а также ее отношение к прочим деталям. Питсбург был только началом. Оттуда нам предстояло двинуться в Колумбус, затем Кливденд, Аркон. После каждого шатокуа мы будем оставлять учебную группу, которая, надо надеяться, привлечет нескольких серьезных людей, о чём Роуз весьма пёкся. Роуз собирался мобилизовать ребят на ферме и начать строительство павильона, – он уже выбрал место, – и к следующему лету у нас будет место для встреч и связей с окружающими городами для шатокуа на ферме, которое, как я помнил, явилось отправной причиной для всей затеи. «Оги – человек прекрасных идей,» – сказал Роуз. – «Но иногда он слабоват в деталях. Ему нужен кто-то, кто будет идти за ним и подбирать разбитое стекло, и оба вы, кажется, хорошо ладите. Ты знаешь, что я неохотно вмешиваюсь в жизни людей, но сейчас я попросил бы тебя подумать насчёт того, чтобы отсрочить на год начало твоей адвокатской карьеры и помочь Оги с этим делом. Это позволит тебе немного увидеть страну перед тем, как ты осядешь на месте, чтобы стать жирным и богатым. Возможно, у нас получится тебя несколько закалить.» Я не мог больше удерживать восхищение. – «Мистер Роуз, отлично. Я согласен.» «Ну, тебе, наверно, следует всё обдумать. Поспи с этим и перезвони мне.» «Нет, я уверен, что именно это я и хочу делать. Вы не поверите, но с час назад меня как раз уволили. Сегодня должен был быть мой первый день на работе, и когда я пришел в офис, они...» «Ладно, я не хочу давать этим разбойникам из телефонной компании больше, чем уже должен,» – сказал он. – «Подъезжайте в эти выходные с Оги и мы потолкуем об этом.» 11 ШАТОКУА Первый шатокуа был успешен умеренно. Он состоялся в унитарной церкви Маунт Лебанона под Питсбургом и к завершению первого дня то, что мы подготовили, шло, как по мне, просто превосходно. Маленькая церковь была забита и настроение весь день было дружелюбное и гармоничное. То и дело к иформационному столу подходили участники и благодарили нас за сведЕние всех этих разных людей и идей вместе. Некоторые даже купили членство в Обществе Истины и Передачи50 (ТАТ), – таково было официальное название организации, сформировавшейся вокруг Роуза. Даже Роуз, который заставил нас продумать любые мыслимые неожиданности, еще раньше в тот день отметил, что всё, как будто, идет замечательно. Оги, однако, ближе к концу дня выглядел обеспокоенным, нервно расхаживая взад и вперед по коридору возле алтаря, где последним докладчиком выступал Роуз. Время от времени Оги приоткрывал дверь, смотрел, как идут дела, и продолжал шагать. «Что-то не так?» – спросил я. «Как раз то, чего я и опасался,» – отвечал он. – «Эта публика не для Роуза. Взгляни-ка.» Я тихо приоткрыл боковую дверь в алтарь и проскользнул внутрь. Роуз стоял на небольшой сцене за кафедрой и говорил с аудиторией, состоявшей примерно из семидесяти пяти людей, которые глядели на него со смущенными, скептическими и даже злыми лицами. «Может быть, это и к лучшему,» – Роуз обращался к грузному человеку, стоявшему с краю ряда стульев, словно собиравшемуся уходить. – «Если люди действительно задумаются над тем, что им обещают в церкви, они увидят весь абсурд этого. Я имею в виду, кто захочет проводить вечность, сидя вокруг кучки херувимов, играющих на арфах? Через время людям захочется отправиться в ад, лишь бы сменить обстановку.» «Ладно, я не согласен со всем, что традиционные религии, возможно, провозглашают,» – сказал человек тоном, из которого было ясно, что их с Роузом спор длится уже некоторое время. – «Но они всё-таки дают людям причину бороться за добродетель и лучший мир.» Многие из присутствовавших согласно кивнули головой или взмахнули рукой. «Нет, не дают,» – твёрдо сказал Роуз. – «Вот что они дают людям, так это оправдание, чтобы не работать над улучшением своего личного состояния при жизни и также, вероятно, – состояния после смерти. Религия вам говорит, что все мы идем в единое место. Люди полагают, что Бог оперирует человеческой концепцией правосудия, и будет несправедливо, если мы все не попадем в одно и то же место. Поэтому они считают, что, расслабившись, смогут приплыть с потоком всего человечества в Постижение Себя. Наихудшее же в этом – то, что подобные верования удерживают людей от поиска настоящих ответов,» – продолжал Роуз. – «Всякому разумному существу необходимо узнать свою собственную причину, узнать, сотворено ли оно или явилось следствием случайности. Что не нужно ему, так это – быть убаюканным или оглушённым какой-то политической общественной группой, которая распространяет сказки, называя их словом Божиим.» Вопрошавший успел дойти до двери и оказался прямо передо мной, когда он повернулся к Роузу. «Эти “политические общественные группы”, как вы пренебрежительно их называете, предоставляют великое утешение для великого множества людей,» – сказал он. Аудитория опять согласно закивала. «Возможно,» – бросил Роуз в ответ, – «но надолго ли? Если у человека есть хоть крупица любознательности или честности перед собой, в один прекрасный день он проснётся и поймет, что тридцать лет занимался самообманом. Общество и религия промывают мозги человеку насчет того, во что и как он должен верить. Поэтому он старается принять позу, которая, как он думает, будет вписываться в ожидаемую от него картинку. Сначала он обманывает социум, – убеждая всех, что он им соответствует, что он классный парень и всё такое. Затем он обманывает и себя, – когда начинает верить в собственный обман. К этому времени он безнадежно запутан в сетях лжи, которая становится его жизнью. «Но штука в том,» – сказал Роуз, возвышая голос, – «что в жизни каждого приходит время, когда человек начинает сомневаться во всём, во что верил. К сожалению, с большей частью людей это случается, когда уже слишком поздно что-либо сделать. Тем же временем большинство людей просто дрейфует вместе со всеми, объясняя это тем, что раз у окружающих нет недовольства их поведением, то они идут дорогой, верной во всех отношениях. Они платят налоги, ладят с приятелем по соседству, выполняют нечто подобающее по работе.» «А что вы предлагаете взамен?» – настаивал мужчина. «Вы хотите от меня услышать объяснение в двадцать пять или менее слов, которое бы вас удовлетворило? Забудьте об этом. Потребуется двадцать пять сотен слов, только чтобы привести вас в замешательство, и еще гораздо больше, чтобы попробовать вывести вас из него.» «Ну, тогда, я скажу, что проблема – в вашей неспособности к выражению мыслей,» – сказал мужчина. Потом, как бы сообразив, что как раз произнес идеальную заключительную реплику, он поспешно открыл дверь и вышел. Роуз бесстрастно наблюдал за ним и затем повернулся к аудитории. «Возможно, он прав. Бывают минуты, когда я нахожу трудным даже понять, как начать лекцию. Я испытываю трудности с выражением, потому что, когда вам становится ясно, что все это существование является проекцией, вы утрачиваете весь пыл к тому, чтобы кормить людей тем, что им хочется слышать о значительности или притягательности этой иллюзии. Видите ли, я не собираюсь нести покой вашим умам. Я хочу принести вам проблемы.51 Я хочу взболтать вас, встряхнуть. Потому что протоплазма склонна к инертности. Её необходимо раздражать, чтобы она не спала, для чего необходимо говорить. Её постоянно нужно стимулировать. Самодовольство – весьма негативная черта для человека, который хочет прогрессировать в умственных возможностях. На самом деле, если вы заинтересованы в выяснении того, кто вы есть, вам нужно отвергнуть все те философии или системы, которые вас успокаивают. Вам нужно постоянно себя сознавать, пробуждать себя ментально, атаковать свои мыслительные схемы. Потому что вам нужен не покой, а – ответ.» Роуз проговорил еще какое-то время и, когда закончил, слушатели молча потянулись к выходу. Мне и прежде доводилось видеть, как Роуз раздражает людей. Для человека, ставящего Истину превыше всего, это неизбежно. И, вследствие то ли резкости Роуза, то ли естественного отсева, на заседаниях в воскресение было вдвое меньше посетителей, чем в субботу, и я весь день ловил обрывки разговоров о «негативном человеке из Западной Вирджинии». Но в целом же отзывы о шатокуа были позитивными. Мы даже получили прибыль и, имея за плечами одну условно успешную программу, я был готов двигаться дальше. Оги был не столь оптимистичен. Когда завтрашним днём мы ехали в Бенвуд для анализа прошедшего мероприятия, он, как обычно, весьма тревожился. Следующий шатокуа планировался в Кливленде и в свете того, как Роуза восприняли в Питсбурге, он предвидел проблемы. Я расхваливал позитивные моменты мероприятия и старался заразить его своим оптимизмом. Мне было непонятно, как Оги, чьё почти детски непосредственное доверие к Роузу провело его через множество успешных проектов, мог теперь так тревожиться. «Просто эти шатокуа не смогут привлечь тот тип людей, которые услышат Роуза в качестве Роуза,» – сказал он категорически. Последние мили мы проехали молча. Когда мы приехали, Роуз пребывал в воодушевлении. Он и всегда давал мне почувствовать себя желанным гостем, но теперь, когда мы работали вместе, я ощутил, что как бы особая дверь распахнулась для меня в его доме. Мы сидели на кухне, смеялись и пили чай. Роуз вышучивал испуганный вид Оги, после того как тот представил Роуза докладчиком, и мою неспособность усидеть спокойно на своём месте за столом во время его выступления. У меня было такое чувство, что нас троих объединяет особая шутка, которую мы могли бы даже представлять остальному миру. А потом, почти небрежно, Роуз объявил. – «Одно, впрочем, совершенно ясно. Я больше не выступаю ни на каких шатокуа.» Я решил, что Оги облегченно вздохнет, услыхав эту неожиданную и почти невероятную новость. Но доводы его шли от сердца. «Мистер Роуз, мне не интересно класть год жизни на то, чтобы собрать до кучи астрологов и созерцателей кристаллов. Единственное оправдание для этих программ – это найти людей, которые смогут услышать ваше послание.» «Да, но моё послание – горькая музыка. Посыпать сахаром истину невозможно, так что лучше я ничего не стану говорить, чем буду нечестен с людьми. В этих шатокуа есть настоящий потенциал, а группа – это больше, чем любой индивид. Я надеюсь, что группа протянет еще долго и после того, как я отдам концы. «Кроме того,» – добавил он с улыбкой, – «кому-то же нужно следить за чистотой в туалетах.» На следующий день мы с Оги отправились в Кливленд с роузовым благословением и – ничем больше. У нас было немногим более кармана мелочи на двоих, никакого дохода и, разумеется, никакого расходного фонда от ТАТ. Мы переехали в местный «ашрам» – тесную запущенную квартиру в районе Малой Италии в Восточном Кливленде. Четыре члена местной ТАТ-группы уже жили там на площади, рассчитанной на двоих, но мы с Оги как-то влезли. Каждое утро мы шли в булочную Лопрести за двумя буханками итальянского хлеба, только что вынутого из печи, затем на мейфилдский рынок за куском масла и пакетом инжира. После завтрака мы шли на встречи, которые Оги назначил накануне, с: толкователями снов, астрологами, нумерологами, экстрасенсами, теософами, юнгианцами, хиромантами, медиумами. Я никогда не знал, чего ожидать. Оги был бесстрашен, самонадеян и чрезвычайно оптимистичен насчет Великой Работы ТАТ общества. Он излучал успех и уверенность, и почти все воспринимали его как своего рода нью-эйджевого чудо-парня. Незнакомцы приглашали его к себе домой, соглашались выступать на программе бесплатно, представляли его на собраниях своих групп, размещали объявления о шатокуа в своих бюллетенях и снабжали нас именами и рекомендациями для следующего дня работы. Это была магия и импульс – система Альбиген в действии, – и я вибрировал, участвуя в этом. Мы встречались и с искренними людьми, кое-что знавшими, и с шарлатанами, заявлявшими, что знают много больше, нежели то на самом деле было. Меня заинтриговали оккультисты, которые изучили избранную ими систему столь досконально, что ухитрялись как-то достигать определенных прозрений, если не мудрости, на базе относительно узкой области знаний. Я познакомился с медиумом, который поведал мне, что некогда я женюсь на моей школьной подруге, Девой по зодиаку, по имени Джен или Джейн. Гадалка таро посмотрела в карты и сообщила, что мне предстоит в течение года заниматься адвокатской практикой в Западной Вирджинии. Окуломант52 посмотрел в мои глаза и правильно угадал, какие кости у меня были сломаны. Все они рассматривали шатокуа как шанс выйти к людям, которые иначе не узнали бы об их существовании. Когда я был старостой питсбургской группы, то продвижение дзен-сообщества Пирамида было совершенно простым делом. Мы искали Истину, ясную и простую, а также – людей, отчаявшихся или пресытившихся достаточно для того, чтобы искать с нами всерьез. Организация шатокуа была совсем другое. Мы имели дело с намного более разношерстным кругом людей, у многих из которых были смешанные мотивы. Но Оги быстро адаптировался и стал весьма искусен в убеждении: жадных – что есть возможность заработать, тщеславных – что их ждет слава, и неформальных групп – что мы идем разными путями к одной цели. Раз в пару дней Оги звонил Роузу и в обтекаемых выражениях отчитывался об основных моментах происходящего. Если Оги больше говорил, чем слушал, то он отходил от телефона бодрый и возрожденный. Если разговор был долгим, при чем Оги больше слушал, то трубку он клал подавленный и угнетенный. Впрочем, за час – два он возвращался к своему обычному уровню самоуверенности, который граничил иногда с признанием собственной непогрешимости. Когда после такого звонка мы планировали наши следующие задачи, я поневоле сомневался: действуем ли мы согласно указаниям, полученным Оги из «штаба», или же его личным интуициям, которые он считал своей прерогативой как полевого командира. Каков бы ни был его подход, он менее, чем в три недели, назначил дату, арендовал зал и подобрал двенадцать докладчиков для программы. Мы выехали из Кливленда на ферму, испытывая гордость за то, что нам удалось сделать в столь короткий срок, но чем ближе мы подъезжали к Западной Вирджинии, тем напряженней становился Оги. «Я знаю, толковательница снов из книжного магазина жадна до денег, но я должен был вставить ее в программу, чтобы добраться до ее списка адресов. Кроме того, она не так уж плоха. Верно?» «Верно, Ог.» «И тот парень-заика из группы исследователей парапсихологии. Ты ведь всё разбираешь, что он говорит, не так ли?» «Если достаточно хорошо сосредоточиться, то в конце-концов можно понять, что он имеет в виду,» – заверил я его. «Ну да. Я хочу сказать, много ли можно найти докладчиков в таком месте как Кливленд, и особенно таких, кто будет говорить бесплатно?» «Расслабься. Мистер Роуз не ожидает, что это будет двенадцать апостолов.» «Не слишком-то будь уверен.» Мне легко было быть оптимистом. Не я сидел на горячем стуле и не мне надо было соответствовать стандартам Роуза. Я был просто сопровождающим, наслаждавшимся дорогой под ногами. У меня не было повода допустить, что наши мотивы не чисты, усилия – не усердны, а достижения – не достойны одобрения. Мы подъехали прямо к ферме, где Роуз заведовал возведением летнего павильона для шатокуа. Первое, что я заметил, когда мы заезжали на стоянку, была новая дорога, прорубленная в густой роще позади дома. Мы вышли из машины и направились по ней туда, откуда доносился громкий шум. По мере приближения, звуки возгласов, грузовиков, молотков и цепных пил становились всё громче и отчетливей. В конце новой дороги открылась картина большой активности – не менее пятнадцати людей были заняты различными строительными работами. На месте чащи и подлеска, где когда-то стояла моя палатка, там же расплющенная, теперь простиралась большая пустошь, в центре которой возвышался голый каркас огромного строения. Двадцать дубовых бревен не менее двух футов толщиной и высотой в два этажа были глубоко вкопаны в землю, а бревна в два раза тоньше и длиннее их связывали. Лари на старом грузовике подтаскивал из рощи новые деревья, Эл и парень, которого я не знал, распиливали по разметке бревна. Наверху каркаса, в двадцати футах над землей, на бревне сидел Роуз, свесив по его сторонам ноги, и следил за подъемом и установкой очередной балки. Я хотел было броситься на помощь, но вместо этого взял пример с Оги, который физического труда не любил. Он держался на расстоянии от работ и с довольством обозревал их как генерал, наблюдающий за своими вымуштрованными отрядами на поле битвы. Хотя Роуз знал о нашем присутствии, он продолжал руководить установкой столбов и балок, стоя на перекладинах, меняя местами крепежи, выкрикивая распоряжения и время от времени самостоятельно натягивая веревки так, что лицо его краснело от натуги. Почти шестидесятилетний, энергично работая бок о бок с молодыми, он словно молодел и выглядел равным или даже превосходил любого двадцатилетнего в бригаде. После установки последнего столба, Роуз спустился по лестнице и поприветствовал нас. Было обеденное время и мы пошли вместе с ним по дороге вниз к дому, сопровождаемые Чаком, бывшим на стройке прорабом. «Поразительно, что никого не убило,» – сказал Роуз улыбаясь, но серьезным тоном. Невзирая на прохладу пасмурного осеннего дня, он вспотел от работы. – «Кувалда вылетела у меня из рук и прокувыркалась посреди десяти человек, как будто ей кто-то управлял. Чудо, что она никого не зацепила.» «Мы были уверены, что он это сделал с целью продемонстрировать магическое искусство,» – сказал Чак. «Магическое, чёрт возьми,» – отозвался Роуз. – «Кувалда выскользнула из рук. А вчера лопнула верёвка, на которой висело двухтонное бревно...» «Через пять секунд как мистер Роуз предостерег нас от стояния под верёвками, потому что они могут порваться,» – перебил Чак, качая в изумлении головой, – «и два парня отошли изпод балки благодаря этому предупреждению, – хлоп! – веревка оборвалась.» «Веревки старые,» – вот всё, что ответил Роуз. Мы прошли за ним в дом, душно прогретый бурным огнем в дровяной печи. Роуз достал из холодильника колу и уселся в гостиной. «Ну, как наше шапито в Кливленде?» – спросил он, вскрывая банку и делая большой глоток. «Шапито в порядке,» – сказал Оги, принимая банку, протянутую ему Роузом. – «Такой коллекции гомиков и наркоманов вы ещё не видали. Мы прочесали город из конца в конец, и нам повезло, если нашлось пол-дюжины искренних людей.» «Так, выходит на шестерых меньше. Ты ведь говорил о двенадцати докладчиках, верно?» Оги беспокойно и даже слегка раздраженно взглянул на ребят, просачивавшихся в комнату послушать. Что бы он ни рассчитывал провернуть благодаря этому визиту, оно никак не становилось легче при слушателях. «Ещё бы. Мы нашли двенадцать,» – сказал он. – «И не слишком плохих. В сущности, некоторые весьма хороши. Среди них нет дьяволопоклонников или чего-то такого. Но трудно найти солидных докладчиков на несолидных основаниях.» «Оги, меня не волнует насколько они солидны. У нас тут не лабаз, где нам платят за фунт веса.» – Парни, образовавшие в комнате круг, засмеялись. – «Мне не нужно, чтобы ты понабрал двенадцать первых встречных, просто чтобы заполнить программу.» «Я не набирал двенадцать первых встречных,» – ответил Оги, – натужное спокойствие его голоса выдавало одновременно обиду и гнев. Я понимал его реакцию. Многажды ему приходилось отказывать потенциальным докладчикам, да ещё так, чтобы не обидеть их. Вместе с тем я понимал и Роуза: иногда, раззадоренный юмором или лестью, Оги делал комуто предложение, хотя до этого мы уже решили, что он нам не подходит. «Мы имеем дело с реальным миром, мистер Роуз. Там у каждого на уме своё. Просто я не думаю, что у нас получится найти совершенных людей, предлагая им то, на что мы уполномочены.» «Я знаю, чтО в мире, Оги. И не рассчитываю, что ты найдешь докладчиков из просветленных.» – Судя по тому, как ребята закивали головами, Роуз часто говорил об этом в наше отсутствие. «Многие из этих людей заинтересованы в деньгах,» – продолжал Роуз, – «и, собственно, я их не порицаю. Деньги – хотя и не самое важное, они поважней большинства других вещей. Если б это было не за деньги, я бы не мог делать то, что я делаю. Но, если у кого-то деньги – основная цель, с такими мы дел иметь не будем. Такие извратят всё, о чем говорят, лишь бы заполучить свой всесильный доллар. Я попросту не верю в кормушку при алтаре. Я знаю, что ты делаешь чертовски много работы, Оги. И не хочу, чтобы это было впустую. Но, говорят же: легче всего продать другому продавцу. И я думаю, что ты не видишь, сколь легко ты впадаешь в самообольщение, полагая, что получил что-то от кого-то, а на самом деле танцуешь под чужую дудку.» Оги рухнул в кресло и замолчал. Наверное потому, что это прямо ко мне не относилось, я видел здравый смысл в замечании Роуза. Всё время, пока Оги уламывал людей помочь нашей затее, я видел, как они зеркально ему соответствовали в своем стремлении угадать, что они могут с него поиметь. И хотя мы никогда этого не обсуждали, я понимал, что Оги знал, что они думают, и даже давал им поверить, что если они действительно прорвутся, то он, возможно, захочет поговорить насчет работы на них. «Некоторым может показаться, что всё, чем мы заняты, – это выставить каких-нибудь полоумных докладчиков для болтовни,» – продолжил Роуз, – «но на самом-то деле цель этого предприятия – наивысшая работа человека, и, следовательно, она притягивает наиболее коварные формы напастей. И не имеет значения, насколько ты, – как ты думаешь, – умён, – тебе постоянно приходится быть настороже насчет собственного самодовольства. А иначе ловушка захлопывается.» Оги выглядел задетым и смешавшимся, а Роуз продолжал. «Это начинается с головы и идет вниз. А уязвимы все. Чтобы удерживать нашу группу от скатывания к культу личности, я стараюсь не иметь личности. Возможно, у меня получается неважно,» – усмехнулся он. Зазвонил телефон и Роуз встал ответить. Он выслушал, буркнул несколько слов в ответ, записал какую-то информацию и положил трубку. «Грузовик, что везет доски с пилорамы, сломался,» – его слова произвели эффект призыва к оружию. Все вышли из комнаты на улицу, где Роуз распорядился насчет инструментов, буксировочного крюка и кому на какой машине ехать. Мы с Оги стояли во дворе, наблюдая как все кругом суетятся, совершенно забыв о нас – «людях, занятых наивысшей работой». «Похоже, мы зря проделали длинный путь,» – пробормотал Оги. Я не был согласен, но промолчал. Будучи пока что в стороне от линии огня Роуза, я всё ещё пребывал в блаженной вере, что мы должны получить то, ради чего приехали. Мы направились к нашему фургону. Нас нагнал Роуз, нёсший моток толстой веревки. «Проклятая рухлядь. На этот грузовик мы только поставили новую трансмиссию, и вот – уже он сдох. Наверно потребуется весь день, дотащить его сюда.» – Затем, как бы о чём-то вспомнив, Роуз прислонился к фургону и лицо его приобрело выражение покойной ясности и чуткости. «Ты, возможно, думаешь, что я безоснователен,» – сказал он мягко, – «ожидаю, что ты заполнишь программу святыми и непорочными. Поверь, я знаю, каково в мире. Последние тридцать лет я потратил на поиски человека, который мог бы впрячься в эту работу и действительно продвигаться в ней. Который мог бы сказать: “Да, это оно. То, что я хочу больше всего. Что мне нужно делать, чтобы выяснить, кто я поистине такой?”» Он снял верёвку с плеча и положил на капот фургона. – «Ну вот, такого человека я не нашел, а моложе я не делаюсь. В итоге, работа моей жизни сведется к тому, что я оставлю после себя. И лучше я ничего не оставлю, чем моя работа окажется искаженной каким-то шарлатаном или извращенцем, особенно из тех, кому я позволю выступать от имени группы.» Шум моторов призвал его к другой роли. Он взял верёвку, забрался на пассажирское место старого голубого грузовика и, махнув, уехал. Назавтра в Кливленде я успокоил себя тем, что положительные результаты в деле шатокуа загладят незначительные разногласия между Роузом и Оги. Но нет: напротив, успех, казалось, только выпятил то, что, как позже я понял, было существенным мировоззренческим различием между ними. В декабре на шатокуа в Кливленде прибыло сто двадцать пять человек. В феврале на мероприятие в Колумбусе собралось более двухсот. Для Оги большая толпа народу была доказательством, что мы нащупали верный формат, который можно перевозить и в другой город. Роуз предостерегал, что мы становимся ленивыми и самодовольными и просто ищем оправданий, чтобы делать всё по-старому. Для Оги больший доход означал больше возможностей и бОльшие бюджеты. Роуз же по-прежнему выжимал из нас каждый цент и делал нам выговоры за «расточительство» и «помпу» междугородних звонков и реклам в газетах. Оги жаловался на то, что его контролируют на каждом шагу, и начинал принимать всё больше решений под свою ответственность. Роуз вмешивался всё меньше и меньше, что доставляло облегчение Оги и озабоченность – мне. Я ведь знал, что Роуз был не того сорта, чтобы игнорировать проблемы долгое время, особенно те, которые связаны с Работой. Перед перерывом на летний шатокуа нам еще предстояло запустить программы в Арконе и Вашингтоне, и я надеялся, что мы пройдем через это без особых трений. Аркон стал ещё бОльшим успехом: прибывших оказалось больше чем, мы могли рассадить. Оги вёл программу, а я обеспечивал ход мероприятия. Я сновал туда и сюда, отдавая распоряжения, принимая решения и чувствуя себя важным, – пока в церковной кухне не врезался в Роуза, который руководил полудюжиной женщин, в дикой спешке старавшихся приготовить к полудню двести двадцать пять обедов. Я ощутил внезапный приступ вины изза вздувшегося эго, с которым носился, и испытал побуждение признать, объяснить, извиниться – что угодно, лишь бы дать ему почувствовать, что я не забыл, кто он и зачем мы здесь. Но Роуз меня опередил. «Кто следит за входом?» – рявкнул он. Не мешкая я выбрался из кухни и вернулся на свой пост. Напряжение спало в полдень, – программа шла гладко, роузово угощение было уже позади. Я слонялся вокруг книжного стола, где Роуз перешучивался с Тимом, нашим выдающимся книгопродавцем. На каждом шатокуа Тим умудрялся продать от сорока до пятидесяти экземпляров «Документов Альбигена» людям, которые вряд ли осилили и первую главу, если вообще открыли обложку. В этот день он уже продал книжку каждому, кто простоял достаточно, чтобы выслушать его, и теперь, не имея, что делать, он и Роуз расслаблялись в фойе. «Знаете, мистер Роуз, вы всегда слишком низко оцениваете себя,» – сказал громко Тим, все еще пребывая в возбужденном состоянии продавца. «Это потому, что я низкого роста,» – со смешком ответил Роуз. «Вы понимаете, о чём я,» – сказал Тим. – «У вас был духовный опыт Абсолюта, а вы вертите сандвичи на кухне, пока там какие-то психи проповедуют о летающих тарелках.» В течение нескольких минут Тим настаивал, что Роузу следует занять надлежащее место в центре внимания, а Роуз с юмором поддакивал ему. Присутствие старой леди, стоявшей в пределах слышимости тимовой лести, явно причиняло Роузу неудобство. Не имея возможности обуздать энтузиазм Тима, Роуз наконец повернулся к ней и пояснил, – «я запер его жену в багажнике моей машины, вот теперь ему и приходится говорить всё это.» Пожилая женщина вежливо улыбнулась и Роуз было двинулся по своим делам, но Тим, как оказалось, не закончил. «Мистер Роуз, вы знаете, кто вы такой?» – сказал он, драматически возвысив голос. – «Вы – Бог. Вот, кто вы. Вы – Бог.» Роуз улыбнулся и указал на женщину. – «Если я Бог, то она – Дева Мария.» Все засмеялись, кроме леди. Она заметно побледнела и быстро скрылась, спустившись по лестнице. «Ты бы пошел, узнал, что с ней,» – обратился ко мне Роуз. – «Возможно, мы её оскорбили.» Я сошел по лестнице и обнаружил её сидящей на диване и глотающей кофе из чашки в дрожащих руках. Я присел рядом и стал завязывать беседу. «О, не беспокойтесь обо мне, молодой человек, я в порядке. Просто тот... ну да, – тот человек наверху...» – она сделала глоток и продолжила. «Вы заметили, как тот высокий парень всё расписывал о другом человеке, какой он и удивительный, и умный, и святой?» Я кивнул, хотя не думаю, что она заметила. «Хорошо, это и вправду действовало мне на нервы. Я подумала: “Это что за культ такой?” И, наконец, когда он сказал пожилому человеку: “вы – Бог”, мне подумалось: “Ага, точно. Если этот парень Бог, то я – Дева Мария”. И эта мысль больше не мелькала у меня в голове, пока он не высказал её вслух теми же словами, что я подумала её!» Она положила руку мне запястье. – «Он всегда делает подобные вещи?» «Нет, не всегда. Но довольно часто, чтобы не дать нам расслабиться.» Она покачала головой и встала. «Ну и что же тогда он делает на кухне?» – с этим восклицанием она заспешила по лестнице к выходу. После шатокуа в Акроне Роуз посоветовал нам с Оги разделиться. Он послал Оги в Вашингтон устраивать следующее мероприятие, а мы вернулись в Западную Вирджинию помогать при подготовке к летнему шатокуа. Поскольку я был с Роузом дни напролет, то после отчетов Оги по телефону, как идут дела в Вашингтоне, под грозу попадал и я. Становилось ясно, что их разногласия и недостаточность контакта постепенно выводят Роуза из себя. Он начал говорить, что всё это предприятие «скользит по поверхности» – зловещее выражение, которым Роуз обозначал необратимое скатывание к посредственности и конечному провалу. И хотя его критицизм был направлен на Оги, само собой разумеется, перепадало и мне. «Оги всё время говорит, что хочет высветить меня,» – как-то сказал он. – «Но на самом деле чего он хочет, – так это высветить себя светом, который отразится от моей лысой головы.» И я знал, что он прав. Общение с Роузом в течение арконского шатокуа прояснило для меня то, что в сердце я и так знал. Оги и я мчались по пути огромного эго, а шатокуа был нашей машиной. Я давал себе зарок вернуть ситуацию в соответствие с видением Роуза, но когда я задумывался о путях и средствах для этого, то становился в тупик. В то время как критика Роуза была недвусмысленной, его решения, особенно в отношении частностей, были расплывчатыми, – возможно, намеренно. Несмотря на то, что он предвидел, что личные амбиции Оги в конечном счете создадут проблемы группе, наиболее частым недовольством, которое он выражал вслух, было то, что мы виснем на нём и никогда не думаем сами. Ничто из того, что мы делали, казалось, его не радовало, – правда, неделание ему не нравилось еще больше. Как было нам искать докладчиков, как доносить свою информацию с меньшими тратами, как распознавать искренних ищущих среди толпы, – это никогда не прояснялось. Очевидно, Роуз свою роль видел в указании на проблему, а нашу задачу – в её разрешении. Через несколько недель такого положения дел Роуз определенно почувствовал, что вашингтонский шатокуа закончится крахом. В качестве последнего средства он предложил мне поехать в Вашингтон и посмотреть, чем можно помочь. Я приехал в Вашинтгтон с новым взглядом на шатокуа и на мою роль в нем. С того самого дня, как я встретил Роуза, он всё время настраивал людей на действие, вдохновлял их делать, прилагать усилия к поиску и к трансформации самих себя в вектор. Шатокуа были моим первым шансом делать то, к чему Роуз всегда подталкивал, – использовать всякую минуту для Работы. Естественно, я ожидал некоторой автоматической «духовной пользы» от процесса, и, торопясь завладеть этой наградой, перепутал подъем эгоистического страстного чувства собственной важности с духовным прогрессом. Силы злосчастий, которые, как сказал Роуз, всегда работают в противовесе с подлинным духовным усилием, нашли в нас с Оги легких жертв. Нам скормили ровно столько успеха, сколько хватило, чтобы наши умы раздулись до того, что мы уже не могли и слышать того, кто поставил нас на путь. Прибегая то к топорному запугиванию, то к изощренной хирургии, Роуз смог наконец достучаться до меня, и у меня была надежда, что я смогу передать его посыл Оги до того, как станет слишком поздно. Но по прибытии в Вашингтон в течение одного – двух дней стало ясно, что Оги находится в другом мире и нет ничего, что я могу сделать или сказать, чтобы изменить это. Оги не замедлил поучить меня тому факту, что Вашингтон слишком велик и космполитичен для того непритязательного подхода, который сгодился нам в Пенсильвании или Огайо. Тут – высшая лига, сказал он. Я был вместе с ним, когда он занимался делами, и стало ясно, что – вследствие то ли неоправданно высокого мнения о себе, а то ли и трезвой оценки ситуации – Оги явно изменил свой стиль. Из жаждущего, искреннего и где-то наивного искателя из Западной Вирджинии Оги превратился в духовного политтехнолога со шлейфом побед за плечами. Главы групп, с которыми мы теперь встречались, были более утонченными, искушенными и циничными, и я подивился, сколь уверенно и без усилий Оги говорит их языком. Его звонки Роузу стали менее часты и более раздражительны и зачастую завершались без той дружеской ноты, которую обыкновенно Роуз задавал, чтобы напомнить, что каковы бы ни были наши расхождения, мы – вместе. В итоге лишь около восьмидесяти человек посетило наш шатокуа в Центре Духовной Жизни в Американском Университете, включая и того смирившегося, раздраженного человека из Западной Вирджинии, который пришел поработать на кухне и засвидетельствовать «фиаско», которое предрекал. Люди, приходившие на ранние шатокуа, были в основном дружелюбные дилетанты оккультизма, радовавшиеся возможности выбраться из дому и повстречать какие-нибудь родственные души. Публика же Вашингтона оказалась пресыщенной и в большинстве своем не впечатлилась «опять тем же самым» меню, представленным нами. Оги выдерживал лицо, старался повернуть ситуацию в лучшую сторону, но к концу первого дня по его фасаду побежала трещина, хотя он ещё питал последнюю надежду вырвать победу. На следующий день был назначен наш лучший докладчик, физик из штата Кент. Его притязания на славу в основном базировались на том, что, будучи профессором в Стендфорде, он испытывал психокинетические возможности Ури Геллера. «На него, – убежден, – эти люди отреагируют,» – сказал Оги. – «Он получил карт-бланш.» Однако, без нашего ведома, наша знаменитость согласился разделить сцену с эксцентрическим гипнотизером Андером П. Джобом. Внешне Джоб выглядел как дикарь со всклокоченной бородкой и длинными седоватыми волосами, разлетавшимися в стороны. Годы спустя, пересказывая эту историю, Роуз описывал его вид как «анархический», что было навеяно теми политическими карикатурами девятнадцатого века, где косматые люди в жилетках держат бомбы с зажженными фитилями. Пока физик говорил, Джоб принялся за топорную демонстрацию своих гипнотических способностей, бывших в лучшем случае посредственными. А дальше, доведя себя до дикого неистовства, внезапно выхватил пистолет. На глазах пребывавшей в шоке аудитории он трижды выстрелил в молодого человека на сцене, который громко вскрикнул и рухнул на пол. Роуз, стоявший в конце комнаты, качал головой, будучи одним из немногих, кто признал в произошедшем часть общей картины. Остальные впали в панику. Перепуганные мужчины и женщины кричали, падали на пол или бежали на четвереньках к выходу. То был полный провал. Оги был настолько расстроен, что дома буквально зарылся в постель и оставался так несколько дней, отказываясь видеть кого-либо или брать трубку. Когда же он наконец поднялся и принял звонок от Роуза, то моментально разгорелся спор, в результате которого Оги – в зависимости от того, кто потом рассказывал об этом: он или Роуз – то ли сложил с себя обязанности, то ли был вышвырнут из группы. 12 ПЕРЕДАЧА Примерно через неделю после вашингтонского шатокуа я сидел на кухне у Роуза в Бенвуде и выслушивал бесконечную вереницу нарушений, которые привели Оги к уходу. Некоторые из претензий Роуза казались пустяковыми, вроде того, что в Вашингтоне Оги людям с фермы давал спать на полу, а сам спал на кровати, но прочие были посущественней и обсуждению уже не подлежали. Пока Роуз всё сыпал и сыпал неопределенными фразами, я задавался вопросом, насколько всё это предназначается и мне тоже. Роуз имел обыкновение устраивать разборки, используя третье лицо в качестве примера для разбираемых провинностей. «Хорошо, а что нам делать теперь?» – спросил я, жаждая переменить тему. «Продолжать движение – вот, что нам делать,» – отвечал он сердито. – «В группе незаменимых нет. Это была одна из проблем Оги: он думал, мы без него не проживём.» Это вызвало очередные десять минут болезненных эпизодов, связанных с Оги, после чего я вновь попытался его отвлечь. – «Какое же у нас теперь направление, мистер Роуз??» «Не знаю, какое направление у шатокуа,» – отвечал он, ставя чайник, – «но у тебя направление на твою адвокатскую практику.» Я остолбенел. Если я и был в чём-то уверен после года работы с Оги, так это в том, что ощущение этого пути под ногами было для меня важнее всего, что мог бы мне предложить земной мир, включая и карьеру адвоката. «Но я хочу остаться в этом проекте, мистер Роуз. Я думаю, что смогу...» Его глаза сверкнули. – «Я не собираюсь жертвовать будущим этой группы, только чтобы ты мог продолжать возводить своё эго. Ты уже поразвлекался, а теперь пора за работу.» Я был так поражен резкостью его слов, что мне понадобилось какое-то время на их переваривание. Но дальше тон его изменился. «Смотри,» – сказал он мягко, – «я не люблю вмешиваться в судьбы людей. Ты потратил годы на то, чтобы стать адвокатом. Я не собираюсь препятствовать тому, к чему ты предназначен. Может быть, у тебя ещё будет время помогать с шатокуа, а может нет. Но что важно, так это то, что ты не станешь использовать группу как предлог, чтобы воздерживаться от следующего шага.» «Уже месяцы, как у меня и мысли не было об адвокатуре. Как начинать, где...» «Начни прямо здесь. В Уиллинге полно проходимцев – есть, где развернуться. Живи наверху, если захочешь. Гари завтра переезжает, так что есть свободная постель.» Моя голова всё ещё кружилась от внезапного оборота, который принял разговор. – «Мистер Роуз, я...» «Обдумай это,» – сказал он, усмехаясь на мой ошеломленный вид. – «Каждому иногда приходится расти.» Спустя неделю, всё ещё полный сомнений и колебаний, я переехал в дом Роуза в Бенвуде. Население его было текучим и непостоянным. Люди приезжали возбужденными и воодушевленными, потом нарастала их усталость, запутанность или злость и они уезжали. Бывало, что там жило всего лишь несколько человек, но во время моего переезда туда, он был полон. Я поселился в комнате, где жили Ол, Дэн, Фрэнк и иногда сын Роуза, Джеймс. Линда и Джен, жены Дэна и Фрэнка, занимали среднюю комнату наверху, Кэрри и Бренда, две одинокие женщины, – спальню, наиболее удаленную от мужчин. Внизу в наименьшей комнатке ютился мистер Роуз, а его дочь Кати со своей двухлетней дочкой недавно заняла еще одну. В атмосфере дома отражался дух его хозяина – странное смешение чудесного и будничного, где чтение мыслей было столь же обыкновенно как и выговор за консервную банку, брошенную в сжигаемый мусор, или за свет, забытый тем, кто ушёл спать последним. Некоторые из правил, вроде строгого расписания для пользования ванной поутру и равного распределения места на полке, были бы необходимы во всяком доме, где множество посторонних вынуждены жить в тесноте. Другие же были вызваны к жизни нашими особыми обстоятельствами, заключавшимися в том, что мужчины и женщины приглашались сообща работать ради высшей цели, – до тех пор, пока её не перебьет какая-то другая. Роуз был чрезвычайно насторожен насчет коварства человеческого сексуального механизма и блюстил строгие порядки даже в тех моментах, которые никто не счёл бы заводящими. К примеру, его правила насчет утилизации гигиенических прокладок, читались – по выражению Эла – как федеральная инструкция по захоронению ядерных отходов. Кары за нарушение порядка ранжировались от саркастического замечания до дней или даже недель безжалостной конфронтации. Это не было приятным, но так и должно было быть. Подразумевалось, что все мы избрали жизнь с Роузом для ускорения нашего прогресса на духовном пути – чтобы «Познать Себя». Роузов же способ помощи нам в этом преимущественно состоял в конфронтации с нами по поводу наших слабостей, – конфронтации настолько сильной, какую только мы могли выдержать, и даже сильнее. Под такого рода давлением мое поведение, да и всех остальных, стало в какой-то степени шизофреничным. Моё духовное я хотело, чтобы он получше узнал меня и смог мне сказать, чем блокируется моё продвижение по пути к просветлению. А моё эго уклонялось от любой критики и пыталось скрыть мои пороки иллюзиями и подменами. Но как бы в насмешку, это ему не удавалось: сколько бы масок ты ни надевал или как бы ни ухищрялся, рядом с Роузом ты чувствовал себя совершенно прозрачным. Казалось, он с играющей легкостью всё видит насквозь. Кухня была центром дома. Зимой это было единственное отапливаемое помещение, и независимо от сезона оно использовалась как гостиная, столовая, офис, комната для занятий и, естественно, – как кухня. Для тех из нас, кто жил в доме, она была магическим местом общения, утешения, смятения, боли. Замечательное место посидеть или поразмышлять ни о чём, но трудновыносимое, когда идти было больше некуда. Утра были исполнены непредсказуемости. Примерно в течение часа по пробуждении ум Роуза, казалось, подвисал между миром сна, к которому он относился весьма серьёзно и миром бодрствования. Кухня вибрировала от потустороннего напряжения. Женщины, похоже, были к нему особенно восприимчивы, – я заметил, что они обычно стремились выйти из дому на работу как можно скорее. Когда одна из них, говоря с Роузом, засиживалась слишком долго, она непременно оказывалась утратившей равновесие, разозлённой или близкой к слезам. У вечеров был несколько иной колорит. Люди после работы заходили или украдкой, или с деланной бодростью, – выигрывая время, пока не вспомнят, где оставили то духовное лицо, которое пытались носить перед Роузом. Проведя день самим собой, каждый знал, что сейчас его эго ближе к поверхности и более узявимо. Для неподатливых себялюбцев Роуз варьировал свою тактику и кто-то, чаще всего из мужчин, получал тычок на ночь. Дэн, вероятно, был наибольшей мишенью. Он никогда не выходил из своей роли крутого парня, будь-то дневной террор трех бригад по монтажу напольных покрытий, состоявших из нетрезвых сельчан, или вечерние старания добыть кусочек духовной премудрости. Он, как Роуз, мог быть суров, требователен, упорен. Но в отличие от Роуза, у него, кажется, не было иных граней. Дэн тяжело трудился, больше всех зарабатывал и обыкновенно позже всех приходил домой. Как-то вечером мы сидели за столом и смотрели новости, когда он появился и, буркнув «привет», немедля прошел в коридор к телефону. Роуз одним ухом слушал телевизор, а другим – Дэна, который занял телефон на пол-часа, сначала пререкаясь с владельцем коврового магазина насчет каких-то денег, по его мнению ему причитавшихся, а затем договариваясь с женой забрать ее после работы и поехать в кино. Когда Дэн вернулся на кухню, новости окончились. Он достал из холодильника филейную отбивную и бросил на чугунную сковороду. Когда мясо было готово, он сел за стол, отрезал большой кусок и посмотрел на Роуза. «Мистер Роуз,» – сказал он, отправляя мясо в рот, – «у меня появился вопрос насчет просветления.» Роуз, мывший руки над рукомойником, не обернулся. – «Насчет какого просветления толкуешь? О дешевом продукте или о ценной замазке? 53» «Вы знаете, о чём я. Я кое-что читал вчера о пустоте.» «О пустоте? Ты опять читал эту порнографию,» – он улыбался, но в его голосе чувствовалось неудовольствие. Дэн поднял жующую голову на Роуза. – «Вы не принимаете меня всерьёз.» «Это потому, что ты не принимаешь меня всерьёз,» – улыбка Роуза исчезла. Он отвернулся от рукомойника и, не вытирая рук, подошел к Дэну. – «Ты вступаешь сюда как пуп земли. У тебя все спланировано. Споришь насчет денег, подбираешь денек со своей женой, жаришь большую отбивную. Ты – важная персона. И теперь пуп земли хочет небольшого разговорчика о просветлении в дополнение к мясу, вроде резанного лука. Забудь об этом! Если хочешь, чтобы тебя развлекали, пока ты ешь, пойди в навороченный ресторан и найми поющего официанта. Если же хочешь поговорить со мной о просветлении, докажи это, переменив свою жизнь. Покажи мне, что ты серьезен в отношении чего-то еще кроме денег, секса и жратвы. Вот тогда поговорим!» Я полагаю, что жить с ним – это было весьма в стиле «дзен». Он всех нас держал в напряжении. Ты никогда не знал, какому эго или склонности попустительствуешь, пока он перед всеми не указывал на неё. Чаще всего это были незначительные слабости, в которых Роуз распознавал признаки бОльших проблем. Одна женщина оттирала от буфета любого, потому что она, – сказал он – «думает, что она главная курица в курятнике». Другая оставляла дверь в спальню распахнутой, выставляя на всеобщее обозрение своё наброшенное на стул белье, «в надежде, что кто-то из козлят в дальней комнате словит намек.» Эл никогда не мыл свой столовый прибор, потому что «уверен, что он накоротке с Богом, а Бог не позволит одному из лучших своих друзей получить отравление.» Я несколько раз оставлял дом незапертым, потому что я «всё ещё дитё, думающее, что мамочка будет ходить за ним и обо всем заботиться.» Но стоило поймать себя на сомнениях, зачем ты тут и что здесь делаешь, как ты получал проблеск того таинственного нечто, что пребывает за человеком и личностью, – нечто, что делает всё прочее в твоей жизни просто нелепым сном. Как-то в субботу мы большой группой собрались возле огромного обветшалого строения, недавно купленном ТАТ-сообществом для различных групповых мероприятий. Одна из несущих стен была близка к обрушению и мы бросили воззвание группам в Питсбурге и Огайо о помощи живой силой в ремонте. Реакция была впечатляющей: явилось двадцать ребят. Но шел проливной дождь и нам оставалось сидеть, пережидая его. В полдень мы включили новости и метеоролог известил, что устойчивый дождь продолжится все выходные. «Раз такие дела, думаю, мне просто придется остановить дождь,» – сказал Роуз. Все рассмеялись, но Роуз только приподнял брови, как человек, обладающий секретом. За считанные минуты небо расчистилось. Работая зверски, мы отстроили стену в рекордное время. А затем, пока мы складывали инструменты в грузовик, дождь возобновился и не ослабевал два дня. Через несколько дней, когда мы сидели вдвоем на кухне, я спросил Роуза об этом. На мгновение он задумался, как бы решая, как много мне следует сказать. «Человеку позволительно употреблять магию в той степени,» – сказал он, – «в какой он делает это непреднамеренно.» Я, должно быть, выглядел поставленным в тупик его объяснением, потому что он взорвался смехом. «Не пытайся об этом думать,» – сказал он. – «Не то спалишь предохранители. Либо ты это знаешь само собой, интуитивно, единым касанием, либо у тебя нет к этому ключа. Тут нет места для мыслей или частичного понимания. Это можно знать, но понимать – никогда.» Несмотря на то, что я жил с Роузом в одном доме, у меня редко выпадал шанс поговорить с ним наедине. По этой причине я весьма дорожил случаями, когда мы вместе ехали. На дороге, вдали от переполненной, вздорной кухни, я неизменно чувствовал, будто открываю Роуза впервые. Такие возможности появлялись в основном в связи с шатокуа. Я унаследовал должность «Координатора Программы», но это было звание без содержания. После опыта с Оги, Роуз забрал все задачи, кроме уж самых приземленных, в свои руки. Он сказал, что в любом случае мне следует сосредоточиться на моей карьере, поэтому я потратил летние месяцы 1977 года, готовясь к тесту на профпригодность в Западной Вирджинии, подыскивая место для моей адвокатской практики и подключаясь к Роузу по работе с шатокуа, когда он мне это позволял. Ближе к концу августа мы предприняли поездку в Стьюбенвиль в Огайо, депрессивный фабричный городок в тридцати милях выше по реке от депрессивного фабричного Бенвуда, в котором мы жили. У Роуза была назначена встреча с человеком, который предположительно знал множество целителей, что являлось темой нашего очередного шатокуа. У меня накопился длинный список тем, которые мне хотелось обговорить с Роузом в течение езды: я не имел идеи, как и где начать адвокатскую практику, шатокуа, на мой взгляд, шли под уклон, кроме того, я чувствовал, что прогрессирую крайне незначительно в долгом и тяжком деле преодоления своего увесистого эго. Но через несколько миль пути важность всего этого как бы обесцветилась. Было просто плавное скольжение по пустому шоссе с Роузом. Вечернее солнце превратило Огайо в искрящееся золото. Мои беспокойства растаяли. Некоторое время мы ехали в молчании. Первым заговорил Роуз. «Знаешь,» – сказал он, глядя сквозь окно на воду, – «в старину целительство было распространено сильнее, потому что оно применялось с прагматической целью. Во времена Христа не было газет. И получить известность можно было только через устное слово. Поэтому требовались чудеса. Если ты исцелял кого-то от проказы, ты получал рекламу.» «Вы полагаете, Христос в самом деле совершил все те чудеса?» «Если он действительно был сын Бога, иными словами, если он действительно превзошел иллюзию, то – да: всё что угодно возможно. Посетив однажды Реальность, ты узнаешь, что чудеса – ничего более, как подновление этой выдумки, которую мы принимаем за реальную жизнь.» «Нужно ли быть просветленным, чтобы делать то, что предположительно делал Христос?» «Необязательно. Некоторые владеют способом удержания того состояния беззаботности, в котором возможно творчество. Так или иначе они оказываются удовлетворяющими условию высшего безразличия, а в нём то, о чём грезишь, – ты это волишь, – а потом ты об этом забываешь.» «Но должны же быть ограничения,» – сказал я. – «Ведь вы никогда не читали ни о чём в самом деле грандиозном.» Роуз помолчал, словно раздумывая как бы выстроить слова так, чтобы понял даже я. «Если человек овладел этим рецептом,» – заговорил он, наконец, – «может измениться что угодно, даже будущее. Благодаря решимости человек может открыть, как совершенно переменить свою судьбу. Есть мысли, – которые ведь не твои, а приходят откуда-то, – и есть промежутки между ними. Когда ты попадаешь в такой промежуток между мыслями, у тебя есть возможность полностью переиначить свою жизнь. Сейчас это может звучать для тебя невероятно, но постарайся не дать твоему неведению встать на пути понимания. Только что я рассказал тебе нечто бесценное.» «Мне кажется, я понимаю о чём вы,» – произнес я неуверенно. «Нет, у тебя нет ключа,» – улыбнулся он. – «Но это естественно. Если бы ты понимал, не было б нужды говорить.» Какое-то время он молчал, как бы давая мне осознать, как мало я знаю. Странно, но мой ум был почти совсем пуст. Я едва помнил, о чём мы говорили. Когда он заговорил снова, я вздрогнул. «Рецепт этого – промежуточность. Не нужно быть просветленным, чтобы практиковать её. Промежуточность – это способность предвосхищать то, что собирается произойти в измерении Проявляющегося Ума. Ты можешь делать почти всё, что угодно, при условии, что твоя воля согласуется с волей Проявляющегося Ума. На самом деле, можно сказать, что когда ты в состоянии между-, твоя воля становится волей Проявляющегося Ума. Так вот изменяют судьбы. Но в практическом аспекте, ты прав. Для всех, за исключением наисильнейших существ, есть ограничения. Ты видишь, что ни один из этих целителей не может, к примеру, прирастить ногу обратно. Это потому, что они оперируют на объеме «веры», а у слишком многих этой веры нет, слишком многие убеждены, что это невозможно. Для передвижения гор требуются согласные, подвижные горы. Это как в библии, где говорится, что Христос не сделал многих чудес в родном городе. Это потому, что он подключался к убежденности и вере людей. Люди, видевшие Христа впервые, были более открыты возможностям и Христос мог задействовать их энергию и уверенность, чтобы совершать чудеса. Но в родном городе его помнили просто как ребенка, общинного плотника, и у него не оказалось достаточно личной силы, преодолеть их неверие. Даже когда для какого-то деяния условия благоприятны, – например, для избавления от болезни, – ты можешь решить этого не делать. Ведь иногда в исцелении нет блага. Как правило, что-то в человека втравилось по полной или его образ жизни вовлек его в проблемы, и вот это-то должно быть изменено. Я не сторонник латания колес. Я сторонник уборки гвоздей с дороги.» Я ехал непривычно медленно, отчасти потому, что Роуз настоял, чтобы у нас было два часа на дорогу, на которую хватило бы и сорока минут, но больше потому, что хотел продлить каждый миг умиротворения. Ведь, в конце-концов, этот же человек устроил утром скандал из-за того, что я оставил приоткрытым кран на кухне. Полученные указания привели нас скромному, чистенькому кирпичному дому в тихом пригороде. Когда мы вышли из машины, я вспомнил, что мы не обсудили стратегию. «У вас есть определенный подход к этому человеку?» – спросил я, помятуя о роузовой критике, что всегда «действую, не подумавши как следует». «Просто будь другом,» – ответил он. Я проследовал за Роузом вкруг дома и стоял позади него, пока он стучал в дверь. Открыл высокий мужчина одного с Роузом возраста. «Слим. Зовите меня просто Слим,» – сказал он, пока мы пожимали руки. Жестом он пригласил нас следовать за ним в цокольный этаж. В просторном полуподвале мы прошли мимо различных новеньких механизмов и сели в маленьком отсеке, служившем офисом станочного магазина, который содержал хозяин дома. Слим был из тех, кто нравится сходу. Через несколько минут они с Роузом хохотали и шутили точно старые приятели. Это был абсолютный контраст с тем, что было год назад, когда мы с Оги воспринимали каждый контакт как вызов, а каждого добытого докладчика – как завоевание. Прошёл целый час, пока два ветерана оккультизма обменивались историями о целителях и исцелениях. Роуз сказал, что существуют два метода лечения: при одном используется совокупная энергия всех присутствующих, а в другом задействован «путь уверенности», который не истощает ни целителя, ни аудиторию. Слим задумчиво кивнул. «Да, в этом есть смысл,» – откликнулся он, – «иначе, как бы Амброз Уоррелс мог исцелять людей, будучи далеко за восемьдесят?» Я уже стал беспокоиться, когда же Роуз заговорит о цели нашего визита, заключавшейся в том, чтобы для следующего шатокуа заполучить обширные целительские связи Слима. Казалось, Роуза абсолютно не волнуют ни дело, ни время, и он начал ещё одну историю, на этот раз про известного целителя верой, чьи помощники коварно выбивали костыли из-под тех, над кем уже «зависла, готовая их сразить, десница Господня». Слим перебил. – «А знаете,» – сказал он Роузу, приятно растягивая слова, – «вы меня лечите.» «Да?» – не выказал особого удивления Роуз. «Да, правда,» – сказал Слим, широко улыбаясь, – «у меня тяжёлый случай эмфиземы, она тянется уже годы. Но пока мы с вами говорили, у меня в груди прочистилось и, поверьте, я снова чувствую себя совершеннейшим ребенком.» «Ну, если я это и сделал, то ненамеренно,» – заметил Роуз и затем закончил начатую историю. Часом позже мы возвращались в темноте домой. Яркие цветные огни электростанций плясали на черной Огайо, вдоль которой мы катили в Бенвуд. Роуз выглядел усталым или чем-то озабоченным, или то и другое одновременно, и мы в основном ехали молча. Мне хотелось, чтобы он поговорил о случае со Слимом, но он явно думал о чём-то другом. Наконец, я поднял эту тему сам. «Мистер Роуз, вы пытались вылечить Слима там, в подвале?» «Нет, чёрт возьми. Я даже не знал, что лечу его.» «Что же тогда произошло?» «Трудно сказать, на самом деле. Его офис так захламлён, что не так много было места, где сесть. Ты сидел в стороне от нас, а я и Слим – как раз друг против друга, наши колени почти соприкасались. Я не хотел на него таращиться в такой непосредственной близи, так что предпочел смотреть на пуговицу на его рубашке. Он сказал, что-то случилось у него в груди, – вот всё, что мне известно.» Тем же вечером на кухне я передал историю со Слимом остальным. Там было только несколько наших – мистер Роуз, Фрэнк и Джеф, гость из кливлендской группы, собиравшийся остаться на ночь. Когда я закончил, остальные посмотрели на Роуза. «Я не знал, что лечу его,» – сказал Роуз. – «Но в промежуточности есть необыкновенная сила. И когда обстоятельства позволяют, что-то происходит.» «Как в тот раз с Джейн, мистер Роуз?» – спросил Фрэнк. «Пожалуй, да, – так же. Хотя её опыт был совершенно другого уровня. В том случае я, по сути, был внутри её головы.» У Джефа был озадаченный вид. – «Внутри головы?» Роуз начал было объяснять, но, очевидно, решил начать с начала. «Джейн – это женщина, появившаяся тут с мужем несколько лет назад, хотя, собственно, я не понимал, зачем. У неё не просто не было интереса к тому, чем мы занимаемся, – она этому была откровенно враждебна. Единственное, что её заботило – это поскорее вытащить мужа из группы.» «Её муж был моим другом из питсбургской группы,» – пояснил Фрэнк Джефу. – «В те выходные мы решили привезти наших жен познакомиться с мистером Роузом.» «Ну да, я сделал с ними обычный обзор,» – сказал Роуз. – «Взял их посмотреть ферму. Джейн была очень неприветлива со мной, даже невежлива. Однако на обратном пути случилась забавная вещь. Мы ехали в их пикапе. Она сидела посередине, а я рядом с краю. Пикап был довольно узкий и мы сидели тесно. Всю дорогу я чувствовал, что между нами как бы протекает электрический ток. У меня стало горячо в животе прямо под пупком и это было неприятно. Но я не слишком об этом думал. Просто решил, что, наверно, это напряжение изза неловкой ситуации. Позже мне стала ясна разница.» Фрэнк подхватил рассказ. – «Мы все вернулись в Бенвуд и тем вечером мистер Роуз решил провести сидение в резонансе в средней комнате. Нас было, думаю, шестеро или семеро, молча сидевших в круге...» «Но Джейн с нами не села,» – перебил Роуз. – «Она не хотела быть с нами. Она осталась тут, на кухне, и пока мы сидели, я слышал, как она варит кофе и стучит сахарницей.» «Энергия в комнате поднялась очень сильно,» – сказал Фрэнк. – «Очень сильно и...» «Я вижу её, когда она достаточно сильна,» – сказал Роуз. – «И в тот вечер она была для меня видимой.» «Видите её?» – переспросил Джеф. «О, да. Обычно она выглядит как смутная человекоподобная фигура, горизонтально плавающая в комнате у людей над головами. И я то ли предвижу, куда она направится, то ли направляю её, – не знаю, что именно правда.» «Он приблизилась ко мне,» – сказал Фрэнк. Роуз кивнул. – «Она ударила в Фрэнка и...» «Я никогда ничего подобного не испытывал. Меня словно стало куда-то забирать. Это меня испугало, но я также...» «У него были вот такие глаза,» – фыркнул Роуз, делая большие круги вокруг глаз. «Мистер Роуз кивнул мне...» «Просто чтобы дать ему понять, что всё идет как надо.» «И тут вошла Джейн и перехватила её.» – Фрэнк медленно покачал головой. Роуз рассмеялся. – «Всякий раз так. Женщина стащит мужскую энергию не так, так эдак. Вероятно, у Фрэнка был единственный шанс на Опыт и...» «Непонятно,» – сказал Джеф. «Женщины более чувствительны,» – пояснил Роуз. – «Вот поэтому я обычно разделяю мужчин и женщин для сидения в резонансе. Если рядом есть энергия, в большинстве случаев она пойдет к женщине.» «Нет, я имею в виду, как это случилось?» Роуз продолжал. – «Джейн вошла в дверь гостиной как раз, когда Фрэнк был на грани входа во что-то. Я посмотрел на нее и сказал: “вижу, ты лазила в сахарницу,” – ничего не имея ввиду – просто, чтобы что-то сказать. Но как только я это произнес, энергия оставила Фрэнка и пошла к ней. Бах. Она падает. Рухнула на пол как подкошенная и тут же начинает рыдать. Она вошла в опыт прямо там. Я знал, что с ней происходит, потому что наши умы сомкнулись. Я придвинул кресло к ней и сказал: “ты знаешь, что происходит, не так ли? Я – в твоей голове.” Она отвечает: “знаю. Вы весь день там.”» – Роуз подался вперед. – «Это то электричество, что я чувствовал в пикапе. Она тоже почувствовала. Что-то уже тогда начиналось.» «Что же с ней произошло, мистер Роуз?» – спросил Джеф. «У нее было то, что я называю «опыт горы». Это то, откуда мир видится как иллюзия. Ты приобретаешь такую осознанность, которая превозмогает это измерение, и реальность этого мира попросту растворяется. Она смотрела на мужа, не отрываясь, и, протягивая к нему руки, говорила: “Тебя там нет. Я знаю, что вижу тебя, но тебя там нет.” Она проплакала на полу два часа кряду.» – Роуз показал большой круг из рук. – «Оставила вот такую лужу соплей на ковре. Я не шучу, нет. Мы потом извели целый рулон бумажных полотенец.» «Вы испытывали всё это вместе с ней, – в её уме?» – спросил Джеф. «Происходившее с ней было моим Опытом,» – просто ответил Роуз. – «Наши умы были одно. Мои мысли были её мыслями, её мысли – моими мыслями. Поскольку мой ум укоренен глубже, он доминирует. Вот так и случается передача. Пока наши головы были соединены, я вошел в состояние своего Опыта, и она пошла за мной так далеко, как могла. Я пытался взять её дальше, но она не смогла. Она видела мир как тень, но она так и не увидела, что реально. Через два часа я понял, что на большее её не хватит, и тогда я просто отвернул свою голову – внутреннюю голову, разумеется, – и она вышла оттуда.» «Какой она была после этого?» «Экстатичной, буквально сияющей. Лучащейся. Она повсюду ходила за мной, благодарила снова и снова, и спрашивала, что она может сделать, чтобы воздать мне. Я ей сказал: “ты воздаёшь за это, способствуя этому у кого-то ещё.” Она отвечала: “о, я буду, буду.”» «И что же?» «Я ничего не слышал о ней целый год – ровно год, как оказалось. Поздно вечером, в дождь, в дверь постучали, открываю – она. У нас был долгий разговор. Она была в скверном состоянии. Сказала, что не может работать. Разошлась с мужем. Сказала, что тратит почти все силы на то, чтобы вытолкнуть тот опыт из своей жизни и снова стать обычным человеком. Последнее, что я слышал, что она где-то в Техасе.» Фрэнк схватился за голову. – «Избавиться от этого. Просто непостижимо.» Роуз пожал плечами. – «Она не была готова к этому, вот и всё,» – сказал он. – «Не проделала заранее никакой необходимой работы. Таков странный парадокс. С одной стороны, это правда, что духовная работа и обучение бесполезны, потому что мы все – просто роботы, действующие согласно нашим программам, и, в действительности, ничего не можем делать сами по себе. К тому же, ничего такого и нет, что было бы нужно сделать, – кроме как пробудиться к тому факту, что мы работы. Но также верно и то, что человек должен делать колоссальные духовные усилия, чтобы иметь какую-то надежду стать чем-то бОльшим, открыть собственное Истинное Я. Потому что переживание Реальности, Истины – это чрезвычайный шок. Чтобы с ним справиться или хотя бы выжить после него, вам следует себя подготовить. Вам нужно иметь прививку этого измерения.» 13 ГРАЖДАНИН РОУЗ Спустя несколько месяцев после моего переселения к Роузу, я получил письмо, приветствовавшее меня в коллегии адвокатов Западной Вирджинии. Я решил, что офис лучше открыть в Маундсвиле – административном центре округа Маршалл, где жил Роуз, – чем в более крупном Уиллинге, расположенном несколько выше по реке. Я снял небольшое помещение с выходом на улицу, который от администрации округа отделяли лишь несколько подъездов, и принялся мотаться по городу, стараясь разрекламировать своё имя. Моим первым контактом с местной коллегией была этическая беседа, полагавшаяся для всех новых членов. Адвокаты, с которыми я познакомился на коллегиальном экзамене, сказали, что это сущая формальность и что их собственные беседы состояли не из чего большего, как рукопожатия и теплого приветствия. Моя беседа оказалась иной. Меня ввели в офис претенциозного, известного в Маундсвиле юриста, чей первый же вопрос был об имени, видневшемся в моём обращении к коллегии. «Вижу, что у вас в качестве поручителя Ричард Роуз,» – сказал он, перелистывая мои документы словно приговор преступнику. «Да. Вы его знаете?» – улыбнулся я, радуясь, что у нас есть что-то общее. «Ричарда Роуза знают все,» – сказал он с убийственным взглядом поверх полуочков для чтения. – «Устраивайтесь поудобнее, мистер Голд. У меня есть несколько вопросов по вашему обращению.» Тем вечером я поведал Роузу, как меня допрашивали больше часа после того, как интервьюер увидел среди поручителей его имя. Роуз спросил, кто этот юрист. «Ах, тот парень,» – сказал он. – «Он до сих пор злится на меня из-за дела с гольфовым полем.» Роуз рассказал, что несколькими годами ранее представители округа проголосовали за конфискацию тысячи акров сельских угодьев, включая и ферму Роуза, чтобы превратить их в поле для гольфа. Роуз немедленно организовал фермеров по соседству, чтобы оспорить конфискацию, и они успешно её провалили. Адвокат, проводивший со мной беседу, тогда представлял комиссию округа. «Помню, как я выступал на открытых слушаниях,» – усмехнулся Роуз, – «и хорошенько расшевелил народ. Всё пошло не так, как хотелось комиссии. Фермеры стали выкрикивать, что они наймут адвокатов и будут бороться до конца. Тут этот болван, с которым ты сегодня разговаривал, как завопит им: “вам не нужны адвокаты. У вас уже есть Ричард Роуз, который произносит речи за вас!” – и смотрит на меня как на жука, которого следует раздавить.» Это было не лучшим вариантом открытия карьеры, но не мог же я рассчитывать, понравиться-таки всем. Род, поверенный, у которого я арендовал офис, обещал на следующий день представить меня в городе, и я утешал себя тем, что завтра будет получше. Наутро по пути к администрации Род рассказал, что в округе Маршалл есть два судьи и между ними столь сильная взаимная неприязнь, что они избегают упоминать даже имя своего оппонента и адресуют друг друга как «первая сторона» и «вторая сторона». «С Первой Стороной я не очень поладил,» – признал Род, – «но со Второй Стороной, которого ты посетишь вначале, мы сошлись неплохо.» Подбадривающе мне подмигнув, он исчез за дверью, на которой значилось: «Судебная Палата – Сторона II». Из-за двери послышался приглушенный голос Рода, и затем последовал громкий ответ судьи: «Голд! Какого чёрта ты пустил к себе кого-то вроде него? Я уже о нём слышал. Он ученик того шалого типа из Бенвуда, Ричарда Роуза.» Тут Род ещё что-то сказал, чего я не расслышал, и через несколько секунд он выглянул из судейского кабинета. «Всё в порядке,» – с широкой улыбкой сказал он, придерживая для меня дверь. С нехорошими предчувствиями я прошел в неопрятный кабинет, где тучный человек с мясистым лицом бесцветно смотрел на меня из-за большого вычурного стола. Я было двинул рукой для пожатия, но стало ясно, что он не ответит, и я отказался от этой мысли. «Добро пожаловать в коллегию округа Маршалл,» – вот всё, что он произнес. Затем повернулся в кресле и уставился в окно у него за спиной. Знакомство состоялось. Когда мы вышли, Род указал на дверь в противоположном конце коридора. «Там кабинет Первой Стороны,» – сказал он, направляясь к лифту. – «Я с ним не близок, так что там тоже может не заладиться. Тебе придется самому.» Я постоял какое-то время, уставившись на дверь Первой Стороны, но решил, что одного судьи в день достаточно. Подарив себе отсрочку, я вернулся в Бенвуд пообедать. Когда я поднимался по ступеням к дому, то услышал шуршание в яблоне, нависавшей над узкой дорожкой у южной стороны дома. На ее самых верхних ветках стоял Роуз, срывая яблоки и складывая их аккуратно в пристроенное между ветвей старое черное ведро. «Сегодня тебя выгнали из города пораньше?» – спросил он, бросая мне яблоко. «Я познакомился еще с одним вашим поклонником,» – ответил я и, назвав имя судьи, откусил яблоко. «Ах, тот парень,» – со смешком сказал Роуз. Тут я подумал, со сколькими же еще «теми парнями» мне придется столкнуться в округе Маршалл. «Похоже он все еще расстроен из-за дела о дороге штата.» Я присел на террасе так, чтобы между ветвей видеть Роуза. «Видишь тот гараж позади?» – сказал он, указав на задний двор. Строение, находившееся там, меня всегда озадачивало: это был основательный кирпичный гараж, но въезд для машины смотрел на крутой склон, резко вздымавшийся к четырехполосному шоссе, которое на уровне крыши проходило по границе роузовского участка. То есть для машины не было возможности там проехать. «Угу,» – ответил я, – «гараж в никуда. Я так понял, это род дзенского коана.» «Определенно, это было для меня коаном,» – сказал он, – «и, надеюсь, кое для кого в суде тоже.» Пока он говорил, я слышал шелест в ветвях и регулярное стуканье яблок в ведро. «Там был дом рядом с гаражом, – там, где теперь дорога. Я его построил сам, сразу после женитьбы. Мои родители все еще жили здесь и мне хотелось иметь приличествующее место для семьи, поэтому я решил застроить участок земли, который был не мал в том направлении. На ферме я сам навалил деревьев и напилил досок на старой ржавой пилораме, которую купил за восемьдесят долларов. Я был один, так что на это ушла почти вся зима. Затем весной я перевез всё в город и стал строить дом. Я сам замешивал раствор и заливал фундамент вручную, – тот, что привозят в бетоновозах, слишком разбавлен водой. При возведении каркаса я использовал только заматерелый дуб и акацию – древесину настолько твердую, что каждый гвоздь, который я забивал, приходилось держать плоскогубцами. Для кладки использовал цемент, а не известь. С ним трудно работать, но служит в два раза дольше. «Ничего себе должен был быть дом.» «Строй на тысячи лет и живи, как если умрешь завтра54,» – тихо процитировал Роуз, не столько мне, сколько себе. «Что же случилось с домом?» «Он находился там, где хотели проложить шоссе,» – сказал он, переменяя положение на дереве. – «Парень дальше по дороге, двоюродный брат мэра, получил пять тысяч долларов за пустой участок. А я – шесть – за участок с домом.» «И они этим отделались?» – я встал и подошел под дерево. «Не без борьбы. Сначала я подал на них в суд. Там-то я и встретился с твоим новым приятелем, судьей. В то время он был простым адвокатом дорожной комиссии штата и я причинил ему немало хлопот. Конечно, бороться с этими ворами в суде бесполезно. Я заплатил другому адвокату пять сотен зеленых, только чтобы он мне сказал, что все уже схвачено и он ничего не может поделать.» Он посмотрел на меня из-под своей широкополой шляпы. – «Естественно, адвокат мне этого не говорил, пока деньги не оказались у него в кармане.» Как бы подчеркивая, что виновен и я – одной уже своей профессиональной принадлежностью, – он тряхнул надо мной ветку и осыпал яблоками, несколько из которых стукнули меня по голове и плечам. Роуз издал высокий ребячливый смех и продолжил. «Я увидел, что у меня не получится поспеть всюду самому, так что я поднял всех соседей, которые не были в сговоре с политиками и мы создали общество частновладельцев. Мы появились в газетах, устраивали сходки, ездили в Чарльстон. Думаю, мы заставили их побеспокоиться по-настоящему. «Но потом этот адвокат дорожной комиссии – твой судья – сходил к каждому из них по одному и поднял выкупные за их дома. Понятно, все они сдулись. Так что я остался один. Я сделал транспарант и прошел с ним перед строительными грузовиками, говоря на телекамеры и всем, кто слышал, что эта страна не лучше России, раз тут могут когда угодно оставить под открытым небом семью и заплатить, сколько заблагорассудится! Но, разумеется, они все равно забрали мой дом. Пригнали бульдозеры и просто проехали там, где теперь этот вал, снося все дома на пути. Когда они уперлись в мой дом, он даже не дрогнул. Они все дальше брали разгон за разгоном, стараясь его повалить. Наконец им удалось его накренить и на следующий раз они снесли его с фундамента. И знаешь, что? Дом остался монолитным. Двери, окна, веранда, крыша – ничего не треснуло. Это был цельный превосходный дом, поваленный на бок. Ломщики сказали, что ничего подобного не видели.» Роуз крякнул, вспоминая, и стал спускаться с лестницы. Я протянул руки принять у него ведро, но он то ли проигнорировал меня, то ли не заметил. Это живо напомнило мне первый интесив, когда он отказывался принимать что-либо от меня. Спустившись, он принялся перебирать упавшие яблоки, складывая хорошие в ведро. «Забавно то,» – сказал он, – «что все сложилось к лучшему. Эти ублюдки из дорожной комиссии в действительности сделали мне благодеяние. Я чуть не спятил, стараясь управиться с двумя фермами и тремя-четырьмя объектами в городе. После того, как дома не стало, я понял, что исчез один из моих головняков.» Он встал и проделал вращательное движение правым плечом, чтобы размяться. – «Не стоит и упоминать, что все эти политиканы, начиная с губернатора Баррона и ниже, закончили в тюряге.» С течением недель я узнал, что Роуза помнили не только его старые судебные противники. На следующий день я обедал в закусочной в нескольких кварталах от моего офиса. Пока я платил по счету, официантка с любопытством изучала меня. «А можно спросить вас?» – сказала она. «Давайте.» «Вы ведь новый адвокат? Тот, который живет с Ричардом Роузом?» «Да,» – осторожно ответил я, – «новый адвокат.» «И как он? Ведь ему сейчас шестьдесят где-то?» «Около того.» Она тщательно пересчитала мою сдачу так, как делают те, у кого не слишком хорошо с доходом. «Мы с моим мужем прежде держали небольшой бар в Бенвуде поблизости от его дома. Роуз посиживал в иные вечера. Он не пил, а только брал газировку и судачил с мужиками с фабрики. Иногда в задней комнате играл в покер помалу. Помню, когда он только стал появляться у нас, я отметила, что он не похож на остальных. Он как бы выделялся из общего ряда – что-то в этом роде, – и я спросила мужа о нем. Муж ответил: «самый подлый и опасный сукин сын в долине, вот он кто»,» – она рассмеялась, вспоминая. «Тогда я была маленькой дикаркой,» – сказала она, доверительно поглядев на меня, – «и это подогрело мое любопытство. Я помню, что подошла прямо к Роузу, дала ему воду, которой он не заказывал, и сказала: “как по мне, так вы не выглядите уж таким опасным”. Он отозвался: “в самом деле?” А я говорю, стоя довольно близко к его стулу: “Муж говорит, что вы самый подлый и опасный сукин сын в долине”. Секунду Роуз смотрел на меня, и говорит: “Это то, что я хочу, чтобы думали. Тогда меня оставят в покое.”» – Она опять засмеялась, потом сообщила свое имя и даже сказала, как оно пишется. – «Не забудьте сказать Рози, что видели меня, ладно?» Новость о моем появлении быстро разошлась по городу. Где бы я ни показывался, меня всюду узнавали как нового адвоката, который как-то связан с Ричардом Роузом, – человеком, которому иные симпатизировали, иные на дух не переносили, но которого не понимал никто. Его знали с разных сторон, как дружелюбного фермера, преданного друга, строптивого активиста, воинственного борца, «того стихотворца» или «того мистика, что держит хиппиферму на горе». В том, как люди отзывались о Роузе, прослеживалось только одно общее, – то, что каждый так или иначе уважал его, даже если у многих это сопровождалось досадой. По прошествии недолгого времени меня перестало волновать, как люди реагируют на мою связь с Роузом, – правда, за вычетом одной большой сферы. Независимо от прочих воспоминаний и впечатлений, связанных с Роузом, он всем был известен как тот, кто позволил кришнаитам заякориться в долине Огайо. Они этим воспользовались, чтобы возвести целую империю своих построек, беспорядочно рассыпавшихся на мили окрест, – за исключением фермы Роуза, которую тот не продавал ни за какие деньги. Никто не знал, что Роуз был в этом деле «одурачен», как он, смеясь, признавал потом. А вот что было известно всем и всех трогало, так это то, что «волосатые зверушки», как их тут называли, теперь танцевали, распевали и расхаживали по Хребту Мак-Крири и что виной тому – Ричард Роуз. Как именно это произошло, знали немногие. Как Роуз сказал своей жене в день их свадьбы: его настоящая цель в жизни – учительство, и если только ему предоставится шанс, он воспользуется им. Двадцать лет такого шанса не было. В послевоенной Америке людей интересовала работа, семья, дом в пригороде, а не размышления человека, говорившего о становлении Абсолютом. Но Роуз не бездействовал. Он тщательно спланировал в уме и на бумаге организацию и структуру эзотрической духовной группы, чтобы устроить ее на ферме при подходящей возможности. К середине шестидесятых он уже почти сдался, и, когда пошатнулось здоровье, начал записывать свои открытия, чтобы оставить хоть что-то, – «записку в бутылке», как он это называл. Позднее из этих записей составились «Документы Альбигена». Пока Роуз завершал эти записи и готовился к, казалось, приблизившейся смерти, к нему на ферму по необъяснимой причине стали заглядывать представители молодежной контркультуры в Уиллинге. То были дети его друзей или друзья его детей. Они прослышали о сплетнях и историях и заявлялись их проверить. Они выясняли, что Роуз это – ну, Роуз, – и возвращались снова и снова. Было здорово окрылиться и позависать рядом с остроумным дзен-фермером, который, казалось, был увлечен ими не менее, чем они – им. Роуз никогда не видел наркотической молодежи, а они никогда не видели человека, умеющего читать мысли. Хотя никто из визитёров не был достаточно серьезен, чтобы остаться и заняться настоящей работой, Роуз расценил их интерес к его философии, как знак того, что «дверь открылась». Пришло время действовать. Он разместил объявление в андреграундных газетах в Нью-Йорке и Сан-Франциско, приглашая «серьёзных искателей» к участию в организации «недогматического философского ашрама» в горах Западной Вирджинии. Вместо серьёзных искателей Роуз заполучил серьёзных наркоманов, и все же открыл для них двери, будучи уверен (как и теперь55), что ему следует работать со всеми, кто приходит, пока не выявится кто-то основательный. Среди волны хиппи с западного побережья, совершивших паломничество в Западную Вирджинию, были Кейт Хэм и Ховард Уиллер, первые люди, посетившие Роуза, которые, как будто, хотели большего, чем просто порасслабляться в деревне. Они рассказали Роузу, что они бывшие кришнаиты, но что вышли из их рядов из-за философских расхождений с Прабхупадой, основателем движения Кришны в Штатах. Они выразили заинтересованность в аренде «старой» роузовской фермы, чтобы основать внеконфессиональную духовную общину. Роуз, обрадованный, что нашел, казалось, серьёзных людей, сдал им на девяносто девять лет ферму в 160 акров, приобретенную им в двадцать лет и использовавшуюся как место для медитаций. Но, как только бумаги были подписаны, его новые арендаторы, как выразился Роуз: «надели простыни и запели тарабарщину». Используя арендованную ферму в качестве базы, те два человека в итоге взрастили самую большую кришнаитскую коммуну в стране и выстроили «Дворец Золота»56, экстравагантно-кричащее сооружение, облицованное двумя сотнями тонн импортного мрамора и увенчанное ротондой, крытой листами двадцатичетырехкаратного золота. В то время как все больше и больше соседей продавали кришнаитам по взвинтившимся ценам землю, Роуз продолжал жить на ферме как на острове посреди того, что сейчас известно как «Харе Кришна Ридж». Тень Кришны следовала за тенью Роуза, которая в свою очередь следовала за мной. И ничто из этого отнюдь не помогало сдвинуть мою практику с мертвой точки. Я продолжал носиться по городу, знакомясь со всеми, с кем только возможно, в надежде, что один из контактов сработает. Но за две недели после старта я обслужил только одного клиента. Арендованный мной офис с выходом на улицу подразделялся на два помещения. По другую сторону от тонкой фанерной стены размещалось маундсвильское отделение Американского Автомобильного Общества, одно из самых людных мест в городе. Предыдущие съемщики занимали оба офиса, вследствие чего между комнатами был большой проход без двери. Мой арендодатель неделями обещал исправить это, но пока ничто не отделяло меня от переполненной комнаты для ожидания, принадлежавшей Обществу. Каждый день я сидел за столом в кресле-качалке – это были единственные предметы мебели на моей стороне – и старался выглядеть так, как я полагал, должен выглядеть адвокат, – а через двери тёк непрерывный поток западно-вирджинцев, которые подобно посетителям зоопарка пялились в проход на чудака семитской наружности в полиэстровом костюме. Каждый день я ждал, что зазвонит телефон, придёт важная почта или шальной клиент войдёт в дверь. И – ничего. Из принципа я каждый вечер дожидался закрытия офиса Общества и только после этого выключал у себя свет и возвращался в Бенвуд. Как-то вечером, когда я приехал домой, там была только Кэри. Все остальные еще не пришли с работы, – сказала она, – а Роуз уехал на ферму. Потом она ушла в кино с подругой и я остался один. Я включил телевизор и безуспешно попытался занять себя единственным ловившимся каналом. Потом выключил ящик и поехал на ферму. Когда я вошел в дом на ферме, то обнаружил Роуза, Фила и Марка, сидевших в обеденной за столом. В центре стояла стеклянная пепельничка с тремя центами в ней. Роуз читал «И-цзин» в твердом переплете, а Фил, сидевший рядом, перегибался, чтобы лучше видеть текст из-за руки Роуза. На неделе Роуз сообщил, что Фил собирается уехать, после того, как четыре года был менеджером фермы. Очевидно Роуз и Фил советовались с этой старинной китайской книгой предсказаний, чтобы получить намек на будущее Фила. Судя по их настроению, прогноз оракула был неблагоприятен. «Да, но следует ли верить в такое пророчество, мистер Роуз?» – спросил Марк, вероятно стараясь ободрить Фила. Роуз поднял взгляд от книги. – «Я не знаю механизма, но некоторые из этих вещей работают надежно. Всегда, когда люди в течение длительного времени делают что-либо предметом веры, будь то четки, таро, кристалл или что угодно, то этот объект обретает силу, которой в ином случае не имел бы.» Роуз закрыл книгу и повернулся ко мне. – «Ну, как адвокатские дела?» «Не слишком обнадеживающе,» – ответил я, подсаживаясь к ним за стол. «Ладно, посмотрим, что скажет И-цзин про нашего неопытного воришку,» – хихикнул он, подавая мне пепельницу и монеты. Я всегда питал скепсис и даже опасения в отношении оккультных практик, поэтому никогда до этого с И-цзин не баловался. Я встряхнул три цента и бросил их в пепельницу. Марк записал соотношение выпавших орлов и решек. После моего шестого и последнего броска, Роуз нашел соответствующую гексаграмму в И-цзин. Поглаживая бородку, он вдумчиво изучил текст, потом передал книгу мне. Успех через скромность. Ты находишься в разряде низкостоящих, но достигнешь успеха благодаря сильному и верному другу. Я взглянул на Роуза, но он переключил внимание снова на Фила. «То, что ты уходишь с фермы, не значит, что ты не сможешь заниматься духовной работой,» – сказал он. – «Черт, я был женат, работал, растил детей и все равно каждую неделю приезжал в Стьюбенвиль на встречи. Это была даже не группа, а просто кружок пожилых женщин. По сути – “ковыряльщиц”. Но они были хорошие люди и как минимум это было движением в верном направлении.» Я слушал его историю в пол-уха, поскольку читал комментарий И-цзин на полученное предсказание. «В одну пятницу я выехал на вечернюю встречу и оказался на два часа раньше. У меня и раньше драндулет был еще тот. И просто чтобы убить время, я зашел в хозяйственный магазин Джона Миллера. Его жена состояла в группе. Он считал это чепухой, но сам был дружелюбным и я любил бывать у него. Пока мы беседовали, зашел покупатель и спросил, сколько стоят воздушные компрессоры. Джон назвал цену, на что покупатель сказал: “В Сирсе57 такой же компрессор можно взять на сотню баков дешевле.” Джон откликнулся: “Угу. Можно даже дешевле. Тут много чего есть, что можно взять дешевле в других местах.” И он пускается рассказывать тому мужику, где тот может найти наилучшие цены на те же товары, которые он продает в своем магазине. А потом говорит: “Единственная разница в том, что я беру под личную ответственность все, что продаю. Если у вас появится проблема, она станет моей. И я не успокоюсь, пока она не будет улажена.” Так что Джон предложил ему подумать и покупатель вышел было за дверь. Но останавливается и входит обратно. “А, была не была,” – говорит, – “вот тот беру.” После того, как покупатель ушел, я сказал: “Джон, это тебе следует быть в группе, а не твоей жене. Ты уже знаешь рецепт!” Джон только рассмеялся. ”Я был сущим эгоистом” – ответил он, – “пока мой тесть не вразумил меня. Он сказал, что если я хочу достичь когда-нибудь успеха, всё что мне нужно, это – сделаться служителем.” Я оторвался от книги. Мистер Роуз смотрел прямо на меня. «Это все, что нужно каждому из вас, если хотите быть успешными,» – сказал он, удерживая мои глаза своими. – «Просто сделайтесь служителями. Остальное само позаботится о себе.58» С течением недель его совет проник мне в сердце. Когда наконец-то стали появляться клиенты, я как только мог старался помочь каждому, вошедшему в мою дверь. Неизменно это оказывались случаи, за которые никто больше не брался. Мои коллеги по профессии с удовольствием сплавляли дальше по улице в мой офис самых неимущих с труднейшими случаями (и худшей гигиеной). Я брался за безнадежные дела, сражался в муниципальном суде, представлял сомнительных типов и почти во всех случаях проигрывал. Я работал за копейки или вообще бесплатно, а в итоге мои клиенты склонялись к тому, что я стОю еще меньше. Часто, чем поблагодарить меня за тщетные усилия, меня оскорбляли, обсуждая прямо при мне, какого исхода можно было бы достичь, наскреби они достаточно денег на «настоящего адвоката». По вечерам придя домой я вливался в хаотическое кухонное действо, которое меня морально несколько поддерживало. Когда все подтягивались после рабочего дня и готовили себе ужин, кухня представляла собой шумное и подвижное сборище. Плита была в дефиците, четыре конфорки горели непрерывно. Как только убиралась кастрюля или сковорода, ставилась другая. Всё либо жарилось, либо варилось, поскольку Роуз не одобрял использование духовки, говоря, что она потребляет слишком много газа. Посреди суматохи восседал Роуз и невозмутимо смотрел вечерние новости по стоявшему на одном из холодильников старому черно-белому телевизору, увеличив звук так, чтобы было слышно поверх говора и шума готовки, еды и мытья посуды. Новости были единственное, что смотрел Роуз, и они всегда служили ему поводом проиюллюстрировать и обосновать свои суждения насчет планеты. «Видишь того типа там?» – обращался он к кому-нибудь, сидевшему рядом, и указывал на экран. – «Это рыбья голова. Смотри, у него лицо заострено вперед, как у рыбы. Люди с такими головами всегда трусливы и подловаты. Я был в природоохранном лагере59 с парнем по имени Грин с вот такой же головой. Он был один из самых...» И дальше обычно следовала очень смешная история, иллюстрировавшая данный психотип. Роуз изучал человеческую природу и собирал информацию из всех доступных источников. С одной стороны, он мог читать мысли и обладал потрясающей интуицией в отношении людей и событий. Но он не ограничивал себя таким – скорее эзотерическим – постижением. Он наблюдал и изучал поведение животных, в частности – животных на ферме, утверждая, что человеческое поведение не сильно от него отличается. Он верил, что семья и социальное происхождение предрасполагает людей к определенному поведению и судьбе, и что расовая и этническая традиция имеет большую важность для понимания личности. Он судил о тебе по тому, что ты сказал, как сказал и что мог бы сказать, но не сказал. Он наблюдал, как ты двигался, что ты делал, чего ты избегал. И, в разрез с той нотацией, что «нельзя судить о книжке по обложке», Роуз извлекал ряд суждений о людях из их физического облика. Наиболее часто и наглядно это проявлялось при просмотре вечерних новостей, поскольку визуальная картинка была всем, на чём он мог основываться. Роузов каталог психо-физиологических типов включал среди прочих и такие классы как: колоды, бараны, козявки и пушки. Для каждого класса у Роуза имелись: прототип (какойнибудь актер или политик), отличающая характеристика (неизменно либо слабость, либо мания) и история, в которой фигурировал его друг или сосед, обладавший подобной внешностью. По окончании новостей Роуз говорил: «выключите этот идиотский ящик, что-ли,» и мы все сидели в неловком молчании, пытаясь привести себя в соответствие с тем фактом, что на кухне находится просветленный. Вызвать «духовное» состояние ума усилием было невозможно, но если б мы даже и могли, Роуз все равно этого не принял бы. Лучшее, что мы могли делать, – это по очереди делиться происшествиями за день и надеяться, что он, оттолкнувшись от одной или нескольких наших историй, начнет философское обсуждение. Так мы надеялись избегнуть прямой персональной конфронтации. «Вам бы видеть того парня, что сел сегодня», – начал Эл как-то вечером. Эл работал адвокатом в маундсвильской тюрьме и, похоже, в каждом клиенте-заключенном видел потенциальный случай для вечернего обсуждения. «Этот парень рецидивист. Все поистине глупые преступления. Тощий, дикие глаза, слышит голоса, приходящие из слива в раковине.» «Есть у него темные круги под глазами?» – спросил Роуз. «Да,» – ответил Эл с преувеличенным удивлением. – «Выглядит, будто месяцами не спит.» «Проблемы с почками. Неправильный секс,» – диагноз Роуза был намеренно неопределенным из вежливости к присутствовавшим женщинам. – «Вероятно, ребенком сидел в тюрьме для малолетних преступников.» «Точно. Десяти лет его отправили в Прунтитаун60,» – подтвердил Эл. «То же самое случилось с подростком ниже по улице,» – сказал Роуз. – «Его посадили и старшие изнасиловали его. Теперь, когда он вырос, он из тех, кому хочется нагнуться. Такова его сексуальная ассоциация, которую он пронесет через остаток жизни. Ему никогда не комфортно вне тюрьмы и в конце-концов голоса склонят его на что-то, что приведет его опять в кутузку, где он сможет получить вдосталь того секса, которого хочет.» «Вот почему мужчина должен защищать себя,» – продолжил Роуз. – «Мой отец, побывав в тюряге, говорил, что если кто-то присвистнет на тебя, то лучше тебе схватить что-то острое и воткнуть в него. Иначе на следующий день кто-то положит на тебя руки и – еще до того, как ты это поймешь, – ты больше не мужчина. А когда твое самоуважение разрушено, – вместе с ним ты теряешь и всякую духовную надежду.» Следующий был Дэн. – «Сегодня я клал покрытие в доме в Глендейле. Женщина там – сущая мегера.» Он смолк, чтобы сжевать с кости последний кусок стейка. «Муж зашел поговорить. Небольшого роста, знаете, вроде Уолли Кокса61, постоянно извиняется. Выяснилось, что ему доводилось работать на укладке покрытий и мы разговорились. Тут входит она. Увидела его и как завопит: “Ты, вернись на кухню!”» – Дэн передразнил ее с угрожающим взмахом кости и мы рассмеялись. – «Он выскользнул. И больше я его не видел.» «Нет было ли в доме собаки?» – спросил Роуз. Дэн кивнул. – «Немецкая овчарка. Все время смотрела на меня так, будто хотела перегрызть мне глотку.» «Имеется объяснение,» – сказал Роуз. – «Пес в том доме – в качестве мужа.» Настала моя очередь. – «Один старый фермер с женой пришел сегодня в мой офис...» Роуз с любопытством посмотрел на меня. «Не думаю, что вы их знаете,» – сказал я. – «Они недавно переехали сюда из другого места и купили молочную ферму на Робертс Ридж.» Я рассказал, что ко мне они попали все по той же причине – никто больше не хотел брать их дело. В данном случае так было из-за того человека, против которого они выступали. «Их дочь ехала домой из города с каким-то кормом и затормозила из-за скота, переходившего дорогу. Пока она пережидала, когда он пройдет, пастух, который и является его владельцем, – как я выяснил, у него уйма денег, унаследованных от родителей, – подошел к ее машине и стал ее тискать и делать непристойные предложения. Ну, он сразу же понял из ее реакции, что сделал большую ошибку, а, узнав, сколь его выходкой взбешены ее родители, побежал к магистрат и выстряпал ордер на арест девушки. Таким образом, решил он, они будут слишком напуганы, чтобы выдвигать против него обвинения.» «Как же он добился этого?» – заинтересовались все остальные. «Судья дает ордер на арест кого угодно почти по любому поводу. Всё, что нужно, это заполнить бланк.» «И что ты сделал?» – спросил Роуз. «Я разозлился,» – сказал я, внимательно наблюдая за реакцией Роуза. – «Это хорошие, простые люди. У них на ферме воспитывается больше дюжины приемных детей, кроме их собственных. Я позвонил в магистрат и сказал, что собираюсь представлять их в этом деле. А потом, как только они ушли, мне позвонила одна из женщин, работающих в магистрате. Прекрасная леди. Кажется, она меня жалеет из-за того, что ко мне попадает столько неудачников. В-общем, она сказала, что ордер хода иметь не будет. Оказывается этот скотовод всю жизнь пристает к молодым девушкам. Одна даже выдвинула против него обвинение в изнасиловании. Но каким-то образом он всегда умудряется выйти сухим из воды. Он и дня не провел в тюрьме. Даже никогда не платил пени.» Мой рассказ произвел сильное действие. Роуз пустился в одну историю за другой – все про коррупцию в местной юрисдикции, и в течение получаса никто не мог и вспомнить о вопросах, которые нам действительно следовало бы задать ему. «Вот почему эти адвокаты так жалки,» – сказал Роуз, наконец утихомириваясь. – «Они пьют с судьей, сговариваются с ним, как бы пообтрясти стороны, дают ему взятку, если их по- настоящему припекло, а потом идут в суд и зовут его “ваша честь”». Он повернулся и посмотрел на меня. – «Даже твои так называемые “честные” адвокаты и бровью не ведут, когда их клиентов посылают за решетку из-за воровства еды для своей семьи – только потому, что судья хочет выглядеть строгим, когда на носу выборы. Адвокаты понимают, что таковы правила игры и просто проглатывают это. И все они заканчивают как педики в тюряге – ни самоуважения, ни шанса освободиться от иллюзии.» Не имело значения, сколько раз уже я слышал вариации этих слов, – они всё ещё царапали меня. Я чувствовал, что он не просто держит меня за ответственного за всю правовую систему, а ожидает, что я каким-то образом изменю ее. «Реалистично ли думать, будто одному человеку под силу очистить всю систему?» – сказал я. Не говоря ни слова Роуз встал и вышел из кухни. Через несколько минут он вернулся с раздувшейся папкой. Внутри находились многочисленные вырезки из газет об акциях «гражданина Роуза». Роуз, моложе и стройнее, держит микрофон перед общественным собранием. Яростный Роуз несет транспарант «Дорожная комиссия штата прибегает к коммунистической тактике». Статья о борьбе Роуза против установившихся порядков в правлении местной школы. И так далее. Ко многим статьям о Роузе были подколоты смежные статьи, такие как отчеты о губернаторе и некоторых высокопоставленных помощниках, отправленных за решётку за получение откатов по делам дорожной комиссии штата. Там же были десятки «писем редактору», посланных «Р. Роузом из Бенвуда». Самое верхнее начиналось: «Почему Уиллинг рифмуется с грабиллинг62?» Когда мы закончили рассматривать последнюю статью, он собрал их и поместил в папку. «Я отказываюсь быть запуганным кем-либо или чем-либо,» – сказал он. Чего он не сказал, но что подразумевалось, – это, что он ожидает, что и мы будем жить так же. «Копы, судьи, правительство,» – сказал он, – «эти ублюдки все думают, что можно запугать людей с помощью своего вышестоящего положения. Меня этим не возьмешь. Несколько лет назад, ни с того, ни с сего, мне позвонили из налоговой и спросили, откуда у маляра деньги на содержание в университете двух дочерей. Я ответил: “Идите к черту! Я их нашел. Украл. Обобрал старушек. Если вы думаете, что я делаю что-то незаконное, получите ордер и арестуйте меня. Но не звоните мне домой и не пытайтесь запугивать, иначе кой-кому станет плохо.”» Сознание, что мне ежевечерне предстоит встреча с ним лицом к лицу, весь день держало меня в неизменном состоянии бдительности. Роуз видел вызовы честности и угрозы духовному потенциалу в событиях, которые мне казались банальными. Пустяковые случаи, которые я списывал на неизбежные издержки производства: судья, делающий козлом отпущения моего клиента, или другой адвокат, перехватывающий одно из моих дел, – квалифицировались Роузом как первый присвист в тюрьме, означавший начало цепи примирений и компромиссов, которые могли разрушить мои шансы стать мужчиной или преодолеть иллюзию. «Ты тоже можешь в это влипнуть,» – сказал он. – «Мы живем физических и психических джунглях. Если ты позволишь запугать себя на физическом плане, то ты станешь трусом, который отступит и когда станет туго в невидимых измерениях. Тебе предстоит встретить напасти этой сферы и покорить ее. Тогда у тебя будет, как минимум, характер и, возможно, шанс достичь чего-то много большего.» 14 УСПЕХ Жизнь с Роузом ежеминутно представляла нам неизменный пример человека, идущего по жизни без компромиссов. Тривиальные события, на которые большинство людей не обратили бы внимания, подвигали Роуза на длительные протестные кампании. Он бойкотировал Пепси, потому что она получила монополию в школах округа, благодаря – как он был уверен – взятке. Он перестал вести свои дела через местный банк, потому что кассир попытался взять с него доллар за обналичивание чека. Когда из-за неверного почтового кода вернули заказ на книгу, он поднял такой переполох, что в итоге получил персональное извинение из Вашингтона от министра почты. Не все его протесты заключались в бойкотах или написании писем. Если кто-то Роуза оскорблял или грубил ему, то получал проблемы. «Тебе не следует нарываться на драку,» – сказал он как-то, – «но если кто-то пытается смешать тебя с говном, ты ставишь этому границы любыми необходимыми средствами.» Одним вечером после ужина я начал рассказ о клиенте, бывшем у меня днем. Когда я упомянул его имя, Роуз поднял брови, узнав его. «Кондуктор на дороге Балтимор – Огайо?» «Да. Вы его знаете?» «Немного. Как-то пытался засунуть его в пылающую печку.» Надо ли говорить, что о моем рассказе тут же забыли и все глаза устремились на Роуза в ожидании подробностей. «Этот парень из тех, кто помешан на сексе. Для них он единственная цель в жизни и каждая минута, когда они не совокупляются, – потерянное время. Рядом с ними трудно находиться, поскольку они думают, что для окружающих не ничего интересней, как слушать гнойные подробности их жалких жизней. И вот как-то я заправлялся на станции, что была там, где четырехполоска пересекает Маршалл-стрит. Там в мастерской собралась компания трепачей и этот кондуктор там же всё травил и травил про секс – обо всех женщинах, что он имел, и всех способах, которыми имел. Там было полно старшеклассников и он их так захватил, что я сказал ребятам: «Эй, расслабьтесь. Не следует быть столь одержимыми погоней за женщинами. Число сексуальных контактов в вашей жизни было предрешено еще до вашего рождения.» Ну, тут этому дегенерату, похоже, не понравилось, что я перехватил аудиторию. Он говорит: “Что за глупости, Роуз? Может, ты педик?” Я не стал тратить слов, а просто бросился на него и заставил сделать кульбит. Буквально. Он обеими подошвами проехал по потолку.» Мы засмеялись, но Роуз продолжал весьма сухо. «Была зима, и там была дровяная печка в углу. Я покрепче обхватил этого парня и попробовал засунуть его голову в печь, но не смог решить, как это сделать, не опалив рук, так что в конце-концов выпустил его.» В моей жизни было бы гораздо меньше напряжения, если бы я просто счел Роуза параноиком или чрезмерно агрессивным. Но, чем дольше я жил с ним, тем больше я понимал, что никогда не не поддаваясь запугиванию в любых формах, Роуз удерживал полный контроль над собой и своей жизнью. И поскольку он всегда был готов бороться и, если необходимо, то и умереть, защищая свои принципы, множество потенциальных стычек было предотвращено по той простой причине, что большинство людей предпочитало с ним не связываться. Воинственная установка Роуза находилась в видимом контрасте с тем его указанием, что эго является единственным препятствием духовному прогрессу. С одной стороны, он призывал нас к стойкости, быть мужчинами. С другой же, – отбросить наши задиристые эго и очнуться к реальности. Не принимать надругательств ни от кого и быть скромным служителем для всех. Это была та кромка лезвия, по которой мне было весьма трудно идти или даже видеть ее. На выходные я часто выезжал на ферму, помочь по хозяйству. Обыкновенно я останавливался в главном доме, но иногда спал и в чьем-то домике. Роуз позволял желающим членам группы арендовать куски его земли и строить собственные домики для медитаций. Их, разбросанных по роще, имелось около дюжины. Это позволялось не каждому желающему. Чтобы гарантировать гармоничное сосуществование, требовалось единодушное согласие всех остальных владельцев участков. Впрочем, если ты не был в натянутых отношениях с Роузом, одобрение как правило давалось. Также от тебя требовалось признать кучу установлений. Запрещаются визиты не членов группы и им не следует даже знать о твоём домике. Налоги на ферму распределяются соответственно ценности твоей постройки. И если ты окажешься слишком большой проблемой для окружающих, тебя вышвырнут с фермы вне зависимости от того, построил ты что-то или нет. В конце-концов я достаточно утвердился в мысли запросить место под собственный домик, и был достаточно уверен в том, что мой запрос будет удовлетворен. Выбранное мной место находилось в полумиле от дома – довольно близко для доступности и достаточно далеко для уединенности. Неподалеку от него проходила старая лесозаготовочная дорога, так что строительные материалы можно было подвезти без особых трудностей. И, что самое лучшее, – склон отлого сходил к ручейку, журчанье которого слышалось почти круглый год. Я был очень доволен моим выбором. Когда настало время строить, Роуз посоветовал мне нанять Чака, одного из жителей фермы. Я с готовностью согласился. Чак был старательным мастером, державшим магазин школьных принадлежностей. Строительство потребовало времени, но, когда было завершено, у меня был лучший домик в окрестности. Я стал проводить на ферме больше времени. Изредка я брал недельный отпуск, чтобы побыть в уединении в своём домике. Позже я довел моё обыкновение до более длительных уединений – две, три, а потом и четыре недели в одиночестве. Роуз всегда рекомендовал короткие периоды уединений каждому серьёзно настроенному на духовную работу. Будучи молодым человеком он купил «старую» ферму исключительно для своих медитационных ритритов. И о времени, которое он там провел – в чтении, медитациях и постах, – он вспоминал как об одном из самых счастливых и духовно наиболее продуктивных в его жизни. Однако, он предостерегал от чрезмерного одиночества. По его мнению одно или два 30дневных уединения в год были в самый раз. Он был уверен, что максимальный духовный прогресс достигается в сочетании безмолвной интроспекции и мирской жизни. В моей мирской жизни – адвокатской практике – казалось, кто-то постоянно пытается толкнуть меня и с этим ничего нельзя было поделать, кроме как толкаться в ответ и надеяться, что я как минимум устою на ногах. У меня было несколько побед и множество поражений. Но не зависимо от того, насколько хорошо или плохо обстояли мои дела, Роуз непрерывно настаивал на усилии ради усилия. «Человек должен продолжать работать без заботы о результате,» – сказал он. – «Ты работаешь, поскольку безделье – бесполезно.» Вся жизнь Роуза была олицетворением этой философии. Я тоже старался так жить, но никогда не был уверен ни в моих мотивах, ни в моих условных успехах. Будучи своего рода законником, Роуз одобрял то, что мои отношения с судьями и другими адвокатами почти всегда являлись противоборством. По мере того, как моя практика росла, я, казалось, неизменно вёл дела, которые решались с помощью то ли дружеских связей, то ли политического влияния, то ли открытой коррупции, но в отличие от моих коллег я не мог просто махнуть на это рукой со словами «так устроен мир» и беспечно идти своим путем. Я произносил речи, обвинял, предъявлял и встречал иски. Я начинал и в самом деле верить, что стану каким-то белым рыцарем, сражающимся на стороне Истины и Правосудия. Понятно, что представление себя в таком образе в зале суда еще больше отдаляло меня от остального правового сообщества. А вместе с тем я тосковал по хлопку по плечу время от времени и по некоторому профессиональному товарищескому духу, разделяемому с другими адвокатами. Роуз об этом и слышать ничего не хотел. «Эти люди – змеи,» – напомнил он мне как-то вечером, когда я рассказал о редком случае сотрудничества с другим адвокатом. «Я только обращаюсь с ним как с другом,» – сказал я. – «Вы ведь часто говорите, что “нет религии возвышенней, чем дружба”63.» Он наставил на меня палец и стал покачивать им в такт своим словам. «Подлинная дружба требует истинного взаимопонимания,» – сказал он. – «Иначе, это просто видимость дружбы – удобный союз людей, согласившихся извинять слабости друг друга. Единственное, что у тебя общего с судейской шайкой, это то, что вы все пытаетесь обобрать один труп.» Дистанция к «судейской шайке», которую я старался удерживать, для Роуза никогда не была достаточной. Его критика доходила до меня через ребят на ферме, передававших, что Роуз считает, что я «продаюсь». Это чрезвычайно меня беспокоило и, когда это всплывало в моих разговорах с Роузом, я оборонялся, перечисляя, против скольких копов я возбудил дело, скольких адвокатов и судей разозлил, скольких людей представлял бесплатно. И все равно мои верность и неподкупность всегда оставались под вопросом. Словесные доводы или уверения были бесполезны. Для Роуза существенным были только действия, и мои действия его почему-то не впечатляли. Он был убежден, что мои поступки, как они были, проистекали не из бескорыстия или приверженности Истине, а из моих эгоистических интенций, что я управлялся множеством дрянных мотивов и притворств, которые успешно прятал сам от себя. Как-то вечером, когда я попытался добиться от него подробностей, отчего я вызываю у него такие подозрения, он просто резко махнул на меня рукой. «Обстоятельства предоставляют каждому мужчине возможность выразить свою сущность,» – вот и все, что он сказал. Его слова крутились у меня в голове на работе весь следующий день. Я потерянно глядел на груду папок на своем столе, каждая из которых предположительно таила для меня возможность «выразить свою сущность». И пока я оценивал с этой точки зрения каждое дело, мне приходилось бороться с представлением, что я только и делаю, что выражаю свою сущность. Проблема была в том, что Роуз и я видели эту самую сущность по-разному. Должен признать, что я питал чрезмерные амбиции и мечты об успехе. Полагать, что эти внутренние пружины не проявлялись в моих действиях, было бы несколько наивно. Я хотел быть хорошим адвокатом, – нет, великим адвокатом. Я хотел быть таким адвокатом, на которого указывали бы с восхищением другие адвокаты. Также я был уверен, что наилучшие адвокаты обладают наибольшим эго. Их вера в собственную непогрешимость вела их к совершенству в делах и присяжные отдавали себя во власть их уверенности и чутья. Я знаю, что, когда я поникал после проигрыша дела или после особенно острой конфронтации от Роуза, мне бывало трудно воспрять для новой битвы. Движение одновременно и с динамизмом, и с бескорыстием – было тем равновесным действием, которое мне не слишком удавалось, и порой я задавался вопросом, действительно ли я хочу его освоить. Должно быть, этим вопросом задавался и Роуз. Так уж случилось, что два дела из лежавших на моем столе в то утро оказались не только возможностями выразить мою сущность, но и главными поворотными пунктами моей карьеры. Одно дело шло о заключенном, объявившем голодовку и подавшим в суд, чтобы предотвратить свое принудительное кормление надзирателями. Другое было о страшном убийстве в местной ночлежке в сочельник. По мере развития этих дел, я обсуждал их с Роузом, как поступал и с большинством дел. Помимо удовольствия, которое я получал от его внимания, я стал прислушиваться к его мнению в правовых вопросах, несмотря на то, что его, кажется, никогда не заботила юридическая сторона дел. В деле о голодовке, например, он сказал, что мне следует руководствоваться только мотивацией мужчины. Заключенный говорил, что протестует против условий в тюрьме. Для Роуза не имело значения, что он сидел за решеткой за жестокое убийство, совершенное во время неудачного киднеппинга. Роуза не интересовало, действительно ли условия в тюрьме плохи. Для него был только один критерий. Если он на самом деле готов умереть по бескорыстной причине, – сказал Роуз, – то этот заключенный был волевым человеком и заслуживал моей поддержки. В случае убийства Роуз был поначалу не столь конкретен. После того, как я перечислил длинный список почти неоспоримых улик против моего клиента, Роуз просто сказал, что по его «наитию», этот человек невиновен. Пресса подхватила историю о заключенном в тюрьме. «Голодовка до смерти» – таков был заголовок на первой странице. В день, когда судья должен был вынести решение, зал суда был набит репортерами. Микрофоны от теле- и радиостанций, о которых я никогда не слышал, лезли мне в лицо. Был репортер и из питсбургской газеты, и все мысли о контроле эго и о роузовой философии улетучились из моей головы, пока я упивался, представляя, как теперь мои городские друзья и университетские однокашники, похихикивавшие, когда я переехал в Западную Вирджинию, станут читать обо мне за утренним кофе. В тот вечер, пока вокруг меня на кухне кипела неразбериха готовки ужина, я возбужденно ждал вечерних новостей. Когда время, наконец, подошло, я крикнул, чтобы все затихли. Роуз взглянул на меня и покачал головой. Первый сюжет был о голодовке в тюрьме. Как я и надеялся, прокрутили видеозапись, на которой истощенный заключённый едва бредёт в суд, отстаивать своё право умереть, а рядом с ним – его озабоченный и мрачный адвокат, господин Дэвид Голд. Я испытал щекотание нервов, снова видя себя на экране, но не слишком был доволен, как выглядел на камере. Угол съёмки акцентировал мой большой нос. Лампы отсвечивали от моих очков, отчего брови казались кустистыми. «Эге, у этого заключённого, должно быть, нет денег на адвоката,» – сказал Роуз. – «За адвоката он взял Гручо Маркса64.» Это было крайне метко. Кухонная братия покатилась со своих стульев от хохота, пока я улыбался и кивал. Перед концом репортажа передача прервалась на рекламу слабительного. Роуз воспользовался перерывом, чтобы обратиться ко мне. «Знаешь, в последнее время я дофига вижу тебя в телевизоре,» – сказал он. – «Ты напоминаешь мне дрессированного тюленя. Они живут для публики. Пока на них хоть кто-то смотрит, они продолжают представление и в конце-концов падают замертво от переутомления.» За пределами роузовой кухни, однако, коллеги и медиа стали обращаться со мной с новообретенным уважением. Судья постановил, что задача надзирателей поддерживать порядок в тюрьме превозмогает право моего клиента уморить себя до смерти. Но поскольку мой клиент ещё не находился в непосредственной опасности от истощения, судья отложил введение приговора в силу на три дня, чтобы дать мне шанс обжаловать его решение в верховном суде Западной Вирджинии. В течение этого времени мне звонили репортёры, адвокаты, организации по правам заключенных со всей страны и даже мира. Шло к тому, что дело вполне могло закончиться и в верховном суде Штатов. Это была пьянящая перспектива и, несмотря на постоянные напоминания Роуза о моём легковозбуждаемом эго, я смаковал её. Вот тут-то всё и кончилось. Через несколько дней мой билет в Большой Успех был аннулирован беконом с яичницей, подсунутым в камеру. «Дрессированный тюлень» остался без огней рампы – пока что. К этому времени у меня был партнер по практике, Лу Хорей, адвокат, с которым я познакомился в Колумбусе во времена шатокуа. Лу был старостой колумбусовского отделения дзен-сообщества Пирамида и мы с Оги останавливались у него в доме, пока готовили шатокуа в Колумбусе. Теперь, в добавление к тому, что он был моим партнером, Лу тоже переехал в дом к Роузу. Несмотря на то, что он был всего на два года старше, Лу был на поколение впереди меня по зрелости и надежности и составлял столь необходимый противовес моему импульсивному, легко возбудимому темпераменту. Нашим первым большим совместным делом было то, которое газеты назвали «Рождественским убийством». Жертвой была семидесятитрехлетняя администраторша в дешевой гостинице. В канун рождества ее тело обнаружили ранним утром, лежащим в луже крови в лифте с ручным управлением, на котором она перевозила постоянных клиентов. На ней было больше сорока колотых ран, касса опустошена. Нашим клиентом был Чарли Гордон, негр средних лет с судимостью, который появился в городе несколькими неделями ранее и жил в этой гостинице. Когда прибыла полиция, все выходы перекрыли и приступили к обыску комната за комнатой. Чарли, алкоголик, спал после водочного возлияния, но в конце-концов громкий стук офицера поднял его. Он открыл дверь, затем тяжело уселся на постель и ошеломленно смотрел, как номер заполняется полицейскими. Основываясь на паре испачканных в крови ботинок, обнаруженных в углу, полиция получила ордер на обыск. Пожитки Чарли были изъяты и посланы в ФБР на анализ. Его результат пополнил длинный перечень улик в пользу того, что убийца – Чарли. Свежая кровь на его ботинках оказалась принадлежавшей жертве, как и седые волосы, найденные на его пальто. Шерстяные волокна, обнаруженные на его шляпе, были такие же как свитере жертвы. И пятьдесят долларов – в том же составе монет и банкнот, как и пятьдесят долларов, которые клались в кассу перед каждой сменой – были найдены у Чарли на тумбочке. Чем глубже мы вникали в дело, тем хуже выглядели улики. Приятели Чарли, с которыми он пил в ночь убийства, утверждали, что они пили, пока не вышли деньги, и никто не мог объяснить, откуда Чарли мог раздобыть пятьдесят долларов, найденные в его номере. Наш собственный эксперт не просто подтвердил, что на ботинках Чарли кровь жертвы, но и добавил, что «характер брызг» указывал на то, что кровь падала сверху, разрушив нашу теорию, что спьяну Чарли мог споткнуться о тело. Сам Чарли никак не мог помочь. Он сказал, что пил уже пять дней до того, как это произошло и он почти ничего не помнит об этой ночи – хотя и был уверен, что не убивал администраторшу. Роуз, который каждый вечер расспрашивал об этом деле, предложил загипнотизировать Чарли, чтобы выяснить, не вспомнит ли он хоть что-нибудь о ночи убийства. С самого начала Роуз был убежден в невиновности Чарли и никакое количество улик не могло его поколебать. «Парня могли подставить,» – заметил Роуз как-то вечером, после того я подробно объяснил опять, каким образом промокшие в крови ботинки Чарли бесспорно вводили его в сцену убийства. «Эта гостиница – гнездо воров и выродков. Я знал человека, который там однажды останавливался, так он сказал, что шлюхи всю ночь стучались в номер, не давая заснуть. Твой клиент был бы идеальным болванчиком. Он скорее всего бедняк после всех этих лет за решеткой и у него нет ни друзей, ни семьи, чтобы вступиться за него. Я видел его фотографию в газете. Он тот тип пьяницы, который может при случае стащить кошелек, но он не насильствен. Он напоминает мне собаку, жившую у меня на ферме когда-то.» Не имеет значения, насколько факты изобличающи, адвокат должен быть уверен, что дело можно выиграть. Сначала он представляет сценарий, в котором ему-таки удается убедить присяжных. Затем он напряженно трудится, разрабатывая доказательства в поддержку своей позиции, пока энергия собственных усилий не убеждает его в том, что дело и впрямь не столь уж безнадежно, каким видится. Этот самогипноз какое-то время позволяет адвокату продвигаться и питать уверенность, однако неизбежно наступает момент, когда пузырь лопается, обнажается жестокая правда, и он понимает, что дело дрянь. В деле Гордона мы с Лу рано дошли до этой точки правды, до осознания безнадежности, но мы всё никак не могли сдаться по причине часто высказываемого мнения Роуза, что Чарли не убийца. В итоге мы снова вернулись к началу и убежденность Роуза стала нашей убежденностью. Перед лицом избыточных физических улик, которые ни один адвокат в здравом уме не мог бы игнорировать, мы оба, тем не менее, начали верить в невиновность Чарли, и оказались в состоянии подготовить защиту с энергией и энтузиазмом правой стороны. Как всегда Роуз постоянно напоминал нам о связи между нашими усилиями в земном мире и нашими духовными судьбами. «Вы, ребята, понятия не имеете, как много власти в духовном усилии,» – сказал он как-то вечером. – «Вам до смерти надоело эго, как оно есть, но даже так, вы всё равно не цените того, что можете для себя сделать. Когда человек настроен настойчиво добиваться того, что правильно, – будь то поиск Конечной Истины или спасение человека от незаслуженной тюрьмы, – нет границ тому, что он может сделать.» Не имеет значения, как долго и тяжело ты работал, готовясь к заседанию: неизбежно остаются щели, которые приходится конопатить в последнюю минуту. Я изучил полицейские отчеты, Лу связался с судебными химиками и наш частный сыщик проверил каждого подозрительного субъекта, который находился в «Роджерс-отеле» в ночь убийства. Большинство ночей я оставался в офисе, довольствуясь парой часов сна на кушетке. Я просыпался на рассвете как от толчка, вставал и выходил на пробежку по узким хребтам вокруг Маундсвиля, пытаясь сообразить, что же мы еще могли упустить. Вечером перед судом я отправился спать домой в Бенвуд. Уже неделю я едва виделся с Роузом и ждал обсудить с ним дело в последний раз. «Что, завтра серьезный день?» – сказал Роуз. – «Как оно?» «Не слишком,» – начал я, стараясь подготовить Роуза к худшему. – «Имеются все эти физические улики, а Чарли так и не может объяснить, откуда взялись деньги и откуда кровь на его ботинках. Главное, что работает на нас, это то, что полиция свернула работу, как только арестовала Чарли, так что есть еще и другие подозреваемые. Также мы нашли врача, который скажет, что Чарли физически не был способен проделать всё то, что полиция утверждает, он проделал, если он убил старую леди.» Роуз откинулся на спинку кресла. – «Ну, выглядит так, что вы сделали всё, что могли. Теперь время расслабиться и предоставить случиться тому, что задумано.» Я уставился на него, понять серьёзно ли это он. «Это непросто – расслабиться, когда в твоих руках оказалась жизнь человека. Вот почему мы заглянули под каждый камешек,» – я нарочно позаимствовал одну из его фраз, чтобы он понял, что я отнесся к этому делу так же серьёзно, как и он. Но Роуз был настроен подругому. «Ты никогда не знаешь, какая у человека окажется судьба. Если этому парню предопределено провести остаток жизни за решёткой, то, что бы ты ни сделал, этого не изменить.» «Но вы говорили...» «Ты должен действовать так, как если ты можешь изменять вещи. Действовать, будто твои действия что-то значат. Это единственный способ, которым ты можешь быть уверен, что играешь свою роль на полную. Но как только ты сделал всё на сто процентов, расслабься и предоставь богам творить их магию.» На следующее утро я прибыл к зданию суда чувствуя больше уверенности, нежели за все предшествовавшие недели. В уголовных делах, как и в духовной философии Роуза, ключевое слово – «сомнение». От адвоката защиты не требуется доказывать, что его клиент невиновен. Ему нужно только бросить достаточную тень на обвинение штата, чтобы зародить «резонное сомнение» в умах присяжных. Постоянно указывая на моменты, которые мы не рассмотрели, Роуз держал нас с Лу в состоянии непрерывного сомнения. Теперь была наша очередь сделать то же самое. Мы упирали на слабости обвинительного акта. Если Чарли Гордон – убийца, то где орудие убийства? Тщательный обыск гостиницы полицией ничего не выявил. А как быть со всеми другими подозреваемыми, которых полиция допросила, а затем сбросила со счетов после ареста Чарли? Не потому ли нет орудия убийства, что его забрал реальный убийца, ускользнувший со сцены? Как мог Чарли, столь увечный, что ему требовался ходунок, чтобы добраться до залы суда, совершить это зверское и требовавшее здоровья убийство? По собственному мнению обвинителя Чарли должен был сбежать в вестибюль с третьего этажа – где кончился кровавый путь лифта – заскочить к стойке, обокрасть кассу и вернуться обратно через шесть пролетов в свою комнату. Наш медицинский эксперт сказал, что он физически не был способен на это. Этот последний пункт был наисильнейшим. Всякий раз, когда всплывали подробности убийства, разные члены жюри поглядывали на Чарли и на ходунок, которым он пользовался с момента ареста. Когда всё дело было представлено и присяжные выходили для обсуждения вердикта, стоявший Чарли сполз с ходунка и рухнул на пол. Несколько присяжных сочувственно взглянули на него. Пока жюри размышляло, длившаяся неделю судебная драма зависла в режиме ожидания и противоборствующие действующие лица собрались в кружок. Лу и обвинитель обсуждали свои игры в гольф, Чарли перешучивался с приставом, охранявшим его, и все ждали. Помещения для жюри оборудываются звонками, дающими сигнал в зал заседания. Один звонок означает, что судье хотят задать вопрос. Два – что вердикт вынесен. К восьми часам вечера раздался двойной звонок. Папки были собраны вместе, жестянки с колой спрятаны, галстуки поправлены и лица приняли выражения сообразно нашим ролям. Вошло жюри. Сердце моё колотилось, пока документ с вердиктом переходил по цепочке от старшины присяжных к судебному приставу, к секретарю, к судье, а затем опять к секретарю для оглашения. Чарли стоял молча рядом со мной, опираясь о ходунок и не проявляя никаких эмоций, словно ждал автобуса. «Мы, присяжные, определили, что подсудимый невиновнен.» Мы с Лу положили руки на сутулую спину Чарли, когда он упал на стул в облегчении. Мы были окружены рукопожатиями и поздравлениями. Сняли наручники. Чарли был свободен. Парой часов позже мы с Лу сидели в нашем офисе, обзванивали людей, которые нам помогли, благодаря их и принимая их похвалы, и раздумывали, как бы нам отпраздновать. Никто из нас не пил и всё же, очевидно, что-то требовалось. Зазвонил телефон и Лу ответил. Это был мистер Роуз. Лу смеялся и говорил какое-то время, а потом передал мне трубку. «Я только хочу вас поздравить, ребята,» – сказал Роуз. – «Я видел по новостям, что вы высвободили бедного парня. Хорошая работа.» Пока мы ехали в Питсбург той ночью, чтобы отметить победу поздним ужином в дорогом ресторане, мы воспроизвели суд со смешанным чувством благоговения и неверия. «Невозможно поверить!» – повторяли мы один другому. «Невозможно поверить!» – это пьянило. Несколькими днями позже мне позвонил пристав, который охранял Чарли во время суда. «Как будете в следующий раз в тюрьме, загляните, у меня есть кое-что для вас,» – сказал он, отказавшись сообщить подробности. Я был заинтригован, но прошел почти месяц, когда у меня оказался случай приехать в тюрьму, и к тому времени я забыл об этом. Однако, когда я проходил пропускной пункт, на дежурстве был как раз тот самый охранник. Он окликнул меня. «Идемте вниз,» – сказал он с усмешкой. – «Ко мне попало кое-что, что я хочу, чтобы вы забрали.» Я последовал за ним вниз в тюремное хранилище. Там среди пистолетов, стеблей марихуаны и прочих снабженных бирками вещественных доказательств, возвышался ходунок Чарли. «После суда мы привезли его обратно в тюрьму, чтобы он забрал свои вещи, и он бросил его здесь. Сказал, он больше ему не нужен.» Охранник откровенно наслаждался выражением моего лица. Что-то бормоча, я забрал ходунок и бросился в офис. «Что скажешь об этом?» – сказал я, ставя ходунок перед столом Лу. Я повторил сказанное охранником. «Возможно, оправдание излечило его,» – сказал Лу с улыбкой. «Я серьёзно. Мы работали как черти, чтобы выпутать его, потому что мы действительно думали, что он не виновен. Мы убедили себя...» «Ты хочешь сказать, Роуз убедил нас.» «Всё равно. Мы употребили нашу уверенность, чтобы убедить присяжных.» Мы посидели какое-то время молча. Я заметил, что Лу выглядел задумчивым, но ни подавленным, ни даже разочарованным. «Так что ты думаешь?» – спросил я. С минуту Лу не отвечал. Он весьма самоуглубленный человек и его мыслям требуется время достичь поверхности. Когда он наконец заговорил, его слова текли медленно и осмотрительно. «Как сказал Роуз, нашей задачей было выложиться по полной, а потом позволить случиться тому, чему предстоит случиться. И мы это сделали. Мы полностью отдались делу и впервые отбросили всё то, что, как мы думали, ограничивает нас. Мы вышли за границы и теперь у нас новые пределы для штурма. Я был готов принять вердикт и в случае победы, и в случае поражения. Или даже – в случае победы, когда нам следовало бы проиграть.» «Но мы сделали так, что виновный оказался на свободе.» «Мы всё ещё не знаем, кто убил старую леди. Мы сыграли наши роли, а остальное предоставили Богу.» Ясность и убежденность, с которыми Лу выражал свои мысли, ободряли, но мне нужно было поговорить с Роузом. Я закончил дела и направился домой. В последние несколько месяцев Роуз работал над новой книгой, компиляцией его лекций, в итоге изданных как «Непосредственный опыт ума»65, и когда я добрался в тот вечер домой, он прослушивал записи некоторых своих выступлений. Был поздний вечер, когда предоставился случай рассказать ему о ходунке Чарли. «Да?» – сказал он почти рассеянно, поглядывая на часики на полке на дальней стене комнаты. – «На самом деле это не имеет значения. В любом случае, мне не нравился способ, которым копы пытались засадить его.» Затем он поднялся и включил одинадцатичасовые новости, оставив меня наедине с моими мыслями. Больше мы об этом никогда не говорили. У меня не выдалось много времени поразмышлять над уроками – если они были – дела Гордона. «Успех порождает успех,» – часто говорил Роуз и оправдание Чарли определенно подняло нашу практику на новый уровень. Дел приходить стало больше и качеством получше. Местная ассоциация смирилась с тем фактом, что мы уже долго в ней тянем лямку, и начала оставлять нас в покое. И что самое удивительное, судьи стали назначать нас на резонансные дела, державшие нас на виду. Я, как обычно, был предрасположен к раздуванию эго, к уверенности, что это «я» ответствен за нашу растущую успешность. Как и всегда, Роуз усердно старался совладать с этой кичливостью. «Я твёрдо убежден, что голова66 разъедается перед тем, как её отрубят,» – заметил он как-то вечером, когда я чрезмерно долго разглядывал свою фотографию в вечерней газете, – «но, похоже, у нас на ферме нет достаточно большого топора, который с этим справится.» Мы с Лу переехали в новый офис с двумя секретаршами, хорошо подобранной библиотекой и раздельными санузлами для мужчин и женщин. Мы начали походить на успешных адвокатов, возник и соблазн действовать как они. В отношении же Роуза, я сомневаюсь, что существовало что-либо, могшее его искусить. Его устойчивость к обольщениям была не столько вопросом силы воли, сколько безразличия. Наблюдая за ним, я постиг, что отрешённость была главным движителем его замечательной интуиции, которая в свою очередь была ключом к его силе. «Интуиция не станет развиваться, пока ты чем-то одержим,» – сказал он мне однажды. Мистер Роуз ничего не желал, и поэтому он воспринимал то, что существует на самом деле, а не то, что ему хотелось бы видеть. И часто, как в случае с Чарли Гордоном, взгляд его, проникая за пределы того, что есть, – за пределы тех маленьких истин, которые он столь горячо побуждал нас ценить в наших повседневных делах, – казалось, прозревал в великую утробу безразличия, из которой вышло всё творение. 15 СУЩНОСТИ Не прошло и месяца после окончания дела Гордона, как мне на стол попало другое сенсационное дело. Местный житель зарезал собственную жену, когда они были у друзей в гостях, и исчез. Часом позже он столкнулся на улице с полицейским, держа в одной руке окровавленное орудие убийства и несколько голов животных в другой, при этом он приговаривал: «Я – бог. Шесть, шесть, шесть. Я – бог. Шесть, шесть, шесть.» Взяв это дело, я посетил обвиняемого в тюрьме и увидел, что это застенчивый, кроткий и смущающийся молодой человек. Его звали Томми и он говорил так тихо, что мне часто приходилось переспрашивать его. В его глазах читались страх, замешательство и то, что я счел искренностью. Позднее психиатрическая экспертиза признала, что Томми был невменяем. Между тем, человек, с которым я говорил в тот день, таковым не являлся. Наш частный сыщик не нашел в прошлом Томми ничего, что могло бы объяснить зверское убийство. До настоящего случая он не имел проблем с законом, даже не был замечен в превышении скорости. Его начальники и сослуживцы на стекольном заводе в Фострии говорили о нем, как о надежном, замкнутом и никогда не причинявшем проблем работнике. Недавно, однако, в жизни Томми произошли перемены. Нэйт, сотрудник Томми, вовлекся в фундаменталистскую христианскую церковь, столь строгую и суровую, что многие в городе считали ее сектой. За несколько месяцев до происшествия, Нэйт начал читать Томми проповеди о Боге, Сатане и битве, ведомой на земле за души людей. Главным образом чтобы успокоить Нэйта, Томми стал посещать их службы в маленьком офисе на первом этаже с видом на улицу, который служил в качестве церкви. Постепенно, однако, он начал верить в то, что слышал там. Он сказал, что длительное время чувствовал себя окруженным негативными силами, и теперь, когда он узнал имя своего мучителя, он повсюду чувствовал присутствие Сатаны. По его просьбе пастор даже совершил у него дома обряд изгнания злых духов, которые, как он сказал, не давали ему спать и возмущали душевный покой. День ото дня Томми делался все более возбужденным. На работе заметили, что он стал угрюм и раздражителен и утратил интерес ко всему кроме своей церкви. Он выселил жену и шестилетнего сына из их комнат, где, как он чувствовал, дьявол наиболее закрепился, и заставил их спать в гостиной. Он беспрерывно звонил другим членам церкви, особенно Нэйту, в любое время ночи. В ночь убийства Томми не мог избавиться от удушающего чувства зла. Всю ночь он расхаживал и молился, пока его жена и ребенок пытались заснуть на матрасах в гостиной. В четыре часа утра он позвонил Нэйту. Тот попытался его успокоить, но Томми возбуждался все сильней, затем объявил, что приедет, и бросил трубку. В доме Нэйта Томми, меряя шагами пол, бормотал нечто невразумительное, а его жена наблюдала за ним сквозь слипающиеся глаза. Сын Томми в пижаме сидел на диване, сжимая игрушечную зверушку. Время от времени дети Нэйта выглядывали из своих комнат, но только затем, чтобы отец прогнал их обратно в постель. Наконец, все утихомирилось. Сын Томми заснул на диване. Томми лег на пол головой на коленях у жены, которая ласково гладила его по волосам и успокаивающе приговаривала, стараясь убаюкать его как ребенка. Нэйт потом сказал, что он собирался дать пройти еще нескольким минутам покоя, а затем убедить Томми вернуться домой. Но Томми открыл глаза и увидел двух котов Нэйта, черного и белого, лежавших на подлокотниках дивана. Между ними находился его маленький сын, равномерно дышавший во сне. Как позже Томми рассказал обследовавшему его психиатру, силы с которыми он боролся столь долго, теперь находились прямо перед ним. Белый кот был – Бог, а черный – Сатана и они воевали за душу его сына, который спал между ними. В этот миг, сказал Томми, он осознал вне всяких сомнений, что его миссией на земле было избавить мир от зла. Он вскочил на ноги, и не успел Нэйт сделать что-либо, как Томми выхватил свой монтёрский нож и обезглавил черного кота. Его жена закричала. Томми повернулся к ней и с безумным, решительным видом стал толкать жену перед собой в спальню Нэйта. Нэйт, весивший на сотню фунтов больше Томми, прыгнул на него, но Томми выгнул спину и – как потом сказал Нэйт: «сбросил меня как насекомое». Оказавшись в спальне, Томми запер дверь и колол свою жену, пока не устала рука, а потом пошел по улицам Маундсвиля держа в руках окровавленный нож и голову черного кота. Весь этот случай крайне меня озадачил. Вечером на кухне я рассказал о нем Роузу. «Преступление не соответствует этому человеку,» – сказал я. «Сущности,» – ответил Роуз, – «просто и ясно. Я всё говорю вам, ребята: в джунглях есть тигры.67 Это только самодовольство заставляет человека верить, что кроме него никого нет.» «Отчего же никто и никогда их не видит?» – спросил я. «Есть полно вещей, которые ученые не могут видеть, но они всё равно выводят их существование из их воздействий. Силовые поля, электричество, вирусы. То же самое с сущностями. Они редко видны, но их воздействия проявлены.» «Воздействия?» «Потери энергии, в основном. “Материя не возникает и не исчезает.”68 В страсти, будь то секс или кровопролитие, выделяется огромное количество энергии, и затем она исчезает по мере утоления страсти. Эта энергия должна куда-то деться. Чем бы оно ни являлось, – то, что заставляет нас потворствовать этим вещам, получает отдачу от акта похоти, гнева или убийства в виде энергии.» Эл, работавший в маундсвильской тюрьме консультантом, припомнил ряд историй заключенных, которые совершили убийство или изнасилование, побуждаемые явственными голосами. Роуз кивнул и добавил несколько случаев, о которых слышал. «Все ли сущности злые?» – спросил я. «Необязательно,» – ответил Роуз. – «Когда ходишь по лесу, приходится остерегаться клещей. Клещи не злые – просто они хотят есть. Лично я их кормить не желаю.» Я начал было задавать вопрос, но Роуз продолжал. «Человек поразительно глуп. Он уверен, что он на контроле, но правда в том, что он просто робот во сне, кукла, чьи ниточки дёргают бестелесные умы, которых он не видит.» «Хорошие и плохие духи?» – спросил Эл. «Хорошие или плохие для кого? Эти силы просто стараются выжить, как и все прочие. Фермер держит коров, кормит их, заботится о них, даже, возможно, даёт им клички. Потом он завладевает их молоком и забивает их детей. Делает ли это фермера хорошим или плохим? Или он просто паразит, как и все в этом мире?» «И всё же,» – говорил он дальше, – «некоторые силы, кажется, заинтересованы в наших духовных стремлениях, силы, которые можно назвать “хорошими”. Я знаю, что мне помогали. Мне и за миллион лет было не создать условия, необходимые для моего Опыта. Я верю, что человек, который принимает искреннее обязательство любой ценой найти своего Бога, привлечёт защиту. Эта защита, может статься, проведёт его через ад, но если он не будет делать глупостей, он устоит.» «А откуда эти сущности приходят?» – спросил я. Роуз развел руками. – «А откуда приходит всё в этой иллюзии?» Официальный диагноз умственного состояния Томми явился психоязом69 самого нелепого образца: «...истерическая гомосексуальная паника, приведшая к жестокому приступу невозобновляющейся, временной шизофрении». Томми был признан неподсудным вследствие невменяемости и мои обязательства перед ним закончились. Даже при том, что идея невидимых сущностей, подстрекавших Томми к им содеянному, была мне чужда, нечто оккультное и загадочное в моих взаимоотношениях с Роузом напугало меня в то время чрезвычайно. Жизнь с Роузом порождала во мне непосредственное, явственное ощущение, что нечто находится вне поля нашего зрения, что наше измерение не единственное из возможных. И тем не менее, мне трудно было поверить, чтобы привидения и духи могли контролировать наши мысли и направлять жизни. При том, что психологипрофессионалы, очевидно, не могли подвести связной теории под то, что случилось с Томми, объяснение Роуза оставалось для меня слишком ненатуральным. Потом подошла встреча ТАТ Дня Труда70. Четыре раза в год, в выходные ближайшие к 15 апреля, 4 июля, Дню Труда и Благодарению71, члены групп со всей страны собирались на ферме Роуза. Эти сборы были официальными собраниями общества «Истина и Передача» (ТАТ), но на них лишь пару часов отводилось на то, что как-то походило на дела общества. Остальное время протекало в общении со старыми друзьями и просто в позволении групповому настрою и атмосфере поляризовать твою жизнь и обновить твою приверженность к настоящей работе. Для многих это был единственный шанс увидеться и поговорить с Роузом, и даже те из нас, кто жил поблизости, открывали его для себя по- новому, наблюдая, как он функционирует в качестве учителя для всех и каждого, кто хотел бы поговорить или послушать. Во время собраний ТАТ Роуз спал крайне мало. Он не ложился до тех пор, пока совы хотели говорить, и поднимался до рассвета, чтобы быть доступным и для жаворонков. Кто-то из новичков спросил его об этом. «После моего Опыта мне нужно создавать причину, чтобы жить,» – сказал он. – «Я избрал учительство. Оно теперь моё единственное оправдание тому, что я всё ещё околачиваюсь в этом дурдоме.» Это собрание ТАТ было для меня особенно радостным, означая как бегство из офиса, так и возможность повидаться со старыми друзьями, многих из которых я не видел годами. Я так увлёкся рассказыванием и слушанием историй, что был почти разочарован, когда Эл вышел на террасу и объявил начало сидения в резонансе. Все нервно болтали, втягиваясь в новопостроенное крыло дома. Роуз уже сидел там и мы все старались выглядеть беззаботно, пока брали стулья и переставляли их, пытаясь достичь “правильного размещения”. В общем представлении оно заключалось в том, чтобы разместиться поблизости от людей, с которыми ты чувствовал сродство, подальше от людей, которые истощали твою энергию, и близко – но не слишком – к Роузу. Новое помещение было довольно большим, но заполнившие его около тридцати человек весьма затруднили выбор места. Я не особенно был доволен своим местом. Роуз был почти закрыт от меня и я находился гораздо ближе к Люку, чем мне того хотелось бы. Люк был низкого роста человек с вкрадчивой речью и черными проницательными глазами. Он появился в питсбургской группе примерно в одно время со мной, а потом переехал в Вашингтон незадолго до того, как я отправился в шатокуа-турне. Мы сохраняли некоторое поверхностное товарищество с наших ранних дней в группе и я всегда радовался, видя его на собраниях ТАТ. Но за последние пару лет мне по какой-то причине становилось всё более неуютно рядом с ним, и теперь, когда стихли последние звуки двигаемых стульев, я ощутил явственный физический дискомфорт оттого, что для сидения в резонансе сижу близко к нему. Я приписал это своему общему недовольству моим местом в комнате и постарался не обращать на него внимания. Взглянув на Люка, я, однако, заметил, что он выглядит нервным и взвинченным в степени, далеко превосходящей то беспокойное ожидание, которое большинство из нас испытывали в начале сидения. Постепенно разноголосица сошла на нет, предоставив тишину Роузу. Он проговорил несколько минут, остря тихим, почти убаюкивающим голосом. Затем он откашлялся и замолчал. Через несколько минут тишина углубилась. Поток звуков в моих ушах стал громче и изменился тоном. Воздух сгустился и наполнился прозрачным движением. Роуз сидел, закрыв глаза, его голова медленно поворачивалась, пока он «смотрел» на каждого из нас сквозь веки. Он не единожды говорил, что в резонансе он может видеть только с закрытыми глазами, и что это помогало ему узнавать мысли присутствующих. Пока я наблюдал, он время от времени то хмурился, то как бы в удивлении поднимал брови, но всегда его лицо возвращалось всё к тому же выражению внеличностной, безусильной концентрации. Затем, без предупреждения, он поднялся со стула и встал перед молодой женщиной, сидевшей справа от него, легко положив свою мускулистую руку прямо ей на макушку. Закрытые веки девушки задрожали и сквозь них покатились слезы. Роуз проговорил ей несколько тихих слов, но не более чем через минуту он перешел к сидевшему рядом парню и точно также поместил руку ему на макушку. «Что вы делаете?» – сказал парень через время. Этим утром он увидел Роуза впервые. «Чувствую твои мысли,» – тихо ответил Роуз. Страх и ожидание наполняли комнату, пока Роуз совершал свой обход. За это время я постепенно осознал наличие нового звука, медленно делавшегося всё громче. Я посмотрел влево и увидел Люка. Его голова сотрясалась мелкой, быстрой дрожью и в его горле рождались урчащие звуки, напоминавшие низкий рык разъяренного животного. Другие тоже заметили, что делается с Люком, но старались не обращать внимания. Однако ещё через несколько минут это стало невозможным, поскольку рыки его сделались громче, а сотрясание более заметным. Роуз ни разу не посмотрел в его направлении, а продолжал спокойно и целенаправленно двигаться от головы к голове, как если бы каждый человек, перед которым он останавливался, был в помещении единственным. К тому моменту, когда Роуз встал уже только за одного человека от него, тело Люка дёргалось и издавало звуки как злобная собака. Холодный озноб прошиб меня, да и всех остальных, думаю. Только совершенный покой на лице Роуза не позволял возрастающему ощущению паники воцариться в комнате. Роуз попрежнему не смотрел на Люка и не торопился с девушкой, сидевшей рядом с ним, хотя она была откровенно испугана и отодвинулась на стуле как можно дальше. Когда Роуз закончил, он улыбнулся ей и встал перед Люком. Не обращая внимания на рычание и дёрганье, Роуз положил руку прямо на голову Люка так же, как делал это с другими. Не двигаясь и невзирая на челюсти, клацавшие в нескольких дюймах ниже его руки, он стоял и бесстрастно смотрел Люку в глаза. «Тело человека – его крепость!» – неожиданно громко возгласил Роуз, отчего я вздрогнул и озноб пробежал по телу. «Ты не имеешь права быть здесь! Покинь этого человека!» – строго приказал он. Тут он сжал руку в кулак и рванул её от мотавшейся головы Люка. Люк издал пронзительный страдальческий вопль, потом его голова упала на грудь и долгое время он сидел в такой позе, мокрый от пота и изможденный. Меня тоже трясло. Я закрыл глаза и попытался восстановить перед внутренним взором то, что я видел – или думал, что видел, – когда Роуз отдернул руку. Возбужденное ли, тревожное моё состояние создало образы, воспринятые моим умом? Или это быстрое движение Роуза оставило в воздухе след руки, который и создал иллюзию чего-то материального? Или я видел то, в чём убеждало меня моё тело, – неясное, пугающее создание, явившееся и сгинувшее в одно мгновение? Остаток выходных Люк держался в стороне от всех, но перед отъездом он спросил мистера Роуза, можно ли поговорить с ним наедине. Роуз ответил: «конечно, разумеется», как он делал всегда, и они долго разговаривали вдвоем, прогуливаясь по ферме. С того ТАТ собрания Люка никто часто не видел. В Бенвуде жизнь пошла как и прежде. Изгнатель бесов был по-прежнему нашим квартиродателем, блюдя порядок в переполненном доме и поднимая адский шум, если ктонибудь ставил кастрюлю близко к его бумагам или машинке. Жизнь с Роузом была поистине неизъяснимой смесью магического и земного. Большую часть времени, особенно в те редкие моменты, когда я был в мире с самим собой, я знал, какой я счастливчик, и благодарил – чем бы оно ни являлось – то, что привело меня в Бенвуд. Но и другие мысли и побуждения начинали вкрадываться в мою голову. По мере того, как адвокатская практика занимала всё большую часть моей жизни, зов со стороны мира делался сильнее также и в других отношениях. Сначала я ловил себя на задумчивости, затем заинтересованности, и, наконец, – мечтах о том, что я упускал, живя в доме Роуза. Временами позыв уехать был столь силен, что я даже начал задаваться вопросом, а не «чужие ли голоса» говорят со мной. Осень была особенно трудным временем года. Подступающая зима неизменно возбуждала всё ту же тоску по теплу, безопасности, привязанности, которой я был столь сильно охвачен в мой первый приезд в Бенвуд, – тоску по простым вещам, казавшихся здесь в таком недостатке. Дни становились всё короче, а я проводил в офисе всё больше времени, оттягивая возвращение в Бенвуд. Я начал задумываться, смогу ли выдержать ещё одну зиму с Роузом, мыкаясь среди голых стен без уединения и удобства, вставая посреди ночи, чтобы подкинуть дров в печь, которую мы переместили в кухню, и спя в переполненной комнате, в которой с декабря по март редко бывало выше пяти градусов. Ноябрьское собрание ТАТ в том году подействовало на меня особенно угнетающе. Люди приехали на ферму, шутили и разговаривали, а потом вернулись домой в свою комфортную жизнь. Впервые с тех пор, как я после университета покинул Питсбург, мне захотелось отправиться вслед за ними. Я приобрёл привычку работать по субботам, в основном, чтобы убежать от скуки по выходным в Бенвуде, и в субботу перед Рождеством я сидел один в офисе и долгое время смотрел в окно, погрузившись в привычное настроение. Воздух был полон густых, мягко падавших снежинок. Через улицу, в здании суда, горели рождественские огни. Дети с санками и покупатели со свертками проходили мимо окна. Мне вспомнились игры в снежки с моими братьями в детстве. Перед внутренним взором встала вьюжная ночь в университете, когда зазвонил телефон и моя двоюродная сестра сообщила, что умер отец. Потом я стал представлять, что приготовила бы мама на ужин, будь я дома. Борясь с депрессией, я положил дела в стол и закрыл офис. Даже Бенвуд был предпочтительней, чем одинокое сидение в мёртвом офисе. Школьная парковка была непривычно пуста. Стоял лишь фургон Роуза с двумя дюймами свежего снега на крыше и капоте. Я медленно прошел по укрытым снегом ступеням и дорожке, пытаясь совладать со своим состоянием до того, как предстану перед Роузом и сожителями. Я отряхнул снег с туфель и вошел. Роуз сидел один за столом в кухне, глядя поверх мягкой книжки. «Ага. Что там на улице?» – в его голосе была искренняя радость видеть меня. «Валит будь здоров. Улицы заметает. А где все?» «В кино,» – сказал он со смесью веселости и недовольства. – «Это была идея Эла, так что, вероятно, что-нибудь про войну, где англичане атакуют укрепление и все обретают славный конец.» Роуз постоянно журил Эла за драматизм, с которым он подходил к любой проблеме, как генерал перед битвой. Я сел за стол. Обычно, придя домой, я шёл наверх переодеться, но тут вдруг понял, что прошли уже недели с того момента, как был с Роузом наедине. По вечерам он бывал особенно теплым и общительным. «Что вы читаете?» – спросил я. «А, глупая книжонка, присланная в Пирамида-Пресс,» – это название Роуз избрал для издательства, чтобы опубликовать «Документы Альбигена». Время от времени ему присылали доброхотные книги для рецензии или возможной публикации. «О чём?» «О небесах и чудесных существах света, которые помогают старушкам переходить улицу,» – Роуз скривился, будто взял в рот какую-то дрянь, и я взорвался хохотом. «Конечно, такие вещи есть,» – продолжил он, – «но, кто бы ни был автор, он понятия о них не имеет.» «Вы говорите об ангелах-хранителях?» «Безусловно, их можно называть так. Я всегда чувствовал, как что-то приглядывает за мной. Когда я раздумываю об этом, вся моя жизнь иногда выглядит как чудо.» «Вы думаете, у каждого есть ангел-защитник?» – я был заинтригован. «Да, думаю, что так. Ребенком я определенно ощущал надзор, а я ведь не какой-то особый. Если подумать о всех тех случайностях, которые могут отправить ребёнка на небеса, то без незримой помощи было бы непонятно, как столь многие доживают до взрослого состояния.» «А как же те, которые отправляются на небеса?» «Это нужно, чтобы держать начеку других родителей.» Мы оба фыркнули от смеха и помолчали с минуту. Наряду с моими недавними помыслами и раздумьями о том, какой могла бы быть жизнь вдали от Бенвуда, я также размышлял и о другой стороне медали – о моих знакомых, не имевших духовного интереса и уже живших «нормальной» жизнью. За один только прошедший год многим из моих друзей и родственников пришлось пройти через развод, служебные неудачи или посещать терапевтов из-за разнообразных современных напастей. «Я чувствую, что в целом я очень удачлив,» – сказал я, – «даже благословен. Я смотрю на некоторые события в моей жизни и чувствую что-то вроде направляющей руки. Но тут я спрашиваю себя, а не одно ли это самодовольство – так думать? Ну, то есть, кто я такой, чтобы иметь какого-то ангела, или духа, или что-то там для надзора за мной, в то время как многие другие выглядят такими несчастными и жалкими?» Роуз задумчиво покрутился во вращающемся кресле. – «Не у всех один вид защиты. Я уверен, что каждый человек имеет защитника, который соответствует уровню его бытия.» «Что вы имеете в виду?» «То, что сказал. Например, есть только одно, чего я только и хотел в жизни – выяснить, кто я есть, и вот тут я нашел свою удачу. Но возьми моего брата Джо. Это был парень, живший исключительно на уровне инстинктов, и вот на этом уровне ему и помогали. Он был совершенно бесстрашен, поэтому постоянно попадал в переделки. Это, буквально, чудо, что его не разорвали на части. У него тоже было нечто, что за ним присматривало, даже при том, что он бывал поистине жалок, когда ему стукало в голову. Работой Джо было вождение грузовиков, и иногда он просил меня сделать с ним ходку, когда полагал, что могут быть трудности. Один раз мы заехали на фабрику, где часть рабочих проводила забастовку. Со всех сторон поднялся ропот, что, мол, мы привезли снабжение, тогда как ребята из профсоюза хотят, чтобы все прекратили работать. Джо оставил меня в кабине с пистолетом наготове, а сам стал разгружать прицеп. Вокруг топталась куча обозленных мужиков и я пытался уследить за ними за всеми одновременно. Внезапно я что-то увидел углом глаза, – повернулся – летит кирпич прямо Джо в затылок. Ещё не успел я крикнуть, как Джо подныривает и кирпич пролетает как раз над ним. Если бы он не пригнулся, тот кирпич наверняка проломил бы ему голову. После того, как мы по-быстрому двинули оттуда, я спросил, как это у него получилось. Он ведь никак не мог увидеть, что происходит. Он ответил, что у него в голове прозвучал голос: “Пригнись!”, что он и сделал. Вот, что спасло ему жизнь.» «Откуда они берутся, эти защитники или что бы там ни было?» «Трудно сказать,» – ответил он, откидываясь на спинку. – «В семинарии нам говорили, что это на самом деле ангелы, знаешь, такие пухленькие херувимчики. В одной группе, с которой я встречался на западе, верили, что это родственники, которые были к нам привязаны в нашу бытность детьми, и которые после своей смерти по-прежнему заботятся о нас и находятся рядом для поддержки.» Последнее объяснение тронуло во мне сонастроенную струну. – «Знаете, забавно, что вы сказали это. Вечером я как раз вспоминал о моём отце. Меня никогда не интересовала философия. Но, когда умер отец, я встретился с вами и все события стали складываться так, чтобы направить меня сюда. Возможно ли, что...» Роуз покачал головой. – «Я знаю, что тебе хотелось бы думать так,» – сказал он тихо. – «Но нет, твой отец не твой ангел-хранитель. Он, возможно, осведомлен о твоих делах, но теперь его заботы где-то в другом месте. Не он опекает тебя.» 16 КРИШНАИТЫ Когда я еще только начинал развивать мою практику, Роуз никогда не просил меня заниматься юридическими делами для группы. До того, как ко мне присоединился Лу, за нашими профессиональными услугами он не обращался. То ли Роуз ждал, когда я встану на ноги, то ли на самом деле это Лу внушил ему доверие, – как бы то ни было, это случилось как раз в то время, когда вражда между Роузом и кришнаитами стала разгораться. Роуз никогда не выражал однозначного сожаления по поводу своего решения сдать «старую» ферму Кейту Хэму и Ховарду Уилеру, даже при том, что они солгали ему насчет своих намерений и в итоге превратили её в разраставшуюся Харе Кришна-империю, поджимавшую его ферму со всех сторон. Нью-Вриндаван сообщество, как оно называлось, использовало аренду роузовой фермы в качестве основы для приобретения большинства окрестных ферм и постройки «Дворца Золота», внушительного сооружения, облицованного двумя сотнями белого итальянского и голубого канадского мрамора, с куполом, покрытым двадцатичетырехкаратным золотом. «В некотором смысле иметь соседями кришнаитов лучше, чем деревенских,» – как-то сказал Роуз. – «По крайней мере они не напиваются и не крадут радиаторы из грузовиков.» Но с годами трения усилились. Бывали незначительные споры насчет заборов и скота, но, когда богатство и мощь Нью-Вриндавана возросли, его лидеры стали более уверенными и наглыми. Как-то, когда Роуз расспрашивал о нескольких пропавших козах, Хэм, который впоследствии изменил свое имя на Свами Киртанананда Бхактипада, сказал: «Даже если мы их и взяли, вы ничего с этим не сделаете. Мы вас окружили.» Постепенно Роуз стал просить меня посредничать в этих разногласиях и я делал кое-какие звонки. Но кришнаитские адвокаты не реагировали на мои угрозы судебного преследования и почти провоцировали меня потащить их клиентов в суд. Когда пошли слухи, что я адвокат противоположной стороны в этих спорах, приверженцы Кришны при встрече стали бросать на меня мрачные взгляды и в лицо называть демоном. Эти мелкие пограничные склоки оказались только прелюдией. По мере того, как инциденты возрастали, Роуз уделял кришнаитам всё больше внимания. Чуть ли не каждый вечер на кухне он говорил о проблемах с ними или делился новыми слухами о том, что на самом деле происходит внутри сообщества Нью-Вриндавана. Сплетни и истории о проституции, обороте наркотиков, насилии над детьми и прочих преступлениях были общим местом. Не единожды я ему предлагал, если он захочет, – мы с Лу попытаемся на законных основаниях вернуть его ферму, но никогда не получал определенного ответа. Он говорил что-то вроде такого: «знаю, у вас, парни, нет времени», или «ну, если у вас какнибудь будет время, можно над этим подумать». И вот, как-то, когда я работал за столом в своем кабинете, я услышал в приёмной знакомый голос. «Лу и Дэйв здесь?» – Это был Роуз. Я онемел от удивления. Прежде он никогда не бывал в офисе и, по сути, это было его пунктиком, который он объяснял тем, что он не хочет, чтобы его репутация эксцентрика отразилась на нашей практике. Я вскочил с кресла и очутился в приёмной еще до того, как секретарша закончила спрашивать, назначено ли ему. Лу, похоже, сделал то же самое. Мы выскочили одновременно. Несмотря на то, что стоял теплый осенний день, Роуз был в длинном шерстяном пальто. «Я был рядом с городом и подумал: дай-ка загляну к вам, парни,» – сказал он. – «Я сегодня принял ванну и не хотел, чтоб это было зазря.» Мы с Лу нервно расхохотались. Наша секретарша остолбенело взирала на сцену. «Проходите, садитесь,» – сказал Лу. Мы зашли в кабинет Лу, более просторный, чем мой, и сели – Лу за свой стол, мистер Роуз и я в кресла для посетителей. Роуз оглядел кабинет Лу, задержавшись на нескольких предметах искусства, которыми Лу украсил помещение, само по себе унылое и непримечательное. «Славное местечко у вас,» – сказал Роуз, одобрительно кивая. «Нам удобно,» – ответил Лу, – «но, в-общем – дыра.» «Не сравнить с кабинетами, характерными для адвокатов округа Маршалл,» – сказал Роуз. – «Вот то уж точно дыры. Комнаты на втором этаже, провонявшие спиртным и сигаретами. Половину времени приходилось приводить их в чувство, чтобы поговорить с ними. И тогда они мигом надевали профессиональные маски и снисходительно смотрели на тебя, как на насекомое, которому они готовы сохранить жизнь, если докажешь, что стоишь их времени, и если заложишь ферму, заплатить им сумасшедший гонорар...» Он замолчал и вновь оглядел кабинет. – «Скажу вам, парни, что вы другие.» Мы посидели в молчании некоторое время. Настал момент для разговора о цели его визита. «Я вчера был в магазине и наскочил на Боба Барки,» – сказал он. У Барки была ферма недалеко от роузовой и они с Бобом были давними друзьями. Тут Роуз начал было пересказывать длинную историю его дружбы с Бобом, хотя мы её слышали неоднократно. «Ну, да ладно, вы уже знаете это всё. А дело в том, что я поговорил с Бобом насчет кришнаитов и моей старой фермы. И он сказал: “Тебе следовало бы нанять тех новых адвокатов в городе и выяснить, нельзя ли вернуть ферму обратно.” Я ответил ему, что это неплохая мысль и я с этим разберусь.» Он немного помолчал и поглядел на нас. – «Ну, что вы думаете? Стоит ли попробовать?» На мгновение мной овладело замешательство и неуверенность. Конечно, он знал, что я ухвачусь за любой шанс помочь ему или группе. Или не знал? И почему он выбрал такое время и такую манеру задать вопрос? Забыл он что ли, как я сам предлагал помочь забрать ферму? Или неопытность, нерешительность или ненадежность с моей стороны удерживали его от принятия этих предложений? Была ли его сдержанность как-то связана с его долго державшимся отказом принимать от меня еду и вообще всё, что я предлагал? Но эти мысли быстро исчезли. «Абсолютно, мистер Роуз,» – энергично сказал я. – «Мы можем начать работать прямо сейчас.» «Отлично. С чего начнем?» Лу достал блокнот и заговорил в своей обычной методической манере. – «Просто рассказывайте нам всё с самого начала, мистер Роуз, а мы будем спрашивать, если что-то нужно прояснить.» Мы и раньше слыхали эту историю, но теперь это было общением адвокатов и клиента в офисе, отчего она предстала более упорядоченной и хронологичной. «Был 1967 год, я думаю, когда я разместил рекламу в “Сан-Франциско Оракл”. Вероятно прошло лет двадцать со времени моего Опыта и я почти потерял надежду, что когда-нибудь найду кого-то, кому его передать. За исключением нескольких старушек в стьюбенвильской группе и случайного психа, которого Боб Мартин или я могли повстречать, не было никого, с кем хотя бы поговорить на духовные темы. Затем, в шестидесятые дух времени переменился. Я всегда брал детей из города на ферму, чтобы они отряхнулись от городской атмосферы, – деревня прекрасное место для детей. Но вот что стало происходить с конце шестидесятых: молодежь студенческого возраста, а кто-то и моложе, потянулись на ферму по собственному почину. Я никак их не приваживал или чтото такое, но, разумеется, и не расхолаживал. Не успел я опомниться, как уже у нас образовались регулярные сборища по выходным. Ничего формального, просто сидение кружком и философская болтовня. Если сходились условия, я прочитывал мысли в однойдвух головах. Меня стало занимать не на шутку, с чего бы вдруг эти ребята были так открыты и осведомлены в эзотерических материях. Наконец, до меня дошло, что это наркотики, в частности, ЛСД, открывали им умы. Они видели другие измерения, которые казались такими же реальными как это. И в добавок, кислота, по-видимому, давала им искусственную интуицию – они меня понимали. Ну, и я решил, что, должно быть, пришло время. Ведь с Опытом приходит и обязательство. Так что кончилось тем, что я поместил рекламу в пару андерграундных газет в Нью-Йорке и Сан-Франциско, в которых сообщал, что ищу искренних ищущих, которые хотели бы стать членами философского ашрама.» – Роуз улыбнулся. – «Я не представлял, во что вляпываюсь.» «Я слышал, к вам перезаглядывала уйма бездельников и бродяг,» – сказал Лу. «Да уж, в этом мне повезло,» – фыркнул Роуз. – «Большинство из появлявшихся были нариками, которые искали места пережить ломку. Однажды заявилась пара цыган и поселилась в трейлере на ферме. Сказали мне, что они ученики гурджиевской группы, и я решил, что, может быть, я, наконец, нашёл людей с потенциалом. А позже я выяснил, что они были сутенёрами в пригороде. Я их вышвырнул, но перед тем они спалили мой трейлер.» Он хохотал, вспоминая, и говорил беззлобно и без видимых сожалений. «Тогда и появились Хэм и Уилер?» – спросил я. «Точно, тогда примерно. Они сказали, что раньше принадлежали движению Кришны, но оставили его, поскольку у кришнаитов слишком закрытые умы. Что теперь они ищут какойнибудь недогматический ашрам, место, куда люди различных верований могли бы приходить медитировать и обмениваться идеями. И это, понятно, привлекло меня, потому что я сам пытался сделать то же самое. Ну, вот, у меня была старая ферма, и так как моя семья жила в городе, а скот я держал на другой ферме, то у меня не было возможности приглядывать за ней. Деревенские повыбивали окна в доме, там всё позарастало как в джунглях, так что, когда Ховард Уилер предложил сдать ферму им, я подумал: почему бы нет? Может, из этого что и выйдет путное.» Он открыл свой старый чёрный ранец и подал мне трехстраничный нотариальный документ. «Это оригинал договора между Ховардом и мной,» – сказал он. Пока я читал, Роуз продолжал говорить. – «Я отправился к Лоуренсу Эвансу,» – сказал он, называя старого, безупречного адвоката, чей офис располагался несколько дверей от нашего. – «Я знал его по военно-морским сборам. Я сказал ему: “Лоуренс, будь беспристрастен к обеим сторонам”. Вот почему я пошел к нему. Я знал, что он сделает по справедливости.» Прочтя договор, я был впечатлён его стремлением к беспристрастности, выразившемся в неопределенности и нехватке прав арендодателя, отчего моя надежда угасла. Роуз предоставлял Уилеру девяностодевятилетнюю аренду на владение за вполне приличную цену с возможностью выкупа за один доллар в конце срока. И хотя Роуз, безусловно, знал, что имел в виду, когда определил целью аренды «недогматический, открытых умов духовный ашрам», я усомнился, что у судьи или присяжных достанет терпения и желания выяснять разницу между тем, что представлял себе Роуз, и что создали Хэм и Уилер. Разумеется, было правдой и то, что два его съемщика, как выразился Роуз, «облачились в простыни и начали распевать тарабарщину» на следующий день после подписания аренды, но было бы трудно доказать, что это действие явилось мошенничеством с юридической точки зрения. Мы не могли рассчитывать ни на малейшее сочувствие суда. Хотя местные и не питали любви к кришнаинтам, их мнение о Ричарде Роузе было не лучшим, особенно потому, что ему вменялось то, что это он предоставил кришнаитам возможность закрепиться на кряже. И при том, что мой опыт как адвоката округа Маршалл был относительно невелик, мне было достаточно ясно, что колоссальное богатство кришнаитов имело на судебную систему труднопреодолимое влияние. Единым лучом надежды скорее было то, ясно определенное, условие, что съёмщики обязаны платить налоги вовремя, иначе лишаются аренды. Роуз, бывший педантичным во всех бумажных делах, имел оригинальные квитанции, которые неопровержимо демонстрировали, что кришнаиты часто на годы запаздывали с уплатой налогов. «Они нарочно платят налоги с опозданием,» – пояснил Роуз, – «надеясь, что владение пойдет с молотка на аукционе шерифа и они его купят.» «Аренда совершенно ясна в этом пункте,» – сказал я, передавая бумаги Лу. – «По справедливости мы должны выиграть по одному этому пункту.» Лу стал читать договор. «Насчет этого есть слишком много “если”,» – проговорил он медленно. Через две недели мы вчинили иск, требуя вернуть владение на четырех основаниях: что Хэм и Уилер обманули Роуза, заявив, что они больше не кришнаиты, что он не платили налоги вовремя, как это требовалось договором, что во владении они занимаются преступной деятельностью и что передача Уилером владения обществу «Нью-Вриндаван», кришнаитской землевладельческой корпорации, нарушило условие договора о непередаче прав. У нас были неплохие шансы, и, к тому времени как приблизился суд, я был почти уверен в победе, невзирая на силы, ополчившиеся против нас. Но всё кончилось в десять минут. Адвокаты кришнаитов немедленно выдвинули досудебное опровержение той части нашего иска, которая касалась уплаты налогов. Судья не только побыстрому принял это ходатайство, но и пошёл дальше, отклонив целиком весь иск. Это был не последний случай, когда мы имели основание подозревать, что деньги и власть кришнаитов покупают юстицию в округе Маршалл. Вскоре я получил инициативное письмо от кришнаитского адвоката, в котором предлагалось продать семейную ферму Роуза ради другого участка на изрядном удалении от «Харе Кришна Кряжа». Роуз получал ферму, почти вдвое большую, и, согласно письму, в два раза дороже. Я знал, что это предложение – повод для оживленного разговора на кухне и в тот же вечер показал Роузу письмо так, словно притащил домой пойманную рыбину. После обычного поиска очков для чтения, он сел за стол и медленно прочел письмо. «Да они смеются,» – пробормотал он, засовывая письмо обратно в конверт и пренебрежительно швыряя его ко мне. – «Они уже предлагали мне миллион баков за это место и я указал им на дверь. Скажи им, пусть идут к черту. Хотя нет, лучше просто игнорируй.» В связи с этим случаем был интересный момент, приобретший большое значение много лет спустя. На раннем этапе иска у нас была встреча с кришнаитскими адвокатами и они задали Роузу ряд вопросов. В определенный момент вопросы, как будто, закончились и тут один из адвокатов спросил Роуза о его бывшей жене, Филис. Я решил, что это законный вопрос, поскольку имя Филис также фигурировало в договоре. Но Роуз принял это за прямую угрозу его семье и вскочил со стула, готовый к схватке. Мы с Лу быстро успокоили ситуацию, но, хотя я и был тогда адвокатом на стороне Роуза, про себя счёл, что он промахнулся и вышел за рамки. Я списал это на «горца из Западной Вирджинии» в нём и выбросил из головы. Но Роуз, возможно, почувствовал нечто большее в словах адвоката в тот день. Спустя годы, когда империя кришнаитов стала давать трещины, один из государственных прокуроров Соединенных Штатов рассказал мне, что стало известно о плане кришнаитов убить Роуза, вследствие иска, которым мы затребовали ферму назад. Несмотря на то, что они легко выиграли первый раунд, кришнаиты, очевидно, боялись, что Роуз проявит упорство и однажды и в самом деле вернет владение, которое уже стало центром Нью-Вриндавана. В то время как росла распря между Роузом и кришнаитами, Роуз сделался тем, кому местные жители жаловались на проблемы, возникавшие у них с «волосатыми зверушками». И Лу, и я, будучи правовым олицетворением роузовой вражды, стали выбором номер один, если у когото были претензии к кришнаитам. Какие-то из наших дел были в пользу мистера Роуза, а какие-то – других клиентов. Одно занимало промежуточное положение. «Тут вас женщина хочет видеть,» – как-то сказала мне секретарша. «Я её знаю?» «Нет, не думаю. Но она знакомая вашего друга.» Я прошел в комнату ожидания. Там мистер Роуз сидел рядом с долговязой женщиной за тридцать с каштановыми короткими кудряшками. Роуз по-прежнему старался держаться от офиса подальше, и я удивился, что заставило его привести эту женщину без предупреждения. Когда мы зашли ко мне в кабинет, он представил её. – «Это Шерил Уилер, жена Ховарда Уилера.» «Скоро буду бывшая жена,» – подчеркнула она. В ответ на приглашение Роузом, она начала рассказывать свою историю. В шестидесятых ее инициировал в Калифорнии основатель кришнаизма Прабхупада. Когда Прабхупада решил, что Ховарду Уилеру нужна жена, Шерил послушно последовала распоряжениям своего гуру и переехала в Западную Вирджинию, где они с Уилером поженились. Спустя годы они разлучились, Шерил вернулась в Калифорнию, где начала развод. Судья по разводу в Калифорнии дал Шерил временное опекунство над её детьми, включая восьмилетнего сына Девина, который всё ещё жил в общине Нью-Вриндавана в Западной Вирджинии. Она дала мне копию решения калифорнийского суда и продолжила рассказ, пока я читал. «Я пришла к мистеру Роузу,» – сказала она, – «потому что помнила его с моего первого приезда сюда, когда ферма была просто полуразрушенным домом. Не знаю, но только он мне показался другом каждому, кому нужна помощь.» С чисто юридической точки зрения это абсолютно ясное дело,» – сказал я, поднимая глаза от решения. – «Основываясь вот на этом, местный судья должен выдать распоряжение о представлении ребенка в суд округа Маршалл. Если для обратного нет веских причин, судья признает калифорнийское решение действительным и ваш сын сможет ехать с вами домой.» Это не просто какой-то ребенок в коммуне,» – сказал Роуз. – «Хэм будет бороться, как только сможет.» «Что вы имеете в виду?» «Мой сын – протеже Кейта Хэма и постоянный спутник,» – сказала Шерил. – «Они вместе едят, вместе путешествуют и... спят вместе.» Она сжала губы и отвернула голову. Я боролся с чувством ярости и отвращения, но не был шокирован. Мне было известно о длительных гомосексуальных отношениях между Кейтом Хэмом и супругом Шерил, Ховардом Уилером, и истории об изнасиловании детей не были чем-то необычным. Было не удивительно, что извращённый ум Хэма избрал маленького сына Уилера объектом домогательств. На следующий день мы с Лу прошли в кабинет судьи и подали наше ходатайство о представлении в суд, которое включало требование немедленного медицинского обследования ребенка, чтобы установить психическое или сексуальное злоупотребление. Судья нетерпеливо скользил взглядом по нашему ходатайству, пока не прочел достаточно, чтобы понять его суть. Тогда он отшатнулся, будто мы коснулись его гремучей змеёй. «Вернитесь через пятнадцать минут,» – прорычал он после того, как восстановил самообладание. – «Я должен над этим подумать.» Мы вернулись ровно через пятнадцать минут, ожидая худшего. Судьи не было, но, удивительно: его секретарша спокойно передала нам требуемый ордер, должным образом подписанный судьёй. Лу поехал с ордером к шерифу, а я вернулся в офис забрать Шерил, чтобы она сопровождала приставов при изъятии её сына. Прошёл час, два – никаких известий ни от офицеров, ни от клиентки. Далеко после обеда Шерил вернулась одна. «Они знали, что мы придём!» – закричала она, падая в кресло. – «Кто-то их предупредил и совсем недавно, потому что они даже не успели согласовать свои истории.» Я позвонил одному из приставов и он всё рассказал в подробностях. «Они нарассказывали кучу всего, но всё была чепуха,» – сказал он. – «Один учитель сказал нам, что мальчик был здесь несколько минут назад. Кто-то ещё сказал, что его тут нет уже несколько лет. Ещё кто-то сказал, что он уехал за город на выходные. Я вот что вам скажу,» – заключил пристав, – «мальчик был там этим утром, но можете быть уверены как дважды два, – его уже нет в штате.» В течение последующих нескольких дней кришнаитской общиной были предложены три различные официальные объяснения газетам касательно местонахождения ребенка во время попытки его забрать. В Маундсвиле было известно каждому, что кришнаиты спрятали ребенка, но поделать ничего нельзя было. Без физического наличия ребенка наш ордер на осмотр был бесполезен. Дела не стали лучше, когда мы начали процесс признания округом Маршалл права нашей клиентки на опекунство над ее сыном. Шерил Уилер, и так потерявшая равновесие из-за пропажи ее сына, была огорошена приёмом, который мы встретили в суде во время первых слушаний. Судья неуклонно принимал каждое ходатайство, сделанное кришнаитскими адвокатами, и пренебрежительно отклонял любой запрос, сделанный Лу или мной, неоднократно при этом назвав нас «ребята». Дело не шло. После слушаний Шерил излила свои фрустрации газетному репортеру. Она выразила уверенность, что ее ребенок был изнасилован и сказала, что судья этого дела, очевидно, участвовал в похищении её сына. Её интервью появилось в газете на следующее утро. Когда мы с Лу в тот день прибыли в офис, наша секретарша уже имела разговор с судьей. Он хотел нас видеть. Немедленно. В суде нас ждали группа поверенных от кришнаитов, протоколист и взведенный судья. «Итак, ваша клиентка думает, что я проходимец?» – сказал он старательно контролируя голос и сжимая губы после каждого слова. Лу и я промолчали. «Вы, ребята, думаете у вас выйдет пробить это дело в газетах? Окей, мы просто позовем газеты в суд.» Тут он под запись прочёл целиком газетную статью, которая, как он сказал, будет послана в дисциплинарную комиссию адвокатов штата сразу после слушаний. Затем он швырнул газету в нашем направлении. «Где ваша клиентка? Для неё у меня тоже есть несколько слов.» «Она скрывается, поскольку опасается за свою жизнь,» – сказал Лу, глядя в упор на кришнаитских адвокатов. «Ладно, я не отвечаю за страхи ваших клиентов, но я здесь судья и я веду это заседание. Я хочу знать местопребывание вашей клиентки. Теперь же.» «Это конфиденциальная информация и у нас нет полномочий её раскрыть,» – сказал я. Судья снял трубку и позвал свою секретаршу. Она вскоре появилась с «Адвокатским Этическим Каноном» в руках. Судья его открыл и прочел под запись ту часть, где говорится, что адвокат должен повиноваться распоряжениям суда. «А теперь,» – сказал он, наклонившись вперед из своего кресла так, что оказался в нескольких футах от наших лиц, – «я приказываю вам, как практикующим адвокатам, перед собранием этого суда сказать мне, где ваша клиентка.» «Мы не можем,» – сказал Лу. Судья с треском захлопнул книгу. «Сделайте расшифровку этого заседания,» – бросил он протоколисту. На этом слушание было отложено. Я сел в машину и поехал прямо в Бенвуд, рассказать Роузу, что происходит. Когда я вошел в кухню, у меня возникло впечатление, что он ждал меня. «Ну, что случилось?» – спросил он. Я не стал тратить время на выяснение, как он узнал, что то-то случилось, а просто выложил доскональный пересказ нашего допроса с пристрастием и его возможных последствий. Чем дольше я говорил, тем в большую ярость, казалось, Роуз впадал. Вдохновленный этим, я продолжал рассказывать. Если бы состоялся «второй раунд» с судьей, то, похоже, чтобы карать, на моей стороне был бы не просто Бог, а разъяренный и мстительный Бог. Когда я замолчал, Роуз проговорил уравновешенно, но с большой силой. «Ты проиграл.» Я оторопел. «Проиграл? Что...?» «Ты позволил этому большому крючкотвору застращать тебя, и потом ты просто убежал, держа хвост промеж ног и трясясь: что ещё он может мне сделать?» – он покачал головой. – «Я ждал от тебя большего.» Я не мог поверить, что слышу это. «Какого чёрта мы ещё могли сделать?» – крикнул я, потеряв себя в эмоциях. «Если твоё дело правое, просто так ты не убежишь. Даже если оно безнадёжно, ты заставишь себя бороться. Когда ты прав, нет второстепенных битв, нет возможностей отступить. Каждый раз ты борешься изо всех сил, что у тебя есть. Тогда мощь твоей убежденности остановит противников, у которых мотивация слабее твоей. Ты или борешься, или умираешь в позоре. Или хуже – остаток жизни ты проводишь как трус.» Были ещё слова, много слов, но я уже не слышал их. Я чувствовал себя так, словно был атакован своими же союзниками. Я не знал, как и где защититься. «Не понимаю, мистер Роуз,» – наконец сказал я. – «Я просто не понимаю.» «Нет, понимаешь,» – сказал он. – «Ты был прав, он – нет, но убежал-то ты. Понимаешь это, не так ли?» «Он судья, ради бога...» «Да мне плевать, и тебе – тоже должно быть! Если ты не можешь выстоять перед земным фантомом в черной хламиде, как ты можешь думать, что ты готов стать Абсолютом?» На следующее утро Лу и я попросили приватной встречи с судьей, без протоколиста, на которую он тут же согласился, полагая, я уверен, что, рассмотрев возможные последствия, мы решили сказать ему то, что он хотел. Вместо этого мы сказали ему то, что должны были сказать в тот раз. Пока он, ошеломлённый, сидел за своим огромным столом, всё более краснея при каждом слове, мы сообщили ему, что не просто согласны и поддерживаем всё, что наша клиентка сказала газете, но и что мы серьёзно подозреваем его в коррупции. Мы сказали, что нам известно, что это он вовремя предупредил кришнаитов, чтобы Девина Уилера похитили, и что мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы это доказать. Мы сообщили ему и некоторые другие вещи, и, когда мы закончили, мы выстояли перед его реакцией и вышли, сильные снаружи, трясущиеся внутри. Шерил Уилер так никогда и не вернула опекунство над сыном. Позже мы выяснили, что после того, как Девин исчез из коммуны в тот день, его перевезли в кришнаитское поселение в Мексике, где он оставался, пока Шерил Уилер не отказалась от попыток получить опекунство. Затем он был привезен обратно в Нью-Вриндаван, где опять стал постоянным спутником Кейта Хэма – Свами Киртанананды. Как примечание к этому делу. Двадцать лет спустя, когда Хэм обвинялся в шантаже федеральными властями, ему было также предъявлено обвинение в похищении Девина Уилера, чтобы воспрепятствовать властям передать Уилера опекуну, а также выявить его сексуальную связь с мальчиком. По его свидетельству Хэм принял телефонный звонок, предупредивший его о намерении властей забрать ребенка, но прокурор Соединенных Штатов, который проводил перекрестный допрос, так и не спросил его, кто сделал звонок и передал информацию.72 Со временем, когда разошлась молва о деле Шерил Уилер, наш офис сделался чем-то вроде маяка для разочаровавшихся кришнаитов со всей страны. Годами к нам звонили и приходили десятки последователей: от истцов с мелкими спорами по поводу земли или денег и до отчаявшихся людей как Шерил Уилер с рассказами о грязном сексе, побоях, даже убийстве. Эти визиты утратили новизну и в конце-концов стали бременем. Недовольным последователям, появлявшимся в нашей приемной и распугивавшим остальных клиентов, всегда недоставало денег, а равно и решимости выдержать требования правового процесса. В итоге мы устали быть орудием для мести, но никогда не закрывали для них нашу дверь, в надежде, что когда-нибудь в неё войдет тот, кто одолеет насилие, которое кришнаиты осуществляли над правовым и политическим обществом. Однажды этот кто-то, наконец, появился. Его звали Стив Брайант. 17 УБИЙСТВО В конце октября я уезжал на пару недель и, когда вернулся, поехал увидеться с Лу. Он был необычайно оживлен. «Видел эту статью?» – спросил он. У него на столе лежали раскрытые «Новости Уилинга» и меня разобрало, что же эта газета могла напечатать такое, что взволновало бы хоть кого-то, не говоря уж о флегматичном Лу. Я подошёл ближе и остолбенел, увидев заголовок второго раздела: «Бывший приверженец Кришны утверждает, что Свами – мошенник.» Уилингская газета, то ли вследствие предрасположенности, то ли запугивания была исключительно про-кришнаитской и редко печатала о них что-либо негативное. Иногда нам доводилось читать о кришнаитском убийстве или членовредительстве в газетах из Питсбурга, Колумбуса или даже из Филадельфии, но в местных новостях об этом не было ничего. «О Брайанте,» – сказал Лу. «Кто это?» Лу недоуменно взглянул на меня, но сообразил, что я и в самом деле не знаю. – «Стив Брайант. Верно, тебя же не было, когда он появился в городе.» И Лу всё рассказал. Брайант, утративший иллюзии приверженец Кришны, подъехал к офису в начале августа, когда я находился в отпуске. «Он, конечно, был в расстроенных чувствах,» – сказал Лу, – «но излагал связно. Пока он говорил, я решил, что он, вероятно, сможет сказать всё это и во всеуслышание.» Лу пустился в рассказ о том, что Брайант перепробовал несколько кришнаитских общин и под конец устроился в Нью-Вриндаване год или два назад. Он привозил и изготовлял индийские украшения и его форд-фургон служил чем-то вроде мастерской и магазина. Большинство его покупателей были в Калифорнии и в начале года он совершал на запад деловую поездку, оставив жену, пасынка и двух маленьких детей в Нью-Вриндаване. «Ну и, короче, пока Брайант был в Калифорнии, Хэм инициировал его жену,» – продолжал Лу. – «Это его взбесило. Брайант целый час мне объяснял, почему для него это так важно. Видишь ли, в индуистской культуре, основным мастером жены является её муж, так что гуру, если хочет наставить её в вере, скорее должен действовать через её мужа. Фактически это всё, что он сказал. Он все время дословно цитировал Прабхупаду и срывался на то, что Хэм здесь зашел слишком далеко.» «И на какой стадии сейчас дело?» «По факту, ни на какой. Он вёл себя как помешанный, без каких-либо конкретных целей, так что я просто постарался поскорей спровадить его из офиса. Но, похоже, что он вернется,» – Лу протянул розовый бланк телефонограммы. – «Ты можешь с ним поговорить, если хочешь.» Я пожал плечами. – «Не похоже, что у него есть, с чем начать дело.» Тем не менее, я взял телефонограмму и прочёл. Брайант звонил в наш офис из окружной тюрьмы и спрашивал меня. «Что он делает в тюрьме?» «Защитное содержание73,» – ответил Лу с легкой усмешкой. – «Прочти статью. Думаю, она будет тебе интересна.» С газетой я вернулся в мой кабинет. Я ожидал, что «Новости» изобразят Брайната фанатиком, но статья была на удивление беспристрастной. Она подтверждала причину, по которой Брайант разочаровался в Свами, и сообщала, что он вернулся в Маундсвиль, чтобы обличить Свами как ложного гуру. В основном, обвинения Брайанта имели доктринальный характер: Свами искажал учения Вед и указания их возлюбленного ушедшего гуру, Прабхупады. Но в самом конце статьи, как бы между прочим, делались дополнительные заявления. Брайант утверждал, что располагает доказательствами «торговли наркотиками, надругательства над детьми и убийства». Я положил статью в карман и тут же отправился в тюрьму округа Маршалл. Меня провели в комнату для адвокатов и через несколько минут ввели Брайанта, одетого в стандартную для всех арестантов синюю робу. Общее впечатление было какой-то неувязки. Он не походил ни на кришнаита, ни на обвиняемого. Это был высокий блондин, довольно хорошо выглядевший. Его внешность была бы импозантной, если бы не налет чокнутости в его лице и улыбке, – эта же черта делала его вид нелепым в тюрьме. Я представился и он, казалось, был рад и польщен, что я пришел. Он положил на стол толстую папку, которую принес с собой, и протянул мне длинную тонкую руку. Как правило я избегал пожимать руки заключенным. Мне не хотелось протягивать руку дружбы, не выяснив, с каким человеком имею дело. Кроме того я попросту испытывал брезгливость при мысли о том, чтО эти руки трогали несколько минут назад. Но в Брайанте было нечто такое, что заставило меня снять защиту и пожать ему руку. «Вы становитесь вроде знаменитости в этих краях,» – сказал я. Его улыбка стала шире. – «Да, я стараюсь, чтобы люди узнали. Этим утром здесь была телегруппа и взяла интервью. Один из охранников обещал вечером записать его для меня.» «Что вы им сказали?» «Только основные моменты. Всё, что, как полагаю, заставит Киртанананду переполошиться, когда он его увидит.» – Он перестал улыбаться. – «В коротком интервью не было возможности рассказать всё. Мне известно такое, что вы не поверите.» «О Свами?» «Свами?» – он выплюнул это слово как горькое семя. – «Что за чушь. В нём духовного и капли нет. Это шарлатан, самозванец. Он прямо нарушил почти все наказы Прабхупады. Он вредит движению Кришны больше, чем это мог бы сделать любой посторонний.» Тут Брайант на сорок минут пустился в обличения Свами Киртанананды. Слушая его, я убеждался всё сильнее, что в нём, определенно, было что-то особое. За последние годы я переобщался с немалым числом возмущённых последователей кришнаизма, которые изливали всевозможные оскорбления и обвинения в адрес Свами. Но какой бы гнев или разочарование не владели ими, они всё равно упоминали о Киртанананде с интонациями уважения, даже трепета. Брайант же говорил без страха и оговорок. «Почему вы это делаете?» – спросил я его. «Потому, что он увёл мою жену.» «Не думаю, что Хэма интересуют женщины.» «Его – нет. Он гомик. Он ненавидит женщин и поощряет всех мужчин в Нью-Вриндаване бить своих жен. Моя жена нужна ему не для секса. Ему нужны её деньги. И власть. Это его фишка. Так что все женщины хороши в его глазах как источники денег и власти. А секс ему нужен от мужчин. Для женщин он находит и другие применения. Некрасивых он посылает на работу в поле как мулов. А хорошеньких после «отбора» отправляет клянчить деньги. Если же они настоящие красавицы, то использует их как награду для своих корешей. Вот это он и сделал с моей женой. Он отдал её другому, как подарок от гуру,» – тон Брайанта, хотя и горький, оставался сдержанным. «Киртанананда цитирует писания насчет того, почему жестокое обращение с женщинами это нормально и почему они граждане второго сорта. Но он нарушает писания во всём, что касается его самого. Вот как он склонил мою жену к инициации?» Брайант стал рассказывать о том, как занимался бизнесом в Калифорнии, когда прослышал, что Хэм инициировал его жену в кришнаитскую веру. Очевидно, «инициация» – решающий и священный шаг в кришнаизме и не должен делаться без ведома и разрешения мужа. Когда Брайант узнал, что Хэм инициировал его жену, он в ярости позвонил ему. «Хэм сказал мне то же самое, что и жене: будто связь женщины с Богом проходит через гуру. Но это совсем не то, что говорил Прабхупада. Прабхупада разъяснял, что связь женщины идет через её мужа.» Брайант схватил принесенный им большой конверт, как если бы он содержал доказательство его слов. «Если гуру инициирует жену без согласия мужа, жена становится предана гуру, а не мужу. Руководящий поток идёт непосредственно от её духовного учителя и муж выпадает из этой цепи. Жена становится рабой гуру и он может сделать с ней, что ему угодно. Так, Хэм заставил мою жену развестись со мной и выйти замуж за Раганунту. И хуже супруга для неё он не мог найти,» – Брайнт возвысил голос и принялся расхаживать. – «Раганунта – извращенец. Вот почему он не мог сам заполучить женщину. Но у его родителей есть деньги и Хэм не хотел его упускать. Поэтому дал ему мою жену! И, знаете, что этот сукин сын сказал мне, когда я позвонил? Он сказал, что я должен ему предаться.» Брайант сел обратно на свой стул. «Предаться,» – тихо повторил он. – «Всецело, полностью предаться.» Он замолчал и впал в задумчивость, как если б в предписании Хэма звучала заманчивость кришнаитской истины, которую и Брайант не мог отрицать. Предаться гуру. Предаться гуру – даже если он уводит твою жену и отдает её извращенцу. Какое-то время Брайант в молчании изучал свои руки, потом внезапно вскочил так, что от его резкого движения стул отлетел назад. «Ерунда! Черта с два я предамся этому пидору!» – крикнул он. – «Может, он и обморочит безмозглую женщину, но у него не получится сделать голубка из меня.» С минуту или две я давал ему выговориться, затем попытался повернуть разговор в более конкретное русло. «Что дальше?» – спросил я. – «Каковы ваши планы?» Его глаза сверкнули. – «Я знаю о Киртанананде правду и собираюсь повалить его.» «Как?» «Все верят, что Хэм великий ведический знаток. Он был с Прабхупадой с самого начала и утверждает, что знает все священные писания как свои пять пальцев. Я знал, что инициация моей жены – это неправильно, поэтому прочел всё, что Прабхупада когда-либо написал. Я много изучил о ведической доктрине, но также много узнал и о Киртанананде. Все считают, что Хэм был преемником, избранным Прабхупадой. Но прямо в том, что он написал, содержатся все виды предостережений о Киртанананде. Прабхупада сказал, что он высокомерен и честолюбив, и что он не доверяет ему. Людям в движении следует знать это.» «Но почему вы позвонили мне? Что вам нужно от адвоката?» «Вы должны понимать, что Киртанананду воспринимают как Бога. Непогрешимым. Безукоризненным. В нём нельзя сомневаться. Люди трепещут перед его властью. Но когда я стал рассказывать все эти вещи другим преданным, выяснилось, что у каждого есть, что рассказать. Каждый знал какую-то мерзость о Киртанананде. Просто они либо слишком были запуганы, либо слишком преклонялись перед ним, чтобы говорить об этом раньше. Наркотики, убитые люди, совращенные дети. А это ваше дело о сыне Уилера? Все знают правду. Киртанананда развращает этого мальчика почти самых пеленок. Когда вы с его матерью пытались заполучить его, Хэм увёз его в Мексику.» Я старался иметь объективный, положенный адвокату вид, но моё сердце колотилось. Дело Шерил Уилер всё ещё мучило меня, и перспектива восстановить каким-то образом правосудие или выправить ситуацию возбудила мой живой интерес. «До вас я уже сталкивался с негодующими кришнаитами,» – сказал я. – «У всех были истории, но они не желали доводить их до конца или же хотели остаться в тени.» Брайант взял принесенную им распухшую папку и вытряхнул её содержимое на стол. Бумаги он разделил на два больших вороха. «Здесь – некоторые писания Прабхупады и комментарии,» – сказал он, положив руку на одну стопку. – «Мной выделены места, из которых видно, что Киртанананда откровенно нарушает ведическую доктрину.» Проделанная им работа впечатлила меня, и, возможно, помогла бы ему пошатнуть кришнаитов изнутри, но, как по мне, с правовой точки зрения этот ворох был бесполезен. «А что в другой стопке?» – спросил я. «Письма моих друзей,» – усмехнулся он, подвигая стопку ко мне. – «Я решил, что для моей битвы пригодятся кое-какие свидетельства.» Я взял верхнее письмо и стал читать. В нём говорилось о прекрасном характере Брайанта и сообщалось, что автор знает множество женщин, подвергшихся избиению в коммуне. Сходным образом и второе письмо свидетельствовало о трезвом уме Стива и его строгом моральном облике, а затем автор, женщина, рассказывала, как Киртанананда намеренно разрушил несколько семей, чтобы использовать женщин для сбора милостыни на улице. Следующее письмо было от мужчины, чья дочь была совращена в школе ашрама. Другой мужчина сообщал, что Киртанананда поощрял его к избиению жены. Ещё один корреспондент, оставшийся анонимом, писал, что ему поручили перевезти героин из Таиланда и передать выручку Киртанананде. Ещё другие сообщали, что знают, кто совершил нераскрытое убийство в Нью-Вриндаване. Я ликовал. «Да это бомба,» – сказал я. – «Слухи обо всём этом ходили годами, но никто не решался даже засветиться, уж не говорю, – написать что-то. Можете ли вы заполучить побольше подобных заявлений?» «Конечно, какие хотите.» «Если у вас получится, – у вас есть адвокат.» Неделю спустя Брайант вручил мне двадцать четыре письма. Во всех содержались сообщения, а иногда и рассказы очевидцев, о физическом насилии, провозе наркоты, совращении детей, даже убийстве – и все были подписаны. Я начинал думать, что у нас есть шансы. Но Киртанананда, очевидно, тоже думал, что у нас есть шансы. Через пол-года Стив Брайант был убит в Калифорнии. Актами от федерации и от штата по этому делу Киртанананда был обвинен в отдаче распоряжений. Вскоре после того, как я встретился с ним в тюрьме, Брайант вышел из-под защитного содержания. Некоторое время он был активен, еженедельно звонил мне из разных отелей и разных городов. Бывало, звонил дважды, – при первом звонке сообщал, где находится, а на следующий день звонил опять, чтобы сказать, что ему показалось, что его выследили и потому он сменил место. Один раз, когда я думал, что он в Миссури, он подкатил к моему офису с накладной бородой, выглядевшей столь нелепо и фальшиво, что я не мог сдержать смеха, в то время как он рассказывал, сколь сильно опасается за свою жизнь. За эти несколько месяцев мы странным образом подружились. Брайант выпустил листовку, озаглавленную «Джонстаун74 в Маундсвиле?» и отпечатал пару тысяч экземпляров. Его план предусматривал распространение этой листовки среди жителей округа Маршалл и он надеялся таким образом вызвать возмущение, которое бы низложило Свами. Но к тому времени как он вернулся в Маршалл, чтобы разоблачить Свами раз и навсегда, Киртанананда предпринял несколько упреждающих действий. Некоторые Стив предвидел, некоторые – нет. Ключевым просчетом было то, что Брайант считал, что шериф на его стороне, и поэтому информировал его о своих шагах против кришнаитов. В действительности же, Киртанананда и шериф играли вместе. Вскоре после возвращения Брайанта Арт Вила, президент Нью-Вриндавана, запросил и получил у судьи округа Маршалл ордер на арест Брайанта по обвинению его в нападках на кришнаитскую общину с целью запугивания. Ордер был выдан, не смотря на то, что вербальные угрозы не являются в Западной Виджинии преступлением. И поскольку Брайант оповещал шерифа о своих передвижениях, приставы знали, где его найти – в деревянном домишке прямо к югу за границей Маундсвиля. Когда приставы въехали на парковку у дома, Брайант помахал им и вышел на крыльцо. С этими же приставами он встречался недавно вечером и посвятил их в свои планы. Он подумал, что они заехали, чтобы просто ещё раз поговорить. А они взяли его под арест за нападки. При личном обыске был найден заряженный 45-ый75, который он носил для защиты, так что его попутно обвинили в скрытом ношении оружия76. Шериф получил ордер на обыск и заполучил все документы Брайанта. Затем предложил кришнаитам приехать и просмотреть их и даже сделать копии со всего, что они сочтут интересным для Свами. Среди тех бумаг была и переписка Брайанта со мной, в которой я настаивал, чтобы Стив собрал как можно больше порочащих фактов о Свами. Все сомнения Хэма по поводу моих намерений и методов, если таковые имелись, теперь были развеяны. Я встретился с Брайантом в тюрьме. Он был подавлен, полностью сокрушен. Шериф предал его и всё пошло под откос. Прежде он видел себя в священном крестовом походе, а теперь он арестован и вместо спасителя принят за убийцу. Он сказал, что не хочет жить, раз такие вещи могут происходить. Сказал, что собирается начать голодовку и действительно держал её несколько дней. На слушаниях по его делу мы отвели липовое обвинение в нападках, но не обвинение в ношении оружия. Мы подали апелляцию и Брайанта отпустили под расписку. Его дело должны были пересмотреть в окружном суде этим летом. Тем временем Брайант вернулся в Калифорнию, тайно сопровождаемый Томасом Дрешером, преданным Кришны и наемным убийцей. Дрешер выслеживал Брайанта по приказу Киртанананды уже несколько месяцев. В Калифорнии, когда одной ночью он проследовал за фургоном Брайанта к его дому, ему наконец предоставилась возможность. Брайант припарковался перед домом, заглушил двигатель, но оставался в машине, совершая ритуал песнопения перед тем, как зайти в дом. Дрешер тихо подкрался сзади фургона и через боковое окно дважды выстрелил Брайанту в голову. Убийство Брайанта стало началом долгого скольжения вниз Свами Киртанананды, потому, главным образом, что произошло в Калифорнии, вне досягаемости для его миллионов. Оба назначенные следователи, Поль «Коротышка» Типин и Лерой Орозко, были опытные лосанджелеские детективы, уже имевшие дело с несколькими нашумевшими убийствами. Так что там нельзя было ничего скрыть. След привел сперва к Дрешеру, а затем к Хэму. Следователи даже подняли кое-какой шум вокруг убийства Чака Дениса в округе Маршалл в 1981 году, которое, – нет и сомнений, – осталось бы нераскрытым, если бы те же подозреваемые не оказались вовлечены в резонансное, совершённое вне штата, убийство Брайанта. Даже ФБР взялось за расследование, так что проверялась каждая мелочь и под нажимом члены Нью-Вриндавана начали выходить из тени и давать показания. Постепенно прояснились подробности убийства Чака Дениса. Дэн Рейд, преданный, пришел к Киртанананде с жалобой, что Денис изнасиловал его жену. Хэм выслушал и посоветовал Рейду поговорить об этом с Томом Дрешером. Рейд знал, что это значило, и обрадовался. Он пошел к Дрешеру. А тот тоже знал, что значило, когда Киртанананда посылал к нему кого-то с проблемой, и занялся приготовлениями. Одним вечером, когда он был готов, Дрешер сказал Рейду завлечь Дениса в свою арт-студию в лесу, предложив ему кокаина. Это сработало. Когда Денис пришел, Дрешер и Рейд вынырнули из темноты и направили на него 22 калибры. Они велели ему зайти в дом, но Денис повернулся и побежал. Оба стреляли, пока он не упал, получив двенадцать ранений. Убийцы опустили разряженные пистолеты и приблизились к распростертому телу Дениса. Вдруг Денис, шатаясь, поднялся и заковылял к своей машине, стремясь спастись. Дрешер нагнал, схватил его и крикнул Рейду, принести нож. Пока Дрешер и раненный Денис боролись, Рейд вбежал в дом и вернулся с ножом. Дрешер взял нож и занес высоко на грудью Дениса. «Пой!» – крикнул он Денису, – «пой!» По убеждению Дрешера он оказывал Денису милость. В Бхагавад-Гите Кришна говорит: «Те, кто вспомнят обо мне в момент смерти, придут ко мне.» Денис это тоже знал и, даже продолжая бороться, стал петь. «Харе Кришна, Харе...» Дрешер вонзил нож глубоко в грудь Дениса. Денис вскрикнул, но продолжал петь, кашляя кровью и пытаясь оттолкнуть Дрешера. Дрешер вонзал в него нож снова и снова, пока лезвие не наткнулось на ребро и не сломалось. «Кришна, Кришна...» – Денис не умирал и всё ещё пытался бороться. Рейд, к тому моменту бывший почти в панике, вбежал в дом и принес отвертку. Дрешер взял её и стал втыкать в Дениса. Денис кричал в агонии, но не умирал. Рейд огляделся и нашел молоток. Он подал его Дрешеру и тот изо всех сил ударил Дениса по голове, раскроив ему череп. Денис, наконец, обмяк. Дрешер, изнурённый и выдохшийся, поднялся от Дениса. Он и Рейд какое-то время стояли, глядя на изувеченное тело и переводя дыхание. Вдруг из окровавленного рта Дениса вырвался пронзительный вопль агонии, от которого у двух убийц застыли внутренности. Потом стало тихо. «Помоги отнести его вон туда,» – сказал Дрешер Рейду. За день до убийства Дрешер подготовил место, куда спрятать тело. При помощи самодельной плотины он отвернул тёкший поблизости ручей и вырыл в дне русла неглубокую могилу. Денис был крупным мужчиной и двум убийцам было нелегко перенести его к могиле. Когда они, наконец, добрались и бросили тело, Рейд совершенно выбился из сил. «Встань! Давай!» – проскрежетал Дрешер. Рейд поднялся на ноги и они вкатили тело на большой кусок полиэтилена и стали оборачивать его. Когда они уже закрывали окровавленное лицо, Денис открыл глаза опять. «Не делайте этого,» – тихо проговорил он, – «вы меня задушите.» Рейд закричал от ужаса и повалился на спину. Дрешер пнул Дениса, затем закатил его в яму и заорал, чтобы Рейд помог. Пыхтя и бранясь, они быстро набросали грязи, утоптали и завалили камнями. Затем они развалили плотину и ручей вернулся на прежний путь, скрыв могилу. Где-то во время этих действий Денис, наконец, умер. 18 ПИСТОЛЕТ Несколько раз ребята, жившие на ферме, советовали мне – работаю ли я со всеми на воздухе, или нахожусь в своём домике, – иметь при себе пистолет. Но, несмотря на все слухи и свидетельства о насилии, творимом кришнаитами, я никогда всерьёз их не опасался и физической угрозы не ощущал. Мои столкновения с ними, протекавшие при посредстве закона и отрядов их поверенных, имели относительно вегетарианский характер. Время от времени, когда я бывал на ферме, случались стычки по поводу пропавшей козы или чего-то такого, но они были краткими и, хотя и были неприятны, никогда не содержали угрозы насилия. В целом я чувствовал себя достаточно огражденным от омерзительных реалий тех дел, которые мне приходилось вести. Другая статья, что у меня появлялась душевная тяжесть, которой, казалось, сопровождается всякое дело, возбужденное мной против кришнаитов. Наиболее точно я мог бы её описать как ощущение того, что я противостою мощной негативной силе, даже, пожалуй, злу в его чистом виде. Когда бы я не вовлекался в дело против кришнаитов, моя жизнь начинала идти наперекосяк. Один раз сильно заболела моя сестра. В другой раз в моей машине полетело столько деталей кряду, что её пришлось продать на металлолом. Ещё в одном случае мне пришлось лечь на срочную операцию. Как-то вечером на кухне я сказал Роузу, что, когда веду дела против кришнаитов, то чувствую, будто воюю с незримым духом, и что моя жизнь неизменно становится более проблемной и сложной, в то время как кришнаиты по-видимости запросто обходят все юридические ловушки, которые я им расставляю. «Есть два вида магии,» – ответил Роуз. – «Белая и черная. Белая магия это то, что я называю промежуточностью, и я всем советую постичь, как ее использовать. Но есть и черная магия, и кришнаиты действуют в её ключе, известно им это или нет.» «Каким образом?» «Благодаря привлечению сущностей определенных видов. Разные их виды привлекаются разными видами человеческой деятельности. Они добывают энергию из наших действий – когда мы её расходуем. Секс – основной выброс энергии, которым они питаются, при чём некоторые кормятся от определенных видов извращений. Кейт Хэм и его окружение кормят педерастические сущности.» Ещё Роуз сказал, что, однако, рано или поздно эти сущности обратятся против кришнаитов и приведут их к краху. Такова, сказал он, цена, которую неизбежно платит тот, что имеет дело с тёмной стороной. Я обрёл некоторое утешение в той мысли, что кришнаиты могут в какойто день оказаться у разбитого корыта, но в то же время меня беспокоило, что «педерастические сущности» вмешиваются в мою жизнь. Таким образом, я испытывал потребность больше в психической защите, нежели в физической, и, соответственно, никогда серьезно не думал о том, чтобы купить или носить пистолет. Я происходил из исключительно пацифистской семьи. Мой отец за всю жизнь не притронулся к пистолету и он передал эту антипатию своим детям. Оружия я боялся до крайности и совершенно был убеждён, что, если стану ходить с пистолетом, то для меня гораздо вероятней будет подстрелить самого себя, чем оказаться в ситуации, когда он спасет мне жизнь. Однако, все, кто жил на ферме Роуза, носили пистолет, – частью, чтобы отстреливать одичавших собак, которые время от времени нападали на козлят, но в основном как символ готовности дать отпор кришнаитам. У жителей фермы выработалась такая привычка всегда ходить с оружием, что как-то это не противоречило той высокой духовной цели, которая, как предполагалось, собрала их вместе. Я испытывал одновременно и отторжение, и восхищение их мужественностью. Этого было вполне достаточно, чтобы заставить меня взглянуть повнимательней на мою антипатию к оружию и увидеть в ней страх и слабость, а не проявление принципиальности. Через несколько месяцев после убийства Брайанта, мне позвонил Том Уайт, обвинитель округа Маршалл. Он сказал, что имеет кое-что рассказать мне и хочет встретиться и поговорить. По некоторым причинам это была странная просьба, но было ясно, что он не хочет объясняться по телефону, так что я согласился заглянуть к нему, когда буду в его здании. Сам звонок был необычен, поскольку мы с Томом не особо ладили. Мы были примерно ровесники и неплохо сошлись в то время, когда оба были адвокатами в Маундсвиле. Затем в 1980 году к моему изумлению Роуз посоветовал мне баллотироваться на место обвинителя округа, чтобы сделать себе имя. В тот год Том Уайт также решил баллотироваться и мы конкурировали друг с другом на выборах. Он был баптист, демократ, местный уроженец. А я был еврей, республиканец и со стороны. Участие в выборах обвинителя оказалось одним из лучших советов, данных мне Роузом по моей профессиональной деятельности. Я, конечно, сокрушительно проиграл, и однако ж получил больше голосов, чем кто бы то ни было мог подумать, и после выборов стала заметной перемена в отношении ко мне со стороны сообщества юристов. Если бы я выиграл, то и близко не был бы так вознагражден. Кресло обвинителя округа не было желанным местом. Кандидатов традиционно привлекала не сама должность, а одна или больше из трех ее выгод: это была ступенька к судейству, по разводам ты получал всех клиенток, каких хотел, и можно было дополнять свой доход небольшими взятками. После выборов мои отношения с Томом испортились, отчасти потому, что мы были конкурентами, но главным образом оттого, что Том отнесся к своему месту как к питательной среде для самого неумеренного самомнения. Он пытался сделаться крутым, важным парнем на преступлениях подростков в обществе, где подобные дела никого не заботили, поскольку в каждой большой семье имелся глава и серьёзно от них страдало крайне мало людей. Том перешел все границы в попытках навесить собак на некоторых из наших малолетних нарушителей, и мы с треском провалили его несколько раз, пока он не отступил. В добавок к трениям между нами, он стал в заметной мере выезжен. После выборов он быстро попал в тон местной власти и поддержавшим его людям. Также было ясно, что кришнаитам опасаться его нечего. То ли у них он был в кармане, то ли просто чутко придерживался компромиссной позиции, но результат-то был один. В Нью-Вриндаване продолжали развращать детей, по-прежнему находили тела, нечистоты напрямую сбрасывались в ручьи, бежавшие через роузову или чью-то ещё ферму. Не делалось ничего. Я несколько раз схватывался с Томом по поводу его бездействия с кришнаитами и наше общение протекало не в дружеском ключе. В свете всего этого было странным, что он позвонил и пригласил на беседу. На самом деле – настолько странным, что я повременил несколько дней перед тем, как входить в его кабинет. Я даже поговорил с Лу и Джоном об этом, пытаясь выяснить, о чём могла бы идти речь. Когда я наконец заехал к Тому, его секретарь сообщила, что его весь день не будет в городе. Я было собрался выйти, как услышал, что меня зовут. Повернувшись я увидел Фреда Гарднера, помощника обвинителя, с которым мне довелось иметь несколько дружеских дел. Он стоял за стойкой, отделявшей место обвинителя от публики. Мы тепло поприветствовали друг друга и он жестом пригласил меня проследовать за ним в кабинет Тома. «Я знаю, зачем Том звонил тебе,» – сказал он. Когда он закрыл за нами дверь, я осмотрелся и изумился увиденному. Обыкновенно опрятный кабинет Тома превратился в штаб по кришнаитскому расследованию. Стопки распухших папок громоздились на столе и полу. Море телефонограмм усеивали секретер. Одну стену покрывали фотографии с воздуха, на большинстве из которых была недвижимость кришнаитов. «Ого,» – сказал я. – «Даже не представлял. Я думал Том...» «На их стороне? Я знаю.» «Это не совсем то, что я имел в виду. Просто он никогда не проявлял интереса.» Фред сел в кресло Тома – красной кожи с высокой спинкой – и откинулся. «Возможно, так было одно время, но не теперь. Слишком многое произошло.» Я сел. Фред широким жестом обвел груды папок. – «Мы опросили каждого, кого ты только можешь представить. Крысы бегут с корабля, выстроившись в очередь тех, кто расскажет побольше и побыстрее.» «Добрый знак,» – сказал я. – «Даже после убийства Брайанта его ближайшие друзья всё равно отказывались говорить. Они страшились Хэма.» «Им следовало,» – сказал Фред тихо. – «И тебе тоже.» Его замечание застало меня врасплох. Я не знал, что сказать, и ждал его объяснений. «Вот почему Том звонил тебе. Недавно мы опрашивали кришнаитов по поводу убийства Чака Дениса. Многие, кто боится Дрешера, теперь заговорили, поскольку они уверены, что на этот раз мы сможем его взять.» – Фред сжал челюсти и я понял, сколь страстно он хочет зацапать Дрешера. «В-общем, на прошлой неделе у нас был один кришнаит, весьма высокопоставленный в организации парень. В Нью-Вриндаване с самого начала. Он предоставил хорошо согласующиеся подробности дела Дениса и подтвердил несколько вещей, уже известных нам об убийстве Брайанта. Могу сказать, что у него были верные сведения, так что я спросил его, есть ли ещё кто-нибудь, на кого покушается Кейт Хэм.» Фред помедлил ради эффекта и усмехнулся. – «Он ответил: “Да, на того адвоката, Дэвида Голда.”» Я услышал это и ум мой застыл. Мне только и оставалось надеяться, что выгляжу не столь испуганным, каким был на самом деле. Фред, казалось, внимательно изучает меня, прибавив, – «этот свидетель сказал, что Дрешер сопровождал тебя до твоего домика.» Он помолчал, ожидая, что я скажу что-нибудь. Но я не мог. «У тебя отдельный домик на земле Роуза, верно? Из темно-коричневого дерева, а фундамент из цементных блоков? Находится прямо над родничком?» Я кивнул. «Ну вот, это место Дрешер и описал этому свидетелю. Дрешер сказал, что несколько раз ходил туда за тобой по пятам.» «Догадываюсь, вечером,» – сказал я. Это прозвучало глупо, но должен же я был что-нибудь сказать. Мне подумалось о тех многих ночах, когда я с фонариком проходил пол-мили через густой лес, отделявший мою хижину от дома. В какие разы Дрешер был там, выслеживая? «Дрешер сказал тому парню: “Этот еврейский сукин сын жив только потому, что я не нашел подходящего места пристукнуть его.”» Фред опять ухмыльнулся. Нечто в нем до чрезвычайности наслаждалось моим дискомфортом. «По крайней мере Дрешер теперь под арестом,» – сказал я. «Да, но не Свами. А у того есть ещё куча пособников.» «Знаю,» – я встал, желая поскорее уйти. – «Спасибо за информацию.» Фред встал вместе со мной и пожал мне руку с искренним участием. Он больше не улыбался. – «Следи, что у тебя за спиной, Дэйв.» Когда я вышел из суда на улицу, мои мысли стали яснее и меня захлестнул паводок эмоций. Основной из них была первозданная животная ярость. Я был взбешен. Не столько на кришнаитских лидеров, хотевших меня убить, сколько на всех этих скомпроментированных чиновников, чьи страх, жадность и политические амбиции по факту выдали кришнаитам лицензию на убийство. Затем, когда я выкипел и выругался, меня внезапно остановил приступ жуткой неведомой тревоги. Я непроизвольно вздрогнул и быстро оглянулся назад и по сторонам. Я поспешил в свой офис, испытывая необходимость разделить с кем-нибудь узнанное. Но там была только одна из секретарш, а я не хотел ее пугать. Стал было звонить Роузу, но потом решил подождать до вечера, когда увижусь с ним дома. И тут вспомнил, что окажусь там очень поздно, вероятно, когда он будет уже в постели. В тот вечер мне предстояло провести четыре часа на телевидении, предоставленных мне как президенту местной адвокатской коллегии. Президент адвокатской коллегии округа Маршалл был замещаемым лицом, определявшимся строго по выслуге. В тот год была моя очередь быть президентом. И у местной коллегии был обычай осуществлять за год хотя бы одно мероприятие по общественному служению, и как раз оно пришлось на сегодня. Мы объединились с коллегиями соседних округов Бельмонтом и Огайо, чтобы провести телепередачу «ответы на звонки», назначенную в местной студии на тот вечер. Даже при том, что я любил покрасоваться перед камерой, я бы дал что-угодно, чтобы избежать этого вечера. Но как президент не мог себе этого позволить. Перед вечером я вышел из офиса и поехал в студию. Программа заключалась в том, что в фоновом режиме сто адвокатов должны были принимать звонки и бесплатно отвечать на юридические вопросы, а президенты двух других коллегий, я и ведущий сидели бы перед ними и обсуждали правовые казусы. В семь мы вышли в эфир. После раскачки зазвонили телефоны и вскоре все адвокаты позади нас были заняты. А на переднем плане ведущий занимал нас хорошо подобранными, интересными широкому кругу людей, правовыми темами. Я старался удерживать внимание на том, что делаю, но всё ещё был расстроен событиями дня и чувствовал себя не в своей тарелке. Хоть и участвовал в обсуждениях, но говорил, наверное, меньше всех и наименее красноречиво. Поэтому я удивился, когда ближе к концу передачи помощник режиссера подал ведущему клочок бумаги, переместивший фокус внимания на меня. Ведущий взглянул на сообщение. «Это вопрос по телефону,» – сказал он, поднимая глаза, – «звонивший попросил адресовать его мистеру Голду. Да: не вполне в нашем формате, чтобы эти джентльмены отвечали на вопросы на камеру, но мы уже близки к концу передачи, так что полагаю, это допустимо. Дэйв?» «Конечно,» – ответил я. – «Почему нет.» Ведущий прочитал записку. – «Звонивший спрашивает: “Признает ли закон право человека на защиту своей церкви от внешних угроз? Вы можете законно убить, защищая свой дом. А что, если вы живете в своем храме?”» Несколько секунд я не мог ничего сказать и первым заговорил один из коллег. «Мы скорее ожидали бы вопросов о налогах и недвижимости,» – пошутил он. «Я, кхм... я думаю, что тут перекручена логика,» – медленно произнес я, пытаясь совладать с ситуацией и связать мысли воедино. Независимо от того, как обстояло дело в реальности, – для себя я отвечал на вопрос человека, который планировал меня убить и сейчас смотрел по телевизору, как я буду отвечать. «Закон признает самозащиту в случае физического проникновения или посягательства на ваше жилище,» – продолжил я. – «И, разумеется, когда ваша жизнь в опасности. Но то, о чём вы, кажется, говорите, это упреждающий удар по неопределенному религиозному врагу. Это – убийство.» Я хотел продолжать, но ведущий забеспокоился. «Благодарю, Дэйв,» – сказал он быстро. – «Я бы хотел вернуться к теме, которая многих из нас начинает волновать в среднем возрасте, – к завещаниям. Гарри, когда человеку следует серьезно подумать о завещании?» Я знал, что ведущий просто берет вопросы по порядку из готового списка, но ирония настолько лезла в глаза, что я едва не засмеялся. Остальные не подали виду и пустились в предостережения о том, что завещание составлять никогда не рано. Я чувствовал себя как на другой планете. Наконец, в одиннадцать режиссер дал нам отбой и свет померк. Я вышел из студии и направился к машине. Шёл я быстро, время от времени украдкой посматривая назад и вперед в темноту. Дойдя до машины, прыгнул внутрь и захлопнул дверь. И тут, когда ключ зажигания был вставлен в замок, одна мысль смутила меня. Я помедлил и, остановив дыхание, повернул ключ. Когда следующим звуком оказался взрёв мотора, я с облегчением выдохнул и сказал себе, что смотрел слишком много гангстерских фильмов. Теперь я надеялся, что Роуз будет в постели, когда я приеду домой. Маленький черно-белый телевизор на кухне брал только один канал, тот самый, по которому меня показывали весь вечер. Я был уверен, Роуз видел меня, и, без сомнений, весь вечер, для пользы всех жильцов, отпускал шуточки насчёт моих душевного состояния и эго. Но, взбираясь по крутым бетонным ступеням, что вели с улицы, я увидел, что свет на кухне всё ещё горит. Когда я вошел, Роуз сидел один за столом и разгадывал кроссворд. Завидев меня, он отложил кроссворд в сторону. За те годы, что я мог наблюдать его, у него было несколько кроссвордных периодов, когда он на протяжении нескольких недель ежевечерне разгадывал газетные кроссворды, но потом бросал и с год к этому не возвращался. Но, уж если начинал разгадывать, не отвлекался ни на что, пока не заканчивал. То, что он отложил кроссворд, когда я вошел, указывало на то, что это не было таким периодом. Он просто коротал время в ожидании меня. «Ну, что новенького?» – истомленно и тепло протянул он. В его глазах не было знакомого лукавого мерцания, которое бы намекало, что сейчас меня будут вышучивать за мой вид перед камерами. Вместо этого, я ощутил участие. «Вечером мы делали эту передачу со звонками. Для ассоциации адвокатов.» «Знаю. Видел. У тебя что-то на сердце.» «Несколько дней назад звонил Том Уайт и просил зайти, – мол, у него есть, что мне сказать. Я был сегодня.» «И что?» «Один из кришнаитов, которого допрашивали по делу Дениса, рассказал, что Хэм меня заказал.» Роуз поднял брови, но промолчал. «Дрешер хвастался, что ходил за мной к моему домику. Сказал, что я жив только потому, что он не нашел подходящего места застрелить меня.» Роуз сидел в кресле без движения и выглядел погруженным в мысли. Я продолжал бессвязную речь. «То есть, хотя Дрешер сейчас и под арестом, но кто знает, сколько ещё помешанных крутится вокруг Свами, которые могут...» «Заведи пистолет,» – вдруг перебил Роуз, невыразительно, но твердым голосом. Это было больше, чем совет. «Я думал об этом, мистер Роуз, но я не умею им пользоваться. Я не думаю...» «Заведи пистолет,» – повторил он. Затем переменил тему и заговорил о другом, включая и то, как смешно этим вечером я выглядел по телевизору. Мы посмеялись на мой счет несколько раз и пошли спать. Никогда не бывало так, чтобы я проигнорировал совет Роуза, хотя я понимал, что, как с пистолетом, так и без, – равно буду чувствовать себя абсолютно беззащитным. Если кришнаит затаится, поджидая меня у домика или на темной улице Уилинга возле моей машины, пистолет в кармане или бардачке не особо пригодится. Я ощущал себя неспособным защититься в таких обстоятельствах и был совершенно уверен, что могу надеяться только на вмешательство высших сил. Но Роуз сказал завести пистолет и я приступил к покупке. Лучшими консультантами, о каких можно было только мечтать, были ребята на ферме, но я не знал, как к ним подойти с этим. Хотя я держал их за самых близких друзей, между нами всегда была дистанция. Может, это была и неправда, но мне казалось, что они воспринимают меня как своего рода маменькиного сынка. Мои дни протекали в комфортабельных кабинетах и орнаментированных залах суда, в то время как они сидели на крышах или висели на строительных лестницах. Почти каждые выходные я проводил с ними на ферме – пилил дрова, расчищал пастбище, ремонтировал постройки или выгребал козий сарай. Но, независимо от моих стараний, оставалось ощущение, что я для них всегда только боец выходного дня. Впрочем, нависшая надо мной опасность со стороны кришнаитов подняла меня в их глазах. Роуз со всей ясностью дал понять, что воспринимает угрозу против одного из нас, как угрозу против всех. Мне не потребовалось спрашивать у них совета насчет пистолета, они пришли сами. На следующие выходные я выехал на ферму, помочь, как обычно, с нескончаемыми работами. Был октябрь, погода стояла свежая и бодрящая. Всё утро мы усиленно работали, пиля и таская дрова с дальнего конца фермы. Потом мы с Чаком, Лари, Марком и Джейком отдыхали в доме, готовя обед. Лари вошел в столовую со сковородой, наполовину заполненной чем-то непонятным, – что он готовил себе ещё на завтрак или даже – на ужин. Некоторое время я наблюдал за ним, не в состоянии удерживать улыбки на каждое его движение. Лари был одним из самых забавных людей, что я встречал, и его чувство юмора подкреплялось тем комическим стилем жизни, к которому он приспособился на ферме. Он собрал довольно-таки несуразный гардероб, годами ковыряясь в корзинах Гудвила77, и теперь вся его одежда лежала кучей в углу его комнаты. Каждый день он надевал рубашку и брюки, какие только попадались под руку, и выбор неизменно производил клоунскую комбинацию клеток, полосок и причудливых цветов. Он приехал из сурового фермерского городка на северных окраинах Питсбурга. Он был высок и жилист, и до того, как он встретился с Роузом, жизнь его была рисковой чередой потасовок, переделок и злоключений, часто с участием женщин. Пока я наблюдал за ним, Лари поставил сковороду на стол, подошел к холодильнику и вынул литр козьего молока, кусок маргарина и большую банку виноградного желе, неизвестно кем произведенного. Он поднял банку и прикинулся, будто читает этикетку. – «“Этот продукт содержит виноград, листья и птичье дерьмо, собранные вместе, но он пригоден для обычного повседневного использования – если вы кормите им кого-нибудь другого”. Отлично!» Он сел, положил толстенный кусок маргарина на хлеб и зачерпнул ложкой горку желе. Откусил полный рот и затряс от удовольствия головой, как будто это было самое вкусное, что он когда-либо ел. Затем принялся за безымянную еду в сковороде. После нескольких глотков он посмотрел на меня. «Что, наши соседи хотят проредить тут еврейское население, а?» «Ага, они понижают цену владениям,» – сказал Чак. Со своим обычным мрачным выражением он топтался по кухне и столовой, собирая себе обед. Его постоянно угрюмый вид точно отражал его настроение, в котором он пребывал половину времени. Остальную половину он был безразличен к жизни. Никто и никогда не видел его счастливым. Его общение с людьми было непосредственным и буквальным, из социальных норм он предпочитал минимум условностей. Впрочем, иногда у него бывали приступы юмора. Когда он строил мой домик, несколько раз было, что он звонил ко мне в офис. Однажды секретарша спросила, может ли она передать, кто звонит. «Да,» – отвечает он. После долгой неловкой паузы, секретарша спрашивает, – «Хорошо, и кто же звонит?» «Чак Картер.» «Могу ли я передать, насчёт чего вы звоните, мистер Картер?» «Да,» – еще одна долгая пауза. «И насчёт чего же?» «Насчёт моей жены,» – говорит Чак, повышая голос. – «Я требую, чтоб он, чёрт побери, оставил её в покое!» Его звонок был переключен на меня. «Фиу,» – присвистнул Чак, заглянув в холодильник и обнаружив принесенную мной копчёную рыбу. – «Раз сезон на Дэйва Голда открыт, давайте его пристрелим теперь же и заберем его обед.» Каждые выходные я что-нибудь приносил для всех и каждые выходные повторялся один и тот же ритуал. Если Лари что-то нравилось, он тут же набрасывался и съедал так много и быстро, как только мог. Чак, однако, всегда выражал восторг и, перед тем как что-нибудь съесть, дожидался моего приглашения. Он брал кусочек, демонстрируя, что не алчный и не слишком-то будет мне обязан, а потом возвращался за вторым, третьим и ел, пока еда не кончалась или его не начинало тошнить – что раньше. Чак вынул копченую рыбу из холодильника и положил на стол. Лари ухватил ее за хвост, поднес к лицу и несколько секунд таращился на нее глаз к глазу. «Она первая сморгнула,» – победно воскликнул он, потом кинул рыбу обратно на оберточную бумагу и повернулся ко мне. – «Так какой тебе нужен пистолет-то?» «Ещё не знаю.» «Бери такой,» – сказал Лари, вынимая свой пистолет из заднего кармана и кладя на стол. Чак прервал свое занятие и положил рядом свой. «У меня почти такой же,» – сказал он. – «Оба классные.» Услыхав, куда свернул разговор, Марк и Джейк вышли из гостиной, где они ели, и тоже положили свои пистолеты на стол. Я вытаращился на четыре пистолета как на подпаленные динамитные шашки. Лари и Чак расхваливали достоинства своих алюминиевых 38-ых Смити-Вессонов, специальных. «Ты можешь весь день ходить с ним в кармане и даже не знать, что он там,» – сказал Лари. Пистолет Чака был идентичен, если не считать, что у него спуск был скругленный. «Так он не застрянет в кармане, когда тебе понадобится выхватить его быстро,» – пояснил он. Джейк взял свой пистолет со стола. У него был поменьше калибр, но дуло длиннее. «Те бульдожки годятся только в животы тыкать,» – сказал он с дурным смехом. – «А из этого я могу попасть в бутылку с сорока пяти метров.» «Да, но у него нет останавливающей силы,» – возразил Марк. – «Может, ты и попадешь в кого-то с сорока пяти метров, но он будет палить в тебя всё равно. А теперь – этот,» – сказал он, любовно беря свой черный стальной магнум 44-ый, – «этот всё уладит.» Я взял пистолет Лари. Впервые я касался пистолета. Он ощущался чуждым, непредсказуемым, опасным. Я вспомнил все те ужасные рассказы, слышанные мной о трагедиях с пистолетами, и меня захлестнуло отвращение. Было такое чувство, что я держу змею, и я боролся с искушением его отбросить. Но, пока я по очереди брал каждый пистолет в руки, моя боязнь становилась всё меньше и, когда я взял пушку Марка, то уже, можно сказать, был заинтригован предметом, лежавшим в руке. Марк улыбнулся. – «Мы ещё сможем сделать из тебя мужчину.» Я остановил выбор на алюминиевом 38-ом, как у Чака и Лари, и на следующей неделе начал поиск. Первое место, куда я заглянул, был оружейный магазин Салливана на окраине Маундсвиля. Я как-то защищал юнца, несколько лет назад ограбившего этот магазин, а позже представлял члена семьи Салливана в деле о телесном повреждении. Я решил, что буду чувствовать себя увереннее, решая этот неприятный вопрос со знакомыми людьми, но на деле оказалось наоборот: как только я вошел, моя антипатия к пистолетам вернулась в виде замешательства. Я испытывал беспокойство и нервозность как провинциальный подросток, покупающий презервативы у семейного аптекаря. Можно сказать, я с облегчением услышал от служащего, что у них нет алюминиевого 38-го. Я поехал в Уилинг и побывал в нескольких магазинах и закладных лавках, но нигде не было того, что я искал. Я начинал думать, – и даже надеяться, – что, возможно, мне не суждено иметь пистолет. На следующей неделе вернулся из отпуска мой другой партнер-адвокат, Джон Турак. Мне не терпелось поговорить с ним обо всём этом. Джон был один из младших братьев Оги. Он присоединился к нашей с Лу практике несколько лет назад и стал за это время одним из моих ближайших друзей, и, определённо, самым задушевным конфидентом. Он был общителен, харизматичен, надежен и очень предан семье. И при этом он отличался от Оги в существенных отношениях. Не было ни деспотических приемов, ни высокопарных обличительных речей, которые делали Оги одновременно эффективным лидером и труднопереносимым распорядителем. Все Тураки были мягкосердечны, но большинство из них выработали эмоциональный заслон, позволявший им в случае необходимости оберегать свои чувства. А Джон нет. Его слабости и уязвимости находились очень близко к поверхности и он, казалось, чувствует себя при этом прекрасно. Хотя Джон и не был учеником Роуза, у него было глубокое понимание и уважение к Роузу и его поучениям. Он был достаточно близок группе, чтобы разделять её ценности и достаточно далёк, чтобы давать мне объективный взгляд, когда я в нём нуждался. В первый день по его возвращении, я подождал несколько часов, пока он освоится с текучкой, и после полудня зашёл к нему в кабинет и сел. Джон сидел, откинувшись, в кресле красной кожи, и, морща лоб, внимательно изучал многостраничный правовой документ. «Не могу поверить,» – покачал он головой с озадаченным раздражением. – «На этот раз Бил Лемон превзошел себя.» Бил Лемон был обвинителем в соседнем округе Вецл и являл собой возврат к юридической практике столетней давности. Нас он рассматривал как робин-гудов и получал особенное удовольствие, стараясь засадить наших клиентов. «Ты помнишь дело Литлетона, что у меня было с Билом?» Я кивнул. Украденное фермерское оборудование обнаружилось на владениях Литлетона в сельской местности в округе Вецл. Лемон обвинил его сына в краже. Я взялся за этот иск и мы его отклонили. Лемон взъярился и обвинил тогда мать в приятии ворованного имущества. Джон взял этот иск и, затребовав достоверную информацию по делу штата против матери, получил письменное изложение обвинения. «Послушай это,» – Джон откинулся снова и прочел из документа. – «Вот вопрос 14-ый обвинению: “В частности, изложите все основания, на которые штат намеревается опереться при доказательстве, что Сандре Литлетон было известно, что фермерское оборудование, появившееся на её владении, является краденным.”» Джон положил свой запрос и взял ответ штата. – «“Сандра Литлетон получила фермерское оборудование от своего сына, Рональда Литлетона, и в округе Вецл все знают, что все Литлетоны воры.”» Джон зашёлся в добродушном смехе и отшвырнул бумаги. «Ну, какие новости?» – спросил он. Я откинулся на спинку кресла, так что оно уперлось в стену. «Мне звонил Том Уилер, сразу как ты уехал.» «Дай угадать. Он хочет, чтобы ты представлял его на его разводе.» «Не совсем.» Я рассказал Джону всю историю и, пока говорил, мне стало ясно, как ждал того, чтобы поговорить с ним об этом. Когда я закончил, он молчал. Я знал, о чём он думает. Джон и сам открыто занимался некоторыми делами, связанными с кришнаитами. Только то, что на данный момент не было свидетельства о заказе на его убийство, ещё не значило, что его не существовало. Причины верить, что он вне игры, не было. «Ты говорил с мистером Роузом об этом, верно?» «Разумеется.» «И что он сказал?» «Он сказал завести пистолет.» «И ты завел?» «Ещё нет. А ты что думаешь насчет этого?» Джон задумался на мгновение. Он был на два года меня младше, необыкновенно статный, с мальчишеской миловидностью и обаянием. В тот момент, однако, он выглядел старым. «Мы не просили об этом,» – сказал он наконец. – «Мы просто делали то, что считали правильным, и вот это-то нас и подсекло.» «И какой у нас выбор?» «Никакого,» – ответил он, улыбнувшись опять. – «Как сказал Дави Крокет78: “убедись, что ты прав, и – вперёд”.» Несколько минут мы посидели в молчании. Затем Джон заговорил снова. «Знаешь,» – сказал он с усмешкой, – «если повсюду ходить с пистолетом в кармане, то это хороший шанс отстрелить себе яйца в конце-концов.» «Приходило в голову.» Джон наклонился из кресла и заговорил уже серьезно. – «Я знаю парня, монтажника, – помогал ему с правообладанием. Он также имеет лицензию на торговлю пистолетами. Можно ему позвонить.» Следующим утром Джон зашел в мой кабинет в сопровождении довольно-таки подобострастного человека с дряблыми руками и усищами, просившими подстирижки. Он сразу перешел к делу. «Джон говорит, вы ищете пистолет,» – сказал он, когда мы пожали руки. «Да.» Человек поднял свой большой черный кейс на стол. «Он не знал, что именно вы ищете, так что я принес подборку,» – он открыл кейс и стал, вынимая пистолеты по одному, раскладывать их на столе. «Возьмите,» – сказал он, – «попробуйте.» Я начал с нестрашного 22-го. Осмотрел его, прицелился в окно. «Хорош для прицельной стрельбы, но для решающего момента – не слишком,» – прокомментировал мой консультант. Я кивнул и взял 45-ый кольт в стиле Дикого Запада. Он оказался невероятно тяжелым, и мне подумалось: а действительно ли ковбои крутили эти штуки на пальцах? «Пистолет для кино,» – услышал я. Я перешел к 44-му магнуму. Продавец улыбнулся. «Такой я продал вашему партнёру. Он быстр, надёжен и причинит некоторый вред, независимо от того, куда вы человеку попадете.» Я с удивлением посмотрел на Джона. Он никогда не говорил, что купил пистолет. Я начал было фразу, но по его выражению понял, что он не хочет об этом говорить, не сейчас во всяком случае. «Прекрасный пистолет,» – согласился я, – «но мне нужно что-нибудь, что можно положить в карман и забыть.» «Тогда – вот этот для вас,» – сказал продавец, подавая мне 38-ой. К моему удивлению я тут же почувствовал к нему склонность. Он был легкий и удобно лежал в руке. «Он называется Агент,» – сказал продавец. – «Кольт их производит специально для ЦРУ. Алюминиевый сплав, шесть патронов, в то время как 38-ой алюминиевый Смит-и-Вессон – только пять, и весьма устойчив к передрягам.» Я встал, сунул пистолет в задний правый карман костюмных брюк и прошелся по кабинету. «Даже не чувствую его,» – сказал я Джону. Я спросил цену. «Я продаю его для вдовы друга. Сказал, что выручу двести долларов.» Я прошелся по комнате еще раз, прислушиваясь к весу пистолета. Достал и взглянул на него, потом опять положил в карман. «Он ведь с пулями идет, так?» «Для друга Джона – с двумя коробками.» «Чек пойдет?» «Предпочитаю наличные.» Я носил пистолет последующие несколько дней, но, странно: тревожился я ещё больше, чем когда его не было. Так, словно присутствие пистолета делало угрозу близкой смерти гораздо более реальной. Постоянное ощущение его веса в кармане не давало сосредоточиться на чёмто ещё. Я сказал себе, что рано или поздно с ним свыкнусь, и да – в какой-то день я снова смог нормально думать. В следующую субботу я как обычно выехал на ферму помочь с работами. Я показал всем мой пистолет и все похвалили мой выбор. Я воткнул его обратно в карман на бедре и легче отнесся к его присутствию. В последние недели мы расчищали небольшие поля под пахоту. В тот день мы занимались корчеванием пней. Было прохладно и солнечно – прекрасный день для работы. Примерно через час приехал Роуз и присоединился к нам. Мы работали, разбившись на пары – один с топором, другой с лопатой. Но когда появился Роуз, все стали клеиться к его пню, чтобы быть к нему поближе. Мы стояли вокруг пня, по очереди орудуя топором и лопатой, болтая, хохоча над шутками Роуза и потея под неярким осенним солнцем. Настала очередь для Роуза с топором и он бил им наотмашь с силой и грацией молодого атлета. Остановившись, он подал его мне и улыбнулся с искренней теплотой. Я взял топор и стал им бить с задором и восторгом от радости чистого движения. Пока я работал, Роуз вдруг заговорил о духовных вещах и все, кто стояли вокруг пня, замерли. Я махал топором и слушал – нет, впивал – и его слова проникали в меня глубже, чем мои собственные мысли. Неожиданно у меня полились слёзы. Я стал сильнее работать топором и нагнул голову, чтобы скрыть мои чувства от других. Но потом вдруг меня перестало это заботить. Я стал выпрямляться между взмахами, позволяя видеть мои слёзы. Мои взмахи совпадали с ритмом раскачивания, столь мне соответствовавшим, что они были почти безусильны. Каждый раз, когда я сгибался, чтобы ударить по корню, я чувствовал, как надавливает в кармане пистолет. Каждый раз, когда выпрямлялся для размаха, солнце грело мне спину. Я был одновременно пуст и полон. Не было ничего, что я предпочёл бы тому, что делал, и не было места, которое предпочёл бы этому месту. И хотя бы меня убили за то, что я его избрал и учился у этого человека, – это определенно было то, для чего я родился. Я махал топором и ничего большего не хотел от жизни. В этот момент колоссальная тяжесть покинула меня и я верю, – хоть и не могу этого знать наверняка, – что за несколько часов того дня утратил страх смерти. 19 РАБОЧИЙ СЦЕНЫ Через несколько недель я вёз мистера Роуза на ферму. Жившие там парни уже три месяца возводили забор. В виду наступавшей зимы Роуз обратился за помощью к внешним группам в надежде закончить работы до того, как земля начнет замерзать. Так что на эти выходные ожидалась большая сходка. Обычно это были счастливейшие моменты Роуза – работать бок о бок с молодежью, а после работы – разговаривать и шутить в доме. Но во время той поездки он был сумрачен и неразговорчив и лишь изредка отпускал замечания по поводу движения или погоды. Я прекратил попытки завязать разговор и мы промолчали почти всю дорогу. Уже мы подъезжали к ферме, когда он снова заговорил. «В последние пару дней у меня тяжелый период.» Я ждал продолжения, но он ничего не добавил. «Что вы имеете в виду, мистер Роуз?» Он долго молчал, прежде чем говорить. – «Не знаю, как тебе объяснить это,» – сказал он. Его голос был вял и отчужден и это встревожило меня. Когда мы остановились на парковке, Роуз вышел из машины и, не говоря ни слова, направился к дороге, ведшей на гору, где велись работы. Я пошел за ним и мы увидели, что ребята уже вкапывают столбы и разматывают проволочное заграждение. Пока мы работали, Роуз пребывал в прежнем самоуглублении и вскоре это же настроение охватило всех. Мы упорно проработали всё утро, почти не общаясь на темы посторонние работе. Ближе к обеду небо потемнело и закапал холодный дождь. Мы собрали инструменты и пошли в дом. Внутри произошел всплеск оживления, поскольку все стали готовить свои обеды. А через несколько минут я заметил, что Роуз с нами не пошел. Я вышел к машине взять привезенную еду и увидел, как в отдалении Роуз несёт несколько инструментов на восточную окраину фермы. Из любопытства я последовал за ним и увидел, что он пришел на место для могилы, которое несколько лет назад выбрал для себя. Я знал, что время от времени он присматривает и ухаживает за этим участком земли. Я смотрел, как он стал срезать подлесок большой косой, иногда наклоняясь вырвать корень или отбросить что-то. Его движения были полны осмысленной грации, пока он работал под холодным дождем. Простояв несколько минут, я ушёл, чувствуя себя соглядатаем. Тем вечером, когда в доме потрескивала дровяная печка, Роуз заговорил о своём Опыте, хотя никто об этом не спрашивал. Он говорил об Абсолюте с почти безразличной осведомленностью, – так, как иммигрант мог бы говорить о своей прежней стране. Пока я его слушал, меня не покидало ощущение, что на самом деле Роуз не здесь, что он не причастен нашему миру. Он был пришлец из Абсолюта, отбывающий оставшиеся дни в тюрьме этого измерения. «Как вы думаете, будете ли помнить это место?» – спросил я его. «О, не знаю, может быть,» – ответил он, оставив ясное впечатление, что в любом случае это не важно. Следующим утром мы рано встали и подготовились к работе, но Роуз продлил разговор за кофе. Мы вышли после восьми. Когда мы разобрали инструмент и собрались идти на холм к линии загороди, перед нами на дороге остановился красный джип скаут. За рулем сидел Кейт Хэм – «Свами Киртанананда», рядом сидели ещё несколько приверженцев. Роуз направился к машине и мы, готовые к проблемам, приблизились тоже. Отношения между соседями были плохи как никогда. Кришнаитские дети, проходя мимо фермы, дразнились, а один довольно благожелательный приверженец остановился и сказал Роузу один на один, что наготове есть дюжина мужчин, жаждущих убить его по первому слову Свами. Роуз нагнулся к окну водителя. «Что Кейт, когда мы получим остаток забора?» – сказал он. Свами ненавидел, когда его звали кармическим именем, но не думаю, что Роуз сделал это, чтобы поддеть его, – хотя прекрасно умел это делать. Просто он знал его как Кейта, когда они познакомились, вот и всё, и никакая сила или претензии не могли это изменить. «Будет здесь к обеду,» – сказал Киртанананда. У него был другой голос, не тот, что я слышал в суде или вечерних новостях. Хотя и не вполне дружелюбный, в нём не было ни высокомерия, ни показного благочестия. «Договаривались на вчера,» – сказал Роуз. «Я позвонил ещё раз сегодня утром. Будет к обеду.» Несколько минут они вели деловой разговор об изгороди, которая, как оказывалось, являлась совместным проектом соседствующих ферм, хотя Роуз об этом никогда не упоминал. Когда они закончили обсуждение, кришнаиты уехали. Мы прошли за Роузом к забору и работали почти до часу дня. После обеда Роуз опять, казалось, не спешил вернуться к работе. Он откинулся в кресло и рассматривал каждого из нас. «Знаете,» – произнес он медленно и задумчиво, – «когда человек вдохновляется и принимает обязательство следовать по духовному пути – и действует согласно этому обязательству – он продвигается. Он меняется. Его жизнь меняется. Но когда он перестает действовать по обязательству, он перестает двигаться. Он перестает расти. Его часы останавливаются.» Он помолчал немного. «Вот это и происходит тут, – Бригадун79. Никто из вас не продвигается. И если кто-то захочет поднять фонарь снова, ему придётся понять, почему его часы остановились, и что-то с этим сделать.» Все мы уставились себе на ботинки или руки. «Но не ждите слишком долго,» – прибавил он с лёгкой улыбкой. – «Я не знаю, сколько ещё буду оставаться.» Казалось, прошло несколько минут, за которые никто не произнес ни слова. «Духовные часы останавливаются по разным причинам,» – продолжил Роуз почти успокаивающим голосом. – «Некоторые из вас поглощены жёнами и девушками, другие хотят исследовать границы своего эго, ещё кто-то хочет заграбастать миллион баков. Но я, на самом деле, не разочарован,» – сказал он. – «Когда люди пришли в группу, они были студентами, у них было время и свобода. Я всегда понимал, что в конце-концов им придется впрячься – по крайней мере тем, кто не постиг секрета, как жить, не впрягаясь.» Он встал и взял из холодильника банку газировки. Затем стал говорить о каждом персонально, о том, где, по его мнению, находится каждый в отношении поиска. Когда он окончил, я был единственный, кого он не упомянул. Мгновение я раздумывал, не оставить ли, как есть, но заговорил. «Как насчет меня, мистер Роуз?» «Я наблюдал тебя годы,» – ответил он, как если бы ждал этого вопроса. – «Твоё сердце не в этой работе. Ты страдал, но никогда не менялся.» После обеда, пока мы работали на ограде, я неотвязно размышлял над сказанным им. Было больно, но я знал, что он прав. Моё сердце больше не было в работе и, чем больше я всматривался, тем меньше мог верить, было ли оно в ней хоть когда-либо, – во всяком случае, не так, как это подразумевал Роуз. Но чтобы я не изменился? Я был уверен, что все эти годы делал большие успехи, даже если уровень моей приверженности и колебался по временам. И если на этот счет я себя и дурачил, то – правда же – этого не видел. Я старался взглянуть на свою жизнь глазами Роуза, но мое эго рьяно вставало на самозащиту. Всё, что я слышал, – были возвращавшиеся ко мне мои собственные рационализации. Мне было известно, что Роуз считает, что я слишком погружён в мою карьеру, но я полагал, что проделал значительный труд по внедрению его принципов в мою деловую жизнь. Выявление неправд было смыслом успешного перекрестного допроса, и в зале суда интуиция была столь же неоценима, как и при медитации. С помощью решительности и настойчивости я выигрывал дела, которые выиграть не представлялось возможным. Я вершил довольно-таки благородные вещи – хранил целибат в откровенно нецелибатном мире, и удерживался от жадности и компромиссов, которые в моей профессии я видел повсюду кругом себя. Чего он ждал от меня? Что я делал не так? Чего не делал, что должен бы? Я отказывался признать, что забросил поиск. Вспышки эгоистического честолюбия, случайная интерлюдия с женщиной, просмотр бейсбола на крупноэкранном телевизоре вечером с друзьями – это всё были просто забавы, которые я подбрасывал в жизнь, чтобы придать ей вкуса. Ими можно было наслаждаться только, пока я чувствовал, что у меня есть «путь», который ждет меня. Я не желал и подумать, что они были тем, чем я стал, и что я уже не питаю надежды когда-нибудь прорваться сквозь свои невежество и неврозы и открыть своё истинное Я. И всё же, сколь ожесточенно я с собой ни спорил, я никак не мог обойти тот факт, что нечто было упущено. Но что? Клеем, связавшим около ста людей, которые для включения их в группу рассматривались Роузом довольно серьёзно, был, конечно, сам Роуз. Но что открыло умы этих людей для тех возможностей, которые Роуз представлял собой? Что вдохновляло их взаправду пытаться и изменять свою жизнь? – Это были неожиданные переживания, неким образом «случавшиеся» с каждым, кто проводил рядом с ним какое-то время. Исцеления, чтение мыслей, чудесные совпадения. Это были вещи, вдохновлявшие людей гораздо сильнее, чем любые слова в его удивительной философии. Вот это привлекло меня к нему. Это то, что удерживало мой интерес. И это, как теперь я чувствовал, ушло. Я утратил ощущение изумления, безграничных ожиданий, которое, с тех пор как встретился с Роузом, привык получать как само собой разумеющееся. А без него я просто создавал видимость работы. Тем вечером, везя Роуза домой в Бенвуд, я попытался изъяснить, до чего додумался. Было трудно подобрать слова для того, что с такой силой я ощутил днем. «Не могу в точности сказать, что именно переменилось,» – сказал я, – «но раньше было волшебство, которое ощущалось в группе. Я не об особых случаях говорю. Это было как щель, приникнув к которой, я распознавал то, что не даёт этому миру казаться столь уж реальным. Не знаю, то ли я изменился, то ли дух эпохи или ещё что.» Роуз улыбнулся. «Это я,» – сказал он. – «Изменился я. Я выключил волшебство.» Его заявление меня поразило. Сколько я его знал, Роуз никогда не приписывал себе ни один из случавшихся «сюрпризов». Кроме того, он часто говаривал, что присваивание себе феноменов нарушает хрупкое равновесие безучастности и безразличия, которые поддерживают действие промежуточности. «Не понимаю.» «Когда эти штуки начали происходить, это стало для меня большим сюрпризом. Я всегда считал целительство ловушкой, состоящей в том, что люди поддерживаются подпорками, вместо того, чтобы прорваться и открыть то, что находится за завесой. Но потом как-то на кухне Джейн пожаловалась на головную боль и мне пришла мысль, что, если захочу, я смогу ее убрать. И вот, я просто положил мою руку ей на голову и отдернул. Ее боль пропала.» «А как вы узнали, что это не станет для вас ловушкой?» «Я знал, что это меня не поймает, потому что я к этому безразличен. Я знал свою направленность и знал, что ничему не позволю изменить её. Поэтому, когда читались мысли, или кто-то испытывал прилив сил, или исцелялся, я этому не препятствовал. Но дальше это стало превращаться в цирк. Люди появлялись на ферме только, чтобы посмотреть, кого вставит. Философия их не интересовала и они разрушали атмосферу и для других. Поэтому я покончил с этим. Волшебство и чудеса привлекают людей со слишком низкой ступени духовной лестницы.» Я поморщился на последнее замечание, подумав: не ко мне ли оно относится? – поскольку отдавал себе отчёт, сколь большую роль играла его магия в моей заинтересованности. Но он не смотрел на меня и не менял тона. «Человек не может иметь слишком много фасадов,» – продолжал он. – «У меня фасад советчика, а не волшебника. Конечно, я могу поступиться моим настроем, если проблема у кого-то мне близкого. Но ловлю я искателей истины, людей, которые хотят найти своё окончательное определение. А не тех, кто просто впечатлён магией.» Всю последующую неделю те из нас, кто жил в Бенвуде или на ферме стали говорить с Роузом о том, что можно сделать, чтобы опять начать движение, как запустить часы. Поначалу он был уклончив, как бы желая посмотреть, сможем ли мы предложить что-нибудь сами. Но через несколько дней объявил, что спланировал месячный «зимний интенсив», долженствующий начаться на ферме первого января. Когда об этом стало известно всем, никто не захотел пропустить. Люди, обыкновенно заглядывавшие только на встречи ТАТ, брали за свой счет или даже увольнялись, чтобы принять участие. Я попробовал перестроить своё расписание, но смог освободить только первые две недели. В первый день года двадцать пятеро нас собралось на ферме и Роуз изложил правила. Их было немало. Он устанавливал строгий режим и было ясно, что к этому интенсиву он относится чрезвычайно серьёзно. Подъем в шесть. Тишина и медитация с шести до полудня. Работа на воздухе до пяти. Присутствие на вечерней встрече в доме с семи до полуночи. Пост был обязателен в первые три дня как минимум и затем приветствовался в последующие периоды от трех до пяти дней. Требовался строгий целибат и, подстраховывая его соблюдение, мы были разбиты на пары и распределены по всевозможным комнатам и домикам, и, независимо от времени, никому не разрешалось выходить без своего напарника. Роуз сделал ясным, что нарушение любого из правил окончится удалением с интенсива. Все мы рядили, почему Роуз, который, как правило, не просто отказывался устанавливать законы, но и энергично отговаривал от них, вдруг учредил такую жёсткую программу. «Для удара молнии нет рецепта,» – часто говорил он. Но в этот раз было по-другому. Роуз словно чувствовал, что времени мало, и что ему нужно устранить все задержки, если для кого-то появится хоть небольшая надежда прорваться. Он был почти постоянно с нами, соединяя в себе учителя и соратника. Он постился вместе с нами и водил на длительные безмолвные прогулки, чтобы наши умы забыли о голоде. После обеда он работал с нами бок о бок на морозе, в снегу, рубя деревья и коля дрова. По вечерам он устраивал сидения в резонансе и излагал философию, пока мы превозмогали умственное оцепенение от усталости, норовившей нас одолеть. По прошествии примерно недели Фрэнку позвонила жена и сообщила, что их ребенок заболел. Роуз сказал ему ехать. «На первом месте среди твоих обязательств должна быть семья,» – сказал он, и это было именно то, что Фрэнк хотел услышать. Однако, когда Фрэнк уехал, Роуз по-другому осветил то, как он выдерживал деликатный баланс между ведением семьи и деланием Работы. «Мы привыкли встречаться по пятничным вечерам в Стьюбенвиле,» – сказал он. – «Это нельзя было назвать группой, в основном там были пожилые женщины, радовавшиеся возможности выбраться из дому раз в неделю, но я решил, что буду работать с тем, что передо мной, пока не появится нечто лучшее. И тут я стал замечать, что каждую пятницу в доме что-то происходит. То один из детей заболеет, то жена из-за чего-то взбесится. И я наконец ей сказал: “Послушай, меня не волнует, если ты и дети умираете, – я всё равно еду на встречу.”» На множестве лиц возникло озадаченное выражение. Мы все знали, как Роуз оборонял своих жену и детей. «Уважение к моему обязательству перед той духовной группой было то единственное, чем я мог предохранить семью от вреда,» – пояснил он. Но озадаченное выражение лиц не исчезло. «Если вы стараетесь взять передышку от мирского, чтобы найти вашу Сущность,» – продолжал он, – «силы несчастий будут атаковать вас любым возможным способом. И обыкновенно это сводится к поиску слабейшего звена. Это может быть ваша жена, дети – всё, к чему вы привязаны. Если вы позволите этим силам несчастий замедлить вас, то вы тем самым их попросту подбодрите, что приведет вас к большей головной боли и может оказаться для тех, кто к вам близок, даже ещё опасней. Чтобы иметь шанс реально что-то делать, вам следует установить психическую защиту. Она подразумевает твёрдую установку на ясное обязательство – без увиливаний. Это защищает вас и ваших домочадцев – хотя они могут этого не знать и не понимать.» Изнурительный режим продолжался. Примерно на десятый день, во второй его половине, мы притащились в крыло дома после пяти часов пилки, колки и таскания дров, уставшие настолько, что не могли отряхнуть снег и грязь с ботинок. Все попадали на стулья, кто где какой нашёл. Бывшие поближе к печи, поснимали несколько слоёв одежды. Остальные дожидались, когда тепло дойдет до их изможденных тел. Прощальные лучи заката лились в окна и омывали комнату холодным красным светом. Все молчали. Через несколько минут Роуз встал и расстегнул своё длинное шерстяное пальто. Движения его были затруднены и он предстал внезапно постаревшим. «Вы устало выглядите, мистер Роуз,» – сказал Ник. «Это оттого, что я пытаюсь вдохнуть жизнь в двадцать пять статуй.» Никто не засмеялся. Ник уткнулся в свои рабочие ботинки. – «Простите, что сказал.» «Не за что,» – сказал Роуз, снимая пальто и опять садясь, – «есть ещё двадцать четыре статуи, которые не сказали.» Роуз не единожды говорил, что из нас Ник самый чувствительный и интуитивный и, вероятно, лучше всех подходит для получения некоторого рода Опыта. Проблема в том, сказал он, что эти же качества делают Ника также и кандидатом для заурядного нервного срыва. «Честно говоря, я не понимаю, как это у вас получается, мистер Роуз,» – продолжил Ник. – «Вы работаете над этим тяжелее, чем кто-либо из нас, а ведь вы уже – достигший, ставший, или как это ещё назвать. Вы – уже просветленный.» «Не нужно впадать в кретинизм насчет делания этой работы,» – сказал Роуз. – «Я никакой не особенный. Никто не особенный сколько-нибудь. Каждый работает для Бога. Большинство просто не знают об этом. Может, и сам Бог об этом не знает.» «Но есть же разница между человеком, просто живущим животной жизнью, и кем-то, стремящимся найти Истину, не правда ли?» – спросил Чак. «Мы все живем животной жизнью. Не думай, что ты лучше природы. Я не верю в насилие над естественной программой. Но при этом у каждого есть право разрешить тайну жизни – стать тем, кто он есть. Это – ваша привилегия, и также – священный долг. Сложная паутина мира – это часть замысла, по которому каждому человеку даётся шанс на окончательное бытие, окончательное определение. Не гарантия, а шанс. И вам нет нужды насиловать природу, чтобы использовать его. Нет на земле никого, кто не желал бы познать Истину. Все движутся в её направлении в точности со скоростью, соответствующей их приверженности, которая обычно очень слаба. На самом деле у людей нет выбора, кроме как пытаться найти путь отсюда. Каждый жалок. Ребенок в крике пробуждается к первому дню жизни. Ему не нравится атмосфера. Даже животные страдают. Всё стремится их уничтожить, и это обречено быть мучением. Мы все просто животные, старающиеся выжить в этих джунглях. Я тоже животное. Просто я как бы увидел свет, скрытый от других животных.» Он поднялся и достал из холодильника газировку. «Ирония в том, что животным и людям инстинкта, живущим как животные, легче принять меня,» – продолжил он. – «Они знают, что я буду к ним добр.» «Можете ли вы помочь таким людям?» – спросил Лари. «Ты не можешь помочь всем, если ты спрашиваешь об этом. Если ты протянешься на лестнице слишком далеко вниз, кончится тем, что люди потащат тебя вниз, а не ты их – вверх. Даже восприимчивым людям, чей ум по той или иной причине открыт, ты не обязательно сможешь помочь так, как им требуется. Иногда, даже если и хочешь, ты не можешь подобраться слишком близко. Правило магии – стой в десяти футах от людей. Люби своих друзей, но держи дистанцию.» «Относится ли это и к людям в группе?» – спросил Чак. «К людям в группе особенно. Мы идём по натянутому канату. С одной стороны ты должен поддерживать дружество, поскольку без дружества нет и надежды приобрести что-либо, имеющее духовную ценность. Если человек не способен к истинной дружбе, – он вообще не способен к духовности.80 Но если люди действительно серьезны, чтобы сообща работать ради Истины, они должны держать зеркала друг перед другом. Им следует говорить, наставив палец другу в лицо: “Посмотри, здесь ты ошибаешься, вот это тормозит тебя.” Потому что человек не может увидеть это оттуда, где он находится, – он ведь внутри этого. Глаз не может видеть себя. Эта система работает на противостоянии, а не на подпитывании. И если мне суждено вдохновлять кого-то, то это должно происходить благодаря тому, как я проживаю свою жизнь.» Интенсив создал во мне новую реальность, – ту, в которой я почувствовал, что если захочу, мои часы могут снова пойти. Голодание вычистило физические и, вероятно, даже некоторые метафизические яды, отравлявшие меня. Упражнения и длительные медитации дали мне чувство физической и даже психической силы. В своей книге «Психология наблюдателя», Роуз описывает систему для восхождения на различные уровни ума или того, что он называет «лестницей Иакова». Когда я раньше читал эту книжку, она была для меня просто словами. Теперь же, по прошествии времени и с обновленными силами я стал способен действительно видеть свои мысли и наблюдать их как посторонние сущности, от меня отдельные. Постепенно я стал обращать внимание на «наблюдателя» моих мыслей, и все настойчивей задаваться вопросом, кто или что наблюдает их. В неожиданные мгновения я получал прозрения в собственные поведение и личность столь ясные и правдивые, что это пугало меня. По истечении двух недель я почувствовал, что только-только начал входить в значимую часть интенсива, и уехал, сожалея, что недостаточно постарался освободиться для полного месяца. Вернувшись в кабинет, я оказался неспособен поддерживать хрупкое состояние ума, вызванное интенсивом. Практика угрожала полностью поглотить ту малую долю энергии, которую мне удалось в себе привезти, и я ловил себя на желании рубить вместе с Роузом дрова в снегу. Я чувствовал, что нуждаюсь в нём, чтобы он произвел во мне своего рода встряску и удержал тем самым от сползания обратно в моё старое я, и потому я беспокойно считал дни до его возвращения с фермы. Когда он приехал, было видно, что интенсив дорого ему обошёлся. Он выглядел выработавшимся и обессилевшим и, когда он передвигался по кухне, то казалось, что он скорее шаркает, нежели ходит. Меня не оставлял вопрос, получил ли кто-нибудь из «статуй» пользу от таких потерь энергии? Я старался его не беспокоить, пока он разбирал накопившуюся почту и документы, и ждал, когда он восстановит жизненную силу. Через несколько дней, наконец, я застал его на кухне одного. Был поздний вечер. Роуз, казалось, был в приподнятом настроении и, хотя за последнюю пару дней мы несколько раз натыкались друг на друга, он поприветствовал меня как после долгого расставания. Немного поговорив, я перешёл на тему интенсива. «Что было, после того как я уехал?» – спросил я. «Ну, ты был, когда с Ником случился Опыт?» «Нет,» – ответил я, заинтригованно, – «а что произошло?» Роуз поставил чайник на огонь. – «В один вечер Ник поймал мой ум и получил проблеск. Настоящий, но не слишком глубокий. Правда, это ввергло его в панику. Я не уверен, что он вынырнул до своего отъезда. Он всё ещё был погружён туда.» Роуз принялся описывать опыт Ника и что он потом вытворял. Как-то надел охотничью шапку Роуза и проносил весь вечер, – очевидно, представляя из себя истинного преемника Роуза. «Чёрт, я ведь жив ещё,» – сказал Роуз со смешком. – «А ещё через пару дней они с Филом бегали по снегу в одних трусах.» «Что делали?» «Ударил настоящий мороз, ниже восемнадцати. Я рассказывал ребятам о тумо – генерируемом человеком внутреннем тепле, которое может защитить от любого холода. Тибетцы это знают. Некоторые из них могут пробежать раздетыми сотни миль в самую стужу. Короче, меня тогда не было, но догадываюсь, у Ника и Фила возникла фантазия попробовать. Они разделись и побежали от дома до шатокуа-павильона и обратно. Фил пробежал без проблем, а Ник отморозил пальцы на ногах и нам пришлось везти его в больницу.» «Он в порядке?» «Нормально. Обошлось без ампутации. Его продержали в больнице три дня, и он вернулся на ферму к окончанию интенсива.» Остаток вечера мы проговорили об интенсиве, о том, что на нём проявилось, и пошли спать. Ночью меня разбудили звонки телефона. Я взглянул на часы: 2:30. Мне понадобилось какоето время, чтобы заставить себя вылезти из тёплой постели в ледяной воздух. Когда я добрался до двери, то услышал, что трубку взял Роуз. «Да,» – это было всегдашнее нейтральное приветствие Роуза по телефону. Ни следа волнения по поводу звонка в середине ночи. Ни раздражения от того, что пришлось выйти в ледяной коридор. Ни тени нетерпения вернуться в тёплую кровать. Просто «да». Я ждал у двери, поскольку звонок мог быть мне. После долгой паузы Роуз спросил: «Ты где?» Затем в течение примерно минуты я слышал только хмыканья и угуканья, обыкновенно произносимые во время слушания. Кто бы это ни звонил, было ясно, что не ко мне, и я с облегчением забрался обратно в постель. Так как зимой дверь в мою комнату оставалась открытой, чтобы захватывать какую-то малость тепла, вздымавшегося вдоль лестницы от печи, мне было слышно, что говорит Роуз. «Я знаю, Ник. Так я и чувствовал себя в Сиетле. Мне казалось, что сошел с ума.» Долгая пауза. «Да, это то, что происходит. Свыше ты получаешь прозрение об уме. И видишь, что он не существует. Или существует, но не как нечто индивидуализированное. Верно. Верно. Это точка контакта с другим измерением. Вот, что это такое. Это не ты. Человеческий ум – просто матрица, порт, где могут заякориться измерения большого Ума.» В промежутках между комментариями Роуза я слушал как потрескивает дом. «Знаю, знаю. Вот сейчас тебе хотелось бы прекратить то, что происходит, и вернуться в иллюзорное бытие. Когда доходишь до предела, то кажется, что ум разрывается на части. И тебя это пугает.» Долгое молчание. «Да. Да, знаю. Но это неизбежно. Тотальное одиночество – это то, что уводит тебя от всякого соприкосновения с относительностью. Одиночество приходит из открытия, что твоя сущность всегда была отделена от тех, кого ты любишь, от твоих привязанностей к миру.» Опять долгая тишина. «Конечно, ты напуган. Ты боишься, что если отпустишься, тебя будет колотить о повороты излучин, пока всё не пойдет прахом. Но поверь мне, Ник, ты обнаружишь, что всё идет как должно, и даже лучше, чем ожидалось. Лучше, чем если бы ты всё ещё старался это контролировать.» Иногда пять или десять минут проходило между замечаниями Роуза. Периодически я смотрел на часы. Три часа. Три тридцать. Из коридора тянуло холодом. «Разумеется, я понимаю. Я знаю это. Только постарайся и держи себя в химическом балансе81. Ты справишься, если не утратишь химический баланс.» Чуть позже. «Ты становишься настоящим. Больно расставаться с тем, что ты считал собой.» Реплики Роуза делались всё чаще. Я догадался, что Ник на том конце успокаивается. Голос Роуза зазвучал мягче и задушевнее. Наконец раздался смех. «Нет, чёрт, я этого не вызывал. Меня едва хватает на то, чтобы приглядывать за вами, ребята. Может быть, что-то из сказанного мной на интенсиве, стало твоим катализатором, но что бы ни происходило, оно идёт своим ходом, и так это и должно быть.» После короткой паузы Роуз рассмеялся. «Верно, это мое назначение. Я должен всех держать в напряжении. Дзен работает через потрясения. Но учитель не может спланировать заранее, что ему следует делать. Ты не можешь заранее сказать кому-то, что собираешься встряхнуть его. Иначе его подготовленность разрушит эффект.» Я слышал как Роуз хихикает и фыркает. Было ясно, что кризис пройден. «Ладно, поскольку там Тим с тобой, он тебя удержит от чего-то действительно опасного. Скажи ему, чтоб он мне позвонил, если ты вздумаешь пойти в армию или жениться. Без проблем. До встречи. Пока.» Когда утром я спустился на кухню, Роуз сидел за столом. Он не смотрел новости, не готовил завтрак, не заполнял заказ на книгу и вообще ничего из того, что обычно делал по утрам. Он просто сидел за столом в темноте. Мне показалось, что, войдя в дверь, я прервал нечто. После обмена «добрым утром», он сидел молча, а я стряпал себе тост. Я взглянул на часы, чтобы узнать сколько у меня времени до ухода в суд. Роуз прочистил горло. Его бронхи были забиты и он покашлял несколько раз. «Сегодня утром мне хреново,» – сказал он. Голос был тих и слаб. «Вам надо бы отключать телефон после полуночи.» «Ника реально тряхануло этой ночью. Он подумал, его башка разлетается на части.» «Я перепугался, уже только слыша ваш разговор.» Роуз повернулся ко мне, – «У него был проблеск. Это его до смерти напугало.» Он помолчал несколько секунд, глядя как я намасливаю тост, и продолжил. «Вот что бывает, когда начинаешь уходить от того, что нереально. В начале это широкая дорога. И там все виды мусора, от которого тебе легко избавиться. Но по мере движения дорога сужается и то, с чем приходится распрощаться, уже оказывается очень дорогим для тебя. В конце же – побег невозможен. Ты идёшь сквозь дымоход и всё.» Образ дымохода ужаснул меня. Как Роуз и сказал по телефону этой ночью, он означал конец всего, что я любил, особенно меня самого, без пути назад. «Прямо сейчас Ник пребывает в испуге и замешательстве. Это весьма травмирует, когда ты просыпаешься и понимаешь, что жил жизнью тени в чужом кошмаре. Какое-то время ты висишь над бездной – ни туда, ни сюда. Вот почему ты не можешь просто передавать людям. Почти всё время интенсива парни попросту стояли рядом и ждали, что я дам им импульс, а им не придется и пальцем шевельнуть. Конечно, я всегда в поиске людей, находящихся на грани, которых я смогу подтолкнуть. Но даже если условия подходят и я нашел правильный просвет в их уме, я не уверен, что то, что я сделаю, будет для них услугой. Различие между пробоем и прорывом82 состоит в том импульсе, который ты приносишь с собой в Опыт. И это то, что никто, кроме тебя, не может сделать. Я не могу сделать это за них.» Знакомое напряжение зазвучало в его голосе, смесь смирения и нетерпения. «Я всегда говорил вам, ребята, не ждите, что я сделаю это для вас. Иначе лет через десять ты посмотришь и спросишь, куда, чёрт возьми, они ушли и чем ты всё это время занимался. Полно парней в группе, для которых десять лет уже прошли, а они ничего так и не сделали на пути. И потом они откладывают свои игры на месяц, чтобы провести отпуск на ферме, и ждут, что я взмахну палочкой и подарю им духовных сладостей ценой в десять лет работы. Ведь никто из вас за это не борется. Никто не стучит в дверь. А если даже и стучит, то убегает, когда я отпираю ее.» Он опять закашлялся, потом встал и налил себе стакан воды. Напившись, он оставался в задумчивости. Когда же заговорил снова, его голос смягчился. «Знаешь, в студенческие годы, я часто слышал об одном великом английском актере, известном своей игрой шекспировского Шейлока. Кажется, его звали Петер Бенсон83. Я представляю, что он был прямо рожден для этой роли. Но была одна проблема: он так глубоко погружался в образ, что даже после занавеса, никак не мог отрешиться от своего персонажа. Поэтому после каждого представления двум рабочим сцены приходилось сопровождать его по улицам Лондона, непрерывно повторяя: “Ты не Шейлок, ты – Петер Бенсон. Ты не Шейлок, ты – Петер Бенсон”.» Роуз поднял глаза и встретил мой взгляд. «В этом-то и состоит вся моя работа здесь,» – сказал он. – «Я просто рабочий сцены, идущий рядом с несколькими людьми и повторяющий: “Эй, ты не эгоистический кусок плоти, о котором ты думаешь, что им являешься. Ты – Бог.”» 20 УЕДИНЕНИЕ Зимний интенсив и его отголосок во мне оставили меня в спутанной сети мыслей и повелительном желании изменить свою жизнь. Я пришел к перекрестку. Я стал остро осознавать свою конечность – и Роуза тоже – и чувствовал необходимость сделать что-то, чтобы вернуть себя на духовную дорогу до того, как станет слишком поздно. Но это же ощущение конечности сделало мысль пожить «нормальной» жизнью, – что бы это ни значило, – более привлекательной и я ловил себя на мысли, а что если просто бросить все и начать сначала? Трепетное изумление перед магией, – то, что впервые притянуло меня к Роузу, – растаяло, а на его месте возникли два, на первый взгляд конфликтующие, желания. Я понимал, что должен сделать выбор. Мне следовало либо сделать в своей жизни, наконец, искреннее духовное усилие, либо отказаться и искать счастья как обыкновенный человек. Но даже когда я на протяжении недель старался прояснить это в своем уме, у меня никогда не возникало сомнения, какая наклонность сильнее. Я был в поиске слишком долго, чтобы сдаться. И в то же время я понимал сколь слабыми и нерешительными были мои духовные усилия. Сам по себе я стремился очень слабо. Все, что я за все время реально сделал – это расположился в близости Роуза и надеялся, что он сделает все за меня. Впрочем, одно было ясно. Чем больше я об этом думал, тем очевиднее становилось, что я чересчур завяз в моей карьере, слишком отождествился с моей ролью адвоката. Заместо искателя, начавшего адвокатскую практику в качестве следующего шага на духовном пути, я сделался адвокатом, тем, кто использует свою профессию как извинение для неделания дальнейших духовных шагов. За недели, последовавшие за интенсивом, эта темя стала центральной для моих мыслей и в конце-концов я решил взять годичный отпуск от адвокатской практики. Я изложил дело моим партнерам Лу и Джону, и мы выработали соглашение о том, что каждый из нас может взять годовой отпуск. Чем больше мы это обсуждали, тем явственней я чувствовал, что год вне кабинета может стать моим спасением. Я дал этой идее провариться несколько дней, а потом решил поговорить о ней с Роузом. На кухне было пусто, когда я пришел домой в тот вечер, но, проходя по коридору, я услышал, как Роуз ходит у себя по комнате. Я поднялся наверх, по-быстрому переоделся и вернулся на кухню. Роуз только что сел почитать уилингскую газету. Мы обменялись приветствием и он стал оглядываться в поисках очков. Я решил перейти к делу до того, как он углубится в газету. «Знаете, мистер Роуз, я тут много думал насчет того, как мне вернуть свой ум в Работу.» Он бросил на меня взгляд. «Восхищен усилием,» – сказал он и не без удачи похлопал по бумагам на столе – очки оказались под ними. Он надел их и стал читать некрологи. Я подождал, пока он закончит, чтобы продолжить. «Я думаю, мне стоит провести год вне практики. Мы на фирме говорили об этом и, я думаю, это то, что мне надо, чтобы вернуться на дорогу.» Пока я говорил, он перешел к рекламам супермаркета и стал просматривать цены. Примерно через минуту он поднял глаза опять. – «Каждый хочет поиметь с рабочего человека,» – сказал он. – «Сезон на человечка открыт.» Тут он отложил газету и снял очки. «Год свободы, ха?» – сказал он, глядя почему-то в сторону. – «Не знаю. Человек должен делать то, что, как он думает, правильно. Но я бы не советовал тебе убегать от твоих обязанностей.» «Это не будет бегством, мистер Роуз. Мои партнеры будут вести практику и через год я вернусь. Я действительно думаю, что забыл, ради чего я здесь. Я просто денежная машина. Я хочу вернуться в соприкосновение с какой-то высшей целью до того, как станет поздно.» Роуз на миг взглянул на меня и опять отвернулся. – «Ну, я не притворяюсь, будто читаю судьбы. Может, новая карьера и принесет тебе что-то доброе.» «Это не новая карьера, мистер Роуз. Мне просто нужно какое-то время свободы. Я хочу сделать реальное усилие на пути. Я хочу...» «Иногда не так важно что ты делаешь, а знаешь ты или нет, почему ты это делаешь.» «Я знаю почему. Я об этом думал неделями.» «Это не значит, что ты что-то знаешь,» – сказал он. «Просто я действительно уверен, что это то, что мне нужно прямо сейчас.» Роуз улыбнулся, – «Ладно, у всего есть оправдание. Вот, что правда.» Я проигнорировал это. Выглядело, будто мы говорим о разных вещах. Себе я сказал, что его реакция – результат моей неспособности внятно выразить мои намерения, а не то, что мои намерения – превратны и он видит их насквозь. Мне казалось, что стоит ему увидеть мою искренность, как он поймет и поддержит мои усилия. На следующий день мы с Лу и Джоном проработали детали того, как мы будем меняться в отпуске. Каждый из нас получал год свободы после семи лет практики. У меня было шесть лет и в следующем году мне предстояло закончить дела с моими клиентами до того, как я уйду. Мы были полны энтузиазма. Двум адвокатам было не слишком-то радостно оставаться, но предвкушение годичного отпуска того стоило. Как только решение об отпусках нами было принято, всё словно стало подыгрывать нам. Мы наняли четвертого адвоката помогать Лу и Джо, пока меня не будет. Несколько из моих особенно хлопотных дел неожиданно разрешились в суде. И после двух лет подыскивания более обширного офиса, прекрасное помещение за отличную цену само вдруг упало нам в руки. Я счёл эти события знаками, что мной сделано верное решение. Была только одна проблема: я не знал, что делать с этим годом свободы. Я хотел заняться работой для группы, но не знал, как и где начать. Я обсуждал этот вопрос с Роузом несколько раз, во всяком случае пытался. В прошлом он всегда упрекал людей в группе за малый вклад, за нежелание поддерживать проект группы. Теперь же, при том, что я решил посвятить группе целый год, он не выказывал охоты ни работать со мной, ни даже посоветовать что-либо мне лично. Годами я слышал от него бесчисленные способы расширить группу – как практичные, так и не вполне реалистичные. В тех, которые импонировали мне больше всего, я, конечно, рисовал себя в одной упряжке с Роузом, где мы работали с ним плечом к плечу и устраивали лекции или шатокуа. Я даже представил ему несколько формальных проектов по этому типу, но всякий раз он делался непривычно скучен, а если я настаивал, то и откровенно неодобрителен. Я всё не хотел этого признавать, но было ясно, что Роуз не желает связывать свое будущее с моим. Я перестал делать предложения. Через месяц или чуть позже, когда мы возвращались в Бенвуд с июльской встречи ТАТ, он выразил это явно, сказав, что мне следует действовать и планировать свой год без него. Я ответил ему, что уже спланировал. Сказал, что хочу что-нибудь делать для группы, и пошутил, что, раз из меня не получается тот, кого бы он мог вытолкнуть за край в Абсолют, то, может, я хотя бы приведу к нему других кандидатов. Чего я не сказал, но чувствовал, было то, что испытывал глубокую потребность показать ему себя. Я хотел, чтобы он меня оценил и зауважал. Мне хотелось понравиться ему. Оказалось, что свести на нет мою вовлеченность в практику требует почти столько же работы, как и начать ее. Я отодвинул все мои дела на сколь возможно долго, а те, которые не могли быть отсрочены на год, следовало передать партнерам. На работе у меня была запарка, так что было не до попыток определиться, что делать со свободным годом. Я отложил всякое серьезное планирование до января, когда собирался провести на ферме месяц уединения в моем домике. Я был уверен, что в тишине леса к чему-нибудь да приду. Однако оттягивание и нерешительность не уживались рядом с Роузом. Когда он спрашивал насчет моих планов, я пробовал кормить его невыпеченными идеями, но это никогда не срабатывало. Он тут же раскритиковывал мое уклончивое мышление и пускался в истории о других членах группы, «выскакивавших недоделанными» и в итоге приносившими группе не столько пользу, сколько вред. «Я бы предпочел не делать ничего, чем создавать у людей ложное представление,» – как-то вечером напомнил он мне. Его отношение расстраивало меня и добавляло проблем, еще сильнее затрудняя ясное размышление над моими планами. Обычно, в сложные периоды с Роузом, моим выходом было покидать дом пораньше, и приходить попозже, по-возможности избегая с ним встреч. Кто-то в группе однажды пошутил, что таков обычный путь ученика Роуза. Сначала ты принимаешь обязательство работать с ним, а потом начинаешь от него прятаться. В это время я несколько вечеров пришел рано и один из них превратился в настоящее шоу конфронтации. Начался он как обычно, с жалоб Роуза на кого-то, опять забившего раковину остатками еды. Стоило ее прочистить, как он пустился в крикливое и нудное перечисление проступков, продлившееся во все время одинадцатичасовых новостей. Он не упомянул никого по имени. Но этого и не требовалось. Когда он заговорил о сотнях книг, залежавшихся у него по той причине, что торговцы не исполняют своих обязанностей, Крейг перестал глупо улыбаться. Когда же речь пошла о людях, утомившихся поиском и теперь проецирующих свои духовные амбиции на кусок протоплазмы противоположного пола, покраснело круглое лицо Эла. Роузова диатриба против женщин, чьи биологические часы ежемесячно выгоняют их за дверь в поиске кого-то, кто станет отцом их ребенка, заставила рыдать Кэри. А когда он перечислил все проекты, включая шатокуа, начатые другими, но заканчивать которые пришлось ему, я попытался принять бесстрастный вид, годный судебного заседания, но в висках у меня стучало. Может быть, он устал и переработал. А может, мы были просто безнадежные остолопы. Может быть, он исполнял свою роль учителя, поджигая огонь под каждым из нас, чтобы вытряхнуть нас из нашей летаргии. А возможно, всё вместе. Роуз одновременно был и неприятной личностью, и просветленным духовным учителем – и он не подавал знака, позволявшего определить, кто из них говорит в данный момент. Его сила была в его непредсказуемости, так что пропустить мимо ушей что-либо им сказанное являлось духовным или в лучшем случае психологическим риском. Его последние замечания в тот вечер были самыми болезненными. «Ребята, я не собираюсь за вас умирать,» – сказал он спокойно. – «Я просто не хочу мириться с обманом.» Той ночью в постели я думал о смерти. Для Роуза смерть была сутью любого действия. Его замечание вечером о смерти за нас, в-общем, было случайным, но вместе с тем, всякий, знавший Ричарда Роуза, знал, что он имел в виду именно это – свою готовность в любой момент умереть за кого-то, если это согласовывалось с его пониманием цели или, как он называл это часто, – «оправданием своей жизни». Так же как в молодости Роуз был одержим жаждой достоверно узнать, куда он уйдет после смерти, так же и его философия настроена на то, чтобы помочь другим ответить на этот вопрос. На взгляд Роуза, в нем одном уже заключается достаточное основание для духовной работы: вы умрёте, вы не знаете, что будет происходить дальше, и ваши действия в жизни, скорее всего, определят ваше состояние после смерти. Пока я лежал той ночью, слова, в течение лет слышанные от Роуза, проходили сквозь мое сознание, озвученные его голосом и интонациями, словно он прямо сейчас произносил их мне ухо. «Если бы я полагал, что все идут в одно и то же место, то в моих речах не было бы смысла.» «Человек не рожден с душой, он должен создать ее.84» «Ты не сможешь попасть куда-то, что ты заранее не привил себе.» Следующим утром я рано встал и быстро оделся. Я надеялся выйти из дому до того, как проснется Роуз. На цыпочках спустился по лестнице и с облегчением увидел, что в коридоре темно и тихо. Вероятно, – счел я, – Роуз прошлым вечером изошел силой и спит. Я тихо прошел мимо его спальни и медленно отворил скрипучую дверь на кухню. Роуз был там: едва различимый в сумраке, он облокотился на раковину. Бледный свет из окна не освещал угла, в котором он находился. Из полумглы донеслось его «доброе утро», сказанное тем хриплым голосом, который у него был по утрам, пока не отступал хронический бронхит. Когда мои глаза приспособились к сумраку, я различил мягкое, почти улыбчивое выражение его лица. «Доброе утро,» – сказал я, опираясь о печку. Покой и безмятежность наполняли помещение и я уже не никуда не торопился. «Я думал о твоем отпуске,» – сказал он. «О творческом отпуске85,» – поправил я. «Если ты не знаешь, что делаешь, – если у тебя нет вектора, – природа задаст его тебе. Но он может оказаться не отвечающим твоим истинным интересам.» «Я работаю над моими планами,» – сказал я. «Мой отец говаривал: чем темнее черная краска сзади зеркала, тем ярче оно отражает.» Он помедлил, давая мне оценить метафору. «То же самое с людьми в группе. Человек сохраняет свою энергию некоторое время, соблюдает чистоту и пытается приподняться на ступеньку над навозной кучей. Он накапливает ценность. Но что затем происходит? Король падает с трона. Он встречает женщину, которая подобна чёрной краске на зеркале. Он проецирует на эту женщину все свои желания, и она не делает ничего кроме того, что просто отражает назад то, что мужчина хочет увидеть.» «Мистер Роуз, я не собираюсь искать женщину. Я просто хочу делать какую-то работу для группы.» Роуз улыбнулся. – «Я пять лет пробыл в семинарии. Ушел оттуда в семнадцать. Вот когда началось мое настоящее образование. Вскоре я попытался совершить самоубийство. Черт, я совершил самоубийство, но выжил.» Я сел за стол. «Всё из-за девушки. Она была красивой кошечкой с прелестнейшей улыбкой и самым прекрасным голосом, что я когда-либо слыхал. Я считал ее ангелом. Писал ей стихи и обращался как с тончайшим фарфором. Позже я выяснил, что она была городской проституткой. В Бенвуде её попробовали все, кроме меня. И когда мне открылось, какой я дурень, проецируя на нее добродетель, невинность и Бог знает еще что, – это погрузило меня в кромешное отчаяние. Я решил, что если мог столь грубо ошибаться насчет такого элементарного как человеческая природа, то какие у меня могли быть шансы, выяснить о жизни что-то действительно важное? Мысль, провести всю жизнь в неведении, была для меня невыносима. Если мне предстояло быть потрясаемым чередой событий, безо всякой возможности узнать когда-нибудь их реальное значение, то я не хотел жить. А так как я был католик и знал, что пойду на небеса, то решил, что лучшее, что могу сделать, это поскорее двинуть отсюда в какое-то немного менее омерзительное место. Я знал, где родители хранят яд для крыс, достал его и выпил целую бутылку.» Он прервался хлебнуть чаю. «Стрихнин – суровое средство для ухода отсюда, можешь поверить. В конвульсиях мои ступни доставали до затылка. Зубы были стиснуты – я бы отгрыз доктору пальцы, вздумай он раскрыть мне челюсти. Туда привезла меня мать, – в кабинет старого доктора на нашей улице. Когда доктор увидел, сколько я выпил, он сказал: “Сынок, зачем же ты так старался, а?”» – Роуз с укоризной протянул слова, именно так, как это мог сделать доктор. Я услышал, как он сказал матери, что я принял столько яда, что убило бы и десятерых. Тут мое зрение отключилось. Слух был единственным из оставшихся восприятий, так что я просто лежал в ожидании, когда запоют трубы и явятся ангелы, чтобы отнести меня на небеса. Так это было должно произойти по совершенной религии самого совершенного человека в мире – моей матери. Я всё ждал, но никто не приходил. Конвульсии сотрясали меня на стальном врачебном столе, мои зубы скрипели как наждак. Не было ни ангелов, ни колесниц. Я просто умирал в мучениях. И тут у меня было видение.» Он повернул голову и посмотрел на меня в упор. «Я не говорю о каком-то смутном, снообразном видении. Нет, я всё видел очень ясно, – так ясно, как вижу сейчас тебя. То, что я увидел, был – я, Ричард Роуз в свои семнадцать, мертвый и лежащий в ящике под землёй. Я смотрел прямо на него, как будто кто-то вырыл землю и срезал у гроба бок, чтобы дать мне увидеть картину в сечении. И пока я лежал на врачебном столе, каким-то образом я также видел себя в могиле. И время шло по разному в обоих мирах, потому что дальше в видении происходило вот что: Ричард Роуз в гробу начал гнить. Поскольку я видел себя с боку, то ближайшей ко мне была моя правая рука.» Роуз приблизил левую руку к правой, охватил ее в плече и затем медленно провел ладонью по все длине руки. – «Эта рука прямо у меня на глазах попросту сгнила и высохла.» «Что же вы сделали?» «Сделал, что следовало. Я стал бороться за возвращение. Ведь я принял яд потому, что не хотел продолжать жить в неведении. Но видение дало мне понять, что я не мог надеяться постичь что-либо в смерти. Как сказал Христос: “Мертвые ничего не знают”86. Потому я решил, что лучше заняться работой и найти какие-то ответы, пока я еще жив.» Он допил чай большим глотком, поставил чашку в раковину и пристально посмотрел на меня снова. «Если кто-то не может выдержать напряжения и хочет задрать лапки вместо поиска, я, разумеется, не стану ему мешать. Но будь осторожен. Если ты собираешься отдаться иллюзии, то хотя бы сделай ее привлекательной.» «Мистер Роуз,» – сказал я, отчасти с раздражением, – «у меня нет намерения сдаваться иллюзии ни в каком виде.» Он несколько смягчился. – «Никто никогда не имеет такого намерения,» – сказал он. Роуза явно волновало, что у меня на уме в отношении отпуска и, поскольку планов у меня не было, он, очевидно, решил, что я собирался искать женщину – любую. Да, это правда, что иногда я воображал себе, какой могла бы быть «нормальная» жизнь, но строго намеревался – по крайней мере, на сознательном уровне – потратить мой свободный год на работу для группы и ни на что ещё. Но когда новый год приблизился, я все ещё не знал, чем займу мое время. Роуз часто поднимал эту тему, но всё, что я мог ему ответить, было то, что я собираюсь достичь ясности во время январского уединения. Пока росло давление, я ждал этого уединения, как некоего магического средства от всех моих проблем. На рождество Роуз устроил на ферме большой обед, что было его традицией. В таких случаях он отрешался от всех черт своего учительского имиджа и превращался в идеального хозяина. Мы были желанными гостями за его столом, всё же прочее забывалось. В тот год, когда вечер подошел к концу, я отвёз его обратно в город. В машине он снова стал учителем и немедленно возобновил разговор о невыполненном мной планировании на близившийся год. Захваченный врасплох после столь чудесного дня, я оказался совершенно беззащитен. Недавно я игрался с идеей написать его биографию, при том, что за всю жизнь не написал ничего длиннее письма. И вот в своем безрассудстве я выложил ему её. Он тут же её уничтожил, категорически сказав, что я не гожусь и что любые попытки в этом направлении окажутся тратой времени. Остаток дороги я дулся и молился, чтобы во время уединения меня каким-то образом посетила идея, которая удовлетворит нас обоих. Тридцать первого декабря в офисе для меня устроили прощальную вечеринку, после чего я заехал в Бенвуд взять вещи, чтобы отправиться на ферму и начать уединение. Роуз готовился к новогоднему вечеру, который он всегда проводил на ферме, и который с годами стал чем-то вроде неформальной ТАТ-встречи. Стол на кухне был завален едой, что он собирался взять с собой. «Придешь сегодня на вечер?» – спросил он. «Нет, я начну уединение прямо сейчас.» «А, ну да. У тебя уже выработались какие-нибудь планы на отпуск?» Я поджал челюсть. – «Нет, но у меня появилось несколько идей, которые надеюсь разработать в тишине.» Он выдвинул стул и сел к столу. «Знаешь, я тут раздумывал о твоем отпуске и, возможно, у меня есть для тебя идея.» Я жадно ухватил стул. Он стал излагать свое предложение, а я качал головой, не в силах поверить. То был план моих чаяний: мистер Роуз и я, бок о бок путешествуем по стране, устраивая лекции и сеансы гипноза. «Почему бы тебе не пораскинуть мозгами на этот счет, пока будешь бездельничать у себя, – может, к чему-то придешь.» Я обещал, что займусь этим, и уехал из Бенвуда ошарашенным, но очень счастливым человеком. Новогодний вечер я провел, радостно таская вещи в свой домик. Каждый раз, когда я возвращался к машине за очередной порцией, из дома доносился смех Роуза и тридцати его ближайших друзей и учеников, пивших вино, игравших в юкер87 и говоривших о философии. И хотя было холодно и грязь липла к ботинкам на каждом шагу, я не поменялся бы местом ни с кем из них. Ведь впереди у меня был целый месяц – разрабатывать план, основанный на идеях Роуза, и был остальной год – вместе с Роузом воплощать этот план в жизнь. Войти в уединенность поначалу было трудно. Тело и ум всё стремились вернуться к ритмам внешнего мира. Однако спустя несколько дней я ощутил в моем домике определенную меру покоя. Постепенно я утратил интерес к Стилерс88 и фондовой бирже и вошел в удобный режим медитаций, упражнений и написания моего «предложения» Роузу. Я работал, держа в уме одно из всегдашних недовольств Роуза: что все в группе воспринимали работу на духовной лестнице как хобби, как добровольческую работу в свободное время. «Если хотите преуспеть на лестнице, вам нужно работать так, словно вы зарабатываете на хлеб и у вас дома десяток голодных детей,» – советовал он нам. Я решительно был настроен на то, чтобы мой проект не попал в категорию хобби. Я собрал воедино бюджеты, графики, рекламные ходы, даже вычертил на карте маршрут. Когда я был удовлетворен проработкой предприятия, которое даже обещало затмить шатокуа, я вложил свое предложение размером с книжку в большой коричневый конверт и, адресовав Роузу, бросил его в почтовый ящик фермы. Сделав это, я стал вводить себя в безмолвное уединение, ради которого и приехал. Еще несколько человек тоже находились в уединении в своих хижинах, и, хотя каждый был сам по себе, я чувствовал единение с ними в общем отшельническом подвиге. Время от времени мы встречались в лесу, то притворяясь, что не видим друг друга, то взрываясь иной раз хохотом. На бараке находились доска объявлений и календарь. Там мы расписывались ежедневно, чтобы дать остальным знать, что с нами всё в порядке. Доска также служила центром сообщений и каждое утро я проверял, нет ли от Роуза словечка насчет моего проекта. С неделю ничего не находя, я уже счел, что, скорее всего, он дожидается моего возвращения, чтобы мы отполировали проект в живом общении. Но в одно снежное утро я увидал сложенный и прикнопленный к доске листок, на котором хорошо знакомой рукой было начертано мое имя. Каким-то образом я знал, что там неприятность. Меня охватила неодолимая тревога, так что даже подкатила тошнота. Не читая, я положил записку в карман и вернулся в домик. Там, сидя в одиночестве за столом, я развернул лист так, словно это был мой некролог. Он был написан большими, почти гневными, печатными буквами. Кровь пульсировала у меня в ушах, пока я читал. ПОЛУЧИЛ ТВОЮ ЗАПИСКУ. НЕ ЖДИ, ЧТО СТАНУ ПОДЛАЖИВАТЬСЯ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ, ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ, РАЗ УЖ ВЗЯЛ СВОБОДНЫЙ ГОД. ТЫ ОТНОСИШЬСЯ К РАБОТЕ КАК К СВОИМ СУДЕБНЫМ ДЕЛАМ. НО ИСТИНУ РУКОЙ НЕ УХВАТИТЬ. ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ИГРАТЬ СО СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ, НИКТО ЗДЕСЬ НЕ СТАНЕТ ТЕБЯ УДЕРЖИВАТЬ. НО НЕ МЕШАЙ ВЕКТОРАМ ТЕХ, КТО СЕРЬЕЗЕН. МЫ ГОВОРИМ О СТРЕМЛЕНИИ ЧЕЛОВЕКА СТАТЬ ДУШОЙ. Р. Все, что я считал накопленным в виде подготовки к отпуску – чувство силы, покой ума, беспристрастный оптимизм – всё исчезло во мгновение ока. Я был опустошен. Как он мог такое со мной сделать? Не понимал он разве воздействия, которое это письмо окажет на отшельника в хижине? Не взял ли я этот год отпуска для его работы? Не было ли это его идеей – пойти по дороге вместе? Дни напролет в моей голове бушевал яростный спор, но был он бесполезен и тщетен. Не было никого, с кем спорить. А даже если б и был, и даже если б я победил, – то есть каким-то образом доказал бы, что я прав, а Роуз нет, – что было бы толку в том? Ничего бы не изменилось. Как бы ни смотрел я на это, – всё равно впереди был пустой год, в котором делать было нечего и не с кем. Дни и ночи делались всё невыносимей. Способа убежать физически или ментально не было. Десятки раз я перечитывал письмо Роуза, безуспешно пытаясь увидеть, в чём же я так ошибся. Мне нужна была помощь. Годы назад я купил себе «И-цзин» – через несколько дней после того, как был утешен словами о «сильном и верном друге» из роузова экземпляра. Теперь я вернулся к ней. Я выбросил монеты и нашел соответствующую гексаграмму. Образ был «Огонь на горе» и сентенция «Странник». Комментарий говорил об огне, который сжег всю траву на горе и был должен либо перекинуться на другую гору, либо погаснуть. В материальной жизни, как пояснялось, человек, достигший в определённой области всего, чего мог, застаивается, если отказывается двигаться дальше. Я закрыл книгу и посмотрел в окно на обледенелый лес. Если бы И-цзин посоветовал птичке покинуть гнездо, то зимой она тоже, – подумалось мне, – полетела бы на юг. Я решил ехать во Флориду, поскольку у меня там были друзья и я любил пляжи. Но вопрос, что делать, оставался по-прежнему. Мне нужно было придумать что-то, чтобы мое путешествие было нужным для группы. Что я мог сделать? Основать группу? Читать лекции? Я вспомнил, что время от времени в моей офисной почте оказывались проспекты с рекламой программ управления стрессом. Кажется, теперь я находился в положении, когда и сам мог бы заняться тем же самым. Пару лет с перерывами я преподавал йогу в уилингской YMCA89, и без сомнений мог бы адаптировать кое-что из философии Роуза к этому предмету. Я вновь воспрянул духом и бросился в задачу по составлению программы управления стрессом, которую мог бы предложить во Флориде. К концу месяца у меня было то, что я счёл жезнеспособным планом. Вернулся я в Бенвуд с опасениями. Меня беспокоило, что Роуз опять нападет на мой проект или, что хуже, осудит мою новую идею. Но когда я открыл дверь кухни и увидел его за столом, все что я почувствовал, было знакомое тепло его присутствия. Он печатал на своем древнем железном ундервуде, сидя в нелепой шапке-ушанке. Он взглянул на звук двери и улыбнулся на мой всклокоченный вид. – «Лучше сбрей бороду перед тем, как появиться в суде, иначе тебя примут за раввина.» «К счастью я не собираюсь возвращаться в суд,» – впервые за месяц я услышал собственный голос. Он звучал как чужой. «Ах, да, верно. Ты ведь берешь отпуск на какое-то время.» Я подивился, что он мог забыть о моих планах, при том, что сам пару недель назад послал мне о них записку. Ладно, не имеет значения. Мы поговорили как старые друзья. Он поставил меня в известность обо всех происшествиях, пока меня не было, а я рассказал ему о моих опытах в лесу. Вечер кончился без упоминания о его письме или моих планах, чем я был доволен. Следующим утром мы перешли к делу. Я поблагодарил его за письмо и признал, что нуждался в сильном лекарстве, чтобы наконец серьезно подумать о предстоящем годе. «В духовных делах иногда приходится атаковать людей, чтобы им помочь.» – сказал он. Потом спросил, каковы мои планы. Он кивнул, когда я сказал о Флориде и о намерении навести мосты с одним университетом для своего рода учительства. Ему не понравилась тематика моей задумки. «Не думаю, что “стресс” привлечет людей того типа, что ты ищешь. Лучше бы говорить об “успехе”.» Я не собирался начинать все сначала и, когда он увидел, что я настроен на мой подход, то оставил эту тему. Следующие две недели я потратил на подготовку к путешествию, изучая в библиотеке последние исследования по стрессу, составляя брошюру, подыскивая место, где остановиться во Флориде. Когда стало ясно, что я подготовился, как только мог, я загрузил машину, сделал несколько прощальных звонков и отправился в постель, намереваясь выехать на рассвете. Утром, когда я спустился в кухню, меня ждал Роуз. «Ну что? Едешь?» – сказал он с дружелюбной западновирджинской интонацией. «Да, хочу выехать пораньше.» «По какой дороге поедешь?» Я стал на словах описывать маршрут. Роуз взял с полки карту и разложил на столе. Он с интересом посмотрел на спланированный мной маршрут, а потом сравнил его с тем, который проехал сам двадцать пять лет назад в одолженном кадиллаке. Я выслушал историю его поездки и мы посмеялись. Она привела еще к нескольким историям, старым и новым, пока он, наконец, не сказал, – «черт, я должен дать тебе выехать.» Мы вместе прошли к двери. «А знаешь, это правильно, что ты едешь,» – сказал он. – «Иногда становишься так близок к людям, что забываешь, кто они.» Я нервно замялся, держа в руках вещи. «Спасибо за всю вашу помощь,» – сказал я. Он протянул мне руку во второй раз за всё время, что мы были знакомы. Первый был – когда я впервые вошел на его кухню десять лет назад. «Хотел бы сделать больше, если б мог,» – сказал он. 21 СОБЛАЗН В два часа ночи я наконец добрался до цели – Золотого Побережья Флориды. Восемнадцать часов в дороге один на один со своими мыслями взяли дань с того образа святого крестоносца, в который мне отчаянно хотелось верить. И теперь возвышавшиеся вдоль береговой линии роскошные многоэтажки излучали такую необоримую притягательность, что волей-неволей я еще сильнее усомнился насчет реальных мотивов, приведших меня сюда. Вместо аскетичного «странника» из И-цзин, которым я романтически представлял себя, я был, похоже, просто еще одной мечтательной зимней птичкой90, бегущей во Флориду в надежде обрести новую и счастливую жизнь. Орни, старый семейный друг, договорился с родителями, что я поживу у них в Бока Ратоне пока не найду себе жилье. Из-за позднего часа я остановился переночевать в мотельчике и позвонил его родителям утром. Они оказались очень приятной и дружеской парой, и они помнили про мою семью, особенно про отца, больше, чем я сам. Они были рады принять меня как гостя и также точно были рады спустя несколько дней, когда я снял квартиру на Помпано Бич. Моим первоочередным планом было выйти в этих краях с управлением стрессом, а потом использовать эту площадку для поиска тех, кому интересны более эзотерические материи. Я надеялся сформировать группу серьезных духовных искателей, и затем, когда группа станет достаточно большой, пригласить Роуза выступить и поработать с ней. Я мечтал даже, что, может быть, он захочет проводить здесь зимы, подальше от холодов, активизировавших его бронхит, и тогда мы бок о бок работали бы на моей территории с людьми, которых я собрал. Отец Орни собрал для меня кое-какие газетные статьи о местных программах по стрессу. Первый мой звонок был главврачу, имевшей весьма одобрительные отзывы о программе, которую она проводила у себя в местной больнице. Несмотря на мое тщательное представление, она явно не была впечатлена: «Какие сертификаты для преподавания “стресса” у вас есть? Если вы были таким успешным адвокатом, то почему оставили это? Вы по-прежнему состоите в коллегии?» Я выбрал еще одно имя из статей, но, позвонив, получил те же вопросы и тот же результат. «Я полностью занят следующие несколько недель,» – сказали отрывисто на том конце. – «Если вы все еще будете тут через месяц, то позвоните.» После недели звонков по телефону и хождения по университетам, компаниям и социальным центрам у меня не было ни малейшего прогресса. Южная Флорида была раем для неудачников и мошенников и никто не верил, что адвокат откажется от своей практики, даже всего на год, если он не скрывается от полиции или этической комиссии91. Наконец через две недели состоялся прорыв. Я остановился в Атлантическом Университете Флориды и произвел обычные обходы. Побродив по кафедрам, я заглянул в кабинет помощника декана по непрерывному обучению, который и сбыл меня в свой Центр Менеджмента и Профессионального Роста. Директор Центра ошибочно счел направление декана за рекомендацию и на следующий день меня наняли преподавать курс управления стрессом. Дальше всё пошло гладко. С репутацией университета за спиной я смог провести нескольких лекционных мероприятий уже и сам по себе, – в основном на ланчах профессиональных ассоциаций – врачей, адвокатов, дантистов, архитекторов и всех, кому требовался докладчик бесплатно поговорить, пока они переваривали пищу. После каждого выступления ко мне подходили один-два человека, которые почувствовали кое-что, невыраженно стоявшее за моими публичными речами. Позже после ланча или у них в кабинете я рассказывал им о моих планах о формировании группы. Кое-кто с моих университетских занятий также выразил заинтересованность в этом и примерно через месяц мы уже проводили еженедельные встречи в доме у одного из моих студентов. Ликуя, я рапортовал Роузу. Он был осторожен. «В каком-то месте пути тебе придется сделать размен,» – сказал он. – «Это так, если ты хочешь привлечь серьезных людей. Эти выдохшиеся интеллигенты92 не заинтересованы в изменении своей жизни. Единственное, чего они хотят, так это быть в курсе последних веяний, чтобы отправиться на заключительный штурм карманов публики.» Я выразил противоположное мнение. Управление стрессом открывало мне аудиторию, и я был убежден, что любой, у кого есть уши, чтобы слышать, воспримет глубинное послание. Роуз какое-то время слушал молча, а когда я выпустил пар, заговорил снова. «Если кто-то настроен на работу серьезно, то он должен быть готов отрешиться от всего, что стоит на пути у поиска. Если это значит оставить жену, отказаться от бизнеса, сжечь корабль, передать гольф-клубы Гудвилу, то он должен это сделать и никогда не оглядываться. Но те, кто уже положил двадцать лет ради определенной цели, не вознамерятся возвращаться назад только потому, что ты об этом сказал. Тебе нужно ловить людей до того, как они всё вложили в определенный образ жизни. Обращайся к молодежи. Говори им об успехе. Это то, чем они интересуются. Они его ещё не достигли, они ещё даже не знают, что это. Определи для них успех в духовных терминах. Вот они и есть те, кто может быть способен к переменам.» Я настаивал на своем видении и, когда стало ясно, что достичь согласия у нас не получится, он оставил эту тему. «Ладно, похоже, всё пойдет так, как ты хочешь,» – сказал он. – «Может быть у тебя всё сложится.» И пока всё складывалось весьма хорошо. Вскоре после того звонка на одном из моих выступлений на ланче ко мне подошел человек и спросил, не выступлю ли я в его клубе здоровья, «Пальмире», который, как мне было известно, являлся весьма эксклюзивным спа. Я охотно согласился и мои выступления стали постоянным пунктом программы. Каждый понедельник вечером я представлял мои воззрения на управление стрессом собранию миллионеров, политиков и интеллектуалов, многие из которых стремились помочь мне обрести еще бОльшую известность. Благодаря им я получил кое-какую консультационную работу, принесшую небольшой доход и давшую надежду, что окажется успешным и всё мое предприятие в целом. Я не поехал в Западную Вирджинию на июльскую ТАТ встречу. За десять лет это была первая встреча ТАТ, мной пропущенная, но я чувствовал, что не должен пренебрегать поставленными перед собой обязательствами. Не приехать было совестно, но я признался себе в подспудном нежелании возвращаться в любом случае. Я чувствовал себя прекрасно, прокладывая собственный курс во Флориде, и не хотел, чтобы выходные, проведенные с Роузом, как-то повлияли на мои настрой и намерения. Однако вскоре Западная Вирджиния явилась ко мне в образе Чака Картера, парня, который построил мне домик. Я купил новую машину через несколько недель по прибытии во Флориду и позвонил Чаку, давая ему шанс купить мой старый пикап. Чак часто одалживал его на ферме и попросил, чтобы я дал ему знать, если стану его продавать. По телефону мы договорились насчет цены и он сказал, что прилетит сразу же, как освободится. Чак был «стопроцентный», как называл его Роуз, а это было лучшей похвалой в его устах. Чак переехал на ферму в 1975 году и, казалось, готовился провести остаток жизни в бедности и простоте, поддерживая ашрам и посвятив себя работе. На ферме его напряженная целеустремленность всегда меня заставляла чувствовать себя неловко, и теперь я предвкушал возможность провести с ним какое-то время на моей территории, в моей новой жизни. Я ожидал его внутри терминала и мое воодушевление не спало даже после полутора часов опоздания рейса. Я перебирал в уме рестораны, где можно было поздно поужинать и с большим вероятием наткнуться на кого-то из моих влиятельных знакомцев. Однако мир грёз, в котором я жил и которым думал поразить Чака, испарился, как только он вышел из ворот. Его внешность олицетворяла всё то, что я помнил о ферме, и чем я не являлся. На его теле лежала печать выносливости и утомления после многих физических трудов. На его лице застыли те разочарованность и решимость, которые приходят от бесконечной битвы с тенями ума. Это был человек, живший в напряжении, – том напряжении, которого, как я знал, не минует никто из тех, кому суждено добиться Просветления. Я подавил чувство вины и, пока мы шли к машине, засунул свои загорелые нежные руки поглубже в карманы. Присутствие Чака дезориентировало меня. Было так, что я словно разделился надвое и в моей голове одновременно сосуществовали два состояния ума. То ли от усталости, то ли неловкости Чак почти не говорил в машине и большую часть пути до моего кондоминимума мы проехали молча. Разговорились мы уже только вечером, сидя у меня на балконе на высоте двадцати шести этажей над океаном. «Красиво,» – сказал он, глядя на подсвеченный лунным светом прибой. «Я могу смотреть на это бесконечно,» – сказал я, откинувшись в кресло и упираясь ногами в перила. – «До того как я здесь с кем-то познакомился, я целыми вечерами бродил по пляжу. Потом заглядывал в обращенные к океану окна и видел, как там люди сидят перед телевизором. Мне не верилось, что они смотрят на что-то еще, кроме воды.» Несколько минут мы слушали шум волн внизу. «Ферма кажется в миллионе миль отсюда,» – сказал Чак. «Что там делается без меня?» «Работа. Полно работы. У мистера Роуза куча планов на это лето. Стоит закончиться одному проекту, как начинается что-то еще.» «И как он?» «О, всё так же. Старается сделать слишком много и выходит из себя, когда не получает поддержки. Он говорит, что все на ферме прячутся от него и поэтому он не может их заставить работать. Говорит, мы просто проводим время в ожидании импульса от него. Говорит, никто не меняется. Всё как обычно.» «А обо мне он говорит что-нибудь?» – это был опасный вопрос. Я знал, что Чак скажет правду, не щадя моих чувств. «Он говорит, что ты попал в грандиозную западню эго и, что всё это дело во Флориде – просто повод, чтобы добиться всестороннего внимания. Он говорит, что ты ищешь славы и девушку, чтобы её впечатлять.» «У меня нет девушки,» – протестующе воскликнул я, сидя в кресле. Чак безотрывно смотрел на черный горизонт. «Он говорит, что рано или поздно будет.» Чак уехал в пикапе уже на следующий день, но мне понадобилось время, чтобы восстановиться после его визита. Он как бы привёз Роуза ко мне сюда, на мою территорию, которую я начал обустраивать, и оставил меня в знакомом состоянии раздражения, разочарования и неопределенности, в котором я оказывался всякий раз, когда попадал под прицел Роуза. Я вспомнил принцип бывалых адвокатов: на суде никогда не задавать вопроса, если не знаешь, как реагировать на любой из возможных ответов на него. После визита Чака я неделями расплачивался за то, что нарушил это правило при нашем разговоре на балконе. Я стал осознавать, насколько большую роль услаждение эго играло во всем, что я делал, даже – а, быть может, и в особенности, – когда пытался что-то делать в духовном отношении. Поэтому некоторое время я старался удерживать мое тщеславие под контролем. Однако утратил при этом уверенность в себе: нарушилась моя способность к выражению и, взаимодействуя с другими, я уже не попадал в такт. За это время никто ко мне не подошел после моих выступлений, а пара групповых встреч оказалась полным барахлом. Я забеспокоился: после того, как мои дела во Флориде пошли было в гору, что-то стал я делать не то. В конце-концов я решил, что следует забыть о критике Роуза и двигаться дальше, иначе потеряю импульс. В следующий понедельник Донна, элегантная женщина с кольцом, в котором бриллиант был величиной с круглую дверную ручку, подошла ко мне после выступления в оздоровительном спа. На нём я упомянул, что мне приходилось преподавать хатха-йогу и ее интересовало, не собираюсь ли я начать в обозримом времени курс. У меня была идея сформировать йогакласс в качестве подготовительной среды для философских встреч, и мне подумалось, что, возможно, это знак того, что время подошло. Я ответил, что раздумываю над этим и позвоню ей, как только мысль материализуется. Я спросил у нескольких людей, интересно ли им это и большинство ответили, что да. Один из них, графический дизайнер по имени Ли, даже бесплатно предложил свой дом. Я позвонил Донне, чтобы сказать, что первая встреча состоится в воскресенье вечером. «Отлично,» – сказала она. – «Моя подруга тоже интересовалась. Я и ее приведу.» Вечером в воскресенье я сидел на передней террасе дома Ли, перебрасываясь шутками с прибывающими людьми. Окруженный адвокатами и бизнесменами, звавших меня «йогин Дэйв» или «наш еврейский гуру», поглядывая на бээмвэ и мерседесы, заполнявшие подъезд к дому, освежаемый приятным ветерком, дувшим с океана, который находился в нескольких сотнях метров, я был расслаблен, счастлив и чувствовал себя в своей стихии. Почти спонтанное образование йога-класса изгладило мои последние сомнения в том, что, двигаясь вперед, а не оставаясь парализованным суждениями Роуза, я поступаю правильно. Уже я собирался начать без Донны, как подкатил глянцево-черный порше. С водительского места вышла Донна и помахала нам рукой. Секундой позже отворилась дверца пассажира и оттуда явилась темноволосая девушка. Пока она приближалась, у меня не было сил оторвать от нее глаз. При том, что я никогда её до этого не видел, она мне казалась почему-то знакомой. Её звали Николь и в тот вечер я с трудом концентрировался на занятии. Мои мысли и глаза непрестанно возвращались к ней. На следующей неделе я пригласил ее на свидание и вскоре мы стали встречаться регулярно. Через два месяца я переехал к ней. Она была хорошей компаньонкой и близким другом, и не много потребовалось времени, чтобы нам стало ясно, что мы любим друг друга. Какое-то время моя жизнь представлялась совершенной. Я выполнил, что и планировал. Я состоялся как эксперт по управлению стрессом, и из людей, с которыми познакомился на этой площадке, я создал эзотерическую группу. Я преподавал на потоках в университете, давал уроки йоги, делал выступления на банкетах. И теперь с Николь переживал то, что казалось подлинной любовью. У меня было всё, что как я думал, хочу в жизни. Но проблемы, проистекавшие из того, что я все еще оставался частью мира Роуза, уходить не хотели. Меня охватывало ощущение собственного лицемерия при звуке моего голоса, советующего безбрачную жизнь, и в словах моих улавливался привкус неискренности, когда я говорил о простоте и внутренней работе. Всё больше и больше мне приходилось обращаться к себе прошлому, чтобы пояснять, что такое философская жизнь. А кроме этого, был и сам Роуз. Наши разговоры по телефону оставались задушевными, только пока мы говорили о мелочах. Стоило же затронуть нечто, связанное с философией или группой, как он набрасывался на меня, да зачастую с таким криком, что мне буквально приходилось держать трубку в вытянутой руке. Я старался ещё сильнее, полный решимости доказать, что всё ещё смогу заставить всё сработать. Я ждал большого прорыва, квантового скачка, который продемонстрирует какойто реальный прогресс и меня, пока что исполненного опасений перед большим крахом, который предсказывал Роуз, вынесет наверх. Но ничего не происходило. Моя жизнь текла изо дня в день с незначительными победами и неудачами, без явного знака о том, что же мне следует делать в будущем. Я работал с выступлениями и группами с напряжением, граничившим с безрассудством. Я чувствовал, что должен начать какую-то новую карьеру, которая бы охватила обе мои страсти – счастье и духовную работу. Ради этого Николь была, кажется, готова идти куда угодно, и делать что угодно, но ее доверие и поддержка только увеличивали мое страдание от неспособности справиться. Месяцы протекли быстро и мой годовой отпуск приближался к концу без особых достижений, которые было бы можно предъявить Роузу в качестве доказательства, что я не терял времени даром. Я решился на последний рывок. В начале лета я дал кое-какие консультации Бобу, эксцентричному хозяину фирмы графического дизайна в Палм Бич. Боб имел глубокие прозрения в маркетинг и интересовался дзеном. По причинам, которых я не понял, но глубоко оценил, он организовал славный семинар, на котором, как он гарантировал, будут заполнены все места – по сто баков каждое. «Уж что ты с ними будешь делать, когда они войдут в дверь, – дело твое,» – сказал он, ухмыляясь. Я обзвонил всех, кого знал. Интеллигенты, с которыми я познакомился за последние восемь месяцев, были, возможно, и никакими кандидатами в философскую группу, но рекламу делать они умели. На семинар явилось больше чем пятьдесят людей. Аудитория была равной смесью мужчин и женщин, студентов и интеллигентов, с немногими знакомыми лицами, улыбавшимися мне из толпы. По какой-то причине я чувствовал себя расслабленным и воодушевленным и утренняя сессия прошла на ура. Когда мы прервались на ланч, меня окружила дюжина людей с комментариями, вопросами и обещаниями придти на следующий семинар с друзьями. Я упивался и начинал чувствовать, что наконец-то открыл рецепт. Когда они ушли, я сел, скрестив ноги, и открыл банку газировки. Послышался осторожный стук в дверь. «Есть кто-нибудь?» – это была Донна, сыгравшая большую роль в продвижении семинара. Я встал. – «Заходи.» «Я только на минутку,» – сказала она. – «Мне нужно слетать в офис, пока перерыв.» «Ну, что ты думаешь?» – спросил я. – «Как по-твоему все выглядит?» – Я был уверен, что ее похвала будет по-достоинству экспрессивной. «Великолепно. Я хочу сказать, что понимаю намного лучше, что ты стараешься тут донести. У тебя есть уйма классных вещей сказать, – что важно в жизни, а что – нет.» Я улыбался уже не так. Она, казалось, колебалась насчет чего-то. «Но – ?» «Просто я тут кое-что услышала, что сейчас в холле говорили люди из группы. Примерно половина уже видели тебя прежде, но другие – впервые.» «И – ?» «Ну, одного из новеньких по-настоящему тронуло то, о чем ты рассказывал, и он говорил в том смысле, как важно жить так, как ты описывал.» «Пока звучит прекрасно.» «Тут один из тех, что с тобой знаком, и говорит: “Одна проблемка – он сам так не живет.” И все, кто тебя знает, засмеялись. Не думаю, чтобы они имели что-то в виду. Вот и все...» «Ну, да,» – сказал я рассеянно. Энергия улетучилась из моего тела столь быстро, что я присел опять. Донна выглядела озабоченно, – «Извини, я просто думала...» «Нет, все в порядке,» – ответил я. Кое-как я провел послеобеденную сессию, но всё было кончено. В сердце я знал с абсолютной непреложностью, что больше не могу выносить ту фальшивую жизнь, которую пытался для себя создать. И здесь не имело значения, признаю ли я Роуза моим учителем, а он – меня все еще одним из своих учеников. Истина оставалась той же: ты становишься тем, что ты делаешь. Предоставленный самому себе, я воплотил мечты моей юности, в результате чего моя жизнь стала ложью. Я пытался оправдать жизнь материальных стремлений, обряжая ее в одежды духовности, но это не сработало. Кроме того, вышло время: мои партнеры ждали моего возвращения, а я не достиг во Флориде ничего, что оправдывало бы мою задержку. Расставание с Николь было колоссальной мукой, которую я с трудом скрывал. Я сказал, что буду звонить, писать, приезжать увидеться. Сказал, что стану учиться на адвоката Флориды и, возможно, открою офис когда-нибудь. Сказал много чего. Она кивнула и сказала, что любит меня, но не сказала, что станет ждать. 22 НОСТАЛЬГИЯ Первые пятьсот миль я проехал в страдании и печали по той части меня, что осталась в бунгало Николь, а последние пятьсот – в содроганиях при мысли о том, что ждало меня в Западной Вирджинии. Пока машина ехала, я еще оставался более или менее в равновесии. Но стоило остановиться – на заправке или размять ноги, как меня одолевала столь опустошающая депрессия, что я был вынужден возвращаться к дороге, только чтобы удержать то, что еще оставалось во мне здравого. Долина Огайо была даже темней и грязней, чем я ее помнил. Я затормозил на стоянке у школы напротив дома Роуза и выключил зажигание. Холодный февральский ветер, просачиваясь, посвистывал в дверях и окнах. Машина быстро остывала, но мысль идти в дом охваченным невыносимым унынием и предстать перед человеком, предсказавшим всё это, держала меня прикованным к креслу. Может, пойти в хижину на недельку? – подумал я в отчаянии, – или на пару дней устроиться в кабинете, пока не приспособлюсь к окружению? Но, наконец, замерзший и полностью разбитый я вышел из машины и запер дверь. Медленно всходя по ступеням, я заметил, что белая краска на террасе, которую я помогал красить, зашелушилась, а на воротах стоит новый замок. Не считая этого, всё выглядело мучительно тем же. Я стоял на задней террасе перед дверью, с ключом в руке, и колебался: должен ли стучать или всё еще могу войти запросто? Мне вспомнились все эти бенвудские неписанные правила и я задумался, смогу ли вновь свыкнуться с тем, что столь долго было моей жизнью. Наконец, я отпер дверь и ещё раз вошел на кухню Роуза. Он посмотрел на неожиданного пришельца сквозь дешевые очки для чтения и положил книгу, которую читал, на захламленный стол. Я просто стоял. Ничего не говоря, он встал и подошел ко мне. Пожал мне руку и просто сказал, – «добро пожаловать назад». Боль все ещё оставалась. Боль и скорбь о моей потерянной жизни. Правда ведь не изменилась оттого, что он взял мою руку. Он не сводил с меня глаз, пока я не снял шляпу и пальто, побросав их на стул, и не сел рядом с ними. «Ты нездоров,» – сказал он. Я кивнул, – «да.» «Давай помогу тебе распаковаться.» Я надел пальто опять и мы вместе разгрузили мою машину, сделав несколько ходок по крутым бетонным ступеням. Когда последняя коробка была внесена в мою комнату, Роуз повернулся ко мне и сказал, – «у тебя был долгий день. Лучше отдыхай.» Я лёг на постель и слушал его медленные осторожные шаги вниз по лестнице и затем до кухни. Послышался знакомый скрип и стук двери в коридор, за чем последовал приглушенный звук одинадцатичасовых новостей. Я смотрел на паутины и отслоившуюся краску и слушал нескончаемый рев грузовиков, проносившихся в ночи. И знал со всей очевидностью, что мои броски за неуловимым, иллюзорным счастьем подошли к неминуемому концу. Я проснулся поздно утром от звука сцепляющихся грузовых вагонов, а не от пения тропических птиц. Я заставил себя сделать свою обычную утреннюю йогу и спустился по лестнице. Мое начальное разочарование тем, что кухня пуста, вскоре сменилось облегчением. Принимая во внимание важность того, что предстояло обтолковать с Роузом, я, скорее всего, не был готов к конфронтации. Я сидел в сумеречной кухне, слушая полязгивание сработавшегося калорифера и уставясь на пустое кресло Роуза. От моих кочевых дней шатокуа, через мою одержимость карьерой и до теперешней моей мещанской погоней за переменчивым счастьем, Роуз всегда оставался прежним, жил всегдашней жизнью и следовал всегдашнему направлению. «Настоящая мера человеку – это его последовательность и надежность,» – часто отмечал он. Внезапно я ощутил себя очень маленьким в тени его присутствия. Через несколько минут из коридора появился Роуз. Он пробежал по мне глазами, как бы оценивая мое состояние, и улыбнулся. Он перебросился со мной парой слов, пока делал себе чай, потом сел в кресло-качалку у печки. «Знаешь, влюбиться – может быть прекрасным переживанием,» – сказал он. – «Но для того, кто посвятил себя Истине, это может оказаться спуском на салазках в ад.» Я вздохнул и тихо произнес, – «аминь». «Люди, которые занимаются этой работой достаточно долго, приобретают понимание, насколько они, в сущности, несовершенны. Но со временем они устают от поиска и тогда начинают проецировать все свои устремления на особу противоположного пола. И на какоето время наступает определенная красота и безмятежность благодаря отказу от своего эго. Но это не длится долго. Земля может быть местом чрезвычайного одиночества,» – сказал он жёстко, но без осуждения. – «И любовная связь может дать великий комфорт. Когда ты в любви, ты действительно уверен, что обрел что-то важное, что “это – оно” и что теперь жизнь пойдет по-иному.» Казалось, что он говорит из памяти о другой жизни, другой личности. «Но, знаешь, что потом? Как только это заканчивается, ты приходишь в себя, оглядываешься вокруг и вот опять – ты. Снова в центре пустыни.» Он опустил свой взгляд и вперился прямо в меня. – «Но покоя нет. И быть не может, потому что работа не завершена.» Я хотел было что-то сказать, но промолчал. «Никто не достоин порицания за то, что хочет найти себе какую-то компанию в этом кошмаре, кого-то, на кого можно рассчитывать, разделить несколько шуток, возможно, какую-то близость. Без дружества нет сообщенности, а без сообщенности нет надежды на духовность. Вот, что я имел в виду в «Документах Альбигена», когда говорил, что нет более великой религии, чем человеческая дружба93. Даже Абсолют тянется к чистой любви.» Я смотрел на него, внимательно следя как его короткие ноги поднимаются и опускаются с каждым качанием кресла. Я решил ничего не говорить. Прежде я, бывало, не задавал вопроса из страха перед тем, что он скажет. Или же слишком настаивал на каком-то вопросе и тем нарушал незримое равновесие, поддерживавшее душевное сообщение между нами. Теперь же я остерегался открыться любой связи между нами, остерегался узнать, как много он знает о моей жизни, моем будущем, о битвах и боли внутри меня. «Давай пройдемся,» – сказал он. Роуз не был неугомонным человеком. Если он предпринимал прогулку, то к тому была причина, – случалось, он не имел возможности выбраться на ферму «помахать топором» и потому чувствовал необходимость размяться, либо же ему требовалось обсудить нечто личное с визитером. Почему он хотел выйти теперь, я не знал. Мы оба надели пальто и вышли на мороз. Ночью выпал снег и вид у города был чистый и белый. Порхающие снежинки всё ещё усеивали воздух и улица была необыкновенно тиха. «Прямо здесь погиб мой отец,» – сказал Роуз, указывая на улицу перед своим домом. – «У него была привычка выбегать перед машинами и в итоге, когда он это сделал в последний раз, то отправился в ту степь.» Я оглядывал Роуза, пока мы шли, и как всегда, когда мы были рядом, удивлялся, насколько он низкого роста. «Порой я думаю, что он сделал это намеренно. Он был не из тех, кто способен снести слишком много проблем. Его выходом была выпивка.» – Роуз рассмеялся. – «К сожалению, мне это не помогает.» В течение лет я наблюдал, как Роуз взваливал на себя ещё и ещё проблемы, и видел дань, которую они собирали с него. Поддержка и улучшение 130-акровой фермы-ашрама без денег, с устаревшим оборудованием и непредсказуемым добровольческим трудом. Непрестанное размышление над лучшими способами донести своё послание людям, которые желали слышать что угодно, но только не истину. Предоставление своего дома и фермы и даже своей жизни для незнакомцев. Никогда и ни к кому он не поворачивался спиной, не взирая на то, сколь мало порой ценили то, что он предлагал. Пока мы молча пробирались на улицу через выпавший снег, я размышлял о том, что он на себе нёс, и снова спрашивал себя: зачем? «Мой отец не имел образования, но был довольно мудр. Я не говорю, что выбегать перед машинами – мудрость,» – усмехнулся он, – «но у него определенно была интуиция о мире. Другое дело, что он так и не узнал, кто он и куда отправится, когда машина его отутюжит. Вот преимущество от прохождения через Абсолютный Опыт,» – добавил он. – «Я знаю, что впереди. Но даже при том, что существует только одна Реальность, не каждый с ней может встретиться. Если бы с моей матерью произошел Опыт, она решила бы, что попала в ад. Потому что видишь только одну сторону её, внешнюю, а это совершенно ужасающее представление.» Теперь он уже обращался не ко мне, или, вернее, – не только ко мне. «Не имеет значения, сколь грандиозно то, во что ты входишь, – всё равно это очень одинокое место. Абсолют – очень одинокое место. Ты – единственный, кто существует там. Разумеется,» – добавил он, – «каждый – единственный там.» Иногда на кухне с Роузом, или в резонансе, или читая «Три книги из Абсолюта», а иногда даже и в тишине собственного обезмыслившего ума, я изредка получал мимолетное прозрение в то, где ему довелось побывать, и где по-прежнему существовало его Истинное Я. Я чувствовал то, боялся того и сам жаждал вернуться туда – домой. И тут, посреди снега и неизбываемого одиночества, Роуз вновь подвел меня к дверям Абсолюта и его нескончаемая пустынность отбросила меня назад в тоску по всему тёплому, безопасному и привычному, что я когда-либо знал. Мой умерший отец. Моя одинокая мама, которая думает, что упустила меня. Поездки с семьёй в переполненном автофургоне. Затхлый запах домиков в летнем лагере. Моя первая собака. Моя первая любовь. Всё это захлестнуло меня, такое славное, такое утраченное навеки, что, кажется, я сошел бы с ума, если бы это состояние94 не ушло и не позволило мне вернуться к моему встревоженному, изолированному эго. «Это как с охотничьими собаками у крестьян,» – сказал Роуз, внезапно прерывая тишину. «Как это, мистер Роуз?» «Если у крестьянина есть гончая, которой он особенно гордится, он кастрирует пса и зарывает его яйца под крыльцом. Из-за этого пёс будет всегда возвращаться домой.» Убедившись, что я весь во внимании, Роуз продолжал. «Тот же принцип работает и тут. Однажды отведав вкус, ты всю оставшуюся жизнь похож на кастрированную охотничью собаку, ища то, что имел, когда чувствовал себя более целым. Тебя постоянно тянет назад, но ты не знаешь почему.» Я улыбнулся и покачал головой, размышляя об аналогии. «Вы говорите о вкусе любви или – духовного стремления?» – спросил я. Роуз с озорным лукавством поднял брови. – «Да,» – произнес он и какое-то время шёл молча. «Душевные состояния – мощные вещи,» – заговорил он тихо. – «Страх, соблазн и ностальгия. Таковы три состояния человека. И ностальгия самое могущественное. Знаешь, кто-то когда-то сказал, что самая болезненная вещь на земле – память о радостном. Эта ностальгия, которая иногда одолевает нас, – не случайность. Она – послание. Ей есть, что сказать нам. Мы запрограммированы увлекаться жизнью, но вот эта неотвязная ностальгия – подсознательное сообщение с другого плана. Она – ведущий к дому инстинкт земного ума. В лучшем своём выражении она – то, что тянет нас назад, к Отцу.» «Но отчего такая печаль?» – спросил я. – «Отчего боль?» «Оттого что ностальгия – это окно в душу, а душа потеряна для человека, пока он живёт. Ностальгия – это память души о первичном опыте. Касаясь этой памяти, ты касаешься Вечности.95» Его слова будто знали мои мысли и обращались к ним напрямую. «Ностальгия это дверь,» – сказал он. – «Единственная дверь. Это единственное состояние, которое заставляет человека жаждать воссоединения с Душой. Без него мы бы заблудились. Но благодаря ностальгическому состоянию приходит чувство, что – да: есть нечто. Нечто, чем дОлжно стать. Это – справедливость, выражение человечеством того, что нравственно. Это – правый голос человека.» Что-то в его словах трогало и утешало меня, хоть я и не был уверен, что понимаю их смысл. Вдруг я почувствовал себя легко и свободно. В то утро мы прошли по снегу долгий путь, и мистер Роуз всё время говорил о вещах, сокрытых в сердце. Мы всё шли, пока не достигли какой-то незримого пункта в его уме, и тогда повернули обратно. В тот день весь город был необыкновенно бел и тих, – так тих, что мне было слышно, как падает снег. И не могу вызвать в памяти никого, кто на протяжении всей прогулки был с нами, хотя, несомненно, кто-то был ещё. 23 СТРАХ Некоторое время после моего возвращения из Флориды жизнь с мистером Роузом была во многом такой же, какой она и всегда была, – непредсказуемым существованием, отмеченным крайними взлетами и падениями. Бывали времена, когда я выходил из кухни, не помня себя от радости, и буквально падал на колени у себя в комнате, благодаря Бога за невероятную возможность жить и работать с Роузом. И бывали периоды, когда я переживал почти непереносимую фрустрацию и гнев, когда он пилил, колол, критиковал и набрасывался на меня за те недостатки, которые я чувствовал себя бессильным изменить. Но потом, как показалось, почти в одночасье, всё кончилось. Роуз более не выказывал интереса ни к моим судебным делам, ни к моим усилиям явить ему глубину и искренность моей внутренней жизни. Мне стало трудно вовлечь его в серьезный философский разговор, – и вообще в разговор на любую тему. Если я рассказывал ему о читаемой мной книге, или о виденном сне, или о некотором прозрении, посетившим мой ум во время медитации, он лишь делал равнодушное замечание и либо переменял тему, либо вообще отворачивался от меня, чтобы заняться чем-то иным. И я пытался понять: то ли я что-то сделал, то ли наоборот – чего-то не сделал. Я без конца всматривался и анализировал это положение дел, стараясь найти соотношение между настроением Роуза и моими поступками. Но непосредственной связи, казалось, не было. В конце-концов я пришел к выводу, что наиболее правдоподобным объяснением является самое нелицеприятное, а именно: что Роуз попросту утратил интерес ко мне и моим духовным устремлениям. Таков был вывод, который я отчаянно не желал признавать. Я зарылся в свою адвокатскую работу и приходил домой всё позже, надеясь избежать Роуза и какого-нибудь разговора или поступка, которые могли бы подтвердить, что я списан Роузом со счетов. Я всё раздумывал, мучился и понуждал себя выдумать что-нибудь этакое – что угодно – лишь бы оно возродило у Роуза интерес ко мне. И тут, в разгаре этого крайнего духовного нездоровья, неожиданно на передний план вышло нездоровье телесное – мне поставили диагноз: быстро растущая опухоль в голове. Первым признаком оказался не симптом, а внешний вид. Как-то у себя в офисе я взглянул в туалете в зеркало и оторопел от увиденного. «Боже,» – громко вырвалось у меня. – «У меня косоглазие!» Я посмотрел опять, подумав, а не свет ли или угол зрения сыграл для моего восприятия роль кривого зеркала в комнате смеха. Но после изучения своего отражения сомнений быть уже не могло. Мой левый глаз явно отличался. На первый взгляд он был выше, чем правый, но, рассмотрев его с растущим беспокойством, я понял, что на самом деле он выпячивается из черепа. Я отвернулся от зеркала, успокоив себя, что отлежал его во сне или его укусил паук или ещё что-то, и постарался вернуться к мыслям о работе. Но страх периодически возвращал меня к зеркалу и комическому, почти гротескному лицу, ожидавшему меня там. Наконец, я вышел в соседний кабинет, где Джен, давняя ассистентка, работала с книгами. Я присел на край её стола, пытаясь быть небрежным. «Глянь на мое лицо,» – сказал я. – «Что-нибудь видишь?» Она оторвалась от своих томов. – «Ничего себе! У тебя глаза навыкате!» Для версии об отоспанном глазе это было слишком. Дальше всё стало разворачиваться быстро. Оказалось, Джен и сама показывалась доктору с глазом с ранними признаками глаукомы. Она дала мне его имя и через час меня препроводили в его кабинет для осмотра. Он надавливал, щупал и обследовал, пока не объявил, что с моими глазами все в порядке. «Но что-то причиняет выпячивание, это несомненно. Кто ваш семейный врач?» «Собственно, мой брат.» «Прекрасно. Позвоните ему сегодня.» Я вернулся в офис, думая еще сначала немного поработать, а потом уж позвонить моему брату, Гордону. Но даже когда я сидел за своим столом, заваленным папками с делами, работа была где-то за тридевять земель отсюда. Я снял трубку и позвонил. «Дэйв,» – сказал он, – «что случилось?» «Какая-то ерунда. Не хотел тебя беспокоить, но местный окулист взял обещание, что я позвоню тебе.» «А что такое?» – в его голосе зазвучали профессиональные нотки. Я сообщил, что случилось утром, и когда кончил, то взглянул на часы. Ещё не было и двенадцати. «Что ты думаешь об этом, док?» – спросил я. «Надо обследоваться. Я могу тебя взять в больницу сегодня и...» «Сегодня? Стой, у меня тут подходит большое слушание. Как насчет следующей недели?» «Ну, я... я так не думаю, Дэйв. Скорее всего, тебе нужно приехать сегодня же. Если всё нормально, к утру ты будешь свободен.» Что-то такое было в его тоне или в том, как он употребил мое имя в середине фразы, что убедило меня последовать его совету. Так что через полтора часа я припарковал машину там, где он сказал, и с наспех собранной спортивной сумкой вошел в главный вход ПасавантХоспитал. К моему удивлению жена Гордона, Сюзи, ждала меня там. Она чуть не задушила меня, приветствуя необычно долгим и крепким объятием. «Тоже рад тебя видеть,» – сказал я, смеясь. Женщина в регистратуре улыбнулась, увидев меня. «Вы очень похожи на вашего брата,» – сказала она. За мной пришел санитар с каталкой и потребовал, чтобы я сел в него. «У меня же глаз, не ноги,» – сказал я. Сюзи сжала мне руку. – «Садись. Так делают со всеми. Я буду ждать тебя здесь.» Я быстро перешел из рук в руки и меня покатили на рентген и еще три или четыре теста, после чего доставили в мою палату. Через пару минут вошел мой брат в сопровождении дородного молодого врача, с серьезным, почти суровым видом. Гордон познакомил нас и молодой врач провел свое обследование. Он и мой брат оба были крайне озабочены. Наконец молодой пришел к выводу, что с моим зрением все в порядке, отчего он уверен, что проблема не с глазом, а с чем-то с ним связанным. Затем он сказал, что мне предстоит показаться неврологу. Мы быстро пожали руки и он ушел. Гордон остался стоять у моей постели. «В четыре тебе сделают томографию. В это время уже будет поздно для каких-нибудь дополнительных исследований. Так что тебе придется остаться здесь на ночь.» «Да, понятно.» Гордон все стоял молча у моей постели, вероятно ожидая моих вопросов, но по необъяснимой причине вопросов у меня не было. Позже, после томографического сканирования, невролог и мой брат стояли перед световым стендом, рассматривая снимок. Некоторое время я ждал, потом подошел к ним. Невролог взглянул на меня и указал на место на снимке. «Видите это?» – его палец очертил светлое пятно размером с мяч для гольфа рядом с одной из моих глазниц. – «Вот, что выталкивает ваш глаз.» «Что же теперь делать?» – спросил я. «Ну, тут ведь только общая больница. У нас нет средств вам помочь. К счастью, в главной аледженской больнице есть нужный специалист и мы договорились, что он посмотрит вас завтра утром.» Специалистом был мужчина по имени Кенердейл, всемирно известный глазной хирург, непрерывно выступавший то в одном медицинском обществе, то в другом. Очевидно, мне удалось попасть к нему без всяких предварительных согласований единственно потому, что ему на этой неделе предстояло появиться на съезде Американской МедАссоциации в Сиетле, но этой ночью самолет был задержан в питсбургском аэропорту из-за тумана. Он был чуть больше сорока, высокий, широкий, но не толстый, с пышными темными волосами. Хотя и вполне представительный, он обладал бесстрастными, уверенными ухватками профессионала, которые всегда претили мистеру Роузу. Мы вкратце описали мои симптомы, после чего он сказал, что хочет сделать ультразвуковое сканирование. Он пояснил, что станет водить сенсором по моему глазу, что покажется мне поначалу несколько неприятным, и будет смотреть на изображение, передаваемое на экран перед ним. Я вздрогнул, когда сенсор в первый раз коснулся моего глаза, но Кеннердейл удержал мою голову с твердой и спокойной силой, что, как ни странно, произвело на меня успокаивающий эффект. Я начал считать мои вдохи в качестве простой медитационной техники, чтобы помочь себе расслабиться, и постепенно я привык к процедуре. Примерно через двадцать минут Кенердейл сказал, – «тут опухоль.» Мой ум моментально влетел во внимание. Похоже моё тело дернулось тоже, поскольку я почувствовал, как усилилась хватка Кенердейла, сдавившего мне затылок. Господи Исусе. Опухоль! Ну конечно, что могло быть ещё? Гордон, и Сюзи, и все – решили, что я идиот, раз не понимаю этого, или хотя бы не спрашиваю. «Опухоль несколько больше, чем я думал,» – сказал Кенердейл. Опять это слово! Я понял, что он повторяет его нарочно, чтобы убедиться, что я осознаю, о чём речь. Не помню, как долго ещё он игрался со мной. Закончив, он сказал, что действие капель, закапанных мне в глаза, чтобы расширить зрачки для ультразвукового исследования, прекратится через пол-часа, и мне пока следует подождать в приемной. Увидев меня, Сюзи отложила свою книжку и встала. «Ну, как прошло?» «Он что-то сказал про опухоль,» – едва проговорил я. Она нашла мою руку и глубоко вздохнула, отбрасывая маску притворства. «Я знаю. Гордон понял что это сразу же,» – сказала она. – «Нам было трудно ничего тебе не говорить, но ты ничего не спрашивал. Ты в самом деле не подозревал, даже после того, как увидел снимок?» На секунду я задумался, пытаясь понять, не была ли всё это время какая-то часть меня осведомлена, только не хотела признаться в этом. «Не думаю,» – пробормотал я. – «Не знаю.» Я тяжело сел. – «Что это за опухоль?» «Они ещё не выяснили,» – отвечала она тихо. И тут с внезапным, опустошающим отрезвлением я сознал, что я – конечное существо, которому предстоит умереть – и, вероятно, очень скоро. Роуз пытался довести этот факт до меня – как и до всех учеников – с первого же дня, но я никогда не воспринимал его до той минуты. Ничто так не помогает сосредоточить внимание, как дуло пистолета между глаз. Вышла медсестра и сказала, что доктор хочет меня видеть. Я проследовал с ней в маленькую комнату и она закрыла за мной дверь, оставив наедине с доктором Кенердейлом. Вероятно, чтобы защитить мои расширенные зрачки, помещение было в полной темноте, если не считать небольшой антикварной лампы на столе с округлым плафоном из цветного стекла. Позади стола в тени громоздко прорисовывался Кенердейл, – чересчур громоздко как для простого кресла, в котором он сидел. Я понял, что уставился ему прямо в глаза. Я часто вперялся в глаза свидетелей, представителей другой стороны, даже судей, – надеясь уловить какой-нибудь намек на значение, прятавшееся за словами, которые они произносили. Теперь же я с отчаянием искал в глазах Кенердейла правды, стоявшей за профессиональными фразами, которые, как я знал, воспоследуют. «У вас образование позади левой глазницы,» – сказал он. – «Оно и давит на ваш глаз. Довольно необычно, но и ничего особенного тут нет. За год я, наверно, вижу от восьмидесяти до ста таких случаев.» «Оно злокачественное?» – выпалил я, чуть ли еще не до того, как он замолчал. «Мы не знаем. Мы не узнаем наверняка, пока не извлечём его.» На минуту я отвел от него взгляд. Кабинет был новым и пустым. Даже на стенах не было ни картин, ни дипломов. «Ну, а что вы думаете?» – спросил я. Он помолчал, как бы решая, как много следует сказать мне. – «Тот факт, что оно возникло словно ниоткуда, говорит о том, что оно быстро растет, а так себя может вести злокачественная опухоль. Но, как я сказал, до операции мы не узнаем наверняка. Сегодня среда, продолжил он, – его обычная хирургическая команда работает по вторникам и четвергам, поэтому либо он проведёт экстренную операцию завтра утром, либо придется ждать до вторника. Окончательное решение, когда оперировать, он примет после завершения медицинского обследования. «Я назначил вас на томографию на двенадцать. Мне известно, что вы проходили ее в Пасаванте, но она была без красителя.» «Вы же, как будто, определились. Зачем мне нужно еще раз обследоваться?» «Затем, что нам необходимо быть абсолютно уверенными, до того как что-то делать. Абсолютно уверенными. Это серьезная операция, Дэвид, но мы недавно сделали большой прогресс.» «Что вы имеете в виду?» «Операция сильно обезображивала,» – сказал он. – «Приходилось удалять сторону лица полностью, так что пациент выглядел как после катастрофы. Но я разработал совершенно новый подход. После него остается только малый шрам, повторяющий линию ваших очков. Едва заметный.» «Я так понимаю, не существует естественного проема – глазницы или еще чего-то – чтобы проникнуть через него?» «Нет. Мы удаляем секцию черепа рядом с глазницей. А что дальше – зависит от того, что обнаружится. Если это злокачественность, мы вырезаем, что возможно, затем, не возвращая секцию на место, просто зашиваем кожу – потому что мы, скорее всего, будем возвращаться. Вы пройдете шестинедельный курс облучения и в зависимости от того, как пойдут дела, мы будем решать, что делать дальше. «Каков прогноз?» Его лицо было неумолимым. – «С этой формой рака десять лет проживает менее десяти процентов больных.» «А если не лечь на операцию?» «Боюсь, это не вариант,» – он подался вперед в своем кресле и посмотрел на меня прямо. – «Это особенно скверный тип опухоли. Оставленная без внимания, она быстро растет и причиняет страдания. Если она злокачественная, без операции вы умрете через три месяца.» «А если доброкачественная?» «Если мы увидим, что это доброкачественная, то просто удалим её, вернем секцию черепа и вы вернетесь к своим делам, как будто ничего и не было.» «Мне этот сценарий нравится гораздо больше,» – сказал я, изображая слабую улыбку. Кенердейл улыбнулся в ответ. «Да,» – сказал он, – «мне тоже.» Я вышел из его кабинета оцепенелый. Реальность изменилась. Теперь я был тем, кто умрёт, и значения не имело, что там у меня за опухоль, и сколько мне осталось жить, – это уже не могло измениться. Человек, собиравшийся жить вечно, теперь умер навсегда, и я это знал. Его чувство неразрушимости, непреходящей важности исчезло в прошлом. Даже понятие «прошлого» казалось умершим. Перемена произошла столь быстро, что защитные механизмы не успели отреагировать или приспособиться и снабдить меня надеждами, объяснениями или духовными банальностями. Я просто был ничего более, как смертный и, хотя бы в тот момент, этой истины было достаточно. Люди умирают во все периоды жизни, некоторые на четвертом десятке. И не было никакой причины, чтобы один из них не был мной. Сюзи встала опять, когда я вошел в приемную и ждала, что я скажу. «Если это злокачественная, то шансов выжить не много,» – сказал я. – «Десять процентов.» «Ты будешь в этих десяти процентах,» – сказала она уверенно, затем взяла меня под руку и потянула. Мы пошли без определенной цели, но вскоре увидели табличку больничной часовни. Внутри мы нашли островок бесхитростной красоты, не больше гостиной комнаты, изолированный от шума и суеты соседствующего вестибюля. Там стояли три ряда кресел, обращенные к трем длинным прямоугольным окнам с цветными стеклами. Мы сели в первый ряд и я тут же ощутил сильное соприкосновение со всеми молившимися здесь, с горем и страхом, изливавшимися в этой часовенке. Я слышал, как рядом со мной тихо плачет Сюзи. Я стал молиться, но скоро отвлёкся и меня одолели картины моего непосредственного будущего: операции, восстановление, лечение, истощение, слабость, боль. Я подумал о матери, через что ей придется пройти, беспомощно видя, как её сын медленно умирает. Я не осознавал, что плачу, пока слёзы не закапали на мои сложенные руки. «Меня не столько волнует смерть,» – проговорил я вслух Сюзи, – «сколько не хочется проходить через всю эту дрянь.» «Я знаю,» – отвечала она мягко, – «я знаю.» Когда настало время для томографии, мы вышли из часовни и вернулись в приемную. Через несколько минут назвали моё имя и меня препроводили в комнатку для обследований, где сделали инъекцию радиоактивного красителя. Затем завели в узкое помещение со столом, являвшемся частью большого устройства, в котором я узнал томографический сканер. Техник помог мне разместиться на столе и, когда он вышел, из динамика возле моего уха раздался голос женщины, представившейся как оператор обследования. Она объяснила несколько вещей об обследовании и спросила нет ли у меня клаустрофобии. Сказав «нет», я услыхал жужжание механизма и снизу стола стал выдвигаться бежевый металлический кожух. Шум и движение показались мне неприятно тревожными и я немедленно стал глубоко дышать и считать вдохи. Вскоре металлический кожух полностью выдвинулся и распростерся надо мной так близко, что я ощутил растущую панику. Вчера в Пасаванте я практически спал все время сканирования, но сегодня было совсем подругому. Не знаю, по причине ли шока от сегодняшних событий, или заданного мне вопроса о клаустрофобии, или ассоциации с гробом, которую я не мог выбросить из головы, но отчего-то мне стало вдруг невыносимо неуютно. Осознав это чувство, я уже ждал вторичной паники – паники из-за паники – но, к счастью, её не последовало. Борясь со страхом я закрыл глаза и, как часто советовал Роуз, вошел внутрь себя. Через несколько мгновений я смог наблюдать своё состояние как бы со стороны и был успокоен этим отождествлением с Наблюдателем: тем бесстрастным, объективным и невовлечённым ощущением себя, для которого всё, включая мысли и панику, воспринимается как внешние, наблюдаемые события. Роуз говорил часто, что этот Наблюдатель – некая грань Истинного Я или же – врата в Него. Истинное Я! Как часто я провозглашал, что всецело отдан Его поиску, и, при этом, как мало, в сущности, сделал. Бог мой, а ведь мог бы! Моя жизнь, возможно, уже кончена, и я профукал её. Мне был дан потрясающий дар встретить Роуза и, хотя я проработал с ним пятнадцать лет, я так никогда и не принял простого обязательства, которое, как он утверждал, является ключом к небесам: «Приучи свой ум к тому, что ты собираешься найти Истину, независимо от того, что для этого потребуется. Тогда ты куда-нибудь попадёшь. Ты берешь обязательство довести дело до конца, вот и всё, даже если это сведёт тебя с ума или будет стоить жизни.» С внезапной, щемящей тоской я понял, что, хотя в моей жизни и было что-то ценное для меня, но, со всей определенностью, – это не была жажда Истины. Я так и не сделал того, что, как говорил Роуз, должно быть сделано, чтобы иметь какую-то надежду. Его голос почти звучал в моих ушах: «Это просто. Дайте зарок себе и какому угодно Богу, который может услышать, что вы не хотите от этой жизни ничего, кроме Истины.» Оказывается, я хотел чего угодно, но не Истины. Боже, как я мог бы таким слепым, таким жадным и таким эгоистичным. Роуз перепробовал всё, что мог, чтобы пробиться ко мне, но так и не воспрепятствовал моему невежеству, направлению, принятому мной в жизни. Он в него не верил. «Люди должны выяснить для себя, что ценно в их жизни, а что нет. Ради чего стоит жить. Что стоит делать.» Он даже ввёл это отношение в свою философию, настаивая, что формальные духовные практики вторичны по отношению к простому «спокойно утверждаться в этом» и работать с тем, что находится прямо перед тобой. «Ваша повседневная жизнь задаст все коаны, нужные вам для Просветления. В этой сфере вам предстоит встретиться с несчастьями и превозмочь их.» Я почти улыбался. Жизнь давала мне просто исключительные коаны, а я чувствовал себя неспособным использовать их для чего-то другого, кроме жалости к себе и чувства вины. Чувство вины. Я просмотрел свою жизнь и воспоминания, выискивая незавершённые дела и невоплощённые мечты. «Успех – это способность смотреть назад без сожалений.» Что же я упустил? Мне предстояло умереть бездетным и одиноким, – наибольшее опасение моей матери в отношении меня, – и всё же при этой мысли я не испытал подлинно язвящего сожаления. По-настоящему только одно было: Путь и моя неудача на нём. В начале он был лёгким и прикольным, но с годами я предпринимал всё более длительные сходы с него, пока в итоге не перестал продвигаться по Пути вообще, только изредка пересекал его. «В начале это широкая дорога. И там все виды мусора, от которого тебе легко избавиться. Но по мере движения дорога сужается и то, с чем приходится распрощаться, уже оказывается очень дорогим для тебя. В конце же – побег невозможен. Ты идешь сквозь дымоход и всё.» Вот оно. Мой страх дымохода. На том конце была Истина, Бог, Абсолют, Бесконечное Сознание – Реальность, которую, как я утверждал, ищу. Но я знал, что тот, кто выживет в этом дымоходе, будет не Дэвид Голд, а ведь Дэвид Голд был всем, что я знал. Конечно, я был неискренним искателем Истины – Истина заставила меня обосраться! Как, черт возьми, мог я идти на всех парах после того, как что-то поселило во мне ужас? «Не важно, сколь грандиозно то, во что ты входишь, – это всё равно очень одинокое место. Абсолют – очень одинокое место. Ты – единственный, кто существует там. Разумеется, каждый – единственный там.» С внезапной почти физической болью я понял, что то, что я искал, Истиной никогда не было. Всё, чего я, в действительности, хотел, было признание и уважение людей – в особенности Роуза, который ведь по-настоящему любил Истину! Всё это было хитроумной уверткой. Я потратил годы, стараясь убедить человека, который видел меня насквозь, что чёрное это белое, что Дэвид Голд – серьёзный искатель Истины. Вся моя жизнь была подлогом и теперь, похоже, ей настал конец. Я был охвачен столь сильной эмоциональной болью, что ничего ей подобного прежде не испытывал. И тут, мир вдруг сделался совершенно безмолвен. В пустоте я услышал как упала капля пота с моего лица на стол и в этот момент мой ум остановился. Словно щёлкнул рубильник и моментально всё стихло. Весь тот шум, который был Дэвидом Голдом, попросту исчез. Я был полностью пуст и единствен. Не знаю, как долго это длилось, и не помню ничего, но уверен, что какая-то часть меня дала в тот момент священное обещание. «Окей, Дэвид. Готово.» Кожух медленно отодвинулся. Уже с минуту я продолжал лежать, глядя в потолок. «Мы закончили, Дэвид. Можно вставать.» Я медленно сел на столе и потом встал. Я провел выходные с Гордоном и Сюзи. В назначенный для операции день я проснулся в темноте раннего утра и выглянул в окно. Ночь была безоблачной. Заиндевелая трава сверкала в свете полной луны. Пока я делал мои привычные упражнения йоги, меня поразило чувство покоя и безвременности, которое я испытывал. Впервые в жизни я не торопился. Когда я спустился, Сюзи уже ждала меня на кухне с ключами в руке. «Нам пора ехать,» – сказала она. В больнице меня разместили в палате со слабым стариком лет за семьдесят, которому приходилось бороться за каждый хриплый вздох. Когда, наконец, за мной пришли, меня положили на каталку и повезли всё сужающимися коридорами сквозь череду стеклянных дверей с надписью «ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП» и вкатили в небольшое, тускло освещённое помещение с приглушенно переговаривавшимися людьми в зеленых халатах и с серьезными лицами. Мне вдруг, как никогда, захотелось в туалет. Неохотно мне позволили встать с каталки, но по поведению окружающих было ясно, что я вступил на конвейер и больше задержек не потерпят. Я простоял над унитазом, как показалось, несколько минут, пока из моего тела не вытекла вся вода. Затем в последний раз взглянул на себя в зеркало и поспешил обратно. Как только я лёг на каталку, надо мной склонилась медсестра и сказала, что поставит мне капельницу. Через несколько минут вкрадчивый доктор представился анастезиологом и рассказал, что станет делать. Сначала он даст мне успокоительное, затем усыпляющие капли. Он сказал, что, возможно, по пробуждении у меня будет воспаленное горло. «С воспаленным горлом можно жить.» Мы оба, не размыкая губ, улыбнулись и вместо него возникло новое лицо. Оно проговорило, что меня берут для завершающей подготовки к операции. Меня вкатили в пронзительно освещенное помещение и помогли перебраться с каталки на операционный стол. Пол-дюжины человек в хирургических масках, занимаясь мной и оборудованием, представились мне. Я повторял их имена вслух по мере того, как они назывались: Фрэнк, Гарольд, Линда... Я считал свои вдохи. Я приказал себе Наблюдать. Один из врачей кивнул анастезиологу начинать. Я слышал, как бьется сердце. Откуда ни возьмись в мой ум впорхнула Иисусова молитва: Господи Иисусе смилуйся надо мною грешным, Господи Иисусе смилуйся надо мною грешным, Господи Иисусе смилуйся... А дальше не было ничего. Я выплывал из забытья более плавно, нежели вошёл в него. Я осознавал яркий свет по ту сторону сомкнутых век, но я знал, что ещё не готов встретиться с ним. Сначала, мне было нужно вспомнить, кто я. Ничего. Не было слов. Всё, что было известно, так это то, что у того, кто был мной, была пульсирующая, ни с чем не сравнимая головная боль. Любой с такой болью оказался бы в больнице. «Сестра?» – позвал я. Отозвался нежный и мягкий женский голос. «Дэвид, как вы себя чувствуете?» С упоминанием моего имени, память и жизнь стали возвращаться. «Сердце болит.» «Ничего. Я могу уколоть вам морфий.» Я услышал движение справа от себя и спустя несколько секунд меня захлестнула волна довольства. Через несколько минут она спросила, – «Как вы себя чувствуете сейчас?» Боже, что за прекрасный голос! Он пронизывал мглу в моей голове словно чистый, кристальный звон. Я представил, как она могла бы выглядеть. «Сердце всё равно ужасно болит.» «Если считаете, что нужен ещё укол, то я сделаю.» Я кивнул и через короткое время боль ушла. С её отсутствием, возобладала новая потребность – получить ответ на главный вопрос. Злокачественная или доброкачественная. Ответ, который, как я знал, находится совсем рядом. Всё, что было нужно, – просто потрогать голову. Если фрагмент черепа на месте, значит, опухоль была доброкачественной. Если же зашита только кожа, то – злокачественной. Я послал в левую руку приказ, но та едва шевельнулась. Я был столь изможден и слаб, и к тому же под морфием... «Не ломай комедию,» – с отвращением заговорил внутренний голос, – «ты увиливаешь». Я почувствовал, как левая рука медленно поднимается, пока не коснулась головы. Но повязка была такой толстой, что я не мог определить, что под ней. Странным образом, я испытал облегчение. Возможно, я не был готов узнать. Я чувствовал, что медсестра с музыкальным голосом всё еще рядом. Она, разумеется, знает. Мне только нужно задать единственный самый важный вопрос в моей жизни и получить немедленный ответ. Но что-то меня останавливало. Я не мог принудить себя его задать. Вероятно, я боялся ответа. Вероятно, я боялся, что уже знаю ответ. Но всё, что мне со всей определенностью было ясно, так это то, что по неизвестной причине ответ был неуместен, – сейчас, во всяком случае. Поэтому я заговорил о чём-то другом и сестра присела рядом со мной. Мы долго говорили на разные темы. В один момент я открыл глаза и на секунду посмотрел на нее. Она была ещё красивей, чем ее голос. Через время пришел санитар, чтобы забрать меня из послеоперационной в палату. Красавица медсестра шла рядом и говорила со мной, пока санитар катил мою каталку по вестибюлю, и потом в лифте. Ее присутствие давало мне огромное утешение. Когда мы приехали на наш этаж, меня вкатили по коридору в мою палату. Вдруг мир взорвался шумом многих голосов, начавших говорить одновременно. Я открыл глаза и приподнялся на локтях. Тут были все, сгрудившись вокруг меня, – Сюзи, Гордон, мама, сестра, племянница... «Тебе сказали? Сказали?» – Сюзи почти кричала. – «ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ!» Мои руки сработали как дверцы капкана. Я упал обратно на каталку и закричал в великом рыдании радости и облегчения. Моя сестра гладила мне волосы. Мама целовала пальцы. Красавица медсестра, прижав руки к губам, принялась без конца извиняться. «Простите,» – всё повторяла она, – «простите. Я думала, вы уже знаете.» Я хотел сказать ей, что это не имеет значения, но не мог остановить рыданий. Я хотел ей сказать, что за всю жизнь вплоть до этого самого момента со мной не случилось ничего, что имело бы хоть какое-то значение. 24 ОТВЕРЖЕННЫЙ После моего возвращения из больницы было несколько красивых моментов на кухне с Роузом, но оказались они лишь краткой передышкой. Через несколько недель Роуз стал так же раздражен и недоволен мной, как и прежде. Может быть, даже сильнее, потому что, «удар по голове», как он назвал мой испуг перед раком, не дошел до меня, не пробудил и не преобразил. Каждый день я напоминал себе, что моя оценка в глазах Роуза – не проблема. Его одобрительное мнение не переменяло моего «состояния в вечности», так же как его благосклонность не гарантировала божьей Милости. Но подобно дрессированному тюленю, с которым меня сравнивал Роуз в более простые времена, я не мог ничего поделать, кроме как стараться ради его одобрения. Я брал на себя больше борьбы с копами и судьями. Работал дольше и тяжелее на ферме. Меньше навещал свою семью в Питсбурге и избегал тех членов группы, чью искренность Роуз ставил под вопрос. Удвоил внутренние усилия, стараясь постичь то, что стояло между Роузом и мной, – что бы это ни было. Ничего не помогало. Для него я оставался почти невидим. И что беспокоило еще сильнее, он не выглядел на меня рассерженным. Роуз, казалось, избрал линию смиренной общительности – так, как если ему пришлось бы ехать в автобусе с неприятным хамом, от которого нельзя избавиться, и приходится терпеть всю поездку. Единственным оставшимся мне утешением были выходные, когда я окунался в физический труд на ферме. Наконец-то я заслужил уважение парней, живших на ферме Роуза, и больше не чувствовал себя среди них мягкотелым городским евреем. Было хоть одно место, где я ощущал себя полезным и нужным. И насколько было занято мое тело, настолько ум, казалось, пустел и освобождался от волнений. Каждые выходные я дорабатывался до полуизнеможения, гонясь за временным чувством благополучия, в котором отказывала мне остальная жизнь. Однако, в одночасье у меня было отобрано и это. Товарищеский дух, который я обычно ощущал, работая бок о бок с Чаком, Доном, Эриком и другими, внезапно испарился, и больше они не относились ко мне как к соратнику. Ища разгадки, я всматривался в их настрой и выражение лиц. Поначалу я испытывал злость и негатив, поднимавшиеся, когда Роуз жаловался на меня в моё отсутствие. Иногда во время работы я видел, как они посматривают на меня, повторяя, без сомнения, слова Роуза и оценивая, насколько соответствуют реальности выдвинутые им против меня обвинения. Постепенно, однако, их настроение перешло от недоверия к отъединенности и даже – жалости. Сколь усиленно я ни пытался развеять или игнорировать такое отношение, это не имело значения, – становилось мучительно ясно, что нечто назревает. Была середина июля. Роуз приехал на ферму на выходные и начал раздавать указания насчет того, что следует сделать. Нам сказано было отложить задачу всего лета – расчистку большего выгона для коз, – и начать приводить в порядок дом и постройки, – за чем он лично проследит в течение следующих нескольких выходных. Мне стало ясно, что Роуз вошел в привычную роль микро-менеджера, которым он делался во время приготовлений к какойнибудь работе или событию, хотя, насколько я знал, ничего такого не планировалось. Ближайшим намеченным мероприятием группы была встреча ТАТ в день Труда, до которой оставалось еще почти два месяца. Атмосферу усугубляло еще и то, что Роуз и Чак вечно шушукались в кухне на ферме, и, когда бы я ни заходил в помещение, они немедленно смолкали. Я начал чувствовать себя неловко. Как Роуз мне указывал при многих случаях, Дэйв Голд, эгоманьяк, не мог выдержать одного: оказаться во что-то не включенным. Держа в уме эту критику, я старался заниматься своим делом, как если бы ничего не происходило, но однажды мое эго и любопытство превозмогли мои намерения и я задал внешне безобидный вопрос одному из парней. «Не знаешь, что там вскочило Роузу в голову?» – спросил я Чака. – «Он так рвал задницу, чтобы расчистить этот выгон для коз до осени, а теперь вместо этого заставил нас работать во дворе.» Чак не прервал своего занятия. – «А, ну... ты же знаешь Роуза...» – сказал он, пожимая плечами. К третьей неделе я уже ощущал себя призраком, блуждающим среди живых. Даже хуже: у меня не хватало храбрости перестать ждать и мучиться, и раз навсегда выяснить, что, собственно, происходит. Наша работа на ферме стала дольше, а ее темп ускорился. На помощь даже приехали несколько ребят из Питсбурга. Я знал: что бы Роуз ни планировал, это должно было быть уже на носу, а я все еще не имел и догадки, что это. Наконец, как сказал бы Роуз: «некто меня надоумил». Были сумерки воскресного вечера. Я помогал Билу, одному из парней из Питсбурга, упаковать его инструменты, после того как он потратил выходные, безуспешно пытаясь наладить старый трактор. Бил и я присоединились к питсбургской группе примерно в одно время и мне было приятно провести некоторое время в тот день с кем-то, кто не был частью клики на ферме, от которой я чувствовал себя отрешенным. «Ну,» – сказал он, пряча последний инструмент и захлопывая крышку ящика, – «ты живешь с мистером Роузом. Как думаешь, встреча на следующей неделе действительно что-то изменит?» У меня екнуло в желудке. «Какая встреча?» – услышал я, как уже спрашиваю. Бил воззрился на меня на несколько секунд, его лицо вспыхнуло от замешательства. – «Дэйв, извини, я... я догадываюсь, что Роуз... хочу сказать, что он, вероятно...» Я пробормотал что-то вроде «не парься», и мы неловко распрощались. Через несколько минут я сел в машину и поехал прямо в Бенвуд с тысячей мыслей, мелькавших в голове, из которых ни одна не была достаточно долгой, чтобы стать словами. Когда я приехал, Роуза не было дома. Я ждал его на кухне, не имея догадки, что я ему скажу. Он появился через пол-часа. Мы обменялись краткими приветствиями, затем он сделал себе чай и сел напротив меня за стол. Он на мгновение взглянул на меня, потом взял газету и стал читать некрологи. «Я слышал, на следующей неделе собирается какая-то встреча,» – неожиданно сказал я. Роуз оторвался от газеты. – «Верно. Я обзвонил всех людей, которые всё еще в группе. Десять лет мы шли вникуда, а я не люблю смотреть, как что-то помирает медленно. Или мы сейчас что-то сделаем, или мы распростимся.» Он отложил газету и, пока говорил, прямо смотрел мне в глаза. «У меня больше нет времени возиться с людьми, которые несерьезны. Все хотят верить, что они духовны, но большинство людей просто играет в это. Если я и посвящу остаток моей жизни этой группе, то пусть это будет с настоящими людьми. Людьми с духовным вектором. Поэтому некоторые люди не приглашены. Поль, Стив, Джей, Дэйв Голд и...» Я уверен, что там последовали ещё имена, но я их не слышал. Мое сознание захватила поднявшаяся волна гнева и унижения. Помещение куда-то отдалилось и голос Роуза растворился в фоновом гуле. Должно быть, я задал ему вопрос, потому что, когда я пришел в себя, он отвечал на него. «Ты – не духовная личность, вот почему. Ты друг группы и поэтому я всегда рад тебя видеть в моем доме и на ферме. Но я намерен провести остаток жизни, работая с людьми, которые делают бросок в духовное будущее.» Я сидел без движения, не в силах говорить или даже думать. Очевидно, Роуз сказал всё, что собирался, так что несколько минут мы просидели молча. Наконец, я встал и направился к двери. Держа руку на ручке я повернулся к нему, – вероятно, в надежде, что он улыбнется или бросит смягчающее замечание. Но его лицо было закрыто газетой. Он возобновил чтение некрологов. Следующая неделя была кошмаром. Мой ум превратился в кашу из отрывочных мыслей и эмоций. Гнев, стыд, замешательство, страх. Я не мог сосредоточиться ни на работе, ни даже самых простых повседневных делах. Всё, что я мог, это беспомощно наблюдать, как ум бесконечно прокручивает события и пережевывает мое жалкое положение. Так уже недавно было, когда врач сказал, что мне, возможно, остались месяцы жизни. И вот теперь, когда у меня второй шанс для жизни, обновленная приверженность поиску, Роуз говорит, что у меня нет духовного будущего. Нет духовного будущего! Я бы не мог и предположить, что такое возможно, но опустошающие, безнадежные, ужасные чувства, которые сокрушали мои разум и тело, были страшнее, чем когда я заглядывал в лицо физической смерти. Моя внутренняя жизнь представляла собой агонизирующий ландшафт боли и унижения и я знал только, что больше всего мне необходимо побыть с этим одному. Я спешно договорился с моими партнерами о неделе отпуска, чтобы уединиться в моём домике. Тот пятничный вечер был началом встречи тех людей, кто еще был в группе, – кто, по мнению Роуза, имел надежду на духовное будущее. Я оставался в офисе допоздна, страдая и мучась, не желая видеть сумрак пустого дома в Бенвуде или добираться до моего домика, пока люди ещё прибывали на встречу. Наконец, около полуночи я вышел из офиса, заехал в Бенвуд взять кое-какие вещи и поехал на ферму. Парковка была заставлена машинами, в доме всё ещё горел свет. Я припарковался вдали от глаз в конце разросшихся построек вдоль дороги. Передний бампер подмял высокие сорняки, ветки кустарника зацарапали о дверь с моей стороны. Я поспешно схватил сумки и украдкой, словно злоумышленник, вышел через воротца для коз на старую просеку, ведшую к моему домику. Луны не было, а я забыл фонарь. Зайдя в лес поглубже, я пошел медленнее, давая глазам приспособиться. Я никогда не умел полностью расслабиться в темноте, несмотря даже на то, что часами заставлял себя ходить по ночному лесу, пытаясь преодолеть свой страх. Всё равно во мне сохранялся глубинный ужас перед мраком, безвидностью, неизвестностью, на который не могло повлиять никакое количество практики или аутотренинга. Теперь, двигаясь сквозь лес почти незрячим, я чувствовал себя более чем обычно уязвимым для чего угодно, что могло бы меня выслеживать. Ведь я был человеком без духовного будущего, человеком, который больше не был под защитой Роуза и группы. Я вспомнил о Томасе Дрешере, кришнаитском убийце, о том, как он сказал, что крался за мной среди этих деревьев, выжидая подходящего момента, чтобы застрелить. Подумал о сущностях, диких собаках, голодных духах. Я побежал трусцой, полагаясь на то, что память дороги мне позволит не получить нокаут от дерева. Добежав до домика, я запер за собой дверь. Я умял еду, что принес с собой, затем открыл все окна. В сотне ярдов едва слышно журчал ручеек, но я вообразил, будто слышу разговор и смех собрания в доме «избранных», тех, кто все еще был в группе, у кого было духовное будущее. Сокрушительные слова Роуза никак не оставляли меня в покое. Весь мой духовный поиск был связан с Роузом и группой. Исключив меня из собрания, из группы, Роуз всё равно что изрек мне приговор духовной смерти. Каждой клеткой своего существа я восставал против этого. Я отчаянно не желал верить, что то, что он сказал, было правдой. И рождалось другое объяснение: Роуз ошибся. Но как, Бога ради, могло это случиться? Он был человеком самой необыкновенной проницательности, какого я когда-либо встречал, и – в буквальном смысле – чтецом мыслей. Моя жизнь была распахнута перед ним и даже то, что я пытался скрыть, он угадывал безошибочно. За исключением, быть может, его жены, Сеси, никто из группы не провел в его обществе больше времени, нежели я. Он знал меня, – в этом не могло быть сомнений. Лучше, чем я себя. Я бросился в кресло, одолеваемый безнадежностью ситуации. Было всё едино: прав Роуз насчет меня или нет. В любом случае выходило то же самое: если он прав, то я – не духовный человек и никогда им не буду. Если не прав, если ошибался в столь важном деле, то он мог ошибаться в остальном, во всем. А если Роуз мог так фатально ошибаться, если он ошибочно одним-единственным решением пустил по ветру мои духовные надежды, то это значило то же, как если бы он был прав: моя духовная судьба, весь мой духовный поиск были поставлены на хромую лошадь. В любом случае я потерял всё. Во внезапном приступе ярости я вскочил с моего кресла, опрокинув его на пол. «Почему я?» – крикнул я в окно в направлении дома. – «Почему не я? Что они такого сделали, чего не сделал я? Чего они добились, а я нет?» Эти последние слова, звеневшие у меня в ушах так, словно их произнес кто-то другой, остановили меня. Поскольку в вопросе я также услышал и ответ. Нет, не было у других чегото, чего был лишен я. Скорее, у меня было нечто в таком великом изобилии, что Роуз больше не верил, что я смогу освободиться от этого с его помощью, и даже – с помощью Милости. Поглощенность самим собой. Слова, которые Роуз сказал мне при самой первой нашей встрече, помнились так, словно я записал их: «Вот, этот парень... Нет сомнений, он полагает про себя, что очень умен, что он штучка великой важности. Ему нравится думать, что он благословлен выдающимся интеллектом и что он предназначен к великой судьбе...» Годами Роуз колотил мое огромное эго, то с беспощадной прямотой, то с юмором... «Я твердо убежден, что голова разъедается перед тем, как ее отрубают. Но в случае с Дэвидом Голдом, похоже, у нас на ферме нет достаточно большого топора для этого.» Но я никогда не понимал, о чем он. Я выдерживал конфронтации, признавал вину, но этого – не понимал никогда. Роуз точно подметил это: «Я наблюдал тебя годами. Твое сердце не в этой работе. Ты страдал, но никогда не менялся.» Он был прав. Боже, он был прав. Всё, чем я занимался было – терпение и страдание. Таков был мой способ избежать настоящего изменения. «Видите, как мне больно?» – говорило мое страдание Роузу и миру. – «Ведь это явное доказательство того, что духовное пламя снедает меня.» И затем, полагая, что всех одурачил, я возвращался к прежнему занятию – быть старым Дэвидом Голодом. Да, мое гигантское эго не могло уместиться в этом доме, где собрались серьезные искатели. Я поднял кресло и сел, убежденный, что нащупал болезненный корень всего. И затем последовавшее понимание застало меня совершенно врасплох и поколебало меня в самом основании. Вдруг я осознал, чему во мне противостоял Роуз все эти годы. Я не просто обладал гигантским, тяжеловесным эго, но я им гордился. Втайне я получал удовольствие, признавая, что у меня большое эго, потому что негласно я как бы объявлял всем: «Да, у меня дьявольски здоровенное эго, но ведь естественно, что эго растет пропорционально величию человека, и вот из-за моего величия я и проклят великим эго. Ужасное духовное бремя, это правда, но такова цена, которую платишь, если ты велик. Как же вы, более скромные смертные, счастливы, имея столь ограниченные дары, – ведь и эго ваши куда как податливей.» Всё мое существо содрогнулось, потрясенное и пристыженное. Оно было жалким. Мне было тридцать шесть лет, и, прожив более десяти из них под одной крышей с живым воплощением Истины, я во всю свою жизнь ни разу не испытал подлинного смирения! Меня переполняло колоссальное отвращение к самому себе96. Как Роуз мог выносить меня столь долгое время? «Конечно, я бы хотел работать с более серьезными людьми, людьми, которые уже на пороге, людьми, которых я смогу подтолкнуть к чему-то грандиозному. Но мне следует помнить, что каждый, чей путь пересекается с моим, послан по какой-то причине, если даже она мне и неизвестна.» Просто я был, наверно, одним из людей, кому довелось пересечься с его путем, хотя он даже не видел для этого никакой причины. Вероятно, он никогда и не считал, что у меня есть какой-то духовный потенциал. Просто, чтобы убедиться в невозможности всякой надежды в отношении меня, ему потребовались пятнадцать лет. Я был раздавлен. Я лежал на кровати и молил о сне. Утром я проснулся, не понимая, где я. Открыв глаза и обнаружив себя в своем домике, я удивился. Даже когда моя память восстановилась, мое привычное ощущение чувство времени и места вернулось не вполне. Было 9:30 – позорно поздно для сна в домике. Обыкновенно в субботние утра мы собирались в доме в 7:30 и к 8:00 уже работали. Тут мне вспомнилось, что на этих выходных – по-другому. С этой мыслью, мелькнуло и ожидание, что сейчас начну проваливаться в трясину, в которой мне уже довелось барахтаться. Но, к удивлению, этого не случилось. Я встал и начал одеваться. Что-то переменилось. Что-то было другим. Я решил, что это просто дезориентация из-за сна, но когда я окончил свои упражнения по йоге, стало ясно, что она не собирается исчезать. Установилось другое состояние ума. Закончив йогу, я сел за стол, за которым я столько за годы передумал о многих других травмах, связанных так или иначе с Роузом. Я оглянул комнату. Повсюду находились напоминания о моем, так называемом, «поиске истины», какие-то писанные, какие-то отчеканенные в памяти. С карниза окна на меня смотрел деревянный Будда, которого я использовал в качестве опоры для концентрации во время многочисленных затворничеств и выходных ритритов. Над оконной рамой желтел выцветший листок, на котором в течение особенно трудного затворничества, я жирно отпечатал единственное слово: ДЕРЖИСЬ. Могло ли быть, что всё это кончилось, что всё было напрасно? Я посидел с этой мыслью, но она почему-то не принесла давешнего чувства беспощадного разгрома, с которым я прожил последнюю неделю. Что же произошло? Обыкновенно я медитировал с открытыми глазами, но у меня возникло побуждение зажмуриться. Сделав это, я различил слабое чувство, заставившее мое сердце забиться быстрее. Надежда. Но почему? Откуда? Долгое время я вслушивался в собственное безмолвие. И тогда вспомнилось, что некогда сказал мне Роуз: «В духовных делах иногда приходится атаковать людей, чтобы им помочь.» Мое сердце воспряло. Не это ли происходит? Не пытается ли он все ещё помочь мне? Не в этом ли разгадка происходящего? Я не решался подумать, что это может быть правдой. А между тем не было сомнений, что эта мысль являлась источником той новообретенной надежды, которая овладела мной ночью, вероятно, во сне. Возможно, – только возможно, – это – срежессированная часть роли Роуза, чтобы наконец отсечь мою разъевшуюся голову и протолкнуть меня во что-то. «Я не собираюсь нести покой вашим умам. Я хочу принести вам проблемы.» Я вдруг вспомнил случай, бывший несколько лет назад, когда Роуз вышвырнул Лари из группы и с фермы, где он прожил восемь лет. Всех оставшихся членов группы Роуз проинструктировал держаться от Лари подальше. Лари был раздавлен. У него не было ни денег, ни куда идти, ни – из-за распоряжения Роуза – друзей, к кому обратиться. Через несколько дней он пришел к офису повидаться со мной. Он на мели, сказал он, – и отчаянно нуждается в помощи. Без колебаний я дал ему денег и даже нашел ему работу и место, где остановиться. Лари и я были друзьями. Так что это было естественно. Когда Роуз услышал об этом, он взъярился на меня. «Ты все погубил,» – сказал он. – «Ты угробил единственный шанс Лари на Просветление. Мне потребовалось восемь лет подвести его к этому и ты разрушил всё за один день.» В последующие недели Роуз рассказывал всем, какой я идиот. О, как мне хотелось верить, что сейчас у Роуза был тот же замысел и для меня, что всё это дело было продуманным планом, чтобы протолкнуть меня за край в нечто грандиозное. «Некогда каждый должен будет уйти. Это так, если он собирается когда-нибудь достичь определенного духовного раскрытия себя. Если он не уйдет, я вышвырну его.» Несколько секунд я почти ликовал. Но тут новая мысль осадила меня. Если то, что я сейчас понял, было правдой, то самим пониманием этого я только что загубил свой шанс получить Опыт – так же наверняка, как сделал и с Лари, выручив его. Моё сердце упало в новую бездну. Я зажал лицо в руках, подавляя вопль. Казалось, нет конца ошибкам, ложным поворотам. Я действительно безнадежный случай. Из моего тела ушла вся энергия и внезапно я ослаб и иссяк. Я лёг обратно на кровать и уставился на потолок, слишком изнеможенный, чтобы думать. Через какое-то время я проснулся. Я провалился в сон посреди дня – нечто для меня неслыханное. Пока лежал, я постепенно стал сознавать ощущение давления, тяжести, обложившей моё тело. Оно устойчиво нарастало, заключаясь во всепоглощающем, но не неприятном, ощущении – совершенно равномерного по всей поверхности тела – облеченности одеянием из тяжелого воздуха или воды. Не было чувства клаустрофобии, или удушья, или иного негативного ощущения из тех, что связаны обыкновенно с чувством окружённости или заталкивания. Вместо этого, было безмятежное и успокаивающее чувство непреоборимой податливости давлению, чувства собирания обратно внутрь себя, – меньше, всё меньше, по мере нарастания давления. Вскоре я был уже не более острия булавки, окруженного давлением, – плотным, всеобступающим, всепреодолевающим давлением. Оболочка, окружавшая то, что от меня оставалось, делалась под давлением всё плотнее, а я делался всё меньше, пока булавочное острие «я» не превратилось в ничто, так что оставалось только всемогущее, непреклонное Везде. Затаив дыхание, я ждал. На какое-то время давление ослабло, – казалось, оно почти ушло. И тут пришел он. Я ничего не видел, но знал без сомнений, кто это. Мой Истинный Учитель. В индуистской традиции его зовут Сатгуру, буквально – «учитель Истины». У каждого из нас много гуру или учителей, но только один Сатгуру. Сатгуру может быть инкарнированным существом или пребывать только на духовном плане. До этого мига я всегда полагал, что моим Сатгуру был Роуз. Но теперь – нет. Не было сомнений, что Тот, кто был со мной в этот момент, был Тем, кто вёл меня по жизни. Я трепетал в благоговении. «Ты пришел за мной?» – спросил я мысленно. Тогда вдруг, как бы в ответ, он отпрянул во мрак. «Подожди! Возьми меня с собой. Забери меня домой!» Но, думая это, я уже знал, что идти не могу. Что я не готов. Я снова услышал голос Роуза, прорвавшийся сквозь туман моей телесной памяти: «Переживание Истины – это чрезвычайный шок. Чтобы с ним справиться или хотя бы выжить после него, вам следует подготовить себя. Вам нужно иметь прививку этого измерения.» Я заплакал и не мог остановиться. Краткое прикосновение моего Истинного Учителя оставило меня с мукой и жаждой, слишком болезненными, чтобы их вынести. И в этой утрате я почувствовал глубже, чем когда-либо, боль потери моего земного учителя, мистера Роуза. И как подсказка, опять в памяти всплыли его слова: «Я вам не нужен. Никому не нужен. Всё, что вам нужно, это – ваша собственная внутренняя решимость.» Слезы и рыдания стали ещё сильнее, когда странная радость примешалась к моему отчаянию. Пятнадцать лет я учился у Роуза, безнадежно ища его одобрения, уверенности, приятия – какого-то знака, что у меня получится, знака, что я делаю правильно. Но не было правильного. Не было делания. Не было и меня. Для удара молнии нет рецепта! Остаток моего недельного затворничества прошел в долгих прогулках или просто сидении в лесу на пне. Я утратил чувство времени и голод, кажется, не пробуждался во мне, хотя время от времени я ел. На каком-то этапе я забыл, который нынче день, и долгое время пытался это выяснить. Воскресным утром я сложил мою сумку и направился через лес к машине. Начинал накрапывать дождик. Добравшись к дому, я с удивлением увидел, что фургон Роуза на месте. Не менее удивительным было и отсутствие других машин. Жители фермы, очевидно, все были где-то в другом месте. Я не планировал иметь разговор с Роузом так скоро и при мысли об этом у меня засосало под ложечкой. Но я решил, что застать его одного в спокойной обстановке на ферме было слишком хорошей возможностью, чтобы ее упускать. Я глубоко вздохнул и взошел на заднюю террасу. Он, должно быть, услышал шум, поскольку штора на кухонной двери отодвинулась до того, как я постучал, и за стеклом показалась голова Роуза. Он открыл дверь, не приветствуя меня, и я вошел. Немедленно мне в нос ударил сильный запах. На плите в чугунной сковороде на свином жире шкворчали четыре яйца. «Ещё дождит?» – спросил он, острожными рывками поколыхивая яйца. «Не уверен. То есть, думаю – да,» – пробормотал я. В последние четыре дня я почти не ел, так что вид и запах яиц на сале вызвал во мне тошноту. Я отошел на несколько шагов от плиты и в конце-концов устроился в кресле в дальнем углу столовой. Роуз закончил готовить яичницу и присоединился ко мне за столом. Я наблюдал за тем, как он завтракает, как делал это в Бенвуде сотни раз. Как и всё, что он делал, Роуз ел медленно, осмысленно и без всякого заметного удовольствия. Я подождал, пока он закончит, чтобы заговорить. «Как была встреча на прошлых выходных?» – спросил я. Он утер рот бумажной салфеткой. «Все забыли, зачем поначалу пришли сюда,» – сказал он. – «Большинство забросили работу над собой, и естественно, что ничего не происходит. Затем они идут и решают, что раз ничего не происходит всё равно, то они могут выиграть хоть в чём-то, заработать миллион хотя бы». Он встал из-за стола и открыл холодильник. «Ладно, теперь у них есть миллион и они сердятся на меня, потому что духовных товаров им всё равно не купить.» Он достал из холодильника кувшин с апельсиновым соком и предложил мне. – «Будешь?» «Нет. Спасибо.» Я смотрел, как он наливает себе большой стакан. «Я понимаю, почему вы не хотите меня в группе,» – услыхал я собственные слова. – «Но я хочу, чтобы вы знали, что я не оставляю поиск. Я не сдаюсь.» Он посмотрел на меня без выражения. «Это твой вопрос,» – сказал он. «На этой неделе в домике у меня было чувство, как стою прямо перед дверью во что-то.» «Ты ломаешь проклятые двери, если тебе суждено, – и это всё!» – быстро проговорил Роуз, почти рефлекторно. Затем он несколько смягчился. – «Но, конечно, есть уйма способов взломать эти двери. Даже Абсолют тянется к чистой любви.» «Я намерен стать Просветленным, мистер Роуз, – с вашей помощью или без неё.» «Желаю тебе наилучшего.» «Мне кажется, я готов, наконец, измениться.» «Не подстегивай свою надежду,» – усмехнулся он. – «Есть вещи, которые не изменит и Просветление. Если ты – сукин сын до твоей встречи с Абсолютом, ты будешь им и после. Я – тому живое доказательство.» Мы оба рассмеялись и несколько секунд я опять наслаждался замечательными теплом и силой его общества. Некоторое время мы поговорили о других вещах, а затем в разгаре недолгой тишины я сказал, – «мне пора идти. Спасибо за всё, мистер Роуз.» Он взглянул на меня с едва заметной тенью улыбки, затем выглянул в окно. Вот, что он сказал, – «дождь кончился.» Вот, что я услышал в сердце: просто передавай это. ЭПИЛОГ Было лето 1989 года, когда Роуз сказал мне, что он больше не будет моим учителем, но что я всегда принят в его доме. Думаю, я поймал его на слове, поскольку оставался с ним до 1991 года, переехав в мой домик и приняв большое участие в поддержании фермы. Через два года я навсегда оставил юридическую практику и стал искать способ потратить свое время на нечто более осмысленное, чем «заработать миллион». Одну вещь я, наконец, сделал – написал эту книжку – что-то, к чему чувствовал веление вот уже двадцать пять лет, с самого первого летнего интенсива в 1973 году, когда Роуз сказал мне «просто передавать это». Это был труд в агонии и любви. Множество людей, кто читал черновики или сигнальные экземпляры, спрашивали: «А дальше что случилось? Где теперь все?» И вот я опять за клавиатурой, пишу эпилог. Я пишу это в раннеутренние часы 30 декабря 1997 года. Я – в моем домике после долгого отсутствия, на половине двухнедельного затворничества. Со вчерашнего полудня сыплет легкий снежок и из моего окна открывается вид на царство зимы: запорошенные сосны и бескрайние пространства недвижных, безмолвных снегов. Поблизости два оленя поедают кончики кленовых веток. Кейт Нэм – «Свами Киртанананда» – был судим и признан виновным в вымогательстве, что явилось итогом множества преступлений, включая убийство Стива Брайанта, похищение Девина Уилера и нищенство, организованное им из Нью-Вриндавана и принесшее не один миллион. Его приговор, однако, был отменен по апелляции и в апреле 1996 года его судили повторно. Мистер Роуз и я были привлечены в качестве свидетелей. Томас Дрешер был осужден в Калифорнии как убийца Стива Брайанта и приговорен к смерти. Также он был осужден в Западной Вирджинии как убийца Чака Дениса, где он и отбывает теперь пожизненное заключение без возможности досрочного освобождения в маундсвильской тюрьме. На повторном суде над Кейтом Хэмом Дрешер был свидетелем обвинения. Его показания были столь определенны и ужасающи, что адвокаты Хэма только руками развели и Хэм признал свою вину. Кейт Хэм сейчас отсиживает двадцать лет в федеральной тюрьме. Вскоре один из двух кришнаитских адвокатов был парализован вследствие обширного удара. Другой стал недавно почти инвалидом после сердечного приступа и операции коронарного шунтирования. В 1987-ом, после десятилетнего отсутствия, Оги Турак вернулся к Роузу. Годом позже он устроился в Ралее, Северная Каролина, и положил начало Симпозиуму Самопознания (СС) – духовной группе, основанной на учении Роуза. Сейчас он опекает четыре весьма успешные СС группы в тех краях, включая кампусные группы в Дуке, Северная Каролина. В 1994-ом я тоже переехал в Ралей и сейчас мы вместе с Оги работаем с группами, во многом так же, как это делали во времена шатокуа. Не удивительно, что Оги вырос в учителя. У него всегда были драйв, яркость, харизма и потрясающий репертуар духовных баек и анекдотов. Теперь же, в прошлом году, он был благословлен завершающим даром – способностью любить. Если вы спросите учеников СС в Северной Каролине, они, вероятно, скажут вам, что я тоже выступаю в роли как бы учителя. Однако, когда я смотрю на себя под этим углом, я чувствую себя неловко, поскольку Роуз всегда говорил: «Вы ничего не знаете, пока не познаете Всё.» Но было бы лукавством не сказать, что я люблю эту работу, людей и то глубинное воздействие, которое СС оказало на многие жизни. Включая и мою собственную. Несколько лет назад у мистера Роуза стали появляться признаки забывчивости и утраты памяти, типичные для многих престарелых людей. Они усугубились, после чего у мистера Роуза установили болезнь Альцгеймера. Когда я в последний раз был у него в доме, он не мог узнать меня, пока Сеси, его вторая жена, не напомнила ему, кто я. БОльшая доля огня и жёстких методов дзенского учителя ушла, но её утрата, похоже, вывела на первый план поразительные тепло и привязанность, которые мистер Роуз всегда питал к людям, особенно к ученикам. Находясь с ним, я испытывал почти безграничное чувство любви. Когда я уезжал, он проводил меня до машины и положил руку мне на плечо – жест, которого я никогда раньше у него не видел. «Возвращайся поскорее,» – сказал он. – «Не забывай сюда дорогу.» «Предлагаю сделку,» – улыбнулся я, как прожжёный адвокат, – «я не забуду сюда дорогу, если вы не забудете меня.» Он рассмеялся. – «Не знаю, смогу ли выполнить условие с моей стороны.» Мистер Роуз сейчас живет в доме престарелых, который специализируется на больных Альцгеймера. Болезнь отобрала у него память, речь и личность и оставила только всесострадательную ауру Будды. Он улыбается, смеётся и ухаживает за другими пациентами, принося им еду или просто стоя рядом с ними в готовности помочь. Наблюдая, вы можете почти «увидеть», как он использует свою способность к непосредственному постижению, чтобы посылать безмолвные лучи чистой любви разрушенным умам других в этом доме. Тяжело тем из нас, кто его знал и любил, видеть, как он всё больше ускользает из этого мира, хотя во многих отношениях он никогда по-настоящему и не был его частью – как говорится: в нём, но не от него97. Но ведь тело в конце-концов подведет каждого из нас, ему предстоит найти неизбежный путь к смерти. И один путь не хуже и не лучше другого, как я полагаю. И всё же трудно понять, как отнестись к такому именно пути для мистера Роуза, – человека, сказавшего как-то, что разница между ним и большинством людей в том, что «они живут, чтобы жить, а я живу, чтобы мыслить.» Что это значит, когда Просветленный человек медленно теряет свой разум? Он никогда не говорил об этом и, вероятно, тут нечего и сказать. Смерть тела и его способ распада не касаются истинной природы человека. Мистер Роуз, наверное, сказал бы, что умирает обычной смертью, которая положена ему, как и всякому другому в этом дурдоме. Единственное отличие лишь в том, – как он мог бы сказать, – что он точно знает, куда направится потом, и что это и есть великий дар его опыта Просветления. В небольшом западающем в душу стихотворении, написанном им много лет назад, он как будто даже провидел такой образ своего ухода. Читая это стихотворение сейчас, я почему-то чувствую себя утешенным. Оно называется «Я распрощаюсь с тобой.» Я распрощаюсь с тобой Не явным жестом А смутно Как некто уходящий в неопределенность Ведь слова, эти символы запутанности, Лишь усугубят запутанность А молчание, кажущееся неопределенностью, Станет моим ритмом Который ты когда-нибудь Постигнешь -*-*-*-*- [1] Ин.1:46 [2] Мк.6:4 [3] Ин.3:8 [4] В оригинале: between-ness [5] Аллюзия на Мтф. 12:25 [6] Комплекс моральных установок в психоанализе. [7] Ср. Рим. 7:19. Поскольку в оригинале приведена не каноническая цитата, то и перевод дан дословный оригиналу. [8] www.heartmath.org – некоммерческая исследовательско-просветительская организация, посвященная борьбе со стрессом и улучшению жизни личности через познание своего сердца. [9] Профессор истории и писаний религии нью-йоркского университета. В 1987 году издал известную в США книгу: «Конечные и бесконечные игры», где жизнь человека рассматривается как смешение «игр» двух типов – конечных и бесконечных. Конечные игры имеют начало, окончание и цель. Бесконечные игры не имеют ни начала, ни конца и сами являются своей целью. [10] 2-е Кор.6:2 [11] Автор книги «Душа, руководство к пользованию», его сайт www.georgejaidar.com [12] Ин.12:32 [13] Аллюзия на Мф.13:44-46 [14] Confrontation. Используется как термин психотренинга Роуза: «конфронтация» и производный глагол «конфронтировать» – это сходка лицом к лицу двух или больше людей, когда оппоненты без обиняков высказывают нелицеприятные истины друг о друге, с целью помочь другому осознать свои психологические зажимы и слепые пятна. [15] Student Union [16] Сходно называлась книга самого Р. Роуза: "Документы Альбигена" («The Albigen Papers»). [17] Painted Desert [18] LA – Лос-Анжелес [19] Почти 70 гектар. [20] The Albigen Papers [21] Имеется в виду – реки. [22] Стоящее в оригинале слово dimension используется в значении, которому точно соответствует санскритский термин «лока», т. е. – определенная метафизическая, но вместе с тем доступная опыту, область бытия. Можно ли его перевести словом «измерение»? С одной стороны, ни один из академических словарей не допускает у слова «измерение» такого значения. С другой стороны, оно закрепилось в массовой культуре, – видимо, благодаря переводам с английского, где слово dimension передало новое значение слову «измерение», которое изначально соответствовало лишь части его смыслового спектра. Можно усомниться в правомерности этого, поскольку слово «измерение» корнем связано с некоторой одномерной протяженностью или величиной, которую только и можно мерить, и с этой точки зрения оно никак не может означать локу, а только быть ее характеристикой. Кроме того, если даже согласиться на поступательное расширение смысла слова «измерение» по следующей цепочке: «геометрическое измерение пространства» – «способ видеть-познаватьдействовать» – «совокупность базовых характеристик состояния ума» – «лока», то у этого слова остается явный рассудочный привкус, что, может быть, хорошо для научной фантастики, но не для мистического языка, – хотя бы потому уже, что не всякая лока измеряема. Тем не менее жизнь языка не обязана подчиняться логике (и словарям) и подчас приходится лишь констатировать, что такое значение у слова уже есть. [23] Вперекличку строки другой куклы: "А теперь, бесконечно прекрасный, не видимый никому, кроме себя самого, он отводит от меня взгляд, и Юкио Мисима исчезает. Остается только он. Тот единственный гость на празднике Бон, который вечно приходит в гости сам к себе." (В.Пелевин, «Гость на празднике Бон» – краткая и отточенная как стилет метафизическая поэма, словно неразменный пятак способная выкупить тысячи строк упадочной болтовни, – если бы... слово могло замещать собой сердечное движение.) [24] Начальные слова «Боевого гимна республики» («Battle Hymn of the Republic») – песни, написанной в 19 веке американской поэтессой Джулией Хоув. [25] Ин.14:12 [26] Мтф.20:16 [27] В оригинале: everything-ness [28] Rapport – что в контексте можно перевести как резонанс, связь, взаимопонимание. Сидение в резонансе – вид коллективной медитации, что будет разъяснено в книге дальше. [29] Возможно, этой фразой Роуз хотел сказать, что неотъемлемой частью Опыта является достоверное знание того, что личностей, «я» и «ты», не существует. «Алмазная Сутра»: «стоит только появиться в уме бодхисаттвы таким концепциям, как существование собственной личности или других личностей, <...>, как тут же он становится недостойным имени бодхисаттвы.» [30] В правительстве Штатов есть орган с таким названием. [31] Сходно с учением Платона о степенях или видах знания: вере, подобии, рассудке и мышлении (напр.: Платон, Государство, V, 477-478). [32] Подразумевается ум, эго. [33] В оригинале Роуз цитирует начальные слова сентенции из «Книги Закона» Элистера Кроули: "Do what thou wilt shall be the whole of the Law." (AL. I. 40), что можно перевести, как: «Делать то, что волишь, – вот весь Закон.» Комментаторы Кроули отмечают, что под воленьем подразумевается не страстное начало, а скрытый от повседневного сознания высший смысл судьбы индивидуума, взаимная игра его Высшего Я и Вселенной, – Атмана и Брахмана, – воля Бога, узнанная в воле индивидуальной и тем самым претворившая ее. [34] В оригинале awareness. [35] В интернете есть слегка различающиеся редакции поэмы. [36] Американская традиция: в печенье запекают записку с афоризмом или предсказанием – печенье удачи. [37] “Keystone Cops” - название немой комедии, где действует отряд придурковатых полицейских. [38] Такая надпись сообщала, что автомобиль используется только на ферме и потому налоги за него не платятся. [39] В свете этой истории завершающая сцена «Беспечного ездока», этого «духовного снимка» конца 60-х в США, предстаёт не исключительно гиперболой или метафорой. [40] Мтф 18:3 [41] Truth and Transmission – Истина и Передача – английская аббревиатура TAT используется и в тексте перевода. Так называлось общество, созданное Р. Роузом. Его сайт tatfoundation.org [42] приток Огайо. [43] См. “Четвертый путь” П. Успенского [44] В японском буддизме, преимущественно в дзене, дискуссия между учителем и учеником или, реже, между двумя учителями, целью которой было продемонстрировать и углубить понимание учения. [45] Сходно с недеянием (у-вэй) даосизма. [46] Т.е. когда человеку открывается, что его физическое воплощение – только тень. [47] Покерный термин: победная комбинация. [48] Т.е. Роуз не стал бы накручивать ставки, даже будучи уверенным в выигрыше, а предложил бы партнерам сдаться. [49] Chautauqua – так называлось движение за образование взрослых в Штатах, популярное в конце 19 и начале 20 веков. [50] Truth and Transmission Society [51] Ср. Мф.10:34 [52] Гадатель по зрачкам глаз. [53] Намек на еще памятную в те времена рекламу маргарина в США в 50-х. Дело в том, что при рекламировании маргарина, как продукта искусственного, было запрещено употреблять слово «масло» и рекламисты изощрялись в сочетаниях вроде «дорогая замазка» или «ценная паста». Т.е. противопоставление в вопросе Роуза только кажущееся: и откровенная характеристика, и напыщенный эвфмеизм имеют своим предметом одно и то же – суррогат. (Кстати сказать, было запрещено и подкрашивать маргарин в желтый цвет, – чтобы не вводить в обман покупателей.) [54] Сходное изречение «живи, как будто завтра умрешь, учись, как будто ты вечен» приписывается Махатме Ганди и Исидору Севильскому. [55] Книжка написана при жизни Роуза. [56] Кстати, его сайт http://www.palaceofgold.com/ Рассматривается как одно из чудес США в области культовой архитектуры. [57] Крупная торговая сеть. [58] Перекликается с Мтф.6:34 [59] Civilian Conservation Corps – гражданский природоохранный корпус: программа занятости для молодых безработных неженатых мужчин, действовавшая во времена депрессии 1933-1942. В ее рамках осуществлялись работы в основном по озеленению и окультуриванию федеральных земель. [60] Колония для малолетних преступников в Западной Вирджинии. [61] Актер, особенно популярный в ранние годы телевидения. [62] Более точный перевод: хищение, воровство. [63] Цитата из «Документы Альбигена». [64] Популярный комедийный актер с преувеличенно кустистыми бровями. [65] The Direct-Mind Experience [66] Игра слов: голова здесь означает и ум. [67] Ср. 1Пет.5:8 [68] Закон сохранения массы в химии. [69] Psycho-babble – абракадабра из психиатрических терминов. [70] Первый понедельник сентября. [71] 27 ноября [72] Кстати, все эти истории можно найти в интернете под различными углами освещения. В частности, в архивах газет и Википедии. Дело с восьмилетним мальчиком происходило в 1979 году. Кейт Хэм был осужден на 20 лет в 1996 за вымогательство. В 2000 специальная комиссия Международного Сообщества Сознания Кришны признала, что Кейт Хэм совратил двух мальчиков. [73] Лицо, которому угрожает опасность, может быть помещено под охрану. [74] Джонстаун – неформальное название религиозной организации в Гайане, ставшей печально известной на весь мир в 1978 году, когда на религиозной почве более 900 членов совершили групповое самоубийство, а несколько человек были убиты. [75] Пистолет соответствующего калибра. [76] Скрытое ношение оружия почти везде законно в США при наличии соответствующего разрешения. Однако в Западной Вирджинии такое разрешение выдается шерифом округа только резидентам штата и при этом разрешения многих иных штатов недействительны, в частности – Калифорнии, разрешение от которой у Брайанта, возможно, было. [77] Корпорация, занимающаяся благотворительностью и дешевыми распродажами. [78] Народный герой США 19-го века. Колонист, солдат, политик. Заслужил прозвище «Король дикого пограничья». [79] Мюзикл 1947 года, ставший классикой жанра. Двое туристов, заблудившись, попадают в сказочный город Бригадун, которого нет карте. [80] Ср. Мтф.18:20 и Мтф.22:39 [81] Существует гипотеза, что причиной душевных заболеваний, таких как шизофрения и депрессия, является недостаток или избыток определенных веществ в мозге. [82] Breakdown and breakthrough: короткое замыкание вследствие пробоя изоляции и прорыв с прочисткой всего тракта. [83] Петер Бенсон, известный исполнитель шекспировских ролей, родился в 1943, так что это не о нем слышал Роуз, будучи студентом. [84] Эта же мысль выражена в «Четвертом пути» П.Успенского. [85] Sabbatical – годовой отпуск для научной работы. [86] На самом деле это цитата из Ветхого Завета: Экк. 9:5-6 [87] Карточная игра. [88] Питсбургская профессиональная футбольная команда. [89] Объединение христианской молодежи. [90] Snowbird – так в Америке называют северян, проводящих зиму в южных штатах. [91] Официальный правительственный орган. [92] Никакой специфически русской коннотации это слово не несет, оно употребляется здесь в смысле «человека, интеллектуального труда, свободной профессии; белого воротничка». [93] Ср. Мтф.18:20 и Мтф.22:39 [94] Mood – настроение, душевное состояние. [95] Платон наше всё. Наряду с Евангелием, конечно. [96] Ср. Лк.14:26, Лк.9:23, Ин.12:25 [97] Ср. Ин. 15:19, 17:14-16