Межкультурная коммуникация как проблема
advertisement
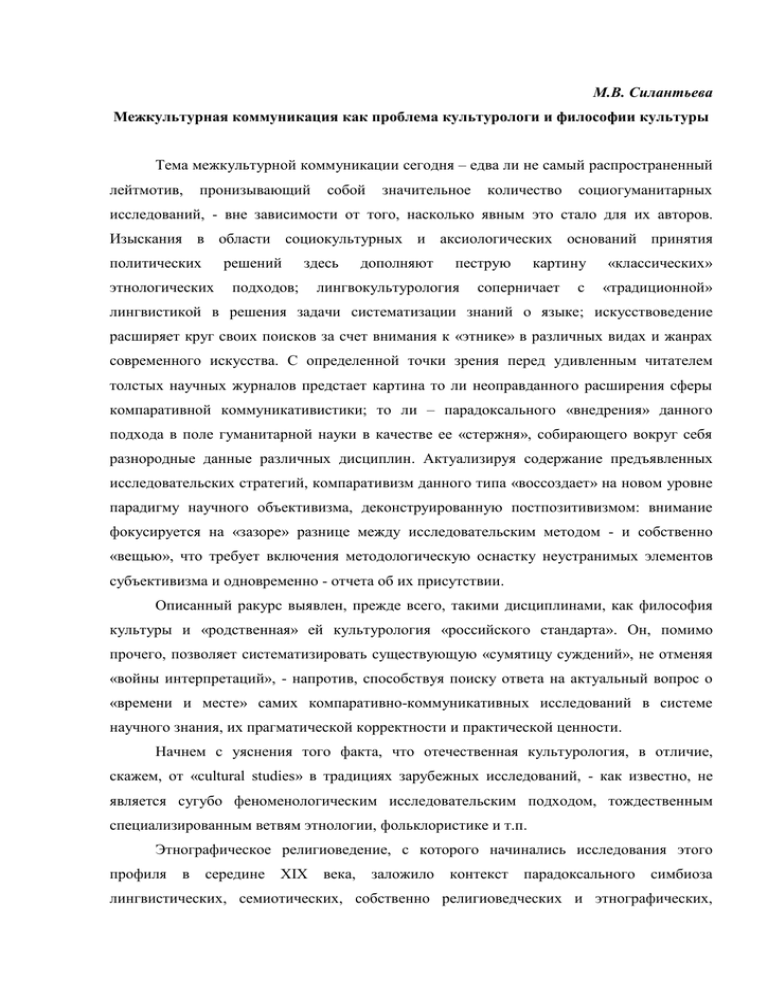
М.В. Силантьева Межкультурная коммуникация как проблема культурологи и философии культуры Тема межкультурной коммуникации сегодня – едва ли не самый распространенный лейтмотив, пронизывающий собой значительное количество социогуманитарных исследований, - вне зависимости от того, насколько явным это стало для их авторов. Изыскания в области социокультурных и аксиологических оснований принятия политических решений этнологических здесь подходов; дополняют пеструю лингвокультурология картину соперничает с «классических» «традиционной» лингвистикой в решения задачи систематизации знаний о языке; искусствоведение расширяет круг своих поисков за счет внимания к «этнике» в различных видах и жанрах современного искусства. С определенной точки зрения перед удивленным читателем толстых научных журналов предстает картина то ли неоправданного расширения сферы компаративной коммуникативистики; то ли – парадоксального «внедрения» данного подхода в поле гуманитарной науки в качестве ее «стержня», собирающего вокруг себя разнородные данные различных дисциплин. Актуализируя содержание предъявленных исследовательских стратегий, компаративизм данного типа «воссоздает» на новом уровне парадигму научного объективизма, деконструированную постпозитивизмом: внимание фокусируется на «зазоре» разнице между исследовательским методом - и собственно «вещью», что требует включения методологическую оснастку неустранимых элементов субъективизма и одновременно - отчета об их присутствии. Описанный ракурс выявлен, прежде всего, такими дисциплинами, как философия культуры и «родственная» ей культурология «российского стандарта». Он, помимо прочего, позволяет систематизировать существующую «сумятицу суждений», не отменяя «войны интерпретаций», - напротив, способствуя поиску ответа на актуальный вопрос о «времени и месте» самих компаративно-коммуникативных исследований в системе научного знания, их прагматической корректности и практической ценности. Начнем с уяснения того факта, что отечественная культурология, в отличие, скажем, от «cultural studies» в традициях зарубежных исследований, - как известно, не является сугубо феноменологическим исследовательским подходом, тождественным специализированным ветвям этнологии, фольклористике и т.п. Этнографическое религиоведение, с которого начинались исследования этого профиля в середине XIX века, заложило контекст парадоксального симбиоза лингвистических, семиотических, собственно религиоведческих и этнографических, антропологических, психологических и иных подходов, объединенных позднее в «исторический» и «теоретический» разделы современной культурологии. Как подчеркивает М.А. Монин1, существенное отличие культурологи от «cultural studies» связано с необходимостью разработки более-менее внятной версии понимания происходящих процессов – тех или иных теоретических моделей, без которых сугубо феноменологическое прочтение таких исследований останется лишь разновидностью фиксации происходящего; а также описания имеющих место различий в способах жизни различных социальных организмов. Сверхзадача, отчетливо артикулированная в отечественной культурологии, состоит в поиске взаимопонимания, - даже там, где различные культуры кажутся несоизмеримыми, реально являясь или лишь «представляясь» таковыми. Попытка «уйти от идеологии», столь мощно спроецированная современной наукой на новую форму «научного объективизма», действительно, больше соответствует феноменологическому подходу. В ходе его применения материал «сам» диктует формы возможных интерпретаций, является «показательным» в буквальном смысле этого слова. Между тем, здоровая критичность заставляет усомниться в непогрешимости данного метода – так же, как в свое время именно критичность заставила к этому методу обратиться… В самом деле, разве «укладка» материала может в полной мере абстрагироваться от личности исследователя, его методологических, информационно-содержательных и иных предпочтений?.. Ведь даже «замечает» исследователь лишь то, что в принципе «готов» заметить». Не случайно проблема «лингвокультуоролгических лакун», изучаемая сегодня в качестве одной из наиболее актуальных для оптимизации межкультурного диалога2, опирается не только на собственные методы лингвистики, но апеллирует к культурологии. А через нее – к культурной антропологии и психологии, далеких от «чистой» текстологии, семиотики, когнитивной психологии. И даже - от «чистой» лингвистики. Разумеется, в каждой дисциплине существуют свои стандарты научности, соответствующие не только «паспорту научной специальности», но и конкретному «понятийному экрану», составляющему специфику именно данного типа «проекции действительности» на экран познания. Знание строгих законов работы с материалом – условие научной состоятельности исследователя. Однако в наши дни профессионализм такого рода становится уделом 1 Монин М. А. Культурология и/или Cultural Studies. Материалы XXIII богословской конференции ПСТГУ. 20 января 2013. Секция «Культурология». – Архив автора. 2 Гуревич Т.М. Культурологическая парадигма преподавания японского языка / Т.М. Гуревич // Вестник МГИМО-Университета. - 2012. - № 2. - С. 208-212. далеко не каждого из включившихся в деятельность «науки как социального института». Отчасти ситуация поддерживается самом характером современной жизни – потоки информации, в том числе, и узко специализированной, перекрывают имеющиеся возможности ее воспринять. Неоднократная констатация «специфики информационного общества» в контексте ее несоизмеримости с антропологически заданным объемом внимания, отпущенным человеку, никоим образом не отменяет проблему соотношения профессионализма и специализации. Полагаю, что в зависимости от установления своей позиции по отношению к возможностям решения данной проблемы, современный ученый позиционирует себя как «профессионал» - либо лишь имитирует научность, с которой на самом деле не в ладах. Очень часто вторая из обозначенных позиций выглядит подобием совсем иного положения дел, «подражая» «междисциплинарному подходу», - методологическому принципу, заявленному ныне в качестве приоритетного в научных и образовательных стандартах очередных поколений. Но чем обеспечивается междисциплинарность? Если говорить по существу, то она предполагает не просто механическое соединение «двух и более» узких специализаций в лице одного человека либо исследовательского коллектива. Напротив, «свалка» подходов не может создать не только взиамодополнительности, но и возможности сколько-нибудь последовательного продвижения по пути даже одного из избранных направлений. Обращение к истории естествознания подсказывает, что вопрос о междисциплинарности как возможной исследовательской парадигме упирается не в суммативные стратегии; он требует открытия принципиально иного уровня рассмотрения проблематики, несводимого к одному-единственному научному экрану. Примечательно, что такой экран невозможно просто «перепрыгнуть», отказавшись от специализации, а вместе с ней – и от профессионализации. Однако и «застревать» окончательно на одной из возможных проекций действительности (а чем еще может быть любой научный экран?) – занятие, имеющее смысл, только если такое «застревание» не абсолютно, имеет свои границы и перспективы перехода к чему-то другому, более объемному и «целевому»; если можно так выразиться, более осмысленному. В самом деле, «чистая наука» сегодня третируется не только потому, что большинство правительств желает сэкономить средства на финансировании чрезвычайно дорогостоящих фундаментальных исследований. Один из лозунгов нашего времени – практическая полезность – может быть понят не только в узко прагматическом ключе, как свидетельство сознательной или лукавой «наивности» прикладников; их близорукости по отношению к «несъедобным» (читай: не используемым здесь и сейчас, «не отходя от кассы») ценностям. Практическая полезность может пониматься и в «сверхпрагматическом» ключе: как дело, имеющее как раз не только (а может быть, и не столько) «съедобное» значение; решающее проблемы не только сиюминутного характера, но создающие перспективу буквально смысложизненного характера. Возможно, запрос такого рода в адрес науки явился следствием системного кризиса социальной роли «религий спасения», остро проявившего себя в период роста секулярных настроений в Европе и во всем мире. Как следствие, ожидания, обращенные на устоявшиеся духовные практики, современное общество перенесло в область научного поиска, надеясь на способность этого института отвечать сверхпрагматическим запросам человека и общества в максимально обоснованном, пригодном для санкции естественного разума, виде. Предполагается, что вопрос о смысле жизни, «вынесенный» на обсуждение науки, - не такая уж ненужная для практики вещь: как минимум, его постановка соответствует стремлению человека к счастью. А стремление к счастью, при всей спорности существующих интерпретаций данной категории, не столь уж чуждо современному человеку. Соответственно, как уже было сказано, сверхпрагматика заставляет ученого выходить из скорлупы своей специализации; принуждает присматриваться к более существенным, фундаментальным (и «более общим» только в этом смысле!) законам пространственно-временного существования. Так, серьезные исследования в области физики в 1960-ые – 1970-ые гг., как оказалось впоследствии, «шли навстречу» серьезным исследованиям в области химии. Обращаясь к поиску тех самых «общих законов», специалисты названных областей создали новое научное направление – химфизику; не столько новый научный экран, сколько новый междисциплинарный метод, позволяющий отслеживать процессы, происходящие в микромире на их уровне понимания (т.е. создания теоретической модели), а не только описания. Сходным образом появилась на свет биофизика, соединившая прикладные физические подходы с экспериментальной биологией и исследованиями в области медицины. Что, как не совмещение принципиально разных подходов – исследовательского и технического, - представляет собой современная генная инженерия? Или «методологически изоморфная» ей литература жанра «фэнтази», совершающая в психологической области то, что генная инженерия делает в области пищевой промышленности, медицины и т.д.? По сути, настоящая профессионализация сегодня немыслима без выявления ограниченности узкопрофессионального кругозора, – при всем уважении к нему. Без появления качественно нового уровня обзора проблемы (по своему, конечно, тоже ограниченного) исследовательское внимание не может выйти к профессионализму нового уровня, который требуется сегодня и превышает существовавшие ранее требования. Как крупный физик не может игнорировать философские вопросы, так и масштабное социогуманитарное исследование не может оставаться в узких рамках жестко специализированного сектора обзора, без выхода к смысложизненному горизонту. Если вспомнить «позднего» Э. Гуссерля и «раннего» Хайдеггера, мысли, чтобы быть мыслью, нужен горизонт. В противном случае перед нами – имитация, имеющая с мыслью мало общего. Случай с культурологией – как раз в ряду типичных междисциплинарных поисков, увенчавшихся созданием междисциплинарной парадигмы, претендующей на синтез принятых в отдельных дисциплинах подходов. Речь, подчеркнем, идет именно о синтезе, а не просто о проведении неких комплексных исследований, решающих интересные, но (строго и по секрету говоря) никому не нужные задачи. Эти таинственные задачи вне смысложизненного контекста зачастую сводятся – то ли к собиранию материала для создания (в будущем) музея почившей современной культуры, ее своеобразная «оцифровка»; то ли к систематизации и классификации все того же, утекающего как песок из рук, духовного и аксиологического наследия… Культурология, таким образом, претендует на придание имеющемуся материалу нового качества, не свойственного сведениям самим по себе и методам самим по себе. Искомый синтез требует погружения в такие слои существования феномена, где он, действительно, неразделен со своей сущностью. И вместе с тем – «привязан» к этой сущности как к цели, имеющий значение, смысл, для насущного внутреннего вопрошания человека о цели его существования на земле. Ценностный контекст здесь – наиболее заметный, «выпятившийся» сегодня как никогда ранее. Хотя, разумеется, сводить подобные «сущности» и «цели» к ценностям как таковым было бы натяжкой. С учетом сказанного проблема, поставленная в начале данного рассуждения, выглядит следующим образом: насколько методы существующих «строгих наук» (например, лингвистики) возможно соотносить (а тем более, «вписывать») в контекст более широких подходов, - скажем, подхода лингвокультурологического? Где проходит граница между допустимыми «расширениями» подобного типа – и утратой профессионализма, столь редкого и столь ценного для поддержания огня научности в море подделок и имитаций? Думается, что российские ученые не меньше других устали от вмешательства в научную работу «руководящей и направляющей силы», навязчиво диктовавшей списки «истинных ценностей» и внедрявшей «единственно верную» и «единственно научную» методологию, «основанную на знании наиболее общих законов развития природы, общества и мышления». Гегелевский тотальный рационализм, вульгаризировано представленный в данной схеме, позволял проецировать идеологию – на поиск истины; считать науку производной от «учения» (которое «всесильно, потому что оно верно»). Бросается в глаза парарелигиозный характер установления между наукой и социумом отношений подобного рода. Вместе с тем, очевидно, что любая система ценностей представляет собой систему, «дополнительную» по отношению к научному знанию. Однако можно ли сводить философию к системе ценностей? А тем более – к идеологии? Любой грамотный человек, не ангажированный соответствующими предпочтениями, ответит на этот вопрос отрицательно. Исторически идеал научности потому и оказалось возможным сопрягать с философией, что оба подхода имеют изначальную установку на стремление к истине. При этом, как показал Э. Гуссерль, строгость (т.е. доказательность) философии не конфронтирует с точностью («исчислимостью») естественнонаучного знания. Смена идеала научности. последовавшая почти вслед за этим утверждением Гуссерля в конце первой половины 20 века, - смена, обеспечившая гуманитарному знанию прочные позиции признания в качестве самостоятельного типа научности, - привела к признанию, во-первых, несводимости точности научных суждений к логике и математике; во-вторых – к утверждению специфики гуманитарного знания как «знания свободы» (теория «языковых игр» Л. Витгенштейна). «Игра» как тип существования свободы «внутри» мира тотальной детерминации, как известно, была описана еще Гераклитом: «Вечность – дитя, играющее в шашки; царство ребенка». Ребенок, переставляющих фигурки беспорядочно, не считаясь с правилами игры и опираясь лишь на собственные предпочтения («нравится – не нравится, красиво получилось – не красиво и т.д.), - символ человека, поступающего свободно, «начинающего цепь причинения с себя». Однако в какой бы клеточке поля не оказалась перемещенная фигура, она все равно окажется включенной в систему правил, которым подчиняется данная клетка. Описанная «аналогия свободы» как никогда мощно оказалась востребована в 20 веке. Корректное описание «перестановок» непредсказуемо; однако оно имеет не меньшую ценность, чем не соизмеримые с действительностью расчеты. Так вопрос о «свободной воле» и «роли личности в истории» вернулся в поле научного рассмотрения в качестве одного из основных для понимания того, что собой представляет научность как таковая… На этом фоне философия как бы отступила в тень, оказалась «отодвинута» от своего традиционного содержания, что и позволило В. Виндельбанду и Г. Риккерту, представителям Баденской школы неокантианства, «застолбить» за ней невидимые, но вполне действительные и легко материализуемые образования – ценности. Логический способ существования ценностей (не «быть» в смысле «существовать обязательно в пространстве и времени», а «значить») позволил описать их как сущности, «скрытые» в объектах и легко «схватываемые» субъектами. Философия «дала крен» в сторону аксиологии, подчеркивая неспособность и неготовность других наук иметь дело с «ценностями самими по себе». При всей серьезности выдвинутых положений, они, тем не менее, «не покрывают» все интеллектуальное пространство, «обрабатываемое» философией. Напротив, сводя ее поиски исключительно к работе с ценностями, данное направлени6е заложило основы той редукции, которая осуществилась в вульгарной диалектике представителей советской философии 1920-ых – 1960-ых гг. Следует подчеркнуть, что уже в начале 1970-ых гг. отечественная мысль перешла к освоению,- сначала робкому, затем – все более стремительному, - азов попперовского постпозитивизма и его атлантических «изводов». По существу, тот диалектический материализм, который преподавался на философском факультете МГУ в 1980-ых г. есть ни что иное, как постпозитивизм, адаптированный для нужд социалистической морали. Отсюда – интересный феномен: собственно философских подходов, несводимых к интерпретации научности как высшей формы знания, на философском факультете не расцветало ни во времена А.Ф. Лосева, ни во времена С.С. Аверинцева и В.В. Бибихина. Это и понятно: позитивизм в любой своей форме, даже форме «пост», - это именно «философия науки» в том смысле, что научность – единственно «достойный» вид познания. Хотя научность, понятая таким образом, и имеет с точки зрения представителей данного направлению свою эволюцию, господствующий ныне философский постпозитивизм не приветствует иные философские подходы, «загоняя» их на периферию познавательной активности, выделяя им – наравне с религией и искусством - нечто вроде кантовского «чердака сознания». Парадокс подобного отношения к богатству философской мысли состоит, по крайней мере, в том, что научная мысль отказывается от одной из главных своих привилегий – критичность, возможности видеть себя со стороны, уяснять свою ограниченность и тем самым рефлексивно описывать собственную ограниченность (в том числе, и с целью ее относительного преодоления). Философия в этом своем «методологическом измерении» - это стремление к истине, которое исходит из возможности описать точно, научно, только само это стремление исходя из собственной ограниченности и попытки самопревосхождения, - а отнюдь не попытка описать истину саму по себе, как полагают идеологи всех времен и народов, включая «идеологов от науки». Истина подобна Солнцу, говорил Платон, - на нее нельзя смотреть прямо. Отсюда – метафоричность всякой философской речи об Истине; отсюда – и косвенный характер тех «предложений», которые философия может высказать науке. Таким образом, противопоставление серьезной, «настоящей», науки и философии – абсурд; такой же, как их противопоставление математике или логике. Философия – это язык, мышление. Не существует науки вне языка, - и в этом смысле не существует науки вне философии. Насколько важно при этом «владеть» не только категориальным аппаратом, но и навыком работы с историко-философским материалом? Думается, что предположение о «необходимости» философии для науки связано со стремлением увидеть философию как «самосознание эпохи», открывающее для каждого времени те пути к истине, которые могут быть ему доступны. Данность этих путей – одна из загадок мысли; теорема, доказательством которой современное человечество занимается слишком давно. Одно ясно: «стиль мышления» эпохи и культуры – это не просто набор некоторых языковых, ценностных или семиотических констант. Подобная аксиоматика всегда шире возможных описаний, и поэтому наилучшим путем знакомства с ней является сравнение, сопоставление различных «аксиоматик», «языков», на которых говорит та или иная культура, то или иное время… Стиль мышления данной эпохи и культуры – то, что кристаллизует поиски истины именно данным временем и данным языком, проявляется, разумеется, не только в философии своего времени. Понятие «культурная форма», хорошо проработанное современной западной гуманитаристикой, дает довольно точные рамки понимания происходящих здесь процессов. Гегель, как известно, отнес культурные формы к субъективному, объективному и абсолютному духу, т.е. от уровня проявления морали, права и нравственности в индивидуальном сознании (субъективный дух) перешел к рассмотрению их объективации в сознании общественном (сами формы морали, права и нравственности); а затем – к их синтезу в абсолютном духе в виде искусства, религии и философии. В этом же формате продолжают рассуждать неокантианец Г. Коген и его ученик Э. Кассирер «позднего периода», уточняя «неогумбольдтовский» подход через «критику языковых форм мышления» (Э. Кассирер – через теорию культуры как символической деятельности). В отличие от геглевской традиции, современная философия культуры – с опорой на идеи Г. Зиммеля – ближе к аристотелевскому пониманию «формы» как того, в чем, по Зиммелю, жизнь становится «более жизнью» или «более чем жизнью». Аристотелевская трактовка формы как эйдоса3 – смысловой сущности, неразрывно связанной со своим пространственно-временным существованием; «этого вот», являющегося тем, что оно есть, - как ни что иное соответствует пониманию «культурной формы», т.е. такого присутствия смыла в истории, которое соответствует своему времени, раскрывается в нем. И вместе с тем - «не существует» отдельно от своей временной плоти. Выдвинутый некогда Горацием принцип aptus утверждает единство временного, исторического, присутствия Истины – и ее внеисторического, логического, присутствия как, (если попытаться выразиться языком экзистенциализма) своеобразие экзистенциальной ситуации, в которую погружен человек. Размышления М. Хайдеггера периода создания «Бытия и времени», реконструирующие «здоровое» время в его подлинности, позволяют предположить: в своем временном раскрытии искомое бытие, «смысл», - действительно «ничто», «чистое стремление» и «блуждание». А вот его аберрации в «настоящем» (т.е. больном?) времени – это культура, складывающаяся из разнообразных эйдетических форм…Эйдетическая редукция, таким образом, предполагает «до конца извести» эйдосы, «мыслимое», - те «картинки» априорных синтетических суждений, «сквозь» которые мы видим «сами вещи», - неоправданно навязывая их «самим вещам». Давно замечено: культурная форма - «стиль мышления эпохи» - кристаллизуется в «плоти» политики, экономики, социальной организации, всех видов искусства и т.д. Интереснейшие исследования различных «воплощений» культурных форм и их сопоставление прочно вошли в современную культурологию, утвердились в качестве ее предмета. И здесь мы возвращаемся к проблеме, обозначенной в начале данной статьи: вопросу о том, как связаны философия культуры и культурология не только с темой изучения межкультурных коммуникаций, но и друг с другом. Существует устойчивое мнение, согласно которому генезис современной философии таков, что она неизбежно переходит «от рефлексивности к дескриптивности»4. По существу, культурология приравнивается к тому самому «собирателю» и «систематизатору», - а точнее сказать, Доброхотов А.Л. Вводная лекция курса история и теория мировой культуры. электронный ресурс: http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s& (дата обращения 14.04.2013). С.5.7. 4 Шкуратов В.А. От философии культуры к культурологии http://arts.adygnet.ru/bibl/drah%20g.v/3/untitled9.htm (дата обращения 13.04.2013). С.30. 3 «хранителю» - культурных форм, который должен сберечь для будущих поколений «гены» «исчезающих видов» культуры. В свете концепции по-аристотелевски прочитанного понятия «культурных форм» особенно заметна тенденция удержать ускользающее время, четко артикулированная здесь: культурные формы, как и все живое, временны; их соотнесенность к смыслу, вечному и в каком-то ракурсе неизменному, «вектор смысла», - не фиксируется и не каталогизируется. Время сменяет «лица на песке», - как сменяет оно и тени вещей, скользящие по поверхности «индивидуального» и «надындивидуального» сознания. Рефлексивность как насилие над смыслом, конечно, хотелось бы изъять из обращения. Но отказаться вовсе от соотнесения попытки рефлексии над сущностью бытующих культурных форм своего времени, попытка «восстановить» которую и есть философия, - не так уж нелепа и не так уж невозможна в наше время. Хотя о «конце философии», вроде бы, уже было объявлено, - думается, хоронить ее рано. Одно из самых очевидных оснований подобной точки зрения, - основание из числа лежащих на поверхности и потому, видимо, плохо различимых с научной точки зрения, это необходимость и возможность людей понимать друг друга. Понимать – значит, иметь выход в поле общезначимого смысла, открытого каждому, проделавшему путь к нему. Вспомним Канта. Понимание нельзя свести к конструкциям «чистого» (т.е. научного) разума, когда сознание укладывает «входящие данные» по некоторой заранее заданной схеме; выстраивая «априорные синтетические суждения» (те самые, дающие новое знание) с подачи «световой энергии» опыта, запускающего этот механизм. Понимание не сводится также ни к работе «практического» разума, выверяющего должное действие как согласуемой со свободой моральное усилие; ни к загадочной способности оценки, - готовности и возможности соотнести имеющиеся у сознания схемы с присутствием не данного «в полноте и целостности» присутствия вещи самой по себе. Форма единства, в которую отливается сама эта готовность – свидетельство состоятельности разума как аффицируемого внешним воздействием действительности. По существу, все, что есть у «бедного» разума – это «критическое» знание своей ограниченности, т.е. возможности научно создавать «картинки» априорных синтетических суждений; этически корректно сверять свои действия с «законом свободы»; эстетически безупречно оценивать соотнесенность собственных структур с присутствием бесконечности… И - метафизически внятно давать отчет об этих своих способностях. «В пределах только разума» эти «метафизические круги» напоминают метания по замкнутому кругу; однако они совершенно необходимы, чтобы механизм разума был отлажен и не работал «на холостом ходу». Отчет о работе разума после попадания на него «света» действительности (т.е. уже не на «холостом ходу» данного механизма, а когда «транспортер поехал») предполагает сверку «картинок» действительности, полученных всеми тремя способами (научным, этическим и эстетическим). Таким образом – не без помощи метафизики! – корректируется возможность понимания разумом другого разума, а не только самого себя в своих исключительных данностях. Поставим вопрос резче. В некотором смысле возможность понимать нереализуема без «Вавилонской башни» культуры: «картинки» отдельных сознаний, объективированные в отдельные «сообщения» (тексты культуры), при сопоставлении «вырезают» сходные, совпадающие, «узнаваемые» участки наслаивающихся друг на друга проекций. Значит ли это, что истина дана сознанию? Нет, она скорее предъявлена; и узнавание здесь не предполагает усвоение как целостный охват и захват, - напротив, речь идет об отсылке к действительности, всегда бесконечно превосходящей разум. Тексты культуры в свете такого подхода – не «конструкты», а отчеты о способах дотянуться до бесконечности. Отсюда – их разнообразие и вместе с тем сходство. Отсюда – необходимость личностной призмы («формы» - души) всех, казалось бы, механических и потому самотождественных, скучно эквивалентных, действий разума: такая призма «оживляет» механизм, делая оценку оригинальной, нетривиальной, - хотя и не обязательно при этом единственной по своим параметрам. Совпадение вкусов, когда о них «не спорят» - загадка, задающая вектор коммуникации «изнутри» разума, связанная с единством параметров. Ситуация «спора о вкусах» - наглядная демонстрация вектора нетривиальности при сохранении единства вплоть до полного совпадения. Заданный смысл, таким образом, не плоскостной набор «содержаний», а в полном значении «форма», способная соответственно, раскрываться обеспечена в разных «формальным содержаниях. фактором»; Их соизмеримость, несоизмеримость – содержательным. Коммуникация в экстремумах этих двух противоположностей и есть понимание. Его дескрипция так же показательна, как и рефлексия по поводу возможных комбинаций. При этом задача понять друг друга, как выясняется, несводима к простому сопоставлению лично полученных проекций «вещей» - «тени» потому и названы тенями, что имеют нечеткие контуры, «расплываются» и «пляшут»; а понимание выводит сознание на другой уровень отношения к этой «пляске»… Смысл, таким образом, - не идеология. А поле его существования – не политика, а коммуникация. Другое дело, что коммуникация может проявлять себя в различных сегментах жизни общества («культурного организма») – и в политике в том числе. «Вавилонская башня» культуры создала пространство непонимания как условия возможного «запроса» на смысл как форму. Из разницы единичных личностных призм растет понимание «интерсубъективное»; из разницы «особенных» призм различных культур – понимание между культурами. Отслеживание «непонимания» (в том числе, на уровне языка, как «отлов» лингвокультурных лакун), - условие понимания, коммуникация, балансирующая между пониманием и непониманием, - стратегия культуры, без которой человека, по всей видимости, нет – в самом широком жизненном (включая витальный) смысле. Лакуны при этом создают условия для понимания другого и себя, другого как себя и себя как другого. «Межкультурность» здесь – тактика, путь, на котором оказалось человечество и по которому оно движется к истине как единству пространства возможного понимания. Поэтому «избавиться» от философии – дело для культуры весьма проблематичное. Проблема здесь не в отсутствии волевого импульса и даже не в невозможности осуществить волевым образом акт подобного самоотречения. Философия, формируя стереотипы понимания как возможные проекции культурных форм в сознании, конечно, выполняет, в том числе/. и функцию «зашлаковывания» реально собранных «находок», обретенных во встречах с действительностью самой по себе. Однако инвентаризация подобного склада стереотипов – занятие на определенном этапе совершенно необходимое. В противном случае вместо ученого незнания нас ожидает дремучее невежество, вместо внимания к миру – война с ним, с фанатичной уверенностью в своей правоте и с устрашающей беспомощностью, когда дело доходит до необходимости слушать и прислушиваться, а не утверждать и навязывать. Категориальная инвентаризация философского уровня, как следует из сказанного, неизбежный этап любого научного исследования. Социогуманитарное знание здесь не составляет исключения, лингвокультурология и культурология – вместе с ним. Для того, чтобы дескрипции оказались не «конструкциями», а «слепками» культурных форм, - а именно на такое, экзистенциально-диалектическое, а не научное в смысле математики и естествознания кантовской эпохи понимание претендует сегодня гуманитарная научность, - философская культура необходима. Также, как необходимо знакомство с языком, чтобы изучать его в лингвистическом ключе.