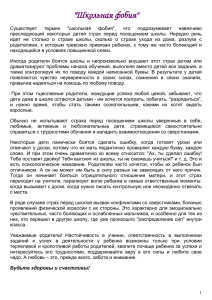Андрей Тимофеев
advertisement
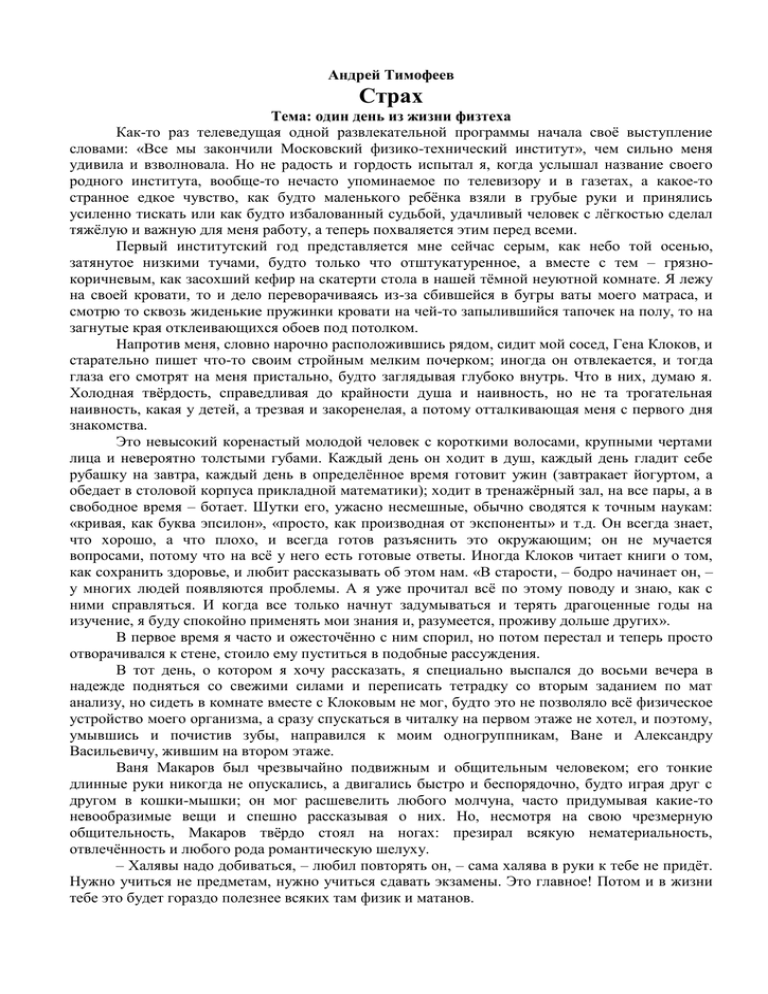
Андрей Тимофеев Страх Тема: один день из жизни физтеха Как-то раз телеведущая одной развлекательной программы начала своё выступление словами: «Все мы закончили Московский физико-технический институт», чем сильно меня удивила и взволновала. Но не радость и гордость испытал я, когда услышал название своего родного института, вообще-то нечасто упоминаемое по телевизору и в газетах, а какое-то странное едкое чувство, как будто маленького ребёнка взяли в грубые руки и принялись усиленно тискать или как будто избалованный судьбой, удачливый человек с лёгкостью сделал тяжёлую и важную для меня работу, а теперь похваляется этим перед всеми. Первый институтский год представляется мне сейчас серым, как небо той осенью, затянутое низкими тучами, будто только что отштукатуренное, а вместе с тем – грязнокоричневым, как засохший кефир на скатерти стола в нашей тёмной неуютной комнате. Я лежу на своей кровати, то и дело переворачиваясь из-за сбившейся в бугры ваты моего матраса, и смотрю то сквозь жиденькие пружинки кровати на чей-то запылившийся тапочек на полу, то на загнутые края отклеивающихся обоев под потолком. Напротив меня, словно нарочно расположившись рядом, сидит мой сосед, Гена Клоков, и старательно пишет что-то своим стройным мелким почерком; иногда он отвлекается, и тогда глаза его смотрят на меня пристально, будто заглядывая глубоко внутрь. Что в них, думаю я. Холодная твёрдость, справедливая до крайности душа и наивность, но не та трогательная наивность, какая у детей, а трезвая и закоренелая, а потому отталкивающая меня с первого дня знакомства. Это невысокий коренастый молодой человек с короткими волосами, крупными чертами лица и невероятно толстыми губами. Каждый день он ходит в душ, каждый день гладит себе рубашку на завтра, каждый день в определённое время готовит ужин (завтракает йогуртом, а обедает в столовой корпуса прикладной математики); ходит в тренажёрный зал, на все пары, а в свободное время – ботает. Шутки его, ужасно несмешные, обычно сводятся к точным наукам: «кривая, как буква эпсилон», «просто, как производная от экспоненты» и т.д. Он всегда знает, что хорошо, а что плохо, и всегда готов разъяснить это окружающим; он не мучается вопросами, потому что на всё у него есть готовые ответы. Иногда Клоков читает книги о том, как сохранить здоровье, и любит рассказывать об этом нам. «В старости, – бодро начинает он, – у многих людей появляются проблемы. А я уже прочитал всё по этому поводу и знаю, как с ними справляться. И когда все только начнут задумываться и терять драгоценные годы на изучение, я буду спокойно применять мои знания и, разумеется, проживу дольше других». В первое время я часто и ожесточённо с ним спорил, но потом перестал и теперь просто отворачивался к стене, стоило ему пуститься в подобные рассуждения. В тот день, о котором я хочу рассказать, я специально выспался до восьми вечера в надежде подняться со свежими силами и переписать тетрадку со вторым заданием по мат анализу, но сидеть в комнате вместе с Клоковым не мог, будто это не позволяло всё физическое устройство моего организма, а сразу спускаться в читалку на первом этаже не хотел, и поэтому, умывшись и почистив зубы, направился к моим одногруппникам, Ване и Александру Васильевичу, жившим на втором этаже. Ваня Макаров был чрезвычайно подвижным и общительным человеком; его тонкие длинные руки никогда не опускались, а двигались быстро и беспорядочно, будто играя друг с другом в кошки-мышки; он мог расшевелить любого молчуна, часто придумывая какие-то невообразимые вещи и спешно рассказывая о них. Но, несмотря на свою чрезмерную общительность, Макаров твёрдо стоял на ногах: презирал всякую нематериальность, отвлечённость и любого рода романтическую шелуху. – Халявы надо добиваться, – любил повторять он, – сама халява в руки к тебе не придёт. Нужно учиться не предметам, нужно учиться сдавать экзамены. Это главное! Потом и в жизни тебе это будет гораздо полезнее всяких там физик и матанов. Его друг и сосед по комнате, Александр Васильевич, обычно считал ниже своего достоинства возражать что-нибудь на подобные высказывания и лишь равнодушно замечал: – Вот когда я стану препом, я буду тщательно вылавливать таких халявщиков. Смотрю, вот, ничего не знает, ни одного определения, ни одной теоремы, но глаза опустил и всё признаёт – поставлю ему троечку и пусть идёт с Богом. А вижу – чего-то где-то подсмотрел, где-то там подсписал и вид делает, что ещё и сам чего-то знает, вот, всё сделаю, чтобы пошёл на пересдачу. Вот – грех такого человека на пересдачу не отправить! – Да тебя самого тогда из препов выгонят, - обиженно говорил в таких случаях Макаров. Однако Александра Васильевича он очень уважал (как и все мы, разумеется). Александр Васильевич был талантливым человеком, способным к предметам и со своим особенным взглядом на вещи. Впрочем, занятия он посещал редко и учился крайне мало, но на обвинения в этом всегда сильно обижался, так как всерьёз считал себя ботаном, и отвечал что-нибудь вроде: «Вот вы пришли с семинара и фильм посмотрели, а я пришёл с семинара – и подумал». Нужно сказать, что думал он часто и порой проводил за этим занятием большую часть дня, всем своим длинным телом растянувшись на кровати и изредка потирая подушку своей тонкой бородкой. Я всегда с радостью приходил в комнату к Макарову и Александру Васильевичу: мне казалось, что там как будто легче становился груз переживаний, несданных заданий и пропущенных семинаров, так сильно тяготивший меня у себя, под пристальным взглядом Клокова. Это была светлая комната с мягким широким ковром на стене и всегда начисто вымытыми аккуратным Макаровым полами; на верхней полке шкафа, перед которым сразу оказывался каждый входящий, располагались книги по психологии и НЛП, а на нижней – по шахматам и информатике, так что без труда можно было определить, кому какая полка принадлежит. В тот вечер они оба были в комнате, и оба в приподнятом настроении. Помню, Александр Васильевич встретил меня целым монологом о смысле и методах преподавательской деятельности, который, скорее всего, вынашивал до этого втечение нескольких дней. – Препы, – провозгласил он, – должны в своей профессии уподобиться образу Божию. Они должны радоваться каждому раздолбаю, пришедшему к ним, каждому выполненному заданию! И помогать, всегда помогать… Что толку учить ботанов?! Они и сами научатся. Но о раздолбаях нужно заботиться в первую очередь! Однако Ваня Макаров не дал другу развить свою мысль полнее, поспешив усадить меня за компьютер. – У нас тут караоке есть, - объявил он, стараясь говорить беспечно, – давай-ка мы поднимем твою работоспособность. Устраивайся поудобнее, попоёшь немного. Александр Васильевич коротко усмехнулся. Не чувствуя подвоха, я принялся спокойно смотреть на розовый экран с плывущими по нему словами какой-то английской песни, мелодия которой заиграла тотчас же из огромных колонок на столе. Но стоило мне расслабиться и немного отвлечься и от Клокова, и от задания по мат анализу, и от будущей бессонной ночи, как вдруг из колонок раздался резкий нечеловеческий крик, и на экране появилось женское, даже детское лицо, изувеченное, искажённое, в крови и улыбающееся. Я хочу, чтобы вы поняли, это было не просто забавное происшествие в один из обычных дней моей институтской жизни – нет, я до сих по помню этот день, эту комнату и это чудовищное лицо, въевшееся в мою память и преследовавшее меня потом неотступно. Я отпрыгнул от компьютера и закрыл лицо руками. – Как они это сделали, – прошептал я, – как такое можно нарисовать… Это что, реальная фотография? – Просто много заплатили родителям, – пошутил Александр Васильевич в своей обычной сдержанной манере. – А потом дали конфетку и сказали, улыбнись, – поддержал его Макаров. – А мне она даже нравится… Они вновь включили «караоке», и я в отчаянии выбежал за дверь – но и там мне не удалось спрятаться от надрывного и страшного крика – мертвенным холодом он окатил меня с ног до головы. А когда я вернулся, хитрый Ваня обманул меня, сказав, что убрал с экрана фотографию, и я, поверив, опять встретился с изуродованным лицом девочки. С тех пор оно ещё долго не покидало меня, и мне даже казалось, что, когда я окончательно ушёл от них в тот вечер, я слышал, как она прощалась с Макаровым и Александром Васильевичем, чтобы через секунду тенью поспешить за мной. Стоит ли говорить, что едва я оказался у себя в комнате, я ещё меньше был расположен к переписыванию задания, чем полчаса назад. К счастью, хотя бы Клоков ушёл куда-то, а на его месте сидел Андрюха Петров, второй мой сосед, задумчивый молодой человек с копной густых волос на голове и прыщавыми щеками, потерянным взглядом смотря куда-то вдаль. Я решился и рассказал ему о недавнем происшествии. – Смотри, ещё убьёшь нас ночью, - лукаво проговорил тот. – Может, и убью, – сказал я в тон ему и лёг на свою кровать, тщетно пытаясь вновь заснуть. Потом, чтобы прогнать навязчивые мысли, стал рассматривать ромашки на выглянувшем из-под простыни матрасе Клокова, стараясь найти в каждом цветке ось симметрии, но не мог её отыскать: выходило, что непослушная ось слева ложилась на лепесток, а справа – проходила между двумя, или наоборот. И только через несколько минут я понял, что это означает нечётное количество лепестков, «любит» в старинной девичьей считалке. «Она меня любит», – подумал я о навязчивой изуродованной девушке, и безумный мистический страх мгновенно охватил меня. Мне представлялось, что она смотрела на меня постоянно: в комнате – из тёмных пыльных углов, в коридоре – из окон. И даже в туалете мне казалось, что её лицо отражалось на поверхности сливного бачка, так что я даже попробовал заглянуть туда. Не помогали и едкие насмешки над своей глупостью и беспочвенным страхом! Я забирался куда-нибудь в укромное место, в умывалку, прячась там за развешенным бельём, и принимался беспорядочно креститься в надежде прогнать страшный образ, но и это не спасало меня. Внезапно я начинал бояться, что совершил крестных знамений тринадцать или чисто, кратное тринадцати, и старательно добавлял «кресты», чтобы исправить это. Не было в моей жизни ночи ужаснее, чем та ночь. Наконец, я ненадолго справился со своим наваждением и отправился-таки в читалку списывать задание. Там всегда было полно студентов, и страх немного отступил. Пристроившись на свободное место, в углу, я медленно оглядывался вокруг, на научные книги, пылившиеся на полках, различные плакаты, фотографии великих физиков, объявления от администрации, и на сосредоточенные лица студентов. Потом развернул тетрадь с заданием на первой странице, положил перед собой другую, чистую тетрадь и глубоко вздохнул. Из четырёх семинаров, посвящённых этому заданию, я посетил только один, но и того хватило мне, чтобы понять, что сделать его сам я никогда не смогу. В моей голове просто не могло уложиться, как же можно рассматривать бесконечную последовательность и заключать её значения в какие-то рамки: мне постоянно казалось, что уж точно где-то там, в каком-нибудь миллионном члене, возникнет такая точка, которая наплюёт на все законы и, выпрыгнув из границ, покажет этим умным математикам свой крошечный озорной язык. И так же не мог я понять, каким образом цифра, полученная из огромной формулы в учебники физики, и цифра на шкале омметра могут вдруг почти совпасть (что редко мне удавалось, честно говоря) на одном только том основании, что для получения этой формулы мы выписывали законы Ома для данной цепи. В общем, я не был создан для точных наук, и прекрасно понимал это. Их точность казалась мне надуманной, искусственно созданной или, как минимум, преувеличенной. С огромным трудом, помню, я взялся за ручку и принялся переписывать причудливые символы, хорошо уже знакомые, но оттого ещё более непонятные. Однако на втором примере остановился. Я чувствовал, что буквально физически не могу писать; мне захотелось вылезти из своего тела и убежать куда-нибудь, так что приходилось сильно напрягаться, чтобы сдержать себя. Временами от этого напряжения кровь отливала от ног, и тогда по ним начинали бегать мурашки – маленькие настойчивые иголочки, разбегаясь в разные стороны, как муравьи из муравейника. Так, преодолевая себя, я добрался до конца третьего примера и, решив, что можно и немного отдохнуть, вышел из читалки. Глухо стучали мои тапочки по полу пустого коридора, пугая меня едва слышными отзвуками, в которых я с ужасом различал шаги своего кошмара. Несколько раз я оглядывался назад, но призрак успевал спрятаться то за пожарный щит, то за угол – и никак я не мог заметить его, не то, чтобы поймать. Но я утешал себя тем, что лучше уж слышать её шаги, чем видеть лицо перед собой, и спешно двигался к своей комнате. Клоков уже спал, а Андрюха Петров сидел за столом при свете бледной настольной лампочки и слушал «Гражданскую оборону» в наушниках. Это был верный признак депрессии, часто случающейся с ним в вечернее или ночное время суток. Увидев меня, Андрюха выключил музыку и предложил кофе; я с радостью согласился. Чтобы не разбудить спящего Клокова, который непременно закатил бы нам скандал, мы вышли на пустую кухню, где сильно пахло горелым от плиты. – Темно в коридоре, – заметил я, чтобы начать разговор. – Да, это души отчисленных студентов поглощают свет, – печально пошутил Петров. За окнами горел фонарь, освещая голые деревья у общежития, медленно покачивавшие тонкими ветками на ветру, а внизу бессильной кучей отдавались прихоти ветра пожухлые гнилые листья. – А может, убить себя? – задумчиво проговорил Петров. – Зачем? Не выход, – возразил я. – Ты думаешь? А вот Егор говорит – выход. Помнишь, всего два выхода для честных ребят: схватить автомат и убивать всех подряд или покончить собой, собой, собой… – процитировал он известную песню, лениво мотая головой с густыми волосами. – Хватать автомат что-то не хочется, – по-прежнему скептически отнёсся я к песне Летова. – Ну, значит, один только выход и есть, – подытожил Петров. – Покончить собой… Ну, если бы и правда сказали, что выход, я бы пошёл, наверно. – А что? – Ну, что, что… Посадят в ад, буду гореть. Неприятно, само собой… Буду просить, дайте, пожалуйста, хоть часок поботать без горения. А они скажут – нет! И правильно. Спросят, а что ты хорошего в жизни сделал. Я скажу – ничего. Они скажут – значит, гори… – Ты чего это? – удивился Андрюха моей серьёзности. – Тоже депрессия? Но я не знал, как ему ответить, и просто промолчал. К счастью, до рассвета в читалке оставались люди, и я был не один, так что смог даже переписать половину задания. Когда же за окном стало светло, страх постепенно стал уходить, а вскоре исчез даже страх за то, что я опять испытаю страх. Более насущные вещи стали волновать меня, например, сдам ли я всё-таки второе задание по мат анализу или нет. К третьей паре я пришёл в нужную аудиторию и, разместившись, как всегда, на задней парте, принялся ждать, когда же после разговаривающей, кричащей, о чём-то спорящей толпы моих одногруппников подойдёт и моя очередь беседы с преподавателем, лысым и злым старичком в изношенном клетчатом костюме, который изредка так горячился, что плевал в студентов мелкими капельками слюны. Ожидание было долгим и неприятным, и я лёг на парту, принявшись боковым зрением читать двоящиеся надписи на ней. «Ваш институт убил меня изнутри», – гласила первая из них, «хочу любить», – плакал какой-то одинокий студент на второй, а третья заставила меня вздрогнуть и вновь вспомнить о ночных кошмарах. «А ты готов продать душу за любовь?» – было выцарапано на коричневой поверхности красной ручкой, и мне отчего-то показалось, что моя уродливая незнакомка либо сама написала это мне, либо заставила написать кого-то другого своим выматывающим назойливым присутствием. «Отступись, – зашептал я ей, – я не люблю тебя… Разве тебя можно полюбить…», но ничего не помогало, и даже в аудиторию, наполненную студентами, освещённую ещё сильным, октябрьским солнцем, стало постепенно проникать ужасное существо с экрана. К середине пары явились Ваня и Александр Васильевич, даже не подозревающие, как сильно они напугали меня вчера. Александр Васильевич сдавал первым из нас, и преподаватель вынужден был поставить ему задание, несмотря на пропуски – слишком уверенно и точно отвечал тот на вопросы. Ваня оказался не на высоте, но стабильное посещение семинаров и душещипательный рассказ о недавней смерти дедушки (который действительно умер, правда, четыре года назад) сделали своё дело – и Макаров также получил свой плюсик. Я же с треском провалился после первого же вопроса. Кроме того, преподаватель с нескрываемым отвращением пролистал мою тетрадь и проговорил: – Ваши буквы делятся на две категории: буква «д» и все остальные. Не сумели решить, так списали бы хотя бы по-человечески! Не думаю, что у Вас получится благополучно закончить этот семестр… Помню, именно в тот день впервые за всё время моего обучения в институте я почувствовал тот самый страх, который раньше ни разу до этого не испытывал. Это был даже не страх отчисления, страх не сдать и потерять институт, друзей или ещё что-то, нет, это был страх в чистом виде, из которого убрали всякую причинность. По крайней мере, так я вспоминаю его сейчас. Странная тревога в сердце вдруг сжимала меня после суровых слов преподавателя и не давала ничего делать, что, в свою очередь, потом, приводило только к накапливанию следующих долгов, усиливая её ещё больше. Мне даже казалось иногда, что эта тревога слишком сильна и намного превосходит предел текучести моей души, и что, если разжать тиски заданий и долгов, то она уже сама по себе будет продолжать сжиматься. Этот страх как будто сам собой вытекал из животного страха, внушённого изуродованной девочкой, а вскоре, через некоторое время, было уже непонятно, который из них из какого вытекал – всё смешалось в одно. Помню, я придумал какой-то предлог, чтобы уйти от Вани и Александра Васильевича и долго ещё гулял один. И окружающие меня здания, и деревья, и люди представлялись мне ненастоящими, а только снятыми на плёнку фильма, который я отвлечённо наблюдал, но сам в нём не участвовал. Я ходил по студ городку и по коридорам общежития, оглядывая всех встречных своим блуждающим нелепым взглядом. И как сладко мне было замечать чьё-то изумление в ответ на такой взгляд! Но иногда, когда я вдруг понимал, что этим изумлением на лице встречный человек обязан не мне, а кому-нибудь другому, случайно стоявшему рядом, в моей душе поднималась такая злость, что хотелось тут же убить и того, и другого. После всех этих блужданий и метаний, надеясь получить успокоение или хотя бы поддержку, я пришёл к ещё одному моему знакомому, человеку, который был намного старше и опытнее меня и учился уже на третьем курсе. Все мы очень уважали и звали его по имени отчеству – Святославом Александровичем (и только Александр Васильевич отваживался фамильярно обращаться к нему: Святослав Саныч). Мощные скулы и густая рыжая борода придавали Святославу Александровичу ту самую солидность и значительность, которую можно было бы сразу предположить в человеке с таким именем. Деятельность учёного, которую он раз и навсегда избрал, идеально подходила к его характеру: Святослав Александрович был из тех людей, которые сперва кладут в кипяток пакетик чая, а потом уже сыплют сахар, чтобы вместе с пакетиком не выбросить несколько процентов сахара, и которые ходят в дальний от общежития магазин, потому что батон там стоит на пятьдесят копеек дешевле. Он вёл почти аскетический образ жизни: питался на двадцать рублей в день, старательно выбирая рацион, приносивший ему максимальное количество калорий. Одевался скромно, во всё самое дешёвое, и только однажды, на свой день рождения, попросил у Вани Макарова новые брюки. Он сыпал афоризмами в разные стороны, подкупающими своей прямотой и потрясающей логичностью: «Всякая деятельность бессмысленна», «Москва – холодильник-рефрижератор на десять миллионов туш» и т.д. – словом, это был человек, который не мог не заслужить уважения, особенно среди нас, первокурсников. Святослав Александрович заходил в нашу комнату своей обычной тяжёлой походкой и задумчиво говорил: – Нужно срочно заканчивать институт. Мы громко смеялись и весело спрашивали его, о каком это институте идёт речь. – О каком, о каком, об этом, конечно, – с досадой отвечал он, вновь погружаясь в свои мысли. Мы удивлённо переглядывались и молчали, и лишь через несколько минут я решался спросить у гостя: – А Вы, Святослав Александрович, за какой срок хотите закончить? – Ну, три с половиной года ещё осталось, – пожимал он плечами, не обращая внимания на наше замешательство. В тот день Святослав Александрович внимательно выслушал мой рассказ обо всех неприятностях в институте. – Да, Вы правы, – сочувствующе произнёс он (всех нас он звал на «Вы», но по имени), – я тоже об этом часто думаю. Система Физтеха – это одна сплошная ошибка. Потому что к четвёртому курсу у студентов пропадает желание заниматься вообще чем-либо! Хочется только, чтобы от тебя отстали. – Они должны готовить учёных, а они что делают?! – продолжил он после некоторой паузы. – Только мешают! Всё сделали, чтобы нам помешать, вот, чем могли, тем помешали! Неудивительно, что столько людей идёт в бизнес… – А зачем эта вся учёба, кому она нужна? – спросил я его тогда, надеясь получить, как всегда, быстрый и ясный ответ, но на этот раз Святослав Александрович обманул мои ожидания. – В идеале учёба нужна для того, чтобы готовить учёных, которые будут продолжать дальнейшее развитие науки, – заговорил он нравоучительным тоном. – Наука есть главная ценность для этого института. И по отношению студента к науке должны формировать преподаватели своё отношение к студенту… Не знаю, почему, но помню, мне стало как-то не по себе после этих его слов, как будто какой-то бес в меня вселился. И тогда я встал и резко произнёс (понимая в душе, как сильно оскорбляю его, но не в силах противиться своему внезапному желанию): – Знаете, Святослав Александрович, видел я вчера эту Вашу науку, у Вани в комнате. Неприятное зрелище, скажу я Вам, – и быстро вышел из комнаты. Вечером я опять пошёл в главный корпус института и, найдя себе там свободную аудиторию, пытался ботать: завтра предстояли физ лабы, которые нужно было обязательно сдать. Голова у меня болела от недосыпания и последствий сегодняшней неудачи с мат анализом. Мне казалось, что вокруг меня не воздух, а вязкая жидкость, и сам я нахожусь не на пятом этаже, а на большой глубине. Я явственно почувствовал огромное давление, будто сотни маленьких векторов-иголочек впивались в моё измождённое тело и принимались давить на него всеми своими силами. Но вдруг, в одно мгновение, как молния ударила по моему странному вязкому миру: давление ведь не векторная величина, подумал я, откуда же взялись иголочки? И всё вновь смешалось в моей голове… Со страхом глядел я на ручку потрескавшейся от старости деревянной двери аудитории – как я боялся, что она повернётся сейчас необъяснимым, нереальным движением чьей-то руки. Страшный образ вновь преследовал меня. За огромным, испачканным мелом стеклом мелькали огоньки засыпающего ночного города, а я видел в их причудливых сочетаниях только одно изуродованное лицо и, встав перед окном, пристально вглядывался в темноту. В одно мгновение мне показалось, что призрак сзади и уже готовится набросить на меня свою толстую шерстяную удавку, но я сдержал себя и не обернулся. «Ага, чертовка, обмануть решила! – шептал я. – Как бы это ты оказалась у меня за спиной, там же стена?! А вот если бы я обернулся, тут же из окна бы выскочила и задушила… Чертовка… ненавижу…» И страшно мне было, дико страшно… Когда же я, промучившись в аудитории около часа, плюнул на всё и двинулся домой, затравленно озираясь на каждом шагу, то встретил Ваню Макарова, также выходившего из главного корпуса. В отчаянии я рассказал ему всё. – Да, – ответил он, – извини, слушай, не знал… что ты такой впечатлительный… Но ты смотри, постарайся с ума не сойти всё-таки… – Постараюсь, – грустно улыбнулся я. На улице я заметил, что сделалось намного холоднее; первый октябрьский морозец, будто вестник будущей тяжёлой зимы, пробежался по улицам, а пожухлые листья под ногами вдруг стали твёрдыми и хрустящими, как сухарики, и мы шли, наступая на них, наслаждаясь вкусными звуками. – Знаешь, Физтех, он так и задуман, чтобы делать людей несчастными, – заявил Макаров. – Это всё ещё с Ландау началось. Я промолчал. – А представляешь, – не сдавался он, – закончишь ты шестой курс, и не найдёшь работы. И чтобы жить в общаге, будешь по утрам мусор из туалетов выносить, у меня есть один такой знакомый. Я опять ничего не ответил, так что мы потом ещё долго шли молча, и только на перекрёстке попрощались: Ваня хотел зайти в магазин, а я направился прямиком к общежитию. Помню в деталях следующие несколько минут. Рядом с клубом выпускников стояли двое взрослых, уже седых мужчин и неторопливо курили, глядя в зашторенное облаками небо; бежал навстречу какой-то незнакомый студент в одной рубашке, зябко обнимая себя за плечи. Покачивали ветками голые кустарники. Медленно перекатывался по асфальту скомканный лист бумаги. И, кажется, именно тогда, в первый раз за время моего обучения, я вдруг, даже не нашёл, а скорее только почувствовал где-то далеко ответ на главнейший вопрос, который так мучил меня: зачем. Зачем же я, человек такой далёкий от той самой пресловутой науки Святослава Александровича и не способный учиться с таким животным упорством, как Гена Клоков, терпел, и буду терпеть всё это. Неужели же это просто нелепая ошибка, просто случайный выбор, который я неправильно сделал? И через несколько лет я нашёл всё-таки этот ответ, правда, не с помощью погружений в себя, как Андрюха Петров, или полёта наверх, к поиску единой и вечной Истины, как Александр Васильевич, и уж, конечно, не в том материальном благополучии, которое тщетно пророчат все выпускникам Физтеха и на которое намекнул мне тогда Макаров (которого у меня, по большому счёту, никогда и не было в будущей жизни), нет, ответ был в другом. Но в тот день я лишь почуял этот свой ответ, только его запах в свежем ночном морозном воздухе. А впереди были ещё долгие месяцы и даже годы учёбы, несданные экзамены, бессонные ночи… и страх, вязкий беспочвенный страх. А между тем – верные и дорогие мне друзья рядом. И счастье, и море радости. И уже предчувствуя всё это, я весело пинал скомканную бумажку к общежитию. И улыбался так широко, как только мог.