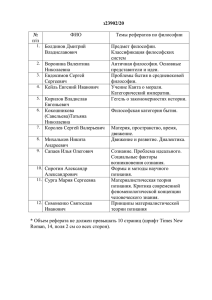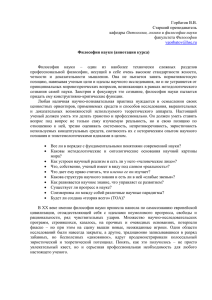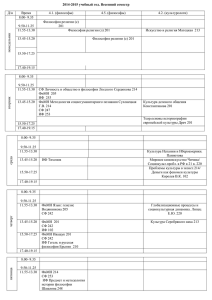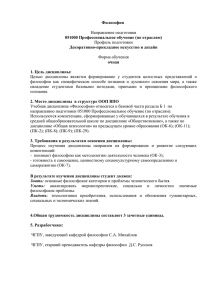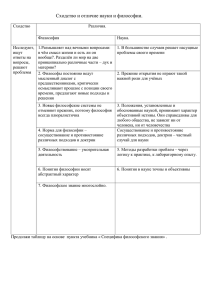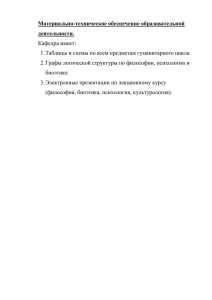Н. А. Бердяев (1874-1948) Трагична судьба философского
advertisement
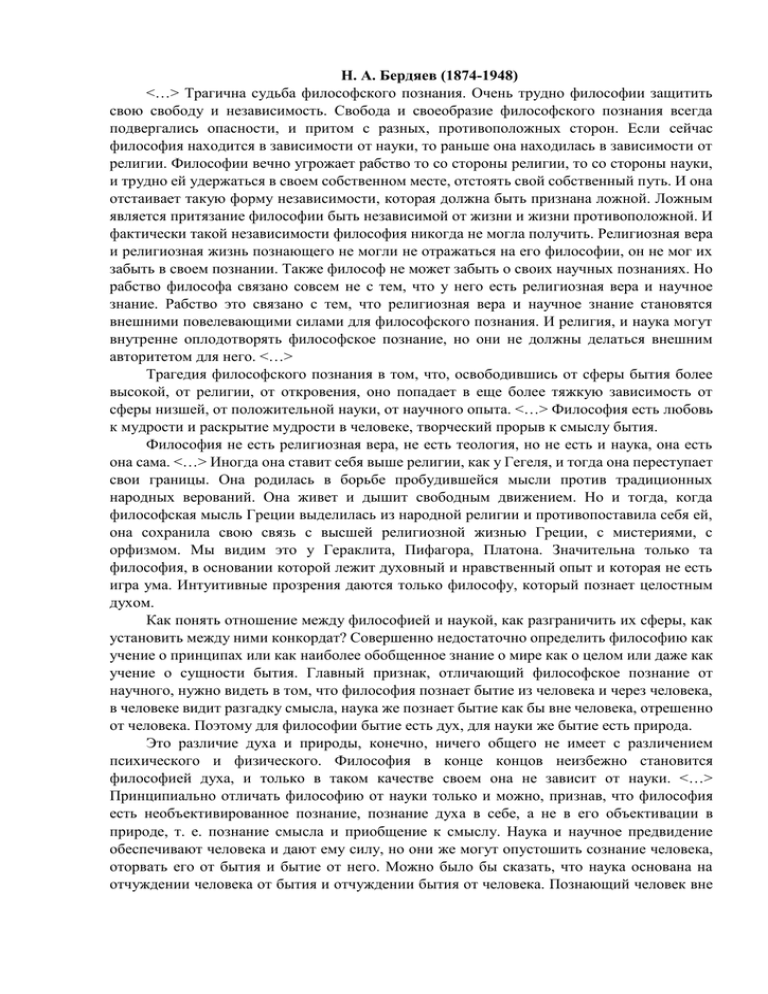
Н. А. Бердяев (1874-1948) <…> Трагична судьба философского познания. Очень трудно философии защитить свою свободу и независимость. Свобода и своеобразие философского познания всегда подвергались опасности, и притом с разных, противоположных сторон. Если сейчас философия находится в зависимости от науки, то раньше она находилась в зависимости от религии. Философии вечно угрожает рабство то со стороны религии, то со стороны науки, и трудно ей удержаться в своем собственном месте, отстоять свой собственный путь. И она отстаивает такую форму независимости, которая должна быть признана ложной. Ложным является притязание философии быть независимой от жизни и жизни противоположной. И фактически такой независимости философия никогда не могла получить. Религиозная вера и религиозная жизнь познающего не могли не отражаться на его философии, он не мог их забыть в своем познании. Также философ не может забыть о своих научных познаниях. Но рабство философа связано совсем не с тем, что у него есть религиозная вера и научное знание. Рабство это связано с тем, что религиозная вера и научное знание становятся внешними повелевающими силами для философского познания. И религия, и наука могут внутренне оплодотворять философское познание, но они не должны делаться внешним авторитетом для него. <…> Трагедия философского познания в том, что, освободившись от сферы бытия более высокой, от религии, от откровения, оно попадает в еще более тяжкую зависимость от сферы низшей, от положительной науки, от научного опыта. <…> Философия есть любовь к мудрости и раскрытие мудрости в человеке, творческий прорыв к смыслу бытия. Философия не есть религиозная вера, не есть теология, но не есть и наука, она есть она сама. <…> Иногда она ставит себя выше религии, как у Гегеля, и тогда она переступает свои границы. Она родилась в борьбе пробудившейся мысли против традиционных народных верований. Она живет и дышит свободным движением. Но и тогда, когда философская мысль Греции выделилась из народной религии и противопоставила себя ей, она сохранила свою связь с высшей религиозной жизнью Греции, с мистериями, с орфизмом. Мы видим это у Гераклита, Пифагора, Платона. Значительна только та философия, в основании которой лежит духовный и нравственный опыт и которая не есть игра ума. Интуитивные прозрения даются только философу, который познает целостным духом. Как понять отношение между философией и наукой, как разграничить их сферы, как установить между ними конкордат? Совершенно недостаточно определить философию как учение о принципах или как наиболее обобщенное знание о мире как о целом или даже как учение о сущности бытия. Главный признак, отличающий философское познание от научного, нужно видеть в том, что философия познает бытие из человека и через человека, в человеке видит разгадку смысла, наука же познает бытие как бы вне человека, отрешенно от человека. Поэтому для философии бытие есть дух, для науки же бытие есть природа. Это различие духа и природы, конечно, ничего общего не имеет с различением психического и физического. Философия в конце концов неизбежно становится философией духа, и только в таком качестве своем она не зависит от науки. <…> Принципиально отличать философию от науки только и можно, признав, что философия есть необъективированное познание, познание духа в себе, а не в его объективации в природе, т. е. познание смысла и приобщение к смыслу. Наука и научное предвидение обеспечивают человека и дают ему силу, но они же могут опустошить сознание человека, оторвать его от бытия и бытие от него. Можно было бы сказать, что наука основана на отчуждении человека от бытия и отчуждении бытия от человека. Познающий человек вне бытия и познаваемое бытие вне человека. Все становится объектом, т. е. отчужденным и противостоящим. <…> Философия видит мир из человека, и только в этом ее специфичность. Наука же видит мир вне человека. Освобождение философии от всякого антропологизма есть умерщвление философии. <…> Смысл вещей открывается не вхождением их в человека, при пассивной его установке к вещам, а творческой активностью человека, прорывающегося к смыслу за мир бессмыслицы. В предметном, вещном, объектном мире смысла нет. Смысл раскрывается из человека, из его активности и означает открытие человекоподобности бытия. Внечеловеческое идеальное бытие бессмысленно. А это значит, что смысл открывается в духе, а не в предмете, не в вещи, не в природе, только в духе бытие человечно. <…> Бердяев Н. А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики. – М. : Республика, 1993. – С. 21-26. Фридрих Ницше (1844–1900) Провозглашение независимости человека науки, его эмансипация от философии есть одно из более тонких следствий демократического строя и неустройства; самопрославление и самопревозношение ученого находится нынче всюду в периоде полного весеннего расцвета, – однако это еще не значит, что самовосхваление в этом случае смердит приятно. «Долой всех господ!» – вот чего хочет и здесь инстинкт черни; и после того как наука с блестящим успехом отделалась от теологии, у которой она слишком долго была «служанкой», она стремится в своей чрезмерной заносчивости и безрассудстве предписывать законы философии и со своей стороны разыгрывать «господина», – что говорю я! – философа. Моя память – память человека науки, с позволения сказать! – изобилует наивными выходками высокомерия со стороны молодых естествоиспытателей и старых врачей по отношению к философии и философам <…> То это был дальтонизм утилитариста, не видящего в философии ничего, кроме ряда опровергнутых систем и расточительной роскоши, которая никому «не приносит пользы». То на сцену выступал страх перед замаскированной мистикой и урегулированием границ познавания; то пренебрежение отдельными философами, невольно обобщившееся в пренебрежении философией. Чаще же всего я находил у молодых ученых за высокомерным неуважением к философии дурное влияние какого-нибудь философа, которого они хотя в общем и не признавали, но тем не менее подчинялись его презрительным оценкам других философов, следствием чего явилось общее отрицательное отношение ко всей философии. <…> Наука процветает нынче и кажется с виду чрезвычайно добросовестной, между тем как то, до чего постепенно принизилась вся новейшая философия, этот остаток философии наших дней, возбуждает недоверие и уныние, если не насмешку и сострадание. Объем и столпотворение башни наук выросли до чудовищных размеров, а вместе с тем и вероятность, что философ устанет уже быть учащимся или остановится где-нибудь и «специализируется», так что ему уже будет не по силам подняться на свою высоту, откуда он сможет обозревать, осматривать, смотреть сверху вниз. <…> Трудности, выпадающие на долю философа, усугубляет еще то обстоятельство, что он требует от себя суждения, утвердительного или отрицательного, не о науках, а о жизни о ценности жизни, – что ему нелегко дается вера в свое право или даже обязанность на такое суждение, и только на основании многочисленных, быть может, тревожнейших, сокрушительнейших переживаний, часто медля, сомневаясь, безмолвствуя, он должен искать своего пути к этому праву и к этой вере. В самом деле, толпа долгое время не узнавала философа и смешивала его то с человеком науки и идеальным ученым, то с религиозно-вдохновенным, умертвившим в себе все плотское, «отрекшимся от мира» фанатиком и пьянчугой (Trunkenbold) Божьим; и если даже в наши дни доведется услышать, что кого-нибудь хвалят за то, что он живет «мудро» или «как философ», то это означает не более как «умно и в стороне». …Философ: это человек, который постоянно переживает необыкновенные вещи, видит, слышит, подозревает их, надеется на них, грезит о них; которого его собственные мысли поражают как бы извне, как привычные для него события и грозовые удары; который, быть может, сам представляет собою грозовую тучу, чреватую новыми молниями; это роковой человек, постоянно окруженный громом, грохотом и треском и всякими жутями. <…> Я настаиваю на том, чтобы наконец перестали смешивать философских работников и вообще людей науки с философами, –чтобы именно здесь строго воздавалось «каждому свое» и чтобы на долю первых не приходилось слишком много, а на долю последних – слишком мало. Для воспитания истинного философа, быть может, необходимо, чтобы и сам он стоял некогда на всех тех ступенях, на которых остаются и должны оставаться его слуги, научные работники философии; быть может, он и сам должен быть критиком и скептиком, и догматиком, и историком, и, сверх того, поэтом и собирателем, и путешественником, и отгадчиком загадок, и моралистом, и прорицателем, и «свободомыслящим», и почти всем, чтобы пройти весь круг человеческих ценностей и разного рода чувств ценности, чтобы иметь возможность смотреть различными глазами и с различной совестью с высоты во всякую даль, из глубины во всякую высь, из угла во всякий простор. Но все это только предусловия его задачи; сама же задача требует кое-чего другого –она требует, чтобы он создавал ценности. Подлинные же философы суть повелители и законодатели; они говорят: «так должно быть!», они-то и определяют «куда?» и «зачем?»… –они простирают творческую руку в будущее, и все, что есть и было, становится для них при этом средством, орудием, молотом. Их «познавание» есть созидание, их созидание есть законодательство, их воля к истине есть воля к власти. –Есть ли нынче такие философы? Были ли уже такие философы? Не должны ли быть такие философы?.. Мне все более и более кажется, что философ, как необходимый человек завтрашнего и послезавтрашнего дня, во все времена находился и должен был находиться в разладе со своим «сегодня»; его врагом был всегда сегодняшний идеал. До сих пор все эти выдающиеся споспешествователи человечества, которых называют философами и которые редко чувствовали себя любителями мудрости, а скорее неприятными безумцами и опасными вопросительными знаками, – находили свою задачу, свою суровую, непреднамеренную, неустранимую задачу, а в конце концов и величие ее в том, чтобы быть злой совестью своего времени. Принимая во внимание мир «современных идей», могущих загнать каждого в какой-нибудь угол, в какую-нибудь «специальность», философ, если бы теперь могли быть философы, был бы вынужден отнести величие человека, понятие «величия» именно к его широте и разносторонности, к его цельности в многообразии: он даже определил бы ценность и ранг человека, сообразно тому, как велико количество и разнообразие того, что он может нести и взять на себя, –как далеко может простираться его ответственность. <…> Научиться понимать, что такое философ, трудно оттого, что этому нельзя выучить: это нужно «знать» из опыта –или нужно иметь гордость не знать этого. Право на философию –если брать это слово в обширном смысле –можно иметь только благодаря своему происхождению –предки, «кровь» имеют решающее значение также и здесь. Многие поколения должны предварительно работать для возникновения философа; каждая из его добродетелей должна приобретаться, культивироваться, переходить из рода в род и воплощаться в нем порознь, –и сюда относится не только смелое, легкое и плавное, течение его мыслей, но прежде всего готовность к огромной ответственности, величие царственного взгляда, чувство своей оторванности от толпы, ее обязанностей и добродетелей, благосклонное охранение и защита того, чего не понимают и на что клевещут, –будь это Бог, будь это дьявол, –склонность и привычка к великой справедливости, искусство повелевания, широта воли, спокойное око, которое редко удивляется, редко устремляет свой взор к небу, редко любит. <...> Мало-помалу для меня выяснилось, чем была до сих пор всякая великая философия: как раз самоисповедью ее творца, чем-то вроде memoires, написанных им помимо воли и незаметно для самого себя; равным образом для меня выяснилось, что нравственные (или безнравственные) цели составляют в каждой философии подлинное жизненное зерно, из которого каждый раз вырастает целое растение… («По ту сторону добра и зла». –Соч. в двух томах. Т.2. М-, 1990. С. 400-401, 335-338, 242-243, 244-245, 255-256, 273-274, 322, 324-326.) Х. Ортега-и-Гассет (1883-1955) За четверть века занятий идеологией – мой возраст не столь уж преклонен, просто я начал публиковаться в 18 лет – я твердо убедился, что представление испанцев или аргентинцев о чтении или слушании за редким исключением сводится к тому, чтобы скользить от непосредственного, мгновенно схваченного значения одного слова к значению другого и от поверхностного смысла одной фразы – к смыслу следующей. Но так, вне всякого сомнения, нельзя понять ни одного философского высказывания. Философию нельзя читать – нужно проделать нечто противоположное чтению, т. е. продумывать каждую фразу, а это значит дробить ее на отдельные слова, брать каждое из них и, не довольствуясь созерцанием его привлекательной наружности, проникать в него умом, погружаться в него, спускаться в глубины его значения, исследовать его анатомию и его границы, чтобы затем вновь выйти на поверхность, владея его сокровенной тайной. Если проделать это со всеми словами фразы, то они уже не будут про-сто стоять друг за другом, а сплетутся в глубине самыми корнями идей, и толь-ко тогда действительно составят философскую фразу. От скользящего, горизонтального чтения, от умственного катания на коньках нужно перейти к чтению вертикальному, к погружению в крохотную бездну каждого слова, к нырянию без скафандра в поисках сокровищ. Таким образом, я постараюсь последовательно ввести вас в каждый из терминов, составляющих данное выше определение. Сегодня, чтобы продолжить траекторию наших рассуждений, нам нужно подытожить и по возможности подтвердить уже заявленное, значительно его обогатив. Мне важно поступить так потому, что, насколько я знаю, мы предлагаем совершенно новый анализ, надеюсь, более строгий, чем предшествующие. Итак, за работу. Универсум – это название объекта, проблемы, для исследования которых родилась философия. Но этот объект, Универсум, настолько необычен, так глубоко отличается от всех остальных, что, конечно же, требует от философа совершенно иного подхода, чем в других научных дисциплинах. Формально я понимаю под Универсумом «все имеющееся». То есть философа интересует не каждая вещь сама по себе, в своем обособленном и, так сказать, отдельном существовании, – напротив, его интересует совокупность всего существующего и, следовательно, в каждой вещи – то, что ее отделяет от других вещей или объединяет с ними: ее место, роль и разряд среди множества вещей, так сказать, публичная жизнь каждой вещи, то, что она собой представляет и чего стоит в высшей публичности универсального существования. Мы понимаем под вещами не только физические и духовные реалии, но также все ирреальное, идеальное, фантастическое и сверхъестественное, если оно имеется. Поэтому я предпочел слово «иметь»; я даже говорю не «все существующее», а «все имеющееся». Это «имеющееся» охватывает самый широкий круг предметов, какой только можно очертить, настолько широкий, что включает вещи, о которых мы непременно скажем, что они имеются, но не существуют. Например, круглый квадрат, нож без черенка и лезвия и все те удивительные «существа», о которых нам говорит поэт Малларме, – к примеру, великий час, который он называет «часом, которого нет на циферблате», или лучшая из женщин – «ни одна из женщин». О круглом квадрате мы можем сказать только то, что его не существует, и не случайно, а потому, что его существование невозможно; но, чтобы вынести бедняге круглому квадрату столь суровый приговор, нам, очевидно, нужно предварительно его иметь, необходимо, чтобы в некотором смысле он имелся. Я говорил, что математик или физик начинает с ограничения своего предмета через его определение, и это определение числового ряда, множества или любого другого начала математики, как и определение физического явления, определение того, что материально, содержит наиболее существенные атрибуты проблемы. Таким образом, частные науки сначала отсекают, отмежевывают свою проблему, а для этого им нужно заранее знать – или думать, что они знают, – самое главное. Их труд сводится к исследованию внутренней структуры их объекта, его тончайшей внутренней ткани, так сказать, его гистологии. Но когда философ отправляется на поиски всего имеющегося, он обращается к основной проблеме, проблеме без границ, абсолютной проблеме. Он ничего не знает о том, что он ищет, об Универсуме. Давайте уточним все то, что ему неизвестно; а уточнить – значит со всей строгостью определить проблему философии в том, что составляет ее особенность и отличие. 1. Когда мы спрашиваем, что такое «все имеющееся», у нас нет ни малейшего представления о том, чем окажется это имеющееся. О философии нам заранее известно одно: что имеется и то, и другое, и третье, и что это как раз то, чего мы не ищем. Мы ищем «целое», а то, что перед нами, всегда не целое. Об этом последнем нам ничего не известно, и, может быть, среди всех этих фрагментов, которые у нас уже есть, нет наиболее для нас важных, важнейшего из всего, что имеется. 2. К тому же нам неизвестно, действительно ли это имеющееся будет единым целым, т. е. Универсумом, или же то, что имеется, скорее, составит различные целые, т. е. будет Мультиверсумом. 3. Однако это еще не все, что нам неизвестно. Универсум это или Мультиверсум, пускаясь в наше интеллектуальное предприятие, мы, в сущности, не знаем, познаваем ли он, т. е. может ли быть решена наша проблема. Прошу вас не скользить бездумно по поверхности моих последних слов. В них речь идет о самом удивительном свойстве философского мышления, придающем ему исключительный характер, особенно четко выделяющем философский образ мыс-лей изо всех остальных. В частных науках не возникает сомнения в познаваемости их предмета; там можно сомневаться в возможности полного познания и сталкиваться с некоторыми частными неразрешимыми проблемами в пределах своей общей проблемы. И даже, как в математике, доказывать их неразрешимость. Сама позиция ученого подразумевает веру в возможность познания своего объекта. И речь идет не о смутной человеческой надежде, а об убеждении, настолько свойственном самой науке, что определить проблему в ней означает наметить основной способ ее решения. Иными словами, для физика проблемой является то, что в принципе поддается решению, и в некотором смысле решение даже предшествует проблеме; решением и познанием условились называть то рассмотрение проблемы, которое она допускает. Так, о цвете, звуках и вообще чувственно воспринимаемых изменениях физик может знать только то, что касается количественных отношений, и даже о них, например о положении во времени и пространстве, – только относительно, и даже об этих относительностях – только с той степенью приближения, которую позволяют приборы и наши органы чувств; и вот этот такой неудовлетворительный с теоретической точки зрения результат называют решением и познанием. И в обратном порядке, физической проблемой считается только то, что можно измерить и методически рассмотреть. Лишь философ в качестве существенного элемента своей познавательной деятельности допускает возможность непознаваемости своего предмета. А это означает, что философия – единственная наука, рассматривающая проблему таковой, какова она есть, без предварительного насильственного приручения. Она охотится на дикого зверя сельвы, не одурманенного хлороформом, как хищники, которых показывают в цирке. Стало быть, философская проблема безгранична не только по объему – ибо она охватывает все без исключения, – но и по своей проблемной интенсивности. Это не только проблема абсолютного, но абсолютная проблема. Когда же мы говорим, что частные науки рассматривают относительную, или частную проблему, мы подразумеваем не только то, что они исследуют исключительно эту часть Универсума, но и то, что сама эта проблема основана на якобы известных и установленных данных и, следовательно, является проблемой лишь наполовину. Мне кажется, настало время поделиться одним важным соображением, которое, как это ни странно, нигде мне не встречалось. Обычно нашу познавательную или теоретическую деятельность справедливо определяют как умственный процесс, идущий от осознания проблемы к ее решению. Плохо то, что существует тенденция подчеркивать в этом процессе роль исключительно последней части: рассмотрения и решения проблемы. Поэтому науку, как правило, представляют в виде свода готовых решений. На мой взгляд, это ошибка. Во-первых, если, как этого требует время, не строить утопий, то, строго говоря, весьма сомнительно, чтобы та или иная проблема когда-нибудь была полностью решена; поэтому, определяя науку, не стоит выделять момент решения. Во-вторых, наука – это всегда текущий и открытый решению процесс, на деле это не прибытие в желанную гавань, а скитание по бурным морям в ее поисках. В-третьих, – и это главное – обычно забывают, что раз теоретическая деятельность представляет собой движение от осознания проблемы к ее решению, то первым идет именно осознание проблемы. Почему это стараются не замечать, как нечто несущественное? Почему то, что у человека есть проблемы, представляется естественным и не наводит на размышления? И, тем не менее, очевидно, что проблема – сердце и ядро науки. Все остальное зависит от нее, вторично по отношению к ней. Пожелай мы вдруг испытать интеллектуальное наслаждение, всегда доставляемое парадоксом, мы бы сказали, что в науке непроблематична лишь проблема, а остальное, особенно решение, всегда спорно и ненадежно, зыбко и непостоянно. Любая наука – это, прежде всего, система неизменных или почти неизменных проблем, и именно эта сокровищница проблем переходит от поколения к поколению, от разума к разуму, являясь вотчиной и оплотом традиции в тысячелетней истории науки. Однако все это только ступень, ведущая к более важному замечанию. Причина ошибочного взгляда на теоретическую деятельность со стороны ее решения, а не с первоначальной стороны самой проблемы лежит в непризнании чуда, засвидетельствованного великолепным фактом существования у человека проблем. Дело в том, что в слове «проблема» не разделены два совершенно различных его смысла. Мы замечаем, что жизнь испокон века ставит перед человеком проблемы: вот эти-то проблемы, поставленные не самим человеком, а свалившиеся на него, поставленные перед ним его жизнью, суть проблемы практические. Попытаемся определить то состояние ума, при котором возникает практическая проблема. Мы окружены, осаждены космической реальностью, погружены в нее. Эта охватывающая нас реальность материальна и социальна. Внезапно мы ощущаем потребность или желание, для удовлетворения которого требуется иная окружающая реальность; к примеру, камень, лежащий на пути, мешает нам двигаться вперед. Практическая проблема состоит в том, чтобы заменить наличную реальность на иную, чтобы на дороге не было камня, стало быть, появилось то, чего нет… Практическая проблема – это такое состояние ума, в котором мы проектируем изменение реальности, задумываем появление того, чего пока нет, но нам необходимо, чтобы оно было. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия. – М., 1991. – С. 82–95. К. Ясперс (1883-1969) Что такое философия и чем она ценна? Это является предметом многочисленных споров. От философии ждут каких-то необыкновенных разъяснений или же равнодушно игнорируют ее как беспредметное мышление. Перед ней робеют, как перед выдающимся достижением каких-то совершенно уникальных людей, или презирают, как бесполезные раздумья мечтателей. Ее считают чем-то таким, что касается каждого и поэтому в основе своей должно быть простым и понятным, или чем-то столь трудным, что заниматься ею представляется совершенно безнадежным делом. Таким образом, то, что выступает под именем философии, становится поводом для самых противоположных суждений. Для человека, который верит в науку, наихудшим является то, что у философии нет общепринятых результатов, нет того, что можно было бы знать со всей определенностью и чем можно было бы владеть. В то время как науки, бесспорно, достигли в своих областях достоверного и общепризнанного знания, философия не добилась этого, несмотря на тысячелетние усилия. Нельзя отрицать: в философии не бывает того единодушия, которое устанавливается по поводу всего окончательно познанного. То, что признает каждый, опираясь на не терпящие возражений основания, и что становится научным знанием, не является более философией, но относится к отдельной области познаваемого. В отличие от наук для философского мышления не характерен прогресс. Мы, определенно, существенно продвинулись по сравнению с древнегреческим врачом Гиппократом. Но едва ли мы можем сказать, что продвинулись дальше Платона. Только в материале научного познания, которым он пользовался, мы находимся дальше. В самом же философствовании мы, возможно, еще вряд ли достигли его. То, что ни одна форма философии в отличие от наук не находит всеобщего, единодушного признания, должно корениться в природе самого предмета философии. Род достоверности, который в ней привлекает, не будучи научным, то есть одинаковым для каждого ума, является некоторым убеждением, или удостоверенностью, в достижении которой участвует все существо человека. В то время как научные исследования ведутся по отдельным предметам, знать о которых каждому совершенно не обязательно, философия имеет дело с бытием в целом, которое имеет отношение к человеку как человеку, а также с истиной, которая там, где она вспыхивает, захватывает глубже, чем любое научное познание. Хотя разработанная философия и связана с науками — она предполагает науки в том состоянии развития, которого они достигли в определенную эпоху, — однако свой смысл получает из другого источника. До всякой науки она появляется там, где пробуждается человек. Такая философия без науки предстает перед нами в нескольких примечательных проявлениях. Первое: почти каждый считает себя способным обсуждать философские вопросы. В то время как в сфере наук признают, что условием их понимания являются обучение, подготовка, метод, по отношению к философии претендуют на то, чтобы приобщаться к ней безо всяких условий, полагая, что каждый в состоянии принять участие в обсуждении философских проблем. Собственное бытие человека, собственная судьба и собственный опыт считаются для этого достаточным основанием. Следует признать, что философия должна быть доступна для каждого человека. Самые обстоятельные пути философий, которыми идут философы-профессионалы, обретают свой смысл все-таки только тогда, когда они выходят к человеческому бытию, которое находит свое определение в процессе обретения уверенности относительно бытия и своего места в нем. Второе: философское мышление каждый раз должно начинаться с самого начала. Каждый человек должен осуществлять его самостоятельно. Удивительным знаком того, что человек как таковой изначально философствует, являются вопросы детей. Часто из детских уст можно услышать то, что по своему смыслу уходит непосредственно в глубь философствования. Приведу некоторые примеры: Ребенок удивляется: "Я всегда пытаюсь подумать, что я — кто-то другой, однако же всегда снова оказывается, что я есть я". Этот мальчик затрагивает исток всякой уверенности, сознание бытия в самосознании. Он поражается загадке бытия Я, тому, что не может быть постигнуто ни из чего другого. Он вопрошающе стоит перед этой границей. Другой ребенок слушает историю сотворения мира: "Вначале сотворил Бог небо и землю..." и тотчас спрашивает: "Что же было до начала?" Этот мальчик постиг, что можно спрашивать до бесконечности, что разум не может остановиться, в том смысле что для него не может быть никакого окончательного ответа. […] Если бы кто-то собирал подобные примеры, то смог бы составить богатую энциклопедию детской философии. Возражение, что дети слышали это прежде от родителей или кого-то другого, не должно, по всей видимости, приниматься всерьез. Возражение, что эти дети все-таки не философствуют дальше и что, следовательно, подобные высказывания могли быть случайными, упускает из виду следующий факт: дети зачастую обладают гениальностью, которая с возрастом утрачивается. С годами, теряя детскую непосредственность, мы как бы входим в тюрьму соглашений и мнений, скрываемся под различного рода прикрытиями, оказываемся в плену у того, о чем не решаемся спросить. Состояние ребенка — это состояние порождающей себя жизни: он еще открыт, он чувствует и видит и спрашивает о том, что вскоре исчезнет перед ним. Он не удерживает то, что открывается ему в то или иное мгновение, и удивляется, когда позднее все замечающие взрослые докладывают ему о том, что он сказал или спросил. Третье: изначальное философствование обнаруживается как у детей, так и душевнобольных. Иногда — очень редко — путы общей зашоренности как бы развязываются и начинает говорить захватывающая истина. В начальный период некоторых душевных болезней имеют место совершенно потрясающие метафизические откровения, которые, правда, по форме и речевому выражению являются всегда настолько шокирующими, что их оглашение не может иметь какого-либо объективного значения, за исключением таких редких случаев, как поэт Гёльдерлин или художник Ван-Гог. Однако тот, кто присутствует при этом, не может избежать впечатления, что здесь разрывается покров, под которым обыкновенно проходит наша жизнь. Некоторым обычным, здоровым, людям также знаком опыт переживания глубоко тревожащих значений, которые свойственны переходному состоянию от сна к пробуждению и при полном пробуждении снова утрачиваются, оставляя лишь ощущение того, что нам к ним более не пробиться. Есть глубокий смысл в утверждении, что устами детей и блаженных глаголет истина. Однако творческая изначальность, которой мы обязаны великим философским мыслям, лежит всетаки не здесь. Она восходит к тем немногим, которые в своей непринужденности и независимости предстают перед нами в качестве выдающихся мыслителей последних тысячелетий. Четвертое: поскольку философия для человека необходима, она каждый раз присутствует в общественном мнении, в передаваемых из поколения в поколение пословицах, в общеупотребительных философских оборотах речи, в господствующих убеждениях, а также в языке просвещения, политических кредо, но прежде всего и с самого начала истории — в мифе. От философии невозможно уйти. Вопрос лишь в том, осознается она или нет, будет ли она хорошей или плохой, запутанной или ясной. Тот, кто отвергает философию, сам практикует ее, не отдавая себе в этом отчета. Что же такое философия, если она оказывается столь универсальной и проявляется в таких примечательных формах? Греческое слово философ (philosophos) по своему значению противоположно слову Sophos. Это слово, philosophos, значит: любящий познание (знание) — в отличие от того, кто, овладев познанием, называет себя знающим. Такой смысл слова сохраняется до сих пор: поиск истины, а не владение истиной есть сущность философии, — пусть даже она попрежнему зачастую изменяет этому своему смыслу догматизмом, подразумевающим выраженное в положениях окончательное, завершенное и имеющее дидактический характер знание. Философия означает — быть в пути. Ее вопросы существеннее, чем ее ответы, и каждый ответ превращается в новый вопрос. […] Быть в поиске, в пути, или обрести покой и совершенство мгновения — это не определения философии. Философия не имеет ничего вышестоящего, ничего нижестоящего. Она не может быть выведена из чего-то другого. Всякая философия определяется посредством своего осуществления. Чтобы узнать, что такое философия, надо пытаться философствовать. […] Хотя философия в форме простых и действенных мыслей может затронуть каждого человека и даже ребенка, ее сознательная разработка является никогда не завершимой и всякий раз возобновляющейся задачей, которая осуществляется всегда в настоящем как единое целое. Она возникает в работах великих философов и, как эхо, повторяется у менее значительных. Осознание этой задачи в той или иной форме не угаснет до тех пор, пока люди останутся людьми. Не только сегодня философия подвергается радикальным нападкам и отрицается в целом как излишняя и вредная. Для чего же она существует? Она ведь не является предметом первой необходимости. Образ мышления, основывавшийся на авторитете церкви, отвергал философию потому, что она, с его точки зрения, отдаляет от Бога, соблазняет мирским, вредит душе, обращая ее к ничтожным вещам. Политический тоталитарный способ мышления предъявлял философии следующий упрек: философы только по-разному объясняли мир, тогда как надо его изменять. Оба образа мышления считали философию опасной, так как она нарушает порядок, взывает к духу независимости, а с ним — к возражению и протесту, она обманывает человека и отвлекает его от реальных задач. Притягательная сила потустороннего мира, озаренного явленным Богом, или притязающая на всемогущество власть безбожного посюстороннего мира — и та и другая —хотели бы, чтобы философия прекратила свое существование. К тому же с точки зрения повседневного здравого смысла на философию не распространяется масштаб простой полезности. Фалес, который считается самым ранним греческим философом, однажды был осмеян служанкой, увидевшей, как он, наблюдая за звездным небом, упал в колодец. Зачем он ищет самое далекое, когда в самом близком так неловок! Итак, философия должна оправдываться. Но это невозможно. Она не может искать себе оправдания в чем-то другом: чём-то, для чего она была бы пригодна и вследствие этого имела бы право на существование. Она может только обращаться к силам, которые в каждом человеке действительно настоятельно требуют философствования. Она знает, что занимается делом человека как такового, делом, которое не связано с какой-то определенной целью и избавлено от любого вопроса о пользе и вреде в этом мире, и что она будет осуществляться до тех пор, пока живут люди. […]