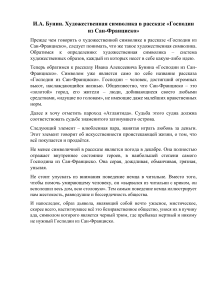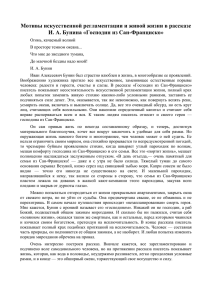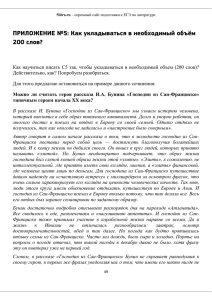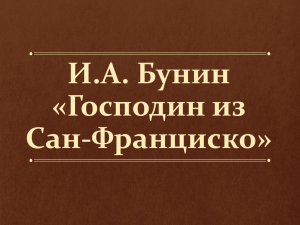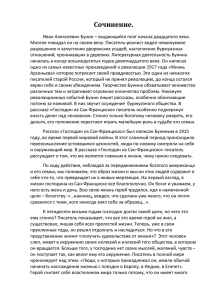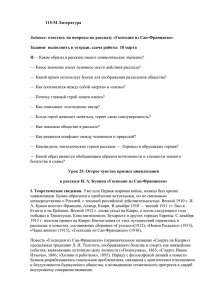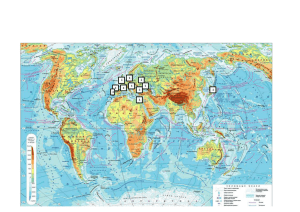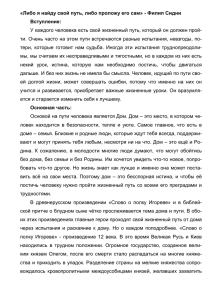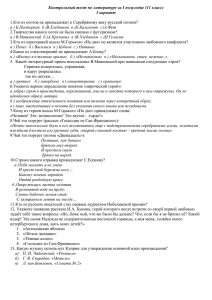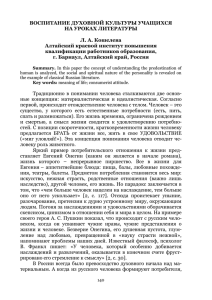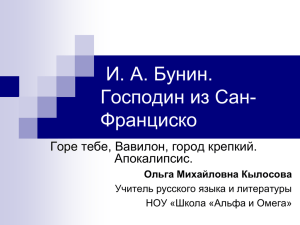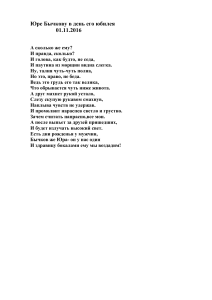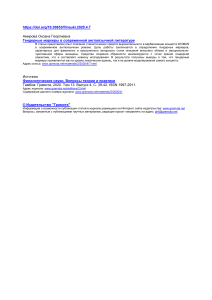“Вписанный” портрет Сергей Волков
advertisement

“Вписанный” портрет Сергей Волков Говоря о мастерстве создания портрета в литературном произведении, не стоит забывать об одном его типе, который условно можно назвать “вписанным”. Человек не только “описывается”, но и “вписывается”, включается в более широкий фон, становясь его конструктивной частью. И одновременно этот фон-окружение бросает свой отсвет на человека, заставляет его выглядеть по-другому, выявляет в его облике сущностные черты, скрытые от глаза без такого включения. Интересные примеры “вписанного” портрета мы находим в прозе рубежа веков. Его использует М.Горький в своём первом рассказе «Макар Чудра»: “С моря дул влажный ветер, разнося по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны и шелеста прибрежных кустов. Изредка его порывы приносили с собой сморщенные, жёлтые листья и бросали их в костёр, раздувая пламя; окружавшая нас мгла осенней ночи вздрагивала и, пугливо отодвигаясь, открывала на миг слева — безграничную степь, справа — бесконечное море и прямо против меня — фигуру Макара Чудры, старого цыгана…” Герой рассказа подаётся на фоне природы, могучей, стихийной; интересно положение Макара Чудры в этой почти мизансцене — он точно в центре, “безграничная” степь и “бесконечное” море — как два крыла у него за спиной (знак тире помогает прочесть этот фрагмент текста, делая паузыжесты после слов, указывающих направления: “слева”, “справа”, “прямо против меня”). Следующее же предложение рассказа опять устроено симметрично, но теперь основное внимание отдаётся персонажу. Стихия, окружающая его, уже названа и охарактеризована (в предложении она “убирается” в деепричастные обороты), теперь важно подчеркнуть, что герой не только подобен ей, но и выше, сильнее её (показательна симметрия отрицательных частиц, сопровождающих действия героя по отношению к стихии): “Не обращая внимания на то, что холодные волны ветра, распахнув чекмень, обнажили его волосатую грудь и безжалостно бьют её, он полулежал в красивой, сильной позе, лицом ко мне, методически потягивал из своей громадной трубки… и… разговаривал со мной, не умолкая и не делая ни одного движения к защите от резких ударов ветра”(курсив здесь и далее наш. — С.В.). Другую функцию выполняет пейзажное окружение в описании княгини Веры из «Гранатового браслета» Куприна. Героиня появляется на фоне осенних цветов: “…она ходила по саду и осторожно срезала ножницами цветы к обеденному столу. Клумбы опустели и имели беспорядочный вид. Доцветали разноцветные махровые гвоздики, а также левкой — наполовину в цветах, а наполовину в тонких зелёных стручьях, пахнувших капустой, розовые кусты ещё давали — в третий раз за это лето — бутоны и розы, но уже измельчавшие, редкие, точно выродившиеся. Зато пышно цвели своей холодной, высокомерной красотою георгины, пионы и астры, распространяя в чутком воздухе осенний, травянистый, грустный запах. Остальные цветы после своей роскошной любви и чрезмерного материнства тихо осыпали на землю бесчисленные семена будущей жизни”. Героини, кажется, ещё и нет — перед нами описание цветов, которые она срезает. Присмотримся к нему внимательнее: из всех цветов выделены (и опять помещены в центр фрагмента) георгины, пионы и астры — союз “зато” противопоставляет их левкоям и розам, цветущим не так “пышно”, “холодно” и “высокомерно”, слово “остальные” в начале следующего предложения опять выделяет их из ряда — уже по признаку бесплодности. Все остальные цветы не только цвели, но и дали семена, им были ведомы любовь и радость материнства, осень для них — не только пора умирания, но и время начала “будущей жизни”. “Человеческие” мотивы в описании цветов подготавливают характеристику самой героини. На этой же странице читаем: “…Вера пошла в мать, красавицу англичанку, своей высокой гибкой фигурой, нежным, но холодным и гордым лицом…”. Выделенные нами определения связывают в сознании читателя Веру, у которой нет детей, а страсть к мужу уже давно прошла, с красивыми, но бесплодными цветами. Она не просто среди них — создаётся впечатление, что она одна из них. Так образ героини, вошедшей в пору своей осени, опять встраивается в более широкий пейзажный контекст, который обогащает этот образ дополнительными смыслами. Любопытный пример совмещения портрета и интерьера встречаем в рассказе И.Бунина «Господин из Сан-Франциско»: “Сухой, невысокий, неладно скроенный, но крепко сшитый, расчищенный до глянца и в меру оживлённый, он сидел в золотисто-жемчужном сиянии этого чертога за бутылкой янтарного иоганисберга, за бокалами и бокальчиками тончайшего стекла, за кудрявым букетом гиацинтов. Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными усами, золотыми пломбами блестели его крупные зубы, старой слоновой костью — крепкая лысая голова”. Здесь интересно то, что всё в изображаемом мире кажется сделанным, “скроенным”, “сшитым”: не случайно так часто употребляются слова, называющие материалы — золото, стекло, янтарь, серебро, жемчуг, слоновую кость. Причём эта сделанность объединяет вещи (в широком смысле — даже электрический свет и вино в бутылке) и человека; такие прилагательные, как “янтарный”, “золотой”, “серебряный”, теряют в этом перечислительном ряду свою метафоричность. Господин из Сан-Франциско во всём подобен тем вещам, которые его окружают; за свою долгую жизнь, потраченную на обогащение, он не только получил право ими обладать, но стал похож на них, сам превратился в роскошную, но мёртвую вещь. Он и существует как бы в одной плоскости с ними, включён в их круг. Характерен здесь выбор предлога: если словосочетание “сидеть за бутылкой вина” можно ещё трактовать в смысле “проводить время, употребляя спиртное”, то “сидеть за бокалами и бокальчиками… за букетом…” интерпретируется только в пространственном плане. Господин из Сан-Франциско видится нами через вещи, за которыми, среди которых он и существует как равный.