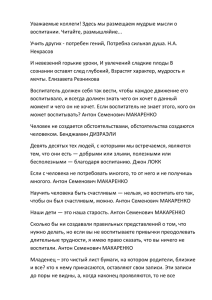родной дом
advertisement
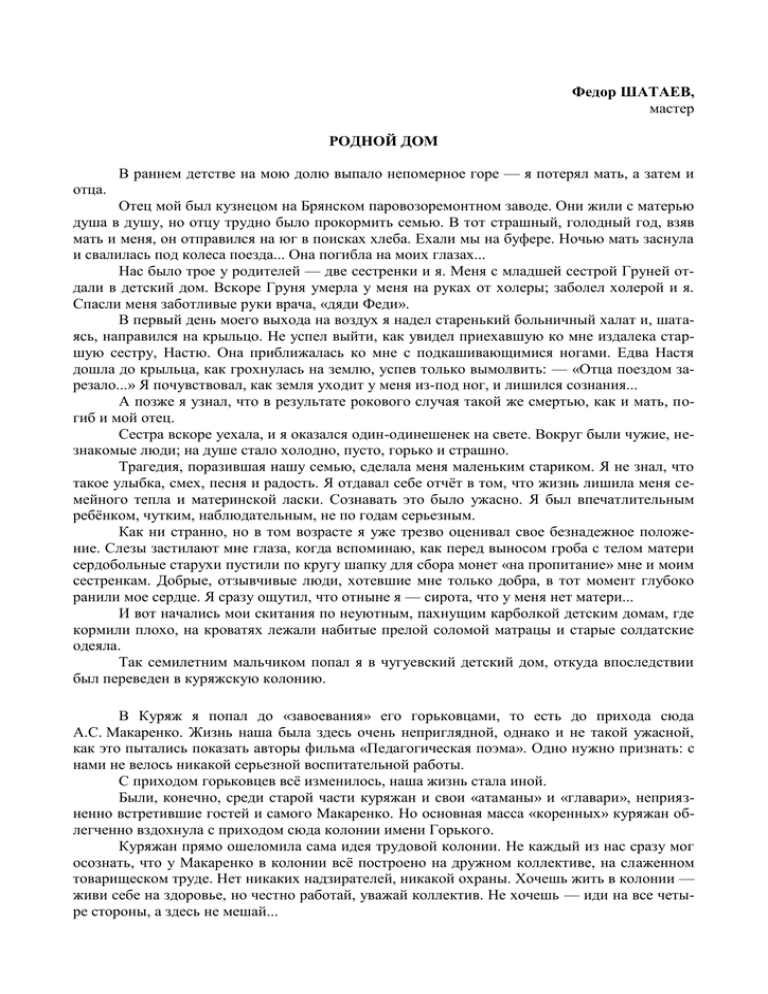
Федор ШАТАЕВ, мастер РОДНОЙ ДОМ В раннем детстве на мою долю выпало непомерное горе — я потерял мать, а затем и отца. Отец мой был кузнецом на Брянском паровозоремонтном заводе. Они жили с матерью душа в душу, но отцу трудно было прокормить семью. В тот страшный, голодный год, взяв мать и меня, он отправился на юг в поисках хлеба. Ехали мы на буфере. Ночью мать заснула и свалилась под колеса поезда... Она погибла на моих глазах... Нас было трое у родителей — две сестренки и я. Меня с младшей сестрой Груней отдали в детский дом. Вскоре Груня умерла у меня на руках от холеры; заболел холерой и я. Спасли меня заботливые руки врача, «дяди Феди». В первый день моего выхода на воздух я надел старенький больничный халат и, шатаясь, направился на крыльцо. Не успел выйти, как увидел приехавшую ко мне издалека старшую сестру, Настю. Она приближалась ко мне с подкашивающимися ногами. Едва Настя дошла до крыльца, как грохнулась на землю, успев только вымолвить: — «Отца поездом зарезало...» Я почувствовал, как земля уходит у меня из-под ног, и лишился сознания... А позже я узнал, что в результате рокового случая такой же смертью, как и мать, погиб и мой отец. Сестра вскоре уехала, и я оказался один-одинешенек на свете. Вокруг были чужие, незнакомые люди; на душе стало холодно, пусто, горько и страшно. Трагедия, поразившая нашу семью, сделала меня маленьким стариком. Я не знал, что такое улыбка, смех, песня и радость. Я отдавал себе отчёт в том, что жизнь лишила меня семейного тепла и материнской ласки. Сознавать это было ужасно. Я был впечатлительным ребёнком, чутким, наблюдательным, не по годам серьезным. Как ни странно, но в том возрасте я уже трезво оценивал свое безнадежное положение. Слезы застилают мне глаза, когда вспоминаю, как перед выносом гроба с телом матери сердобольные старухи пустили по кругу шапку для сбора монет «на пропитание» мне и моим сестренкам. Добрые, отзывчивые люди, хотевшие мне только добра, в тот момент глубоко ранили мое сердце. Я сразу ощутил, что отныне я — сирота, что у меня нет матери... И вот начались мои скитания по неуютным, пахнущим карболкой детским домам, где кормили плохо, на кроватях лежали набитые прелой соломой матрацы и старые солдатские одеяла. Так семилетним мальчиком попал я в чугуевский детский дом, откуда впоследствии был переведен в куряжскую колонию. В Куряж я попал до «завоевания» его горьковцами, то есть до прихода сюда А.С. Макаренко. Жизнь наша была здесь очень неприглядной, однако и не такой ужасной, как это пытались показать авторы фильма «Педагогическая поэма». Одно нужно признать: с нами не велось никакой серьезной воспитательной работы. С приходом горьковцев всё изменилось, наша жизнь стала иной. Были, конечно, среди старой части куряжан и свои «атаманы» и «главари», неприязненно встретившие гостей и самого Макаренко. Но основная масса «коренных» куряжан облегченно вздохнула с приходом сюда колонии имени Горького. Куряжан прямо ошеломила сама идея трудовой колонии. Не каждый из нас сразу мог осознать, что у Макаренко в колонии всё построено на дружном коллективе, на слаженном товарищеском труде. Нет никаких надзирателей, никакой охраны. Хочешь жить в колонии — живи себе на здоровье, но честно работай, уважай коллектив. Не хочешь — иди на все четыре стороны, а здесь не мешай... Мысль простая, доходчивая, но она не всеми была воспринята сразу. Кое-кто наслышался о каких-то «особых» порядках в колонии Макаренко. И вот на поверку вышло, что все эти слухи — чепуха. Оказывается, мы сами — полные хозяева своей жизни; не Макаренко наказывает за проступок, а вся братва избирает меру наказания; ребята решают даже хозяйственные дела колонии. Все это ново, необычно и даже интересно. Именно это и было самым убеждающим для куряжан. Они с жаром взялись за дело и не хотели ударить лицом в грязь. Постепенно антагонизм между «старенькими» и «новенькими» утихал. Во дворе бывшего куряжского монастыря был фонтан. Я и двое других хлопцев затеяли шумную беготню вокруг него. Из окна своего кабинета на втором этаже Макаренко наблюдал за нашей затеей и крикнул: «Вы что... другого занятия не нашли? Марш в кабинет, под винтовку!» Мы вбежали в кабинет. Двоим попались легкие спортивные ружья «монтекристо», а мне — тяжелая австрийская винтовка. Я еле держал её на плече. Увидев это, Антон Семёнович улыбнулся и сказал: «Вольно. Три наряда — чистить картофель на кухню!» Сказано это было по-отечески, не зло. Я думаю, что родной отец иной раз крепче взгрел бы за такую возню. Я с радостью помчался на кухню. Там ведь тоже было интересно! Попался я с поличным и еще раз — прыгал через скамейки в клубе. Появившийся Антон Семёнович строго спросил: «Что, другого развлечения не нашел? Марш в кабинет». Здесь он взял со стола линейку и погрозил мне ею. В это время раздался телефонный звонок, Макаренко поднял трубку и стал с кем-то разговаривать. Я тем временем тихонько спрятал линейку под скатерть. Невелика это была хитрость, и Антон Семёнович, конечно, видел её. Покачав головой, он улыбнулся и сказал: «Пять нарядов». И снова в очень веселом настроении я пошел выполнять наряды. По дороге я говорил каждому: «Ага, Антон Семёнович дал мне пять нарядов!» Очевидно, на меня смотрели, как на чудака, а я всё повторял: «Антон Семёнович всыпал мне пять нарядов!» Когда думаю я об этой странной своей гордости, то прихожу к заключению, что нам, сиротам, ребятам без дома, без родителей, нужна была, как воздух, эта отеческая строгость Макаренко. С ней мы чувствовали себя теплей, надежней, домашней. Очевидно, детская психика так устроена, что ребенок требует какой-то опеки над собой. Был у нас в колонии имени А.М. Горького силач, кузнец, отчаянный парень, Галатенко. Однажды Галатенко стащил на кухне масло. Узнав об этом, Антон Семёнович страшно рассердился и сказал ему: «Принеси палку, изобью тебя!» И Галатенко, и все свидетели этой сцены понимали, что это шутка. Но падкий на выдумки Галатенко исчез. В тот день я был «крысой», то есть связным по колонии. Макаренко вызвал меня и спросил: — «Крыса», а где Галатенко? Я побежал искать Медведя, как мы звали Галатенко, и застал его за странным занятием. Надрываясь, он тащил из кухни бревно. С ним Медведь и ввалился в кабинет Макаренко. Антон Семёнович широко раскрыл глаза: «Что такое?» А Медведь как ни в чем не бывало ответил: — Вот, принес палку, бейте меня, Антон Семёнович! Макаренко безудержно рассмеялся. Впрочем, любую нашу проделку Антон Семёнович мог простить, превратить в шутку или вообще пройти мимо нее, но он не прощал воровства, лжи. За это Антон Семёнович наказывал, стараясь, чтобы не только воришка надолго запомнил свой проступок, но и другим это было бы не повадно. Вспоминается, Макаренко дважды наказал воспитанников за воровство и поступил, по-моему, вполне педагогично. Один тихий, но, как потом выяснилось, чрезвычайно хитрый парень, возил у нас в колонии молоко. Как-то была замечена недостача молока, затем это снова повторилось, и, наконец, воришка был уличен: он приловчился пить молоко из бидона через соломинку. Узнав об этом, Макаренко как следует пропесочил любителя молока. По предложению Антона Семёновича Совет командиров постановил: выделить ему в столовой отдельный стол и три раза в день — на завтрак, обед и ужин—ставить на стол... ведро молока. Так продолжалось день, два, три... «Молочник» уже на молоко смотреть не мог. В столовой, когда он проходил, стоял неудержимый хохот. В один из дней Антон Семёнович появился в столовой, подошел к нему и сказал: — Ты почему не пьешь? — Не могу больше, Антон Семёнович... — Ну, раз так—проси прощения у колонистов! И вот «молочник» поднялся из-за стола и на всю столовую сказал свою жалобную речь из трёх слов: — Друзья, товарищи, простите!.. Наказание было тут же снято. Забавное, но и поучительное происшествие было с воспитанником Горовским. Он у нас занимался голубями. Как-то ему понадобилась для голубятни доска. Никого не спрашивая, он пошел на склад столярного цеха и, как ни в чём не бывало, взял доску. Антон Семёнович справедливо узрел в этом нарушение правил коммуны. Может быть, он и не расценил это как кражу, но увидел в поступке Горовского неуважение к коллективной собственности. «Что же получится, если каждый будет ходить на склад и без спросу брать доски?» — говорил Макаренко. Горовский был проучен. Секретарь Совета командиров Глупов объявил ему распоряжение Макаренко: «Горовскому в течение месяца являться со взятой доской в столовую, спальню, кино,— везде». И вот бедняга целый месяц маялся со своей тяжелой ношей. Выполняя приказ Макаренко, он без доски нигде не появлялся. Хлопцы наши даже говорили: «Хорошо ещё что доску взял, а если бы мешок картошки?» Доску для голубятни надолго запомнили не только Горовский, но и все наши ребята! Если кому-либо из нас требовалась какая-нибудь вещь, без спросу уже никто не осмеливался её взять. Наука пошла впрок. В колонии и коммуне мы воспитывались в атеистическом духе. Немало недоразумений бывало в наших взаимоотношениях с попами, монахами куряжского монастыря и верующими крестьянами. Попы и мы были непримиримыми воинствующими сторонами. И Антону Семёновичу не раз приходилось выслушивать жалобы «святых отцов» на нас. Никогда не становясь на их сторону, Макаренко задавал нам всё же трепки за наши проделки. Он считал, что атеизм должен сочетаться с элементарной учтивостью и культурностью, но не с хулиганством. Человек высокой культуры, Макаренко был ярым безбожником, но терпеть не мог глумления над верующими и священнослужителями. Я, например, хорошо запомнил, как Макаренко отчитал нас однажды за наши «атеистические» проделки. Как-то, в отсутствие Антона Семёновича, мы срезали ударники на церковных колоколах и запечатали церковь. Когда попы явились, они увидели бумажку на двери, на которой на пишущей машинке было довольно безграмотно написано, что по постановлению горсовета церковь с сего числа закрывается. Ниже на веревочках красовалась глиняная печать. Монахи впопыхах не рассмотрели этого. Внешне всё выглядело довольно правдоподобно. Когда приехал Антон Семёнович, священники обратились к нему с вопросом, приезжал ли кто-нибудь к ним из города. Макаренко стал наводить справки, а подойдя к дверям церкви, понял нашу проделку и сорвал бумажку. Как только духовенство удалилось, Антон Семёнович с самым серьезным видом погрозил нам пальцем. Мы поняли неуместность нашего поступка. Другую проделку совершил Галатенко, которого, как я уже говорил, мы называли Медведем. Дело было на пасху. Поп святил пасхи, принесенные в изобилии жителями окрестных сел. Верующие изрядно нагрузили батюшку — ему предстояло унести домой целый мешок с подарками. Откуда ни возьмись — Галатенко. Подошел он к «святому отцу» и учтиво говорит: — Разрешите, батюшка, я помогу вам... — Пожалуйста, сын мой... Медведь взвалил мешок на плечо и пошел впереди священника. Поп делает шаг, Медведь — два, поп — два шага, Галатенко — три... Так он значительно опередил попа. Но предстоял еще подъём на крутую лестницу. Медведь так помчался вверх, что старик, безнадежно махнув рукой, отстал. Похититель направился в облюбованные нами куряжские пещеры и спрятал там свой мешок, а чуть позже собрал в спальне всех ребят и затеял «пасхальный» пир. Как обычно, Антон Семёнович зашел вечером в столовую, но многих не застал за ужином. Пожав плечами, он удалился. Лишь через три дня Макаренко узнал о том, как Галатенко утащил у попа мешок с пасхами и накормил ими ребят. Немедленно было созвано общее собрание колонистов, на котором Медведю крепко досталось от Антона Семёновича. Галатенко, видно, не ожидал от Макаренко такой вспышки. Он сидел, как пришибленный, и горько раскаивался в своем поступке. В 1927 году в числе первой группы горьковцев я был направлен в коммуну имени Ф.Э. Дзержинского. Мы были тем здоровым, крепким ядром, вокруг которого должен был вырасти новый детский трудовой коллектив. Таким образом, мне выпало счастье дважды в своей жизни видеть, как Антон Семёнович создавал новые коллективы. Первый раз — в Куряже, второй — в Померках. И там и здесь организационные принципы у Антона Семёновича были одни и те же. В Куряж пришли горьковцы, принесшие с собой дисциплину, трудовую спайку, дружбу и товарищество; в Померки пришли куряжане, принесшие годами выработанные замечательные колонийские традиции. И в первом, и во втором случаях «старики», как эстафету, передавали «молодым» свои порядки, законы, привычки. Это были дрожжи, на которых Антон Семёнович производил нужную ему крепкую закваску. И вот в коммуну имени Дзержинского приезжает А.М. Горький. Имя великого пролетарского писателя было одинаково свято как для колонистов, так и для коммунаров. Колонисты, переписывавшиеся с А.М. Горьким, много знавшие о нём, передали и коммунарам свою горячую любовь к нему. О предстоящем приезде дорогого гостя мы знали уже за несколько дней. Накануне Антон Семёнович зачитал телеграмму о времени его приезда, отдал распоряжение одеть белые костюмы и с оркестром прибыть на вокзал. В Харькове, на Южном вокзале, Горького встречали два коллектива — колонисты и коммунары. Волнение наше нарастало с каждой минутой. На перроне было два знамени и два оркестра — колонийские и коммунарские. Как только показался поезд, Антон Семёнович скомандовал: «Смирно!» Мы застыли, а сами глазами так и ищем Горького. И вот Алексей Максимович, улыбающийся, взволнованный подходит к нам. Увидев наши парадные костюмы, наши счастливые здоровые лица, Горький разволновался и стал вытирать слезы. В сопровождении А.С. Макаренко Алексей Максимович проходил вдоль шеренг и здоровался за руку с каждым воспитанником. Мы были растроганы таким вниманием: шутка ли, великий Горький каждому пожал руку, никого не обошел! Горький вместе с Макаренко по живому рукоплещущему коридору поднялись на трибуну. Я стоял у самой трибуны, жадно смотрел и старался на всю жизнь запомнить, каждый жест, каждое слово великого писателя. Горький был растроган такой необычайной встречей и долго не мог начать говорить. Глаза его застилали слезы. Сказал он всего лишь несколько слов. Он горячо поблагодарил харьковчан за теплую, радостную встречу и добавил: «Сейчас я ничего вам не скажу, потому что вот эти воспитанники (он указал на нас) сильно меня расстроили. Лучше я вам напишу». Воспроизвожу эти слова с документальной точностью. В дни пребывания Алексея Максимовича в колонии и коммуне я неотступно следовал за ним. Это запомнили многие ребята, поэтому когда возникала необходимость восстановить некоторые детали визита Горького, всё направлялись ко мне. Как-то в Харьков приезжал даже молодой художник из Ленинграда для консультации, — он написал картину, на которой Алексей Максимович изображен в столярной мастерской колонии. В моей памяти сохранилось несколько эпизодов пребывания А.М. Горького у нас. Запомнилось, как Алексей Максимович, глядя на нас, часто вытирал платком глаза. Он был растроган приемом, оказанным ему ребятами, приходил в умиление и восторг от нашей детской непосредственности. Алексей Максимович запросто беседовал с нами, шутил, смеялся, отечески тепло улыбался. Мне он показался безгранично мягким человеком. Мы пришли в столовую обедать. Едва сели за столы, как показался Горький в сопровождении Антона Семёновича. — Товарищи колонисты!—громко сказал Макаренко,— за чей стол сядет Алексей Максимович? Все стали бурно приглашать Горького к себе. Каждый хотел удостоиться высокой чести сидеть за обедом рядом с дорогим гостем. Горький обвел медленным глубоким улыбающимся взором столовую, всем, благодарственно улыбнулся и направился к девушкам. Алексею Максимовичу подали налитую «от души» тарелку. Гость заметил, что поданное ему блюдо лучше, чем у других, покачал головой и не стал есть. — Налейте мне, как всем...— сказал Горький. Подававшая обед девушка несла тарелку трясущимися от волнения руками. После обеда Алексей Максимович пошел в клуб. Здесь мы показали ему нашу постановку «На дне». Спектакль Горькому очень понравился. Он поднялся на сцену, расцеловал участников драмкружка и поблагодарил за хорошее исполнение его пьесы. После посещения колонии гость побывал и в коммуне имени Дзержинского. Я стремглав помчался обратно в коммуну, чтобы не пропустить ни одной минуты пребывания Алексея Максимовича у дзержинцев. Коммуна произвела на Горького ошеломляющее впечатление. Действительно, по сравнению с куряжским монастырем, коммуна выглядела роскошным дворцом, образцовым детским учреждением. Горький сказал, что из коммунарских мастерских вырастет хороший завод. Все мы запомнили эти слова писателя, и впоследствии, когда из стен предприятия стали выходить «ФЭДы», завод стал работать ритмично и набирать темпы, мы не раз вспоминали их. Антон Семёнович помог нам всем избрать правильную в жизни дорогу. Заканчивая рабфак, некоторые не знали, куда держать путь. И вот тут-то помогали совет и доброе слово А.С. Макаренко. На созданном в коммуне фотозаводе я изучил сложную специальность слесарялекальщика. Антон Семёнович пристально присматривался к моей работе. Он видел, что дело это мне по вкусу и по плечу. Как-то в разговоре со мной он сказал, что из меня выйдет квалифицированный рабочий высокого разряда. Еще в бытность Антона Семёновича в коммуне я внес несколько рационализаторских предложений. Антону Семёновичу это понрави- лось. Он похвалил меня, и это, пожалуй, и определило всю мою дальнейшую судьбу. По совету Антона Семёновича я пошел на производство. А. С. Макаренко старательно прививал нам не только знания и любовь к труду, но и заботился о нашем эстетическом воспитании. Во многом этому способствовала дружба А.С. Макаренко с артистом Харьковского русского драматического театра А.Г. Крамовым. Эта дружба впоследствии переросла в дружбу двух коллективов — коммуны и театра. Когда коммуна после летнего отдыха возвращалась из Святогорска, на Харьковском вокзале нас встречал Александр Григорьевич Крамов. Это была исключительно теплая, сердечная встреча. В то время Крамов с успехом исполнял роль Чапаева. Здесь же, на вокзале, артист пригласил всех нас в театр, на дневной спектакль. — Как, товарищи, пойдем? — смеясь спросил Макаренко. Триста глоток зычно ответили: — Пойдем!!! — Ну, тогда строиться, и — марш! Колонна построилась, и мы, уставшие, запылённые, прямо с вокзала двинули в театр. Крамов играл замечательно. Перед нами был пламенный, бесстрашный командир, настоящий любимец бойцов. Впечатление от спектакля усиливалось ещё и тем, что незадолго до этого все мы с восторгом смотрели нашумевший в то время фильм «Чапаев». Любопытны подробности этого киносеанса. Фильм с успехом шёл на экранах городских кинотеатров, и днем коммуна не имела возможности получить кинопленку. Макаренко, видя наше нетерпение, решил устроить киносеанс... ночью. Никогда не забудется этот ночной просмотр фильма — горящие глаза ребят, оживление и подъём, вызванные боевой революционной романтикой... Макаренко знал, как хотелось нам увидеть «Чапаева» и сделал всё, чтобы мы не отстали от городского кинозрителя. ...И вот перед нами снова живой Чапаев. Игра Крамова всем нам нравится. Крамов — почетный коммунар, частый гость коммуны и лучший друг Макаренко. Мы гордимся этой дружбой и с невероятным оживлением обсуждаем игру «нашего Крамова». Вообще, ни одно посещение театра не оставалось без обсуждения. Антон Семёнович приучил нас высказывать свое мнение о каждой постановке. Это помогало многим из нас понять идею пьесы, охарактеризовать образы, разобраться в игре актеров. Мы бывали во всех харьковских театрах, но, конечно, чаще всего — в русском драматическом. С актерами этого театра мы были хорошо знакомы и прекрасно знали их игру. В числе наиболее способных драмкружковцев была и Клава Борискина, выведенная в повести «Флаги на башнях» под именем Клавы Кашириной. Как-то Клава разучивала «Евгения Онегина» Пушкина. Антон Семёнович сказал ей: — Давай вместе учить. Ты и я. Кто лучше выучит? Клава целыми днями учила «Онегина». Когда этим занимался Антон Семёнович — мы не знали, весь день он был в хлопотах. Но на поверку вышло, что Антон Семёнович знал пушкинский роман гораздо лучше Борискиной. Антон Семёнович поражал нас своими огромными способностями. Преподавал он историю и географию. У него был замечательный почерк. Для плохо писавших ребят Антон Семёнович ввел уроки каллиграфии. Он же преподавал нам черчение. Мы знаем Макаренко как писателя, автора многих пьес, написанных для нашего драмкружка, как блестящего учителя, художника, умеющего экспромтом набросать какой-нибудь нехитрый, очень симпатичный рисунок. И вот мы гордимся тем, как прекрасно Антон Семёнович декламирует Пушкина, какая удивительно цепкая у него память: Придет ли час моей свободы? Пора, пора! — взываю к ней; Брожу над морем, жду погоды, Маню ветрила кораблей. Все мы рукоплещем Антону Семёновичу, а сидящий рядом со мной верзила Мишка Долинный аж чертыхается от восторга: — От чорт! Как выучил! Я б сроду такого не смог... Память крепкая! Так Антон Семёнович личным примером учил нас старательности, прилежанию, усидчивости,— ведь каждый из нас понимал, что так быстро, с налету, «Евгения Онегина» не выучишь. Личный пример Антон Семёнович показывал, впрочем, очень часто. Помнится мне, как колонисты решили очистить свой пруд. Грязная это была работа. Пришлось выпустить воду, удалить большое количество ила. Все мы изрядно перепачкались и устали. Антон Семёнович работал вместе с нами. А когда А.С. Макаренко был рядом, у всех у нас прибавлялись силы. В конце 1957 года состоялась традиционная встреча коммунаров. На неё прибыло много гостей. Это была трогательная, волнующая встреча питомцев великого педагога. Объятия, поцелуи, слезы радости... Приехала из Москвы преподавательница французского языка Елена Соколова; примчался из Севастополя журналист Василий Зайцев; прибыл из воинской части офицер Иван Токарев... Казалось, конца и краю не будет расспросам, разговорам, воспоминаниям... В один из вечеров в дружеской теплой обстановке встретились мы на квартире у бывшего дзержинца Александра Стегния. Его жена Лидия Труба тоже была коммунаркой. Многие из нас не видели друг друга по двадцать и больше лет. Сбор наш прошел в традициях, сложившихся еще при Макаренко. Мы избрали «начальником штаба» инженера Василия Коломийцева. За столом наш старый член Совета командиров Елена Пихоцкая грозила кому-то «дать наряд» — отправить на кухню мыть посуду. В репликах, возгласах, во всей атмосфере сбора ощущалась старая коммунарская дружба. Артистка Клавдия Борискина и только что вышедший в отставку подполковник Сергей Мизяк не виделись двадцать один год. Они увлеченно беседуют о пережитом. Вот собрались в кружок юрист Василий Шапошников, мастер Зинаида Носик, полировщица Марфа Литвинова, плановик Галина Слуцкая, рабочий Анатолий Яковенко. Есть что вспомнить, о чем рассказать друг другу... Двадцать два года служил в рядах Советской Армии Сергей Мизяк. На фронте он отличился, был ранен, контужен. Но вовсе не об этом рассказывает он друзьям. Говорит он о том, что в армии ему приходилось растить сотни молодых бойцов, и в этой трудной, сложной работе он неизменно применял макаренковские методы воспитания людей. «Я всегда,— говорит Мизяк,— помнил, как Антон Семёнович без шаблона, без трафарета подходил к своим питомцам, как смело и находчиво решал он сложные вопросы наших взаимоотношений. За двадцать два года службы в Советской Армии не было дня, чтобы я не вспоминал завет Антона Семёновича: «Больше уважения к людям — больше требовательности к ним». Публикуется по «Удивительный человечище». – Харьковское книжное издательство, 1959.,– 159 с.