Биография матери Галины Казакевич, написанная дочерью
advertisement
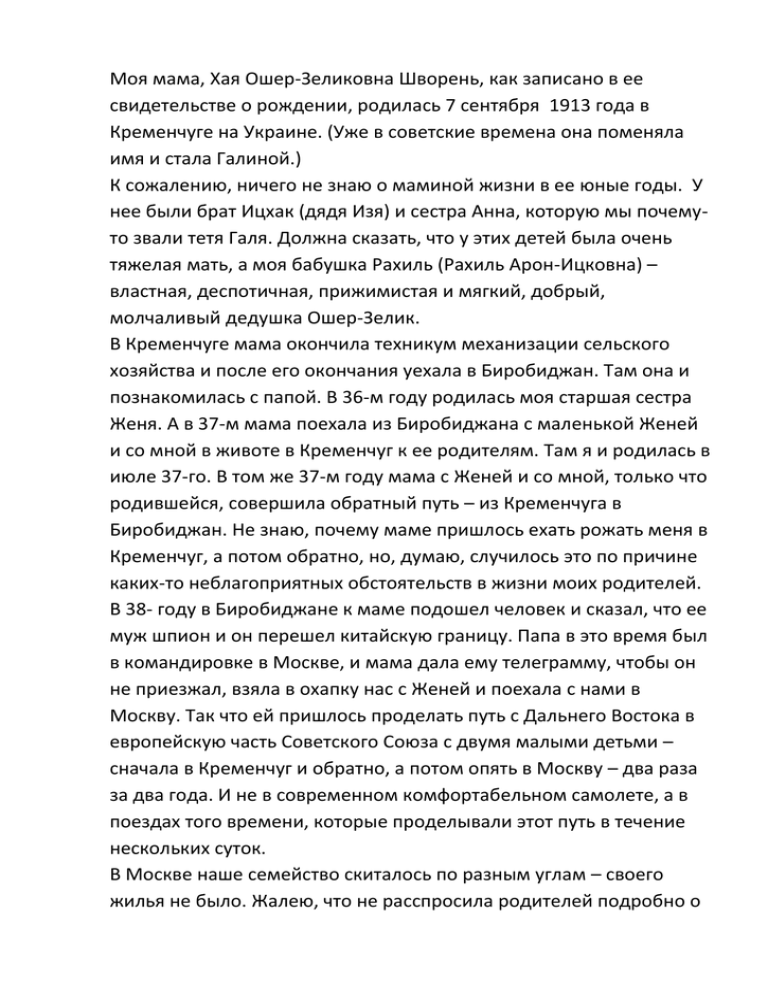
Моя мама, Хая Ошер-Зеликовна Шворень, как записано в ее свидетельстве о рождении, родилась 7 сентября 1913 года в Кременчуге на Украине. (Уже в советские времена она поменяла имя и стала Галиной.) К сожалению, ничего не знаю о маминой жизни в ее юные годы. У нее были брат Ицхак (дядя Изя) и сестра Анна, которую мы почемуто звали тетя Галя. Должна сказать, что у этих детей была очень тяжелая мать, а моя бабушка Рахиль (Рахиль Арон-Ицковна) – властная, деспотичная, прижимистая и мягкий, добрый, молчаливый дедушка Ошер-Зелик. В Кременчуге мама окончила техникум механизации сельского хозяйства и после его окончания уехала в Биробиджан. Там она и познакомилась с папой. В 36-м году родилась моя старшая сестра Женя. А в 37-м мама поехала из Биробиджана с маленькой Женей и со мной в животе в Кременчуг к ее родителям. Там я и родилась в июле 37-го. В том же 37-м году мама с Женей и со мной, только что родившейся, совершила обратный путь – из Кременчуга в Биробиджан. Не знаю, почему маме пришлось ехать рожать меня в Кременчуг, а потом обратно, но, думаю, случилось это по причине каких-то неблагоприятных обстоятельств в жизни моих родителей. В 38- году в Биробиджане к маме подошел человек и сказал, что ее муж шпион и он перешел китайскую границу. Папа в это время был в командировке в Москве, и мама дала ему телеграмму, чтобы он не приезжал, взяла в охапку нас с Женей и поехала с нами в Москву. Так что ей пришлось проделать путь с Дальнего Востока в европейскую часть Советского Союза с двумя малыми детьми – сначала в Кременчуг и обратно, а потом опять в Москву – два раза за два года. И не в современном комфортабельном самолете, а в поездах того времени, которые проделывали этот путь в течение нескольких суток. В Москве наше семейство скиталось по разным углам – своего жилья не было. Жалею, что не расспросила родителей подробно о нашей предвоенной московской жизни. Понимаю, что на мамины плечи легли нелегкие бытовые проблемы, которые и так-то были тяжелы в 30-е годы в Советском Союзе, да еще при наличии двух маленьких детей. Когда началась война, папа ушел на фронт – в ополчение, так как у него был так называемый белый билет по причине очень сильной близорукости. А мы остались в Москве. Одно мое детское воспоминание всплывает отчетливо: завывание сирен, Женя, я и тети Люсины сыновья Боря и Шурик (тетя Люся – папина старшая сестра Галина Генриховна) лежим в кроватях, а взрослые – мама, тетя Люся и ее муж дядя Зяма – сидят вокруг стола при неярком свете висящей над столом лампы и играют в карты (видимо, с началом войны наши семейства объединились). В бомбоубежище при бомбежках в 41-м году мы не спускались. А потом, в 41-м же году, мы поехали в эвакуацию. Ехали в товарном вагоне, который часто останавливался, пропуская более «важные» составы. Представим себе – товарный поезд, то есть не предназначенный для провоза людей, переполненный семьями (в основном женщинами с детьми, мужчины – на войне), который везет их в неизвестную жизнь, и что с мужьями или со взрослыми сыновьями – неизвестно: война только что началась, полная неразбериха, связь с мужчинами была потеряна еще на старых местах проживания, а здесь, в товарняке, - и подавно, с едой, питьем и, думаю, с туалетами (а в поезде много детей) большие проблемы… И так далее, и так далее. На остановках мамы выходили из вагонов, чтобы добыть какую-нибудь пищу и кипяток. Мама кормила нас тюрей – это была какая-то еда, скорее всего хлеб, намешанный в кипятке. Мне эта тюря казалась очень вкусной. Только один эпизод о той поездке мама впоследствии рассказала. Соседями нашими по нарам были Шишко, как выяснилось впоследствии – писатель, и его жена. Он все больше бухтел, брюзжал, был всем недоволен. Да и действительно – чем быть довольным в таких условиях? А она была женщина тихая, доброжелательная, старалась ему во всем угодить и как-то обустроить их быт наилучшим образом в тех непростых условиях. В какой-то момент он спросил у мамы, кто она такая, где ее муж, кто он такой и прочее. Не то что он очень этим интересовался, но спросил так – для разговора. И мама ответила, что муж на фронте, она с начала войны ничего о нем не знает и очень беспокоится. И что муж ее – поэт, член Союза писателей и фамилия его Казакевич. На что он заметил, что такового не знает. А мама ответила ему, что муж ее еврейский поэт и поэтому неудивительно, что он его не знает. На это Шишко заметил, что еврей Казакевич не имеет права ходить по московским улицам – пусть ходит по любым другим, но не по московским. Могу себе представить мамино недоумение и обиду ее после таких слов. Но она ничего не ответила этому господинчику. Да и что тут ответишь? Разве что ты, голубчик, имеющий право ходить по московским улицам, едешь сейчас в Ташкент, а Казакевич, не имеющий этого права, бьется с врагом за твое право жить. Но, повторяю, мама ничего ему не ответила. Из Ташкента мы вскоре переехали в Андижан, где мы с Женей тут же заболели и потому сразу попали в больницу. Я переболела всеми детскими инфекционными заболеваниями по очереди и поэтому была в инфекционном отделении. А Жене делали операцию под непонятным для меня названием «трепанация черепа», и она была в хирургическом отделении. Мама неотлучно сидела при Жене, там же и спала на стуле, как и другие мамы при своих детях. Их в больнице не кормили и, поскольку пребывали они там как бы незаконно, выходить, а тем более заходить обратно им не разрешалось. И время от времени одна из мам, взяв деньги, собранные со всех, выскальзывала и запасалась кое-какими продуктами, а потом проскальзывала обратно. Полагаю, что персонал смотрел на это сквозь пальцы, за что я сейчас выношу им благодарность. Я же пребывала в инфекционном отделении. Когда все мои болезни остались позади, выписывать меня было некуда – не в хирургическое же отделение, где была мама, и я жила в комнате медсестер, где стояли кровать и стеклянный шкаф с лекарствами и всякими сестринскими принадлежностями для уколов и прочих процедур. А мама изредка появлялась в окошечке, к которому сестричка подносила меня на руках. Думаю, мама подходила к нашему окошечку в те нечастые моменты, когда была ее очередь идти за едой для всех мам на рынок. Операция у Жени прошла удачно, и нас выписали из больницы. Жили мы в одной комнате с другой эвакуированной семьей. Помню небольшую длинную комнату, окна там не было, дверь служила и окном. Может быть, это было какое-то подсобное помещение. Можно себе представить, каким неимоверно трудным был тот быт. Одна керосинка на две семьи, спали наверняка вповалку на полу, благо было тепло… Папа чудом нашел нас, не знаю, когда это случилось, и мама начала получать деньги по аттестату – это полагалось семьям офицеров. Хотя папа был младшим офицером – лейтенантом, аттестат все равно полагался, хоть и небольшой. Думаю, это была существенная помощь в нашей жизни. Каким-то образом мама списалась со своей сестрой – тетей Галей, и мы поехали «в их эвакуацию» - в деревню Зигановку Башкирской АССР. Сейчас я понимаю, как труден был путь из Узбекистана в Башкирию с двумя малыми детьми (мне было 4 года, Жене – 5), наверняка в товарных поездах (все пассажирские поезда были тогда отданы на нужды фронта), с пересадками, да и попасть в эти товарные вагоны было неимоверно трудно – публика ломилась внутрь, брала вагоны штурмом, более сильные отталкивали более слабых. Но мама добралась до Зигановки. Подозреваю, что мир всегда, даже в самые отчаянные времена, бывает не без добрых людей… В этой деревне нас было шестеро – тетя Галя, ее дочка Аллочка, бабушка, дедушка и мама со мной и Женей. Была зима 42-го года – суровая снежная зима. Наши мамы работали в колхозе. Там пригодились две образованные, знающие женщины, которые и печатать на пишущей машинке умели, и делопроизводством могли заниматься. Может быть, маме в колхозе пригодилось и то, что она в Кременчуге окончила техникум по специальности механизация сельского хозяйства. Дедушка работал в колхозе на складе сторожем, заболел воспалением легких и умер. Мама рассказывала, как они с тетей Галей ездили в лес за дровами, то вместе, то поодиночке, на телеге, запряженной лошадью. И когда возвращались, уже затемно, слышали вой волков. Можно себе представить, как сложна была жизнь двух горожанок в этой глухой деревеньке. Вот папино письмо маме в октябре 42-го года после его приезда к нам в Зигановку (его отпустили на несколько дней к семье, правда, основное время этого непродолжительного отпуска он провел в дороге туда и обратно): Только что получил письмо, в котором ты описываешь свою хреновскую жизнь. Описываешь ты ее очень живо, с блеском литературным, но от этого она не легче. Напиши вместе с Галей о ваших планах… Главное – картошка, хлеб, дрова. А насчет мучений нравственных – вас двое взрослых, самостоятельных, видавших виды людей, прошедших Биробиджан, харьковский дом отдыха [тетя Галя в 37-м была арестована вместе с мужем, но, к счастью, ее быстро выпустили], и т. д., и т. п. Ты не одинока, с тобой сестра – человек, видимо, решительный. Да и ты тоже не лыком шита, хотя среди лыка живешь… Как только Харьков, где жила до войны тетя Галя, окончательно освободили от немцев, наши мамы решили ехать туда. И вот эту посадку в поезд военных лет я помню. Толпа, штурмующая вагоны, дети, старики, узлы… Двери в вагоны даже не открывали. Но мы оказались в нужное время в нужном месте: дверь вагона, перед которой стояли мама, и тетя Галя (они держали перед собой по узлу с вещами), и бабушка, и мы трое – Аллочка, Женя и я - вдруг открылась и нас всех вместе с узлами втащили в поезд. И дверь за нами опять закрылась. Это был вагон, в котором ехали офицеры. Они нас разместили, накормили. И с ними мы доехали до Харькова. Помню поездку в трамвае до дома, где была тети Галина комната, которую, естественно, заняли соседи. И наши мамы бегали по каким-то инстанциям, и соседей выселили, а нас вселили. Маме и тете Гале удалось сразу устроиться на работу, потому что везде требовались люди, не бывшие в оккупации. А кто из уцелевших жителей Харькова не был в оккупации? В Харькове был абсолютный голод, и когда маме предложили работу в городке Ямполе Сумской области, что в восточной Украине, куда немцы, к счастью, не дошли, она сразу согласилась. Это была работа в конторе Мехлесопункта (механизированного лесного пункта). Там требовался человек для ведения всякой бумажной работы и к тому же умеющий печатать на машинке. Жильем нашим была комната в одноэтажном домике рядом с комнатой хозяйки, которой мама платила энную сумму за съем. В комнате были печка – ее нужно было топить дровами, одна кровать, на которой мы спали втроем, пара стульев и шкаф. Мамино письмо из Ямполя: Дорогой, уже неделю не получаю писем, начинаю серьезно тревожиться. Девочки растут. К сожалению, мало времени могу им уделять. Главным образом занимаюсь их образованием по вечерам, когда мы трое ложимся в нашу убогую постель, забываем обо всем, и я начинаю им рассказывать о том, как добывается руда, что из себя представляет земной шар, как печатаются книги и т. д. и т. п. Вообще же я просто устала, смертельно устала, но все это минутное, надо дождаться конца войны. Главное – пиши часто письма. Но это состояние бывает редко, но когда подберется такая минута, я чувствую, насколько я устала от всего. От разлуки с тобой, от ожиданий писем от тебя, от тревоги за тебя, от переживаний за детей. Милый мой, будь здоров, возвращайся к нам поскорее, а пока мне нужны твои письма. Пиши, пиши, пиши. Целуем тебя крепко. И под письмом подписи нашими почерками: твоя Женичка вполне удобочитаемо, Ляличка – каракули невообразимые, Галя. За городом нам выделили участок, где мама посадила картошку, и эта картошка была очень вкусная. Во-первых, потому, что почва была песчаная, а на песчаных почвах, как я потом узнала, бывает самая вкусная картошка, но, кроме того и самое главное, раньше, если и случалось нам есть картошку, она была мерзлая и потому отвратительная. Мама ухаживала за этим огородиком – сажала, окучивала, удаляла сорняки и так далее. В письме папе мама описывает, каких трудов стоило получить разрешение на этот участок, сколько подписей у разных чинов. Вот наша основная еда там: «А в части нашего меню ты ошибаешься. Мы разнообразим нашу пищу, как можем: капуста с картошкой, капустняк с картошкой, картофельное пюре с капустой» (из маминого письма). И хотя мама много работала, да и бытовые условия были не из легких, в Ямполе «жить стало лучше, жить стало веселее» (кто не знает – цитата из Иосифа Виссарионовича). До того – в Зигановке и Харькове – мы и помыслить не могли, что бывает нормальный хлеб и такая вкусная картошка. Вот мамино письмо папе, написанное в феврале 44-го года из Ямполя: Эммочка! Начиная с первого января до 30 января я работала день и ночь, не выходя из конторы, ужинами нас кормили тут же, без отрыва от производства. Работы было очень много, дом весь день на замке, а что нужно дома делать – по ночам кое-как. Работа была напряженная. Как кончила – наступила реакция: ни за что руки не берутся, ничего в голову не лезет. Теперь уже немного пришла в себя. Пришлось и девочкам пострадать вместе со мной. Теперь везде навожу порядки и привыкаю к тому, что можно вечером идти домой и не спешить обратно в контору. Помню эти страдные мамины дни, о которых она пишет в письме. Она брала нас с собой на работу, и мы ночью спали на свободном столе в ее конторе. А в 46-м году папа демобилизовался и вызвал нас в Москву. И опять – съемное жилье, суровые бытовые условия, нехватка денег… В 48-м году, после Сталинской премии за «Звезду», папе дали 2-комнатную квартиру в писательском городке на Беговой, в меньшей комнате был папин кабинет, в большей находились мы – мама, Женя, маленькая Олечка, которая родилась в 48-м году, и я, а потом – и четырехкомнатную в писательском доме в Лаврушинском переулке. Мама растворилась в хлопотах о семье, о папе, фактическим секретарем которого она была. Да и наличие троих детей требовало внимания и многочисленных забот. Что значило – быть секретарем у папы? Мама перепечатывала на пишущей машинке все папины произведения, правда, уже не на той старенькой «Эрике», которую папа привез из Германии, вела обширную переписку. Круг маминых обязанностей был чрезвычайно широк. Например, если просили прислать вещи, этим занималась мама. Вот отрывок из письма Ариадны Сергеевны Эфрон маме: «Дорогая Галюша! Спасибо за посылку Асе, Паустовские привезли. Все пригодится, все отошлю по назначению». У нас был открытый дом, приходила масса народа – по делу и в гости. Когда шла работа над альманахом «Литературная Москва», редколлегия собиралась у нас в Лаврушинском, авторы приносили свои рукописи. И кормить и поить наших многочисленных гостей, авторов и членов редколлегии – это тоже было в маминой компетенции. В Лаврушинском одно время у нас жили Юрий Карлович и Ольга Густавовна Олеши. Юрий Карлович как-то сказал, отдавая дань маминой многотрудной жизни и ее долготерпению: «Столько воль!» Лучше не скажешь. Когда они жили у нас, Ольга Густавовна была не в порядке, и мама ее побаивалась. А потом, когда уже не стало Юрия Карловича и Лидии Густавовны (она вернулась из ссылки, где пребывала в качестве вдовы Багрицкого), мама и Ольга Густавовна подружились и часто ходили друг к другу в гости. В августе 51-го года мама родила девочку (опять девочку!), всем семейством мы выбирали ей имя и выбрали - Лена. И через восемь месяцев – в марте 52-го она умерла от воспаления легких. В 55-м году родители привезли из Киева бабушку Рахиль, у которой был «рак околоушной железы», как написано в ее свидетельстве о смерти. В последние месяцы перед смертью она лежала, не приходя в сознание, и каждый день приходили сестры из литфондовской поликлиники, которая тогда располагалась в подвале нашего дома в Лаврушинском переулке, и делали ей уколы морфия. 30 сентября 1955 года в возрасте 73 лет бабушка умерла. В 56-м году у Олечки обнаружили ревмакардит, и ей нельзя было двигаться, поэтому она лежала в постели. Из школы ей приносили задания по всем предметам, а потом относили обратно – так она училась. Она не помнит, как это осуществлялось, но, думаю, главная нагрузка здесь, как и уход за Олей, лежала на маме. Потихоньку ревмакардит ушел в прошлое, и Оля пошла в школу. Жизнь как-то наладилась. Мы с Женей учились в институтах. Оля – в школе. Папа работал. Чувствовал он себя неважно, побаливал живот. Диеты и прочие рекомендации врачей не помогали. Папе сделали операцию и сказали, что язва. А был – рак. И – были больницы, операции. А потом папу выписали из больницы домой – умирать. А потом папа ушел из жизни. Это случилось 22 сентября 1962 года. Для мамы папина болезнь и смерть были страшной трагедией. Собственно говоря, она жила для папы, она любила его больше всего на свете, даже больше детей. Она жила им, она дышала им. А потом мы учились жить без папы. И жили. У нас с Женей появились дети – мамины внуки. Оля вышла замуж. Нормальная семейная жизнь. И вдруг Оля с мужем Мишей засобирались в Израиль. По этому поводу они участвовали в забастовках и прочих мероприятиях, связанных с выездом в Израиль. Мишу несколько раз забирали на 15 суток, о чем маме мы не сообщали. А потом вдруг пришло разрешение на отъезд. Было лето 71-года. Для мамы это был страшный удар - тогда это было как расставание на всю жизнь. Мы провожали Олю в аэропорту. Мама на прощанье почему-то совала им советские деньги. И они ушли... Мама стояла такая потерянная, такая несчастная… В декабре 1973 года умерла моя старшая сестра Женя. Смерть ее была неожиданной, и это было страшным ударом для всех, и особенно для мамы, потому что она очень любила Женю. Думаю, у нее к Жене было особое отношение, так как врачи, не без помощи мамы, которая сидела при ней неотлучно, с трудом выходили ее в среднеазиатской больнице. Моему второму сыну Андрюше было тогда полтора месяца, и мама буквально спасалась около него – ложилась рядом и лежала. Мама очень хотела, чтобы Женю подхоронили к папе на Новодевичьем кладбище. Это оказалось делом нелегким. В Моссовете мне сердито ответили, что Новодевичье кладбище – это филиал Кремлевской стены, и подхоронить туда можно только вдову или вдовца, а не ребенка. Я пошла к Ильину – секретарю Союза советских писателей, а по совместительству генералу КГБ. Он, как и многие, любил и уважал папу и к Жене очень хорошо относился – он с семьей и она одновременно отдыхали в Доме творчества в Дубултах на Рижском взморье, где они и познакомились. Я изложила ему мамину просьбу, и он, сверля меня светлыми глазами-буравчиками, спросил, куда уехала моя сестра. На что я ему легкомысленно ответила: «Куда все уезжают, туда и она уехала». Он подумалподумал и сказал: «Хорошо. Будет разрешение похоронить Женю на Новодевичьем». И разрешение последовало. А потом – в 90-х – в Израиль уехали я с детьми, за нами мама – в 91-м, а потом и Женина дочь Маша. Маме не было здесь комфортно - совершенно незнакомая жизнь, все чужое. Только мы были островком привычной жизни. Правда, в отношении языка маме в Израиле было легче, чем многим, не знавшим иврита, - она прекрасно знала идиш, это был ее второй родной язык, и с некоторыми продавцами и людьми старшего поколения она легко находила общий язык в прямом и переноском смысле этого слова. Например, когда она приезжала к нам от Олечки, у которой она жила, после ее похода в местный магазинчик у нас появлялся прекрасный кусок мяса – продавец тоже знал идиш. Что у мамы был литературный талант, заметил еще папа по ее письмам, о чем он ей и писал. А здесь, в Израиле, она написала чудесные «Советские были» и «Рассказы по памяти», которые были напечатаны в приложении к газете «Вести» - в «Окнах», а сейчас они опубликованы в интернет-газете Леонида Школьника «Мы здесь». Мама умерла в 2001 году, в возрасте 88 лет. Она похоронена на кладбище «А-Яркон» под Тель-Авивом. Жилось ли маме когда-нибудь легко? Пожалуй, нет. Годы ее жизни совпали со сложными и опасными периодами русской истории. Даже в мирные послевоенные годы, когда весь писательский дом прислушивался по ночам, на каком этаже остановится лифт – за кем приехали, жить было страшновато. Кроме того, не было в ее характере той легкости, даже, не побоюсь этих слов, доли легкомыслия, которые облегчают жизнь, тогда как излишняя серьезность и чувство излишней ответственности очень ее утяжеляют. Но такова была моя мама. Мамина биография тесно связана с биографией всей страны, значит, я пишу отчасти биографию многих мам. И мне хочется отдать должное нашим мамам и воспеть их – за те лишения, которые они вынесли, поблагодарить за их долготерпение, стойкость, за их героизм.