Я не плакала, я только роняла жемчужины
advertisement
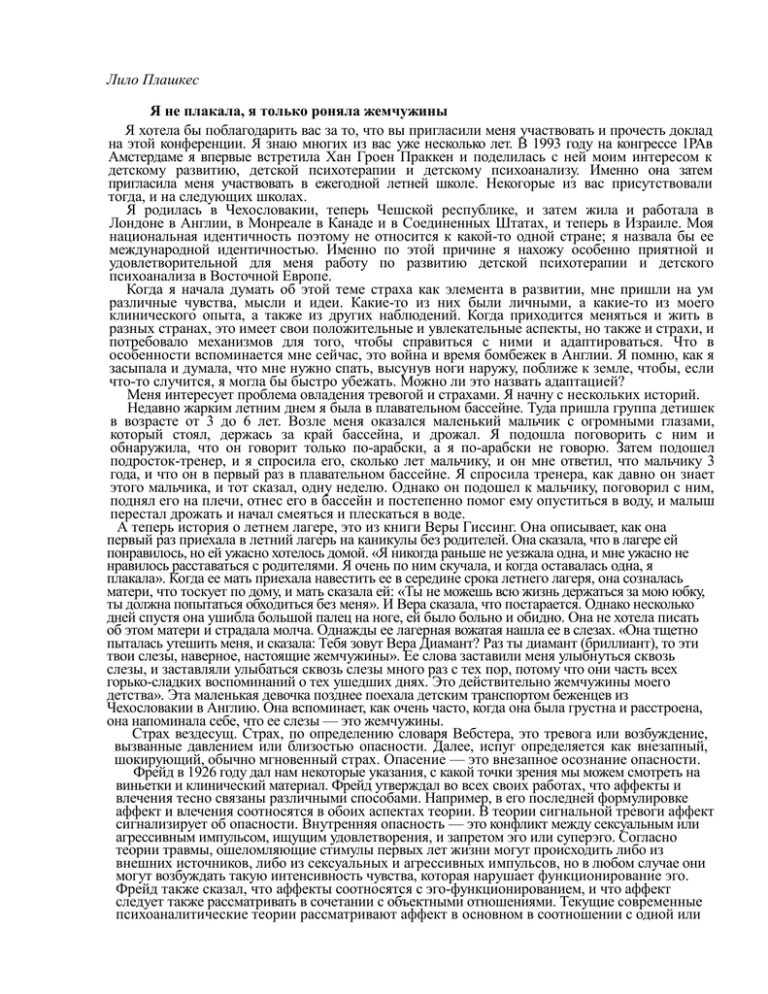
Лило Плашкес Я не плакала, я только роняла жемчужины Я хотела бы поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня участвовать и прочесть доклад на этой конференции. Я знаю многих из вас уже несколько лет. В 1993 году на конгрессе 1РАв Амстердаме я впервые встретила Хан Гроен Праккен и поделилась с ней моим интересом к детскому развитию, детской психотерапии и детскому психоанализу. Именно она затем пригласила меня участвовать в ежегодной летней школе. Некогорые из вас присутствовали тогда, и на следующих школах. Я родилась в Чехословакии, теперь Чешской республике, и затем жила и работала в Лондоне в Англии, в Монреале в Канаде и в Соединенных Штатах, и теперь в Израиле. Моя национальная идентичность поэтому не относится к какой-то одной стране; я назвала бы ее международной идентичностью. Именно по этой причине я нахожу особенно приятной и удовлетворительной для меня работу по развитию детской психотерапии и детского психоанализа в Восточной Европе. Когда я начала думать об этой теме страха как элемента в развитии, мне пришли на ум различные чувства, мысли и идеи. Какие-то из них были личными, а какие-то из моего клинического опыта, а также из других наблюдений. Когда приходится меняться и жить в разных странах, это имеет свои положительные и увлекательные аспекты, но также и страхи, и потребовало механизмов для того, чтобы справиться с ними и адаптироваться. Что в особенности вспоминается мне сейчас, это война и время бомбежек в Англии. Я помню, как я засыпала и думала, что мне нужно спать, высунув ноги наружу, поближе к земле, чтобы, если что-то случится, я могла бы быстро убежать. Можно ли это назвать адаптацией? Меня интересует проблема овладения тревогой и страхами. Я начну с нескольких историй. Недавно жарким летним днем я была в плавательном бассейне. Туда пришла группа детишек в возрасте от 3 до 6 лет. Возле меня оказался маленький мальчик с огромными глазами, который стоял, держась за край бассейна, и дрожал. Я подошла поговорить с ним и обнаружила, что он говорит только по-арабски, а я по-арабски не говорю. Затем подошел подросток-тренер, и я спросила его, сколько лет мальчику, и он мне ответил, что мальчику 3 года, и что он в первый раз в плавательном бассейне. Я спросила тренера, как давно он знает этого мальчика, и тот сказал, одну неделю. Однако он подошел к мальчику, поговорил с ним, поднял его на плечи, отнес его в бассейн и постепенно помог ему опуститься в воду, и малыш перестал дрожать и начал смеяться и плескаться в воде. А теперь история о летнем лагере, это из книги Веры Гиссинг. Она описывает, как она первый раз приехала в летний лагерь на каникулы без родителей. Она сказала, что в лагере ей понравилось, но ей ужасно хотелось домой. «Я никогда раньше не уезжала одна, и мне ужасно не нравилось расставаться с родителями. Я очень по ним скучала, и когда оставалась одна, я плакала». Когда ее мать приехала навестить ее в середине срока летнего лагеря, она созналась матери, что тоскует по дому, и мать сказала ей: «Ты не можешь всю жизнь держаться за мою юбку, ты должна попытаться обходиться без меня». И Вера сказала, что постарается. Однако несколько дней спустя она ушибла большой палец на ноге, ей было больно и обидно. Она не хотела писать об этом матери и страдала молча. Однажды ее лагерная вожатая нашла ее в слезах. «Она тщетно пыталась утешить меня, и сказала: Тебя зовут Вера Диамант? Раз ты диамант (бриллиант), то эти твои слезы, наверное, настоящие жемчужины». Ее слова заставили меня улыбнуться сквозь слезы, и заставляли улыбаться сквозь слезы много раз с тех пор, потому что они часть всех горько-сладких воспоминаний о тех ушедших днях. Это действительно жемчужины моего детства». Эта маленькая девочка позднее поехала детским транспортом беженцев из Чехословакии в Англию. Она вспоминает, как очень часто, когда она была грустна и расстроена, она напоминала себе, что ее слезы — это жемчужины. Страх вездесущ. Страх, по определению словаря Вебстера, это тревога или возбуждение, вызванные давлением или близостью опасности. Далее, испуг определяется как внезапный, шокирующий, обычно мгновенный страх. Опасение — это внезапное осознание опасности. Фрейд в 1926 году дал нам некоторые указания, с какой точки зрения мы можем смотреть на виньетки и клинический материал. Фрейд утверждал во всех своих работах, что аффекты и влечения тесно связаны различными способами. Например, в его последней формулировке аффект и влечения соотносятся в обоих аспектах теории. В теории сигнальной тревоги аффект сигнализирует об опасности. Внутренняя опасность — это конфликт между сексуальным или агрессивным импульсом, ищущим удовлетворения, и запретом эго или суперэго. Согласно теории травмы, ошеломляющие стимулы первых лет жизни могут происходить либо из внешних источников, либо из сексуальных и агрессивных импульсов, но в любом случае они могут возбуждать такую интенсивность чувства, которая нарушает функционирование эго. Фрейд также сказал, что аффекты соотносятся с эго-функционированием, и что аффект следует также рассматривать в сочетании с объектными отношениями. Текущие современные психоаналитические теории рассматривают аффект в основном в соотношении с одной или более из этих тем. Когда мы имеем дело с паническими атаками, в любое время жизни, контроль эго может дать сбой, и чувства могут стать ошеломляющими (Тайсон и Тайсон 1990). Сигнальная тревога: Эта способность является важным элементом, необходимым фактором в развитии. Это тревога, которая возникает в предвкушении опасности, а не как ее результат. Именно в ответ на сигнальную реакцию запускаются защитные операции эго. В ситуациях объективной опасности сигнал тревоги есть часть адаптивной реакции, тогда как в ситуациях психического конфликта сигнал может быть подсказкой, предупреждением бессознательному. В своей наиболее утонченной и функционально эффективной форме сигнал тревоги может быть ограничен только осознанием «в мыслях». В противоположность этому, однако, когда интенсивность переживаемой тревоги намного выше, она может не остаться под контролем, и привести к временной функциональной дезорганизации того человека, который находится под ее воздействием. Она тогда описывается как паника или травматическое состояние (Бернесе, Мор и Ф. Бернард, 1990). В этих теоретических понятиях имплицитно содержится развитие и функционирование эго, суперэго и объектных отношений и стадий тех механизмов, которыми ребенок справляется и достигает овладения. Нам также нужно рассматривать взаимоотношения между внутренними и внешними воздействиями и равновесием. Анна Фрейд спрашивала: «Что заставляет развитие двигаться, и что тянет развитие извне?». Хартман исчерпывающе описал перипетии индивидуального психического развития по отношению к внешнему миру, и в некотором смысле обратил прилив психоанализа вспять, к миру опыта и к способности индивидуума должным образом справляться со своим окружением себе на пользу. Меня заинтересовала статья Питера Блоса младшего о роли негативного аффекта в развитии. Он пишет, «что компетентность и уверенность в себе не могут развиваться в отсутствие переживаний, включающих негативный аффект. Сходным образом, навыки справляться и овладевать зависят от надежно установившейся способности переводить аффективный компонент мучительных обстоятельств в царство понимания и контроля. Он далее говорит, что «в детстве и подростковом возрасте, по крайней мере в самом его начале, достижение гомеостаза в значительной мере зависит от присутствия некоего «внешнего другого». Под этим я подразумеваю кого-то, кто может подтверждать реальность, качество и обширность нарциссической травмы и помочь тому, кто пережил эту боль, прийти в себя и двигаться дальше». По-моему, то, что доктор Блосс пишет о негативном аффекте, применимо также к тревоге и страхам. Я сказала бы, что трехлетний мальчик в плавательном бассейне и девятилетняя Вера Гиссинг с ее первым опытом летнего лагеря показательны для некоторых из этих идей. Много авторов писали о развитии константности я и объекта. Здесь я хотела бы упомянуть только один образ, который относится к этому развитию у самых его истоков. Это из рассказа Малер про тоддлера от 12 до 16 месяцев, когда его держит утешающий взрослый, а его мать уходит из комнаты. Малыш сначала интересуется своим окружением, а затем опускает голову и выглядит серьезным и ушедшим в себя. Малер описывает это как попытки тоддлера поддерживать тот образ и те чувства, которые связаны с внутренним образом матери в его памяти. Она называет это приглушенностью, консервационной попыткой тоддлера сохранить этот образ и аффект. Ясно, что у Веры в летнем лагере была хорошо развившаяся способность константности я и объекта, а также утешающее внутреннее присутствие своей матери. Я бы хотела теперь описать переживания Сола Фридлендера, который написал книгу, названную: «Когда приходит память», в которой он вспоминает свою жизнь от пяти лет, когда он жил с родителями в Праге. В этой книге, написанной во взрослом состоянии, он постепенно распутывает свои переживания и воспоминания о том, как он переезжал со своим)? родителями, потерял своих родителей, был помещен в католически? приют и, наконец, освобожден, и переехал в Израиль. Он пишет: «Разу& ребенка интерпретирует мир по-своему, особенно когда ребенок осознает растущую тревогу вокруг него». Но ему все равно трудно идентифиц№ роваться. Он говорит далее: «Когда я почувствовал первые содроганш того, что происходит вокруг меня? Когда я почувствовал, что устойчивы)? и спокойный мир, где прошли мои первые годы начинает сдвигаться? 9 не мог бы сказать точно, но я думаю, что внутренние волнения, предше ствовавшие событиям, вошедшим в историю, позднее интегрировались < ними и теперь пытаются сформировать нерасторжимое целое. Внутренние волнения, страх быть брошенным и раз за разом столкновения со смертью Страх быть брошенным: я не могу объяснить его глубочайшие истоки но чтобы продемонстрировать его интенсивность, достаточно такогс экранирующего образа. Он, кажется, всегда один и тот же, и в некоторые отношениях собирает для меня воедино суть этого периода. Я вижу, ка] мой отец снова в гостиной читает под светом большого торшера, на заднел плане библиотека. Так я видел это почти каждый вечер, когда к обеду HI было гостей. Тогда поэтому я не слышал никаких звуков, и потому, дви жимый тревогой, абсолютно не поддающейся контролю, я выбирался и: кроватки, на цыпочках шел вдоль стены и удостоверивался, приникну) глазом к замочной скважине, что он там, на своем обычном месте». Здесь мы видим иллюстрацию предвосхищающей сигнально) тревоги. Это также подкрепляет вопрос Анны Фрейд: «В какой мер< детские воспоминания обычно структурированы и поддерживаются своими живыми тесными связями с сильно катектированным стабиль ным любовным объектом?». Теперь я использую клиническую виньетку и комментарии к ней да. того, чтобы проиллюстрировать воздействие травмы на развитие, в тог числе конкретно на развитие эго. Джонатан родился в благополучной семье среднего класса. Его очень любили, и было много надежд на него и его будущее. У него было много родственников, дедушки и бабушки, дядья, тетки и двоюродные братья и сестры. Джонатан в четыре года потерял своего отца, который умер от обессиливающей болезни, а затем и мать, она пережила период депрессии и умерла, когда ему было пять с половиной лет. Окончательной причиной ее смерти было самоубийство. Ему не сказали в точности, как его мать умерла, или подробности о смерти его отца. У него было много догадок, и ему дали несколько объяснений. Он жил с приемным отцом (своим родственником), и у него был тесный контакт с дедушкой и бабушкой. По сути своей секрет болезни и смерти его родителей сохранялся много дет, и все члены семьи были очень настроены на то, что его следует хранить. Он проходил психотерапию у меня от шести до семнадцати лет, в основном в формате одного раза в неделю. Временами бывало и по две сессии в неделю. У меня был контакт с его семьей и знала об их трудностях с тем, как с ним справляться. Я подытожу свои рассуждения, чтобы проиллюстрировать вмешательство в его развитие. Я чувствовала, что ему не на пользу, что на протяжении всей его терапии этому мальчишке пришлось контейнировать и справляться самому с тем фактом, что семья имеет от него секрет. Он осознавал, что ему что-то не говорят, но не мог ничего поделать со своей семьей. Хотя я предлагала семье рассказать ему факты и правду, они твердо стояли на том, чтобы молчать. Ранняя утрата объектов и вмешательство в его развитие породили массивное отрицание, и к тому же дали ему некоторое умение справляться с проблемами, особенно в его школьном окружении. Он учился отлично, честолюбиво и очень усердно, и поддерживал высокий уровень школьных достижений. Однако он также остался с некоторыми ограничениями в функциях эго. Ригидность и ограничения оставили его внутренне уязвимым. Хотя в школе Джонатан писал полные воображения сочинения, у него, насколько мне известно, были определенные проблемы с тем, чтобы думать символически, и в особенности о его родителях. Символически в том смысле, что он не мог сохранять воспоминания о них без постоянного желания, чтобы они вернулись обратно живыми как реальные объекты. Невольно вспоминается предложенное Седьмой Фрайберг понятие «узнавания» и «вызывающей памяти». Для Джонатана мысль о его матери вызывает воспоминания о ней, но порождает болезненное желание, чтобы она была рядом и была жива. Он смог выразить тот факт, что если бы она на самом деле любила его, она бы не убила себя. С другой стороны, он все время знает, что у нее была тяжелая депрессия, но он сердится, что доктора позволили ей иметь дома столько таблеток, что она смогла использовать их для того, чтобы умереть. Не разрешенное оплакивание существенно вплетается во все уровни его развития. Обсессивные защиты использовались для сохра нения целостности эго. Защиты, которые он использовал, не позволяли такой гибкости, которая нужна, чтобы поддержать максимальный рост. Он использовал защиту всемогущества, а это защита от беспомощности. Садомазохистические объектные отношения, которые он демонстрировал, были для него способом сохранять связь с объектом и достаточный контроль, чтобы не бояться полной утраты. Мне также кажется, что тот факт, что ему не позволялось думать на определенные темы, или говорилось, что есть опасность в том, чтобы думать об определенных вещах, чтобы прояснить те секреты, которые они скрывали, определенно мешал его когнитивному развитию и был частью того, что ограничивало его и когнитивное, и эмоциональное развитие. Терапия раз в неделю могла помочь с этим ограничением, хотя помощь была недостаточной, чтобы обеспечить дальнейший прогресс. Что также было очевидно в его лечебных сессиях и в его поведении дома, и относится к нашей теме, был тот факт, что он не переживал сигнальной тревоги, а вместо этого его затапливала тревога, нарушающая функционирование, и он не мог сообразить, что же это его так расстроило, или что его беспокоит, или что его пугает. Это влияло на его константность я и объекта и было также видно в его поведении с приемными родителями, новым сиблингом и друзьями. Дальше я приведу пример работы, которую мне довелось как-то делать в дневном центре, обеспечивая постоянное, но непосредственное вмешательство, пример, затрагивающий некоторые идеи о травме, стрессе и тревоге там, где можно видеть вмешательство в развитие. Маленький мальчик, которого я собираюсь описать, приходил на несколько индивидуальных сессий со мной по просьбе родителей и директора дневного центра. Карлос, которому было три с половиной года, был приятный, соблазнительный маленький мальчик, но в своей классной комнате он был нарушен в поведении и в игре. Он часто ударял других детей, был непредсказуем в своих вспышках, пинался, ударял учителя или других детей и начинал рыдать. Были соображения, что, возможно, дома бывало физическое дурное обращение, с большим количеством пинков. Была также вероятность сексуального соблазнения или абъюза, но свидетельств этого не было. Психолог диагностически описывал ребенка как малыша очень активного, с проблемой экспрессивной речи и с трудностями в символическом мышлении и игре. Как то раз, когда его группа пошла на экскурсию, его не взяли из-за его трудного поведения, поскольку с ним в пути бывало слишком много проблем. Меня попросили остаться с ним на какое-то время. Он кинулся в раздевалку и начал отчаянно перебирать вещи в шкафчиках других детей, что, похоже, он делал часто. Он выискивал маленькие машинки, которые были его страстью, и взял одну из чужого шкафчика и положил к себе в карман, сказав: «Я возьму ее домой, она моя». У меня с ним был долгий диалог, и я упорно говорила ему, что он взял машинку Джонатана, и Джонатану будет очень грустно, и он будет плакать, когда не найдет свою машинку. Карлос повторял это снова и снова, говоря: «Ты хочешь сказать, он будет плакать». «Это его машинка», сказала я. «Да, он будет плакать, он не поймет, он удивится, что его машинки нет. Неприятный сюрприз, его машинки нет, и он будет говорить, где моя машинка». Карлос хотел, чтобы эту сцену я повторяла снова и снова. Явно у него, как я уже замечала ранее, были спутанные образы себя и других. Он повернулся и сказал: «Я сержусь, я так сержусь, они все ушли», и он заплакал. Я сказала: «О, теперь я вижу, что тебе грустно, и ты так сердишься, что тебе пришлось забрать все машинки». «Да», сказал он. «Теперь я понимаю, почему ты хотел, чтобы Джонатан плакал, и чтобы ему было грустно. Тебе так грустно, и ты сердишься». Я связывала его чувства со словами, например: «Похоже, тебе так нужна машинка, потому что тебе грустно, что мистер Вэн, твой учитель, и все дети ушли». Он положил машинку обратно в шкафчик, побежал к директору и сказал с огромным удовольствием и возбуждением, что может использовать слова, он сказал: «Дети ушли, я положил машинку обратно, я положил машинку обратно». Мы говорили о том, какое это хорошее чувство, что он положил машинку обратно, и что он может сказать, когда ему грустно и он сердится, что люди ушли. Это лучше, ему теперь не придется забирать машинки. На следующей неделе, когда я вернулась в дневной центр, Карлос приветствовал меня и сказал: «Я больше машинки не беру, я больше не буду класть машинки себе в карман», и мы стали снова играть вместе. В связи с этим я хотела бы подчеркнуть еще один момент, а именно, что эти дети в дневном центре переживают ранние нарушения в отношениях мать-ребенок и отец-ребенок, и часто они были в разных дневных центрах или яслях с рождения. Поразительны их затруднения в регуляции аффекта. «Часто существует очень тонкая граница, не всегда видимая наблюдателю, между ошеломляющей тревогой и яростью. Гнев легко проецировать, и вместо объекта безопасности в эти моменты мать может рассматриваться как преследователь. Сопровождающая тревога легко нарушает функционирование эго. Это создает состояние беспомощности и чувство утраты либидной связи с матерью, ситуация, которую так часто можно видеть у маленьких детей в разгар тоддлеровской истерики» Йорк и Вайсберг 1967. Я хотела бы показать на примере анализа девятилетней девочки, которая лечилась три года, как возможно от предъявленных в начале проблем и симптомов распутать глубины интернализованного страха и глубокого конфликта этой девочки. Я надеюсь, что я смогу проиллюстрировать это виньетками, вместо всего аналитического протокола. Я впервые встретилась с Анной по ее просьбе, когда ей было девять, она беспокоилась, и у нее был секрет. Мать ее подружки нравилась ей больше, чем ее собственная мать. Ее также беспокоило, что: «Со мной что-то случается без моего ведома». Например, она сошла с автобуса не на той остановке и не знала, как это случилось. Эта уверенная, хорошо выражающая мысли, зрело выглядящая девятилетняя девчушка сказала мне, что она почувствовала облегчение после первой сессии. Встретившись с ее родителями, я узнала о трудностях, которые Анна не смогла сообщить. У Анны часто случался ночной энурез, и бывали тяжкие боли в животе и по всему телу, без какой-либо медицинской этиологии, и у нее было мало друзей. Психологическое тестирование в школе показало, что она обладает хорошим интеллектом, но функционирует ниже своих способностей. Из оценки я сделала вывод, что Анна не разрешила свою реакцию на утрату братишки, который умер в возрасте всего нескольких недель, когда Анне было три года. Более того, Анна переживала вину и гнев из-за того, что ее родители усыновили мальчика, когда Анне было пять лет. Она видела это усыновление как свидетельство того, что ее родители предпочитают мальчиков. И смерть, и усыновление оказали глубокое воздействие на ее развитие. В возрасте трех лет магическое мышление Анны, по-видимому, заставило ее поверить, что ее агрессия сыграла роль в смерти ее братика. Вина и гнев обратились против нее самой и создали соматические симптомы. Более того, ее двойственное отношение к матери все больше мешало тендерной идентификации Анны. Доэдипальный конфликт Анны, связанный с ее агрессией и страхом утраты объекта, вмешивался в ее эдипальный конфликт и его разрешение. Я порекомендовала анализ, поскольку я видела, что у Анны хорошо структурированная личность, и что она выработала интернализованные конфликты и невротические симптомы и вырабатывает характерологические проблемы. Родители Анны, люди среднего класса, были заботливы и эмпатичны. На время первого появления они все еще горевали об утрате своего маленького сына шестью годами ранее. Они были довольны своим приемным сыном, которому тогда было четыре года. Рождение и раннее развитие Анны, по-видимому, прошли нормально. Она считалась умненькой, внимательной, активной и доброжелательной девочкой. Характеристики этого анализа. Хотя вначале она хотела лечиться, после того как я порекомендовала анализ, Анна засомневалась, но была обеспокоена своим энурезом и своим телом и соматическими болями. Аффект Анны, часто полный гнева и противостояния, и такое же поведение отражали защиту против положительных чувств и желания близости. Часть ее гнева на меня и разочарования во мне отражали трансферные чувства, которые проис ходили из разочарования в том, что ее мать не обеспечила ее безопасностью, освобождением от тревоги и «идеальным телом и мозгом». Ее неуверенность была связана с ее чувством, что родители бросили ее в возрасте трех лет, со своими поездками в больницу и своей депрессией после смерти малыша. Анна чувствовала себя ответственной за своих горюющих родителей. Ее нарциссическая боль, что они усыновили мальчика, когда ей было пять лет, была очень глубокой. Чувства и убеждения Анны были, что быть девочкой значит быть хуже, потому что у нее нет пениса. Депрессивный аффект в результате этой предположительной утраты был крайним. Несмотря на ее женскую тендерную идентификацию, в ее защиты входила экстернализация ее конфликта, смещение, и временами негативная проекции ее я на меня. Постепенно появился позитивный перенос, но часто быстро приходило разочарование, и различные настроения были в значительной мере материалом ее аналитического лечения и огорчительной проблемой дома в самом начале. На втором году своего анализа Анна иногда видела себя гадалкой, которая предсказывает ей будущее: «Все будет плохо, будет много бед, а когда мне будет двадцать один, я умру. С другой стороны, если я не умру в двадцать один год, я выйду замуж в шестьдесят два года и умру в девяносто девять лет. У меня будет семнадцать детей, некоторые из них умрут, а некоторых из них похитят. Некоторые из них сгорят, когда в доме будет пожар». Мы сравнивали это с некоторыми оптимистическими предсказаниями, которые она записала в своем дневнике под конец анализа. Я предложу некоторое количество клинического материала из третьего года ее анализа. Очевидно, что большое количество аналитической работы к тому времени уже было проделано. Но здесь я бы хотела проиллюстрировать, что открылось в ее озабоченности по поводу секрета, который она таила в себе. Анна пришла однажды днем и сказала: «Снова у меня то же самое чувство. Я не знаю, не сделала ли я чего-то без моего ведома». «Это могло случиться». «Например, может быть, я забыла очки в школе или дома». Я сказала: «Но когда вещи случаются без твоего ведома, это звучит так, будто есть какое-то секретное желание или проступок, который уже давно глубоко спрятан». Мы уже раньше обсудили ее озабоченность секретами и секретными желаниями. В этот момент она была в основном позитивно настроена по поводу своей работы со мной и больше занималась тем, что пыталась разобраться в чем-то для себя и взять на себя ответственность за то, что она думает, и за свои импульсы. В ответ на мое замечание о тайных желаниях она затревожилась, и мы снова увидели одну из ее гневных вспышек. Она сказала: «Я хочу драться с тобой, и я никогда не остановлюсь. Я сказала моему отцу, что большая часть того, что ты говоришь, бессмыслица». Она отчаянно кусала ногти. Я сказала: «Твои родители знают, из-за чего ты сердишься?». Она сказала «Нет, потому что я сержусь только с тобой, потому что я ненавижу тебя больше всех на свете. Я никогда не бываю нехорошей ни с кем, кроме тебя. Я ненавижу только тебя. Я бы хотела тебя убить. Ты думаешь, будто ты Господь Бог». Я сказала: «Если бы я была Господь Бог, я бы сделала, чтобы твой мозг быстрее рос, чтобы тебе не пришлось ждать четырнадцати лет, как, ты говоришь, ждала твоя мама, пока смогла пользоваться своими мозгами, и это избавило бы тебя от многих беспокойств в школе». Она сказала: «Откудаты знаешь, что делает Господь Бог?». Я сказала: «Ты сказала, что я думаю, будто я Господь Бог. Я только воображала, что Бог мог бы сделать. Бог наказывает, и, может быть, ты думаешь, что я должна наказать тебя за то, что ты хочешь меня убить. Знаешь, как гнев Господень». Наступило долгое молчание. Затем она сказала мне, как она злится на свою учительницу за то, что та заставляет ее беспокоиться по поводу домашнего задания. Однако она сказала: «Она противная ненарочно. Это только ты нарочно. Я не отвечаю ей, не разговариваю с ней так, как с тобой». Затем внезапно она смягчилась и нарисовала рисунок женского лица, сердитого лица, вначале ей казалось, что оно выглядит похожим на меня. Затем она сказала: «Нет, она похожа на мою мать». Анна испытала облегчение, когда осознала, что во многих разных случаях она смещала свой гнев со своей матери на меня. Когда она стала более терпелива к своим двойственным чувствам к матери, она стала испытывать меньше вины, и вообще стала более свободна в своем аффективном выражении. Несколько дней спустя Анна пришла и сказала, что она чувствует себя ворчливой, и что она «наверное, о чем-то беспокоится». Мы попытались подумать, что это может быть. Единственное, что ей приходило в голову, это что она прочитала рассказ о девочке, которая ударила свою куклу-младенчика, и она сама так сделала, когда узнала, что мальчик, который ей нравился, пошел куда-то с другой девочкой. Она сказала: «Если бы у меня был ребенок, я могла бы ударить и ребенка». А затем быстро сменила тему на что-то про школу. Тема была такая, что женщина, маленький ребенок которой перенес операцию на сердце, принесла торт и кофе. Ребеночку было всего два дня, и он выжил. Анна сказала: «Если бы моему братику сделали операцию, он вполне мог бы сейчас быть жив, потому что люди, которые оперировали его, были тупые, потому что они оперировали его кишечник, и оттуда вырвалась кровь». Ее непосредственная ассоциация была о людях, которые приходят к ней на день рождения, и как ее родители стали очень щедрыми с этим днем рождения. Она боялась, что ее гости могут разделиться на парочки и стать противными, и она сказала: «Я им задницы подпалю, если они будут так делать». А затем она сказала, что это напоминает ей историю о дурном обращении с ребенком, когда младенца жгли утюгом. Эта тема агрессии продолжалась. У нее был вопрос по поводу того, почему дети не дают сдачи и не делают больно своим матерям, когда те их бросают или дурно с ними обращаются. Но может быть, подумала она, даже если им сделали больно, они же любят своих матерей, а также, может быть, они боятся, что им снова сделают больно в ответ. Я подумала, что мы начинаем работать с вопросом намеренности и с тем, как она в три года воспринимала свою собственную агрессию и агрессию своей матери. Меня поразило также, как в этом клиническом материале мы увидели, какой у Анны был глубокий страх, ее тайный страх, что она вырастет и будет обижающей матерью. Я хотела высветить глубину страха Анны и тайного страха стать обижающей матерью. Однако я надеюсь, что очевидно, что в течение трех лет произошло очень много аналитической работы, прежде чем мы достигли глубины этой тревоги. Я думаю, эта иллюстрация и та, которую я собираюсь привести дальше, показывают, как психоанализ у детей способен достигнуть глубин их страхов и фантазий, которые не были бы возможны в психотерапии раз или два в неделю. Многое можно сделать в психотерапии, но я хотела бы показать, как глубокие интернализованные страхи могут быть раскрыты только в анализе. Пятилетний мальчик по имени Алекс был приведен на анализ после того, как его мать умерла от длительной болезни. Он видел, как ей становилось все хуже физически и психически. Он пришел и объявил мне: «Я бью детей в школе, а я не хочу. Можете вы мне помочь?». Это был пятилетний анализ, и в течение этого вернода времени многие конфликты и тревоги раскрылись в игре и в историях, и в трансферных отношениях со мной. Также, конечно, он вырос и изменился от пятилетнего до восьми-, девяти-, десяти- и одиннадцатилетнего возраста. Утрата контроля и предвосхищающие страха, связанные с периодическими его утратами контроля, были ключом к его великому ужасу и конфликту. Он фантазировал, что он несет ответственность за смерть своей матери. «Он стукнул маму, сделал ей больно, и она умерла». В либидной сфере он боялся своих эдипальных устремлений к матери, то есть поцелуев; фантазировал, что сексуальная активность и сопровождающее возбуждение и агрессивные проблемы могли способствовать беде, которая вылилась в ее болезнь и смерть. Иллюстрация из его игры. Динозавры были заперты, и один из них умер от холода (перед тем упоминалась холодная вода в плавательном бассейне). Затем пришли самолеты и бомбили. Затем динозавры подружились снова. Они все целовались, клетку пришлось чистить, потому что в ней было очень много ка-ка и пи-пи. Снова динозавров пришлось запереть в тюрьму, потому что они делали что-то опасное и плохое. Позднее в лечении он принес это беспокойство об утрате контроля. Сначала выразив его в терминах утраты контроля и писания в кровать. Он сказал, однако, что это реакция на пугающие сновидения. Алекс также фантазировал, что сексуальная активность его отца могла также быть причиной болезни матери. Конфликты, возбуждаемые его фантазиями, смещались на других детей. Было куда менее пугающим для Алекса переживать неудовольствие взрослых и сопровождающую вину, чем осознать собственные конфликты по поводу своей матери. Этот защитный маневр снижал его самооценку и был всего лишь малым признаком колоссальной нарцие-сической травмы утраты его матери. Каждый год в свой день рождения у него появлялись воспоминания и материал, связанный с матерью. Его мать была на его пятом дне рождения, прежде чем умереть. В тот момент она принимала стероиды, и лицо у нее было искажено, а также она набрала очень много веса, и потому выглядела по другому. На третьем за время лечения дне рождения Алекса он совершенно ясно заговорил о проблеме своего беспокойства, что он причинил вред своей матери. Это был первый раз, что он заговорил о том, какой он помнил свою мать, а также об искажениях тела, и как он беспокоился о том, что, возможно, ему самому грозит прожить такую же короткую жизнь как ее. Он сказал, что он не хочет в этом году дня рождения. Хотя следует отметить, что дома было иначе. Он был весьма возбужден по этому поводу, строил планы со своим отцом и мачехой по поводу праздника и подарков. В лечебной сессии он сказал, что люди смеются на днях рождения, они выглядят веселыми, но лица у них не всегда веселые. Его это путает. «Вам весело, а иногда вам не весело». Кроме того, он сказал, что «он только что получил хомяка-маму и хомяка-ребенка, но он хочет хомяка папу, потому что он хочет заменить свою собственную семью. Он еще не решил, назвать ли хомяка-маму именем своей матери, но он непременно будет звать хомяка-ребенка Блу, потому что так звали его собаку, которая умерла. Он затем начал говорить о том, как он сам был маленьким; он был крошечный младенец весом в одиннадцать фунтов. Он прочел это в своем дневнике младенца. Он был очень, очень крепкий, и он толкал и тянул и лупил свою маму в живот, в сердце, и может быть в мозг. Но только руками, а не ногами. Затем он добавил, однако, что мама была очень, очень, очень большая. Она была такая большая, что она покрывала пять сидячих мест в автомобиле. Так что теперь, сказал он, «Вы видите, как я сделал больно своей маме, даже несмотря на то, что она была очень, очень, очень большая, я пинал ее очень сильно». Он сказал мне, что он рад, потому что он приходит на свою сессию в этом году в свой день рождения, ему будет девять лет. Я спросила его, хочет ли он делать что-нибудь особенное в свой день рождения, и он сказал, нет. Что он хочет забыть, что это его день рождения. Разрабатывая эту тему, он сказал: «Иногда, когда вырастешь, тебя застрелят». Затем он стал говорить о том, как стреляли в президента Рейгана. Он испытал облегчение, однако, что его отец прожил дольше, чем Кинг Тат, которому был только двадцать один год, когда он умер, а его отцу уже тридцать. Я надеюсь, что, даже если это всего лишь такой фрагмент анализа, он иллюстрирует глубину его страха по поводу его собственной агрессии, и что он причинил вред своей матери, и чувствовал себя ответственным за ее болезнь и смерть. Я бы хотела в заключение рассказать о том, что Марион Олинер написала в Psychoanalytic Quarterly. Это по поводу того, что выбрать, «играть в игру или быть одураченным». Недавний фильм «Жизнь прекрасна» описывает, как отец затеял со своим пятилетним сыном игру понарошку, для того чтобы избавить его от осознания его положения как пленника нацистов и вовлечь его в борьбу по спасению его жизни. В этом фильме шестилетний мальчик, ребенок, дает себя «одурачить» н играет в игры своего отца. Но даже в фильме то, насколько мальчик верит в игры своего отца, оставлено неясным, тогда как важность того, чтобы продолжать играть, передается через тревогу отца. Ясно ли это мальчику, предоставляется решать зрителям. Доктор Олинер приводит пример другого ребенка, который не является вымышленным. Однако я процитирую только вымышленного ребенка. Она говорит, что важный элемент в обеих историях (из которых ж использую только одну), это то, что ребенок сотрудничает в ответ на тревогу родителя. Ребенок, которого, как казалось, легко одурачили, выполнял требования ситуации, что делает вероятным, что он осознавал исность, вызывавшую тревогу у его родителей. Многие, кто видел «Жизнь прекрасна», думают, что фильм тривиализует мир игр и фантазии. Я думаю, что фантазии, представленные детям, чтобы добиться их сотрудничества, были поставлены в контекст борьбы за выживание в вопросах жизни и смерти, и реакция детей не зависела от того, «купились» ли они на попытки их родителей занять их фантазиями. Ни тот ребенок, ни другой не играл; каждый реагировал на тревогу родителей и на опасность, которую она передавала. Игра не отрицает опасности. Она утверждает опасность в той мере, что это позволило ребенку оставить своего отца, вместо того чтобы цепляться за него ради защиты. Некоторые считают, что ребенок изображен не понимающим опасности, и что это поверхностное отношение к ужасу. А мне представляется, что ребенок в фильме знал о тревоге своего отца и откликался соответственно. Я надеюсь, что я изложила и проиллюстрировала тему тревоги и страха в теоретических понятиях, в клинических аспектах и в аспектах развития. Литература: Bios, Peter Jr., The Developmental Role of Negative Affect. Child Analysis, 2003. Cleveland Center for Child Development, Vol 14 Friedlander, Saul, When Memory Comes, Avon Books, 1978 Freud, Anna, Collected Papers, Vol 4 1945 -1956 Gissing, Vera, Pearls of Childhood Robson Books, London N7 9NT Moore, E. Burness, F. Bernard, Psychoanalytic Terms & Concepts, American Psychoanalytic Association 1990 Mahler, S. Margaret, The Psychological Birth of The Human Infant, Basic Books 1975 Oliner, M.M., Playing Games Versus Being Fooled, Psychoanalytic Quarterly 2000, 69 Plaschkes, Lilo, An Early Adolescent Girl Ends Her Analysis Saying Goodbye, Ed Schmukler A, Analytic Press 1991 Plaschkes Lilo, Clinical Dimensions of Concepts Defining Mourning in Childhood, The Czech Psychoanalytic Quarterly 1994 Psychoanalytic Theories of Development, Tyson P. Tyson, R Yale U Press 1990 Yorke and Wisberg, A Developmental View of Anxiety, Psychoanalytic Study of the Child No. 31 1967