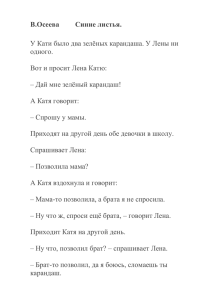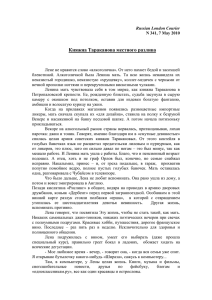Жору уложили на крест… Дальше… Что дальше-то?..
advertisement
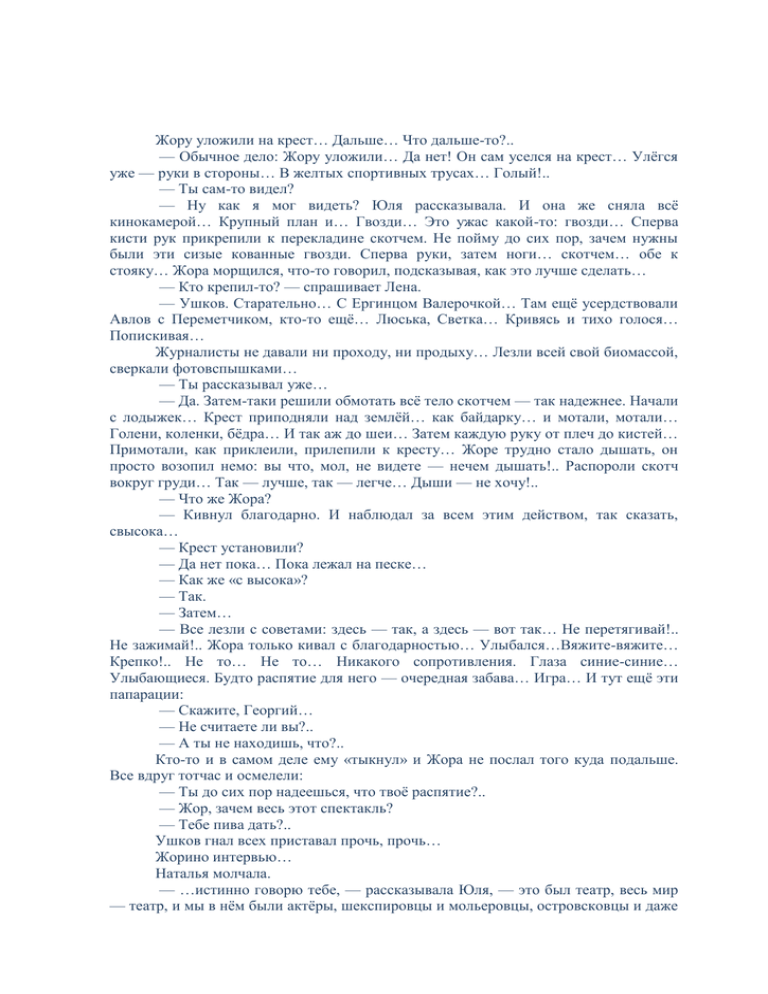
Жору уложили на крест… Дальше… Что дальше-то?.. — Обычное дело: Жору уложили… Да нет! Он сам уселся на крест… Улёгся уже — руки в стороны… В желтых спортивных трусах… Голый!.. — Ты сам-то видел? — Ну как я мог видеть? Юля рассказывала. И она же сняла всё кинокамерой… Крупный план и… Гвозди… Это ужас какой-то: гвозди… Сперва кисти рук прикрепили к перекладине скотчем. Не пойму до сих пор, зачем нужны были эти сизые кованные гвозди. Сперва руки, затем ноги… скотчем… обе к стояку… Жора морщился, что-то говорил, подсказывая, как это лучше сделать… — Кто крепил-то? — спрашивает Лена. — Ушков. Старательно… С Ергинцом Валерочкой… Там ещё усердствовали Авлов с Переметчиком, кто-то ещё… Люська, Светка… Кривясь и тихо голося… Попискивая… Журналисты не давали ни проходу, ни продыху… Лезли всей свой биомассой, сверкали фотовспышками… — Ты рассказывал уже… — Да. Затем-таки решили обмотать всё тело скотчем — так надежнее. Начали с лодыжек… Крест приподняли над землёй… как байдарку… и мотали, мотали… Голени, коленки, бёдра… И так аж до шеи… Затем каждую руку от плеч до кистей… Примотали, как приклеили, прилепили к кресту… Жоре трудно стало дышать, он просто возопил немо: вы что, мол, не видете — нечем дышать!.. Распороли скотч вокруг груди… Так — лучше, так — легче… Дыши — не хочу!.. — Что же Жора? — Кивнул благодарно. И наблюдал за всем этим действом, так сказать, свысока… — Крест установили? — Да нет пока… Пока лежал на песке… — Как же «с высока»? — Так. — Затем… — Все лезли с советами: здесь — так, а здесь — вот так… Не перетягивай!.. Не зажимай!.. Жора только кивал с благодарностью… Улыбался…Вяжите-вяжите… Крепко!.. Не то… Не то… Никакого сопротивления. Глаза синие-синие… Улыбающиеся. Будто распятие для него — очередная забава… Игра… И тут ещё эти папарации: — Скажите, Георгий… — Не считаете ли вы?.. — А ты не находишь, что?.. Кто-то и в самом деле ему «тыкнул» и Жора не послал того куда подальше. Все вдруг тотчас и осмелели: — Ты до сих пор надеешься, что твоё распятие?.. — Жор, зачем весь этот спектакль? — Тебе пива дать?.. Ушков гнал всех приставал прочь, прочь… Жорино интервью… Наталья молчала. — …истинно говорю тебе, — рассказывала Юля, — это был театр, весь мир — театр, и мы в нём были актёры, шекспировцы и мольеровцы, островсковцы и даже маркзахаровцы и эти, конечно, и наши михалковцы и мирзоевцы, и… все экраны были залиты лучшими фильмами лучших режиссёров — спилбергами, тарковскими, кустурицами и кончаловскими, михалковыми, феллини и люками и даже учителями и… Да-да, — рассказывала Юля, — фестивали кино и в Берлине, и в Каннах, и по всему побережью Средиземного моря и по другим морям и океанам, Тихому и Атлантическому, начиная с Индийского и кончая Северным Ледовитым, танцы и смех, слёзы радости даже на самом Северном полюсе Земли, и на Южном естественно, на самых высоких и каменистых, свободных от снега его вершинах, даже при минус шестьдесят семь и даже ниже, под землей, в этом городе, где своё собственное солнце, и на глетчерах, на этих ползучих глетчерах всей Гренландии, с риском для жизни на глазах у испуганных белых медведей и моржей и тюленей, у молчаливых и изумлённых пингвинов… Радость!.. Юля рассказывала… — Она была свидетелем всей этой свистопляски? — спрашивает Лена. — Ага! На своём биплане? — Ага… С Ваней Карнауховым! — С Лёшкой! — С Лёшкой?! Пусть даже с Лёшкой! У неё махонький такой одноместный… Они вдвоём как-то втиснулись и облетали вслед за слухами, которые ширились, ширились по планете, как… как… Летели как стаи саранчи, как пыльные, но не пыльные, а светлые снежные бури, как смерчи, смелые и уверенные в победе, как накаты… Набат!.. Юля рассказывала… — Иии… — Все симфонические оркестры мира просто высыпали на побережья… И кто во что горазд… Словно соревнуясь… Музыка, музыка… Волшебная музыка, а рядом рок, рэп… Рэпали так, что земля ходуном ходила… Ось дала крен… — Какая ещё ось? — Земная… Поползли полюса… Люди сбрасывали с себя одежды, вытанцовывая, ходуном ходили, многие раздевались догола, возмущалась Юля, предаваясь соитию, как животные… Как скоты… — … и Жора, — говорит Лена, — тоже… — Да, он тоже был возмущён всм этим… — Как? — Слава, не понимая, замотал головой. — Насыпь, — сказал Жора и пальцы его левой руки застыли в ожидании. Но когда стали вонзать гвозди в ладони… Молотком!.. Дынн… Дыннн.. Просто мурашки по телу… Ушков никак не мог установить… Ой, это надо было видеть! Славик просто весь трясся… Как листик осиновый… То один возьмет гвоздь, то другой, то этот примерит, то тот… Умора просто! Жора не мог сдержать улыбки, глядя на него, сперва улыбки, затем начал злиться… Гул гудом стоял вокруг: каждый советовал, подсказывал, попрекал… Кто-то молил, мол, давай уже побыстрей выбирай, а Авлов даже стал отталкивать Славу от Жоры, мол, дай я сам, я сам, раз ты такая размазня, но Ушков уцепился, просто прилип к Жоре — нет! Только я, только я… должжжжен!.. Шипел он. Только он, Слава Ушков взял на себя этот гегемонический труд — вбить Жоре гвозди!.. Только я… А как же! Как же я… И если не я… — Дай! — сказал тогда Жора, и зашевелил пальцами левой руки. Он словно струны перебирал… На арфе. Точно хотел вызвать звон этих струн к жизни, Орфей… Словно… — Дай! — приказал он Славе ещё раз, и его длинные пальцы Орфея снова неистово зашевелились, заплясали в поисках струн. — Что? — тупо глядя сквозь свои круглые потертые очки, спросил Слава. Он не понимал, что он должен дать Жоре. Ведь у Жоры, в его понимании, всё уже было — деньги, признание, слава, крест… Что ещё нужно для счастья? Слава терялся в догадках. — Гвозди, — сказал Жора и кивнул бровью на кастрюлю с гвоздями.. Каждому было ясно: Жорина ладонь, никогда ни у кого ничего не просившая, теперь просто выпрашивала подаяния — гвоздей… Как милостыню. Это стало понятно и Славе. Он выгреб своими кургузыми пальчиками горсть сизых ощетинившихся гвоздей и тотчас бросил их в Жорину ладонь. Как угли! Будто эти гвозди были только что из-под молотка кузнеца, будто они ещё шипели, выдернутые из воды в бочке, шёл даже пар… словно… — Ужас, — говорит Лена. — Как можно… — И вот тут-то, — продолжаю я, — нет-нет… Это надо было видеть! Я постараюсь, я попробую… Но боюсь, что… — Что?.. — Рассказать об этом… — Не бойся, — говорит Лена, — ничего не бойся. — Ты как Тина, — говорю я. — Она тоже… А ведь и в самом деле: рассказать то, что… О том, как… Это же — такая история! Поэма! Ода! Где Овидии, Петрарки, Шекспиры?! Иуды — отдыхают! — Не тяни, — говорит Лена, — смелее… — Хм!.. Не толкай, — прошу я, — я и так еле держусь на ногах. Стою на краю, видишь! — Давай, давай, — подталкивает Лена, — это твой край! И, что называется, толкает меня — лети! В пропасть Жориной ладони… — И вот, — говорю я, набираясь смелости, — ладно… И вот… Я не знаю, как это пересказать. — …сперва, — говорю я, — Жорин мизинец вместе с большим пальцем взяли первый гвоздь… — Как это? — спрашивает Лена. — Я пробовал потом дома. Сам. И знаешь… — Как так взяли? — снова спрашивает Лена. — Я не помню, чтобы Жора когда-нибудь держал в руках скрипку. Или гитару. Или балалайку… Помню, как он бережно прятал Юрину скрипку в футляр, когда нужно было её сохранить от полиции… — Продолжай, — говорит Лена. — Так вот… этот первый гвоздь в мгновение ока оказался вдруг между указательным и безымяным… Шляпка у ногтей, остриё — в ладонь… Ловкость рук, вернее Жориных пальцев! Да-да, — ловкость, ловкость! Жорины пальцы — это, знаешь ли… Я ведь видел их каждый день, каждый божий день… В работе… Помнишь, как Бог Своими Божественными Перстами, творя чудо рождения Адама… Микеланджело как никто другой изобразил этот миг… Ну ты знаешь… — Знаю, — кивает Лена. — На века! Навеки! Ты видела, какой это непомерно тяжкий, непосильный и невероятно нежно-радостный труд — созидание… Сотворение… Мира. По сути ведь мира! Через Адама. Так вот… — Сравнил, — говорит Лена. — Жорины пальцы… — Рест, ты… — Пальцы творца… Если хочешь… Да!.. Ты пойми… Нет-нет, ты всё-таки слушай, слушай… Теперь я молчу. — Наверное-таки ловкость, — говорю я затем, — но и надёжность!.. Уверенность в том, что вырваться из цепей этих чудотворных пальцев никогда и никак невозможно. Цепкость, да! Даже если они напрочь раскрыты, расправлены, распростерты. Фишка в том, что… — Фишка? — Цимус в том… — Рест, скажи по-русски. — Загогулина, — говорю я, — в том, что… Тииинн… Тиииннн… (Тинка!..) — В чём же?.. — Гвозди пели — тиннннн… — Огонь и вода, — говорю я, — это инструменты Бога в Его борьбе с человеком. Если люди не видят, не прислушиваются к Нему, не понимают, что… понимаешь меня?.. если Земля вся в грязи и истоптана уже вдоль и поперёк, изгажена под завязочку этим гомо, у Него просто нет выхода: вот вам вода — умойтесь, омойтесь!.. Отмойтесь, наконец! Вот вам тихий шёлковый нежный огонь — очищайтесь!.. А если надо — свирепый, яростный — жгите, жгите!.. Выжигайте дотла! Так врачи делают промывание желудка при отравлении или выжигают коросту… Бог — врач! Он лечит… Вот вам цунами, вот вам молнии и пожары. Или… Если мало — вулканы… Или вот… Это было Его новшество, Богово! Ни в книжках, ни в кино я такого ещё не видел. Ни один фантаст до этого ещё не допёр. Спилберг — отдыхает… — … то, что открылось моим глазам, когда я сидел, как обезьяна на пальме… И первая волна, и вторая… и всё, что несли в себе эти волны… — это были цветочки… — Цветочки? — Лютики… Когда вода снова вернулась, вошла, так сказать, в свои берега, кишащая всё ещё останками цивилизации… Чего там только не плавало… — Я помню, — говорит Лена, — головы, головы… даже замешкавшийся слон, хватающийся хоботом за твою пальму… — Да, да даже слон… Я уже было успокоился… Небо было чистое, как слеза! Вода — серая, мутная… Едва волнующаяся… Тяжёлая как нефть! И вот… Я вижу, как методично вращается колёсико диктофона, наматывая мой рассказ на пленку… — Лучше бы я этого не видел, — говорю я. Лена молчит. — И вот… Ковчег… ты же помнишь эту историю с Ноем! Спасительный Ковчег… История повторяется, новый виток… Но какой виток! Но какой повтор! Изумительный! Неправдоподобный… Но правда… Правда! Я видел это вот этими зелёными, как у Иисуса глазами… Ты веришь? — Зачем ты спрашиваешь? — Крест!.. — Что крест? — Сперва был немилосердный потоп… ну эти волны с мертвыми головами… Все наши усилия были сметены… козе под хвост. Как корова языком… И вот Ковчег… Никакого, правда, ни Ковчега, ни Ноя, ни тварей еще не было… Зато был крест! Веришь, это было… Ну, не то, чтобы величественно… Это было просто божественно!.. — Что? — Крест! Я закрываю глаза, чтобы лучше себе это представить. — Вот смотри, — говорю я, — представь себе… Я уже не думал о каком-то спасении, сидел как обезьяна на пальме, пальцы мои по-прежнему бульдожьей хваткой удерживали меня на дереве, я как-то даже привык, сжился с образом обезьяны… у меня и мысли не мелькнуло, что я человек, и мог бы уже давно… Нет!.. Да и не до того было — я был просто зачарован этим зрелищем! Это было божественно!.. Я открываю глаза, чтобы убедиться в том, производит ли мой рассказ впечатление на Лену. Производит… Лена — коралловое ухо, вся — слух! — Так вот — крест!.. Прямо надо мной, ну в небольшом отдалении… над едва заметно волнующейся поверхностью вод вдруг высветился крест… Уже были сумерки, небо засеивали колючие золотинки южных звёзд, темнело уже… И вдруг этот свет… И как северное сияние… Ну, ты знаешь, как тут у нас… И белые наши ночи… Ну, ты помнишь… — Посмотри в окно, — говорит Лена, — там и сейчас… — Да! Только у нас наше сияние салатовое, а там было… сперва бледнорозовое… как шеи фламинго, помнишь, затем более насыщенное… оно густело с каждой минутой, напитывалось красным как вызревающая малина, сперва красным таким, ярко красным, а потом малиновым, как восход, наконец просто огненно-красным, даже рыжим каким-то как зловещий огонь… (Как… вдруг пришло в голову — как волосы Тины!). Небо!.. И вода… Будто это была уже не нефть, а жаркая лава, бесконечно жаркая лава вокруг, куда ни кинь взгляд… Жарко не было, было горячо… Но вода не кипела… И вот это насыщение красным, эта наливающаяся густота ярко-огненного усиливалась по мере того… Казалось вся поверхность воды источала жар вулканической лавы… Но ничего не шипело… Было тихо-тихо… Тишина стояла такая, такая… Тишина стояла такая, что слышно было, как улыбается Небо. Да-да, Оно хихикало, смеялось над нами… Покашливая… «Выстроили… кхе-кхе?.. Ну, что вы выстроили свою Пирамиду, свою Вавилонию… кхе-кхе?». Бог, это Бог спрашивал нас простым чистым русским языком. Ухмыляясь и покашливая… Помню, я даже… Да, я даже разозлился на Него: не кашляй! Что-то выпало из меня — бульк! Это был единственный звук, который мне удалось расслышать. А что выпало — я не мог понять: я же был совсем гол, как сокол. Только плавки, только плавки… Голый как Адам! Потом я вспомнил, что выпало — флешка! Это была моя флешка, которую я всегда носил при себе, флешка, аккуратно вложенная в презерватив, на случай если… Вот как раз этот случай и представился. Я, помню, прежде чем снять шорты (совсем новые шорты!), вытащил её из заднего кармана и сунул в плавки — самое надежное место для хранения, когда ты в воде. Вот, видимо, она-то и булькнула. Это булькнула наша Пирамида! Копия была, конечно, в другом месте, копии были у Жоры, у Юли и Юры, у Наты… И теперь даже у тебя. Есть? — Есть, — говорит Лена. — А та — булькнула, — повторяю я. — Как уж я там на той пальме извивался, что ей удалось от меня избавиться — ума не приложу. — Видимо, — предполагает Лена, — было не совсем… — Совсем не совсем! — говорю я. — Так вот — крест… По мере того, как этот самый крест выныривал из воды… — Как выныривал? — Он сначала всплыл из глубин… — Всплыл? — Ага… Как кит. Какое-то время полежал на воде… Как человек! Вот когда ты ложишься в воде на спину, набрав в лёгкие воздуха, так и крест… Будто был живым человеком, и даже, казалось, набрался воздуха… Ага — вдохнул! Всей своей грудью… Как перед прыжком! Словно раздумывая… Мгновение лежал просто так, ничком, словно решаясь на что-то… И вдруг… Решившись-таки… Ты бы видела! Ага… Да, это было… Он был крупный такой, простой, крепкий, весь угловатый… У меня мелькнула мысль, что на таком вот кресте даже Иисусу было бы хорошо!.. И вот этот крепкий крест вдруг, как перышко, так легко оторвался от воды, воспарил, завис на какое-то время… Вода, стекая с него, капала, как кровь… Сперва кровавые ручейки, затем тяжёлые капли… Кап-кап… Тиннн… Огненно-красным светом было залито всё… Но страшно не было… Было какое-то внутреннее ликование и… очарование, да, я зачарованно смотрел и смотрел, не мигая… Как на тарелку НЛО. Ты видела тарелку? Нет. Вот я так и смотрел… Покачиваясь едва-едва, чтобы можно было подумать, что он живой, крест поднимался всё выше и выше над водой… Как кровавый змей. Снизу там у него словно что-то прилипло, нечто бесформенное и чёрное, и, казалось, это прилипшее тянет его вниз… Как какой-то ненужный груз. Не давая возможности стать легче… Чтобы легче взлететь… Я присмотрелся — это был Жора… Жора… Крест уносил с собой Жору… А Тины не было… Нигде. Я давно уже не разглядывал, что там творилось вокруг меня. Меня не волновала и моя дальнейшая судьба. Я был уверен: выберусь! Не знаю, откуда была такая уверенность — ведь ни о какой помощи и речи быть не могло — куда ни посмотришь — волнующаяся лава огненной воды… — Лава воды? — Словно ты в жерле вулкана… И вот… — Ну… скажешь… в жерле… В жерле я никогда… — А я вот побывал… Не то что там жаркий ад… Жары никакой не было, но ад… настоящий ад… Некуда деться… И даже, закрыв напрочь глаза, невозможно было спрятаться от этого ада: он тут же высился в свой исполинский рост, ширился безгранично своей бесконечностью… даже с закрытыми глазами… и тотчас (я всётаки попытался закрыть), и в то же мгновение слышался какой-то неясный шум, словно черти возились в преисподней этого ада, сперва шум, затем звон… тонкий такой — тинь, и тотчас как удар колокола — тинннн… Даже, пожалуй, вот так — тинннъъъ!.. И ещё даже тяжелее — tinnnnъъъъъ… Вот с такой безысходной твёрдостью. И чтобы не оглохнуть, пришлось открыть глаза… Ибо можно было лишиться рассудка: tinnnnъъъъъ… Мне даже вспомнилось это грозное тяжёлое «тиннн…», прозвучавшее впервые, когда я… В тот же миг мне явилась вдруг Тина… Помнишь, я рассказывал… — Когда ты сидел на суку? — спрашивает Лена. — Прежде чем открыть глаза, — говорю я, — мне вдруг захотелось… ты не поверишь, — схватить Тину за руку, уцепиться за неё, прильнуть, кинуться ей в ноги… ты не поверишь… просто упасть всем своим существом в её спасительное покровительство. Отдать себя всего всей ёй! Прикрыться ею! Как свинцовой дверью от радиации! Бухнуться в неё как в колодец с родниковой водой. Мое тело пронзила молниеносная судорога, и меня вдруг наполнил немой спасительный крик, восторженное ликование!.. Пришла вдруг вера в спасение… Помнишь, я рассказывал, как когда-то в Валетте… — Явилась Тина и спасла тебя от пуль каких-то преследователей… Конечно, помню… — Вот и сейчас!.. И как только Тина явилась, я тотчас, поверив в её спасительное всемогущество, открыл глаза… — Зачем же?! — восклицает Лена. Будто бы Тина и в самом деле могла меня спасти. — И вот… — Да-да, — говорит Лена, — конечно-конечно… Я понимаю… Прости, пожалуйста, но мне вдруг показалось… — Вот и мне, — говорю я. — А вскоре… Мне было жаль расставаться с Тиной, я снова закрыл глаза, но никакой Тины уже не было… Пальцы вдруг соскользнули, и я чуть было не захлебнулся… Но ноги нашли опору… Слава богу сук оказался надёжным… И теперь я мог видеть… Было так тихо, что, казалось, тебе уши залили свинцом. Мне только слышалось — «Тиннньььь…». Уже по-русски… — Что «по-русски»? — Тиннннььь, — говорю я, — по-русски… Теперь — по-русски. Твёрдое такое, как гранит или как колокольная медь — тинннььь… «Ты мне пишешь, что колокола С намолённых за звон колоколен Обучались уменью летать…» — вот точно так и было, — говорю я, — «С намолённых за звон колоколен». Это и я вымолил себе этот спасительный звон этих обучающихся летать колоколен… Я только тем и жил теперь на этой пальме, на этом спасательном суку, только и жил тем, что открывал глаза, видел это свирепое огнедышащее чудовище и тотчас закрывал, чтобы видеть Тину, только Тину и никого кроме Тины… И она приходила… Усаживалась рядышком, чтобы согреть меня своим теплом, брала мою трясущуюся от испуга руку в свои шёлковые ладони и прижавшись своей бархатной щекой к давно не знавшей бритвы моей, щекотала мои чуткие ноздри дурманными запахами своего филигранного тела, совсем обнажённого, просто голого, голого до судорог в горле, до умопомрачения… И я приходил в себя… Набирался злых сил мужества, мужества и… не открывая глаз… грозил своим громадным кулаком небесам: «Не дождётесь!». До тех пор, пока Тина сидела рядом. Даже Бог перестал покашливать и затрясся от страха! Потом слегка приоткрывал глаза, чтобы в прорезь век, в тонкую щёлочку снова рассматривать ад… Крест пылал… Плыл, пылая… Теперь над водой… В воздухе, в небе уже… Собственно, уже в Космосе… Как Бог… А Жора… — Что Жора? — встревожено спрашивает Лена. С Жорой в подбрюшье… Словно Жора нес этот свой крест… В вечность. — В том-то и дело, — говорю я. И умолкаю, сглотнув предательскую слюну своего откровения. Теперь мы молчим. Рассматриваем друг друга так, словно видим друг друга впервые. — Так что Жора? — снова спрашивает Лена. — Тина, — говорю я, — Тина снова присела рядышком как только… Понимаешь? «Что, купая в пруду апельсины, Небеса опрокинули синь…». Понимаешь меня? — спрашиваю я, — «У монашеской стаи вороньей». — Нет, — твёрдо говорит Лена. — Да и сам я не очень, — говорю я, — но так и было. На самом деле… Молчание. — Тина так и сказала тогда, шепнула в моё воспалённое ухо. — Что сказала-то? — спрашивает Лена. — «Дистанция от мира до тебя НЕвыносимо НЕпреодолима», — декламирую я. — Как думаешь, в чём это она меня убеждала? Зачем эти «НЕ» она талдычила мне с большой буквы. Я так и говорю — «талдычила»! — Как так «С большой»? — спрашивает Лена. — Ну просто больше не бывает! — злюсь я. — «Невыносимо Непреодолима», вот с какой! Между нами ведь не было никакой дистанции. Мы сидели, что называется впритирочку: Тинка — голая, совершенно нагая… Как молодая бесстыдница... Гойя с её «Обнажённой Махой» воют от зависти. Тинка — самая настоящая Ева! Я — в одних плавках… драных до ужаса… Впритирочку! Никаких дистанций! Мы просто слились кожами, обросли одной кожей! Как сиамские близнецы… Четыре ноги, четыре руки, две головы… И одна, одна только кожа! Какая уж тут к чёрту дистанция?! Ты можешь мне объяснить? Я умолкаю, чтобы в очередной раз испытать этот катарсис, это умопомрачение, чтобы ещё раз попытаться понять… Ах, вот же, вот! Вот объяснение: В разнос, в распыл, в разгул — весь белый свет, В расход — мою мятущуюся душу, Ответов нет, советов — тоже нет, Есть мы без кожи — нервами наружу… И вот эту нашу кожу, одну на двоих, вдруг сдёрнули, сдёрнули… Содрали… Всеми нашими нервами, голыми-голыми нервами — наружу… Миру в морду! В морду!.. Ни женой. Ни сестрой. Ни прилипчивой тенью. Я была миражом. Куражом. Наважденьем. Не травой-муравой. Не ручьем по колени. Голубым тростником из твоих сновидений. Острой памятью кож. Кровотоком совместным Перекрестием душ. И судеб перекрестьем. — Понимаешь, — говорю я, — «Острой памятью кож…». Кож, кож… Наших сросшихся кож… Понимаешь, говорю, — «Кровотоком совместным, перекрестием душ…». Понимаешь?.. — Рест, на… Лена суёт мне стакан с виски. — Ты можешь мне толком сказать, о какой дистанции она мне толкует? «Я была миражом… наважденьем… голубым тростником…». Придумала же!.. — У тебя глаза… — Красные?! Я знаю. Я знаю, что когда злюсь, у меня не только краснеют глаза, но и… Надо же — «Куражом…»!.. — Зелёные, — говорит Лена, — пей уже… «Кровотоком совместным»!.. Воооот!.. Вот же!.. — Хочешь петь — пей? — спрашиваю я, сделав глоток и улыбнувшись. — Да, пей и пой! Ты, кстати, петь хоть умеешь? Хм! Петь?! Тут надо волком выть! — А как же говорю я, — ещё как! И пою про то, как расцветали яблони и груши… — Врёшь, говорит Лена, — тут-то врёшь… Ну, да ладно, Катька не заметит. Неужели эта дистанция так уж и непреодолима, думаю я. Ти, думаю я, как же до тебя дотянуться, откусить жирный кус, ну хоть крохотный косочек? И теперь улыбаюсь: я похож на того осла, что тянется за пучком сена, болтающегося на ниточке перед мордой. А что похож! Похож! Осёл! Вот тебе — целый пук! Перед мордой… И дистанция ведь безысходно непреодолима. — Идем, — говорит Тина, — не оглядывайся! Не то станешь соляным столбом. Ты — непостижима! «…живёшь в моей крови, а значит, продлеваешь эту жизнь…». — Пой, пой, — говорит Лена, продолжай. Мне нравится. «Про степного сизого орла». — И вот Жора, — говорю я, — вывалился… Убиться можно!.. — Как так вывалился? — спрашивает Лена. — А, — говорю я, — ну их… Надоели! Давай лучше… — Кто надоел-то? — Давай лучше досмотрим… Ну помнишь? Чем там всё кончилось? — Что досмотрим-то? — Ну «Запах», — говорю я, — или как там его? Фильм тот. «Запах женщины». Или как там его? — Запах не смотрят, — говорит Лена, — женщину надо вдыхать… — Пить, — уточняю я. …а после я тебе отдам сполна, за то, что пойман вечер… — Ладно, — говорит Лена, — пить так пить… Давай так давай… Елена — прекрасна! Пить — так пить! «…за то, что пойман вечер…». Ладно… Потом досмотрим… Пойман? Вечер?! Ти, я на крючке? Ах, ты не моя травушка-муравушка!.. Время от времени, думая о Тине, ловлю себя на том, что приучаю себя к мысли: «Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай!» Приучаю… Приучу?.. Я не отвечаю самому себе, я только слышу: …я кладу два пальца как двуперстие на биение пульса в яремной ямке и слова выходят кровавой взвесью без остатка на серые полустанки... И слова выходят… Я затыкаю уши указательными пальцами. Чтобы не слышать слов. Бедняга!.. … мир сошел с ума. Он сошел с китов, со слонов и раненой черепахи. отшептать его не хватает слов, черепов для заклятий и горьких ахов… Задача, как оказалось, не только в том, что мои пальцы, как затычки, совершенно неспособны удержать Тинкины слова. Они лезут, сочатся в мой череп, как вода сквозь пальцы, как заклятия… Просто слов не хватает! Ни слов, ни злых горьких ахов. Ти, помолчи, а?! Твоя необузданная правда мира испепеляет. Ты меня убиваешь, я страдаю, как пес, как последний пес… Я не верю, что ты… Я этому не верю… Я твердо знаю, что ты, Ти, бесстрашна в своих взглядах на… … я сама-как взмах, как удар бича. нас, таких нелепых в шаблон не втиснешь и не взвесишь страх на моих весах. если только сам своей смерти свистнешь и пойдешь вдвоем, словно с верным псом, вдоль по белой пустыне аршины мерить... Секунды твоих стихов и те кажутся вечностью! Тогда-то и слышен их распоротый крик: ... я вчера стучалась в твой старый дом. я ошиблась эпохой, страной и дверью. Думаешь, ошиблась? У вечности ведь не бывает эпох. И страна моя без границ. А дверь давно сорвана с петель — ко мне не достучишься! Даже порога нет. Надо просто одолеть эту безошибочную пустоту. Ти, я — на крючке? — Куда Жора-то… Вывалился с креста? — спрашивает Лена. Куда-куда… А куда можно вывалиться с креста? — В небо, — говорю я, — куда же ещё? Как птенец из гнезда! — В небо?! Ну, а куда ещё-то?!!! — Ага, — говорю я, — уселся на облачке рядышком с Ним… Свесил ноженьки… Лена недоумевает. — И каков же, позволь спросить тебя, вывод? — Не надо выводов, — прошу я. Мы рисуем. Мазок. Каприз. ‟Ты испачкал вот здесь. Утрись”. Мир, впечатанный в наш эскиз, Подставляет живот под кисть. Вот уж подставляет… Не жалея живота…