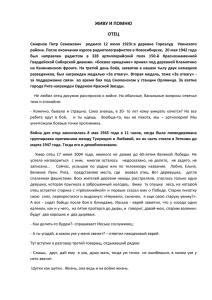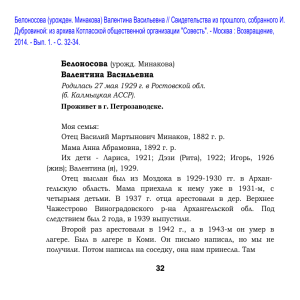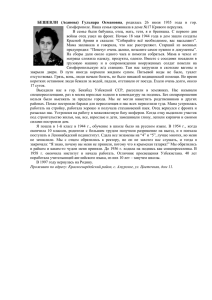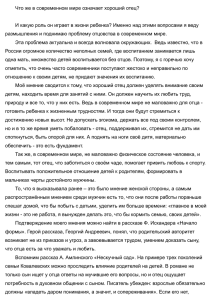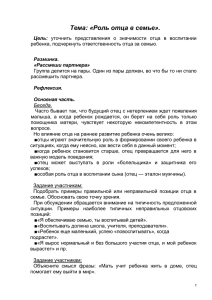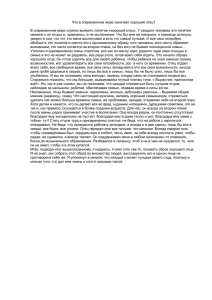уроки моего детства
advertisement

1 УРОКИ МОЕГО ДЕТСТВА (собственное сочинение Зворыгина Леонида Васильевича, рождения 1931 года, месяца января, числа 22) Род мой, в принципе, крестьянский. Дед по отцу – вятский хлебопашец села Сырчан, где я родился, имел порядка 50 десятин земли, табун из 10–15 лошадей, небольшое стадо коров и овец, несколько хряков, куриное и утиное множество. И это в Вятской губернии, которая считалась в России одной из беднейших. Чтобы обиходить все это хозяйство, как рассказывала мама, все вставали в 4 часа утра и ложились с заходом солнца. И, например, чтобы не тратить ей впустую время в период жатвы на мою кормежку, меня брали в поле и в тенечке под копной сжатой пшеницы или ржи я ждал этого момента. Зимой дед Андрей плел лапти, изготавливал деревянную крестьянскую утварь (вилы, грабли, лопаты, кадки, чашки и пр.), мастерил сани, кошовки, тарантасы. В определенное время результат сельскохозяйственного ремесленного производства отвозился (естественно лошадьми) на базар в города Нолинск (родина Вячеслава Михайловича Молотова, 40 км от села) и Уржум (родина Сергея Мироновича Кирова, 50 км от села), или на ярмарку в Казань (университетские годы Владимира Ильича Ульянова, более чем 200 км от села). У деда Андрея все было добротно: двухэтажный дом и скотные дворы под одной крышей, гумно, коновязка, хлебный склад и сарай под сушку льна. Все это чуть-чуть осталось в моей памяти, а лошади, вероятно, в генах. Только баня у чистого-чистого ручья, берущего начало от родников под специальным навесом посредине села, почему-то была по-черному, в которой я не любил мыться вместе с дедом и отцом. А теперь всего этого уже нет: нет пашен вокруг села – они заросли кустарником; не видно табуна лошадей и стада коров; закрыты школа, больница, церковь; сельское кладбище и то в разорении. В селе осталось доживающими свой век 5–6 пенсионеров. Вокруг ведутся массированные порубки леса, ибо сосна и ель в здешних местах – отменный строительный материал. Богатством, не принадлежащим народу, руководят не местные, в основном, с Кавказа. Дед Андрей был уникален не только в своем труде. Он умел держать порядок в доме без всякого ослушания, бабушку Лизу не раз вожжами охаживал. Кончил четыре класса церковно-приходской школы. Призванный на русско-японскую войну, за несколько лет дослужился до чина фельдфебеля (по настоящим меркам, вероятно, полковника). Имел исключительную память, пытливый ум и русскую смекалку. Проехавши по железной дороге в ту войну до Дальнего Востока и обратно, он до глубокой старости помнил название каждой станции и интересные подробности. Или такое. В 1955 году я приехал к нему в деревню на «Москвиче – 401», приобретенном на заработанные в урановом руднике деньги и еще диковинкой в этих местах. Тетя открыла мне ворота дома, я заехал во двор. Дед спустился по лестнице, обнялись, он похлопал ладошкой по капоту, будучи совершенно слепым и уже далеко за 80, и спросил: – Леня, а сколько тут лошадей? Отвечаю: – Двадцать четыре. – Да, тебя уже пора раскулачивать! Дед Андрей был глубоко верующим человеком. Сумел организовать на селе постройку церкви, был ее бессменным старостой во все времена, когда она то закрывалась, то открывалась. Старался и меня приобщить к церкви, но меня почему-то больше тянуло к ребятам на улицу. Он даже, когда я заканчивал десятилетку, пообещал, если захочу, связаться в Сергиевом Посаде с церковным начальством, с которым он имел контакты, и откуда постоянно получал церковную литературу, чтобы меня приняли в 2 семинарию. Но и в этом у меня желания не проявилось. Надо честно сказать, мое негативное решение не вызвало у него какого-либо раздражения, сказав: – Поступай так, как решишь сам. Вероятно, ты уже комсомолец? – Да, – был мой ответ. В конечном итоге, пусть меня никто не осудит, я не стал воинствующим атеистом и остался просто христианином. На этом же уровне, по отношению к вере, прожили свою жизнь мои родители. Поэтому их толерантность к вере и привела меня к другим человеческим ценностям. Познавать что-то новое и видеть в этом смысл для простого крестьянского мужика, имеющего по тем временам не малую семью и большое хозяйство, было вероятно не просто. К тому говорю, что дед Андрей, имея единственного сына Василия, моего отца, дал ему возможность закончить школу и определить его (детали не знаю) в Нижнем Новгороде на курсы (вероятно, на уровне среднетехнических) по счету, бухгалтерии и экономике. Возможно, дед имел в этом свой умысел, но выход в большой городской мир отца и последующие события сыграли на определенное похолодание в их отношениях. Однако рассказ в этом направлении пока прервем и кое-что поведаем о деде со стороны мамы, Алексее. Дед Алексей жил в деревне Опаек, в 12 км от села Сырчан. Хлебопашеством он не интересовался, а имел артель из 10–15 наемных рабочих, которая занималась выделкой шкур для изготовления шуб, тулупов, подстилок в сани, кошовки, тарантасы; а также пимокатством, снабжая валенками всю округу и реализуя продукцию за ее пределами. Качество было отменное, как для простого люда, так и городских модниц. Кроме того, дед Алексей серьезно увлекался охотой, бортничеством, пчеловодством, рыболовством, а дичь, мед и улов шли не только для семьи, но и на продажу. (Кстати, моя сестра, проживающая в Москве, вот уже несколько лет, узнав по рекламе, ездит на осеннюю ярмарку и покупает действительно настоящий и абсолютно экологически чистый мед у пчеловодов села Нема, бывшего районного центра Кировской области, в который административно входила деревня Опаек). В период экспроприации заводов и фабрик в народную собственность (1935 – 1936 гг.) предприятие деда Алексея также стало государственным. У него даже отобрали пятистенный дом под сельский клуб, а семья разместилась в теплушке. Дед Алексей с горя запил и вскоре скончался. От него в наследство мне достались кое-какие рыболовецкие снасти. С дедом Алексеем я общался мало, но в памяти остался такой эпизод. Накатавшись на санках с горы (тоже смастеренных руками деда Андрея), пришел домой, разделся, забрался на полати. Смотрел: за крашеным столом с четвертью самогона, с чашкой квашенной капусты, соленых огурцов, караваем свежеиспеченного хлеба и еще чего-то; на крашеных лавках сидели два здоровых мужика – один с рыжей бородой (дед Андрей), другой с черной (дед Алексей) – пили, закусывали, мирно разговаривали, а потом запели в два голоса «Степь да степь кругом…», «Извела меня кручина…», «Ямщик, не гони лошадей…». Мне было тепло, уютно и радостно. Начиная воспоминания от общения со своими дедами и начального периода детства, мой первый жизненный урок, практически подсознательно, был таков. Известная истина, что любовь к Родине впитывается с молоком матери, естественно непоколебима. Любовь к малой родине, к своим родственным корням закладывается с самого юного детства, и прежде всего с того что и кто тебя окружает. В молодости, когда жива была мама, в местах детства я бывал практически каждый год. Сейчас реже, да и там не то, что было раньше. Но даже сейчас бывает – приснится самая длинная санная горка от одного края села до другого, самая рыбная речка Ашмат, самый чистый ручей за огородами, самый теплый пруд с мальками и головастиками, самая крупная и вкусная черемуха, самые верные и надежные друзья и т.д., и т.д.– самые. Мне кажется, даже 3 деревенская церковь краше и величественнее Храма Василия Блаженного на Красной площади. А восприятие на всю жизнь шершавой дедовской руки, поглаживающей вихрастую голову, его молитвы на сон грядущий и запах рабочего пота от рубашки, сладкие невмоготу бабушкины ватрушки со сметаной из погребка и пр., пр. Этот урок привязанности к своей земле, ее ценностям, которые надо беречь и уважительно к ним относиться, дали мне родные старшего поколения. В грезах с давних пор думаешь – сбросить бы эдак годочков 50–60, стать вольным пахарем, заиметь табунок лошадей; да в масленицу на троечке с колокольчиками (один храню от деда Андрея), посадив в кошовку пять внучек; вдоль села, вдоль села – и в чистое поле. Дух захватывает. Сейчас можно было вернуться на круги своя, но время ушло. В реальности было желание кое-что осуществить в миниатюре: до развала СССР, выйдя на пенсию, построить дачу и купить лошадь. Дачу построил и внучки при каждой встрече – «Деда, когда ты купишь лошадь?». Но выбранный мною путь научного сотрудника не позволил выполнить даже этого, а внучки уже повзрослели. Ветвь рода деда Алексея, отца мамы, постепенно исчезла из моего общения. Деревни Опаек больше нет в реальности и на карте тоже. Но с Великой Отечественной войной у этой семьи было связано вот что. Его сын Александр по возрасту не был мобилизован на войну, но по желанию жителей деревни его избрали председателем колхоза. Каким председателем колхоза Александр Алексеевич был мне неизвестно, но вероятно сердце у него к своим односельчанам было доброе. Но шла война, законы стали еще суровее, чем в предвоенное время. Из закромов колхозов выметали все до зернышка, забирали скот на мясо для армии и работников военных предприятий. Колхозники деревни, естественно одни женщины и их дети, стали сильно голодать: дядя Александр не выдержал и часть зерна из семенного фонда им роздал. Это стало известно соответствующим органам, ему грозила «вышка» и он совершил суицид. Два двоюродных брата из этого рода, сыновья дяди Александра, участвовали в Великой Отечественной войне. Афанасий был призван в армию перед войной, его часть дислоцировалась в Брестской крепости, и он погиб при ее защите. Николай был тяжело ранен, вылечился и комиссовался, продолжительное время работал на оборонном заводе в Кирове-Чепецке. Но еще раз вернемся в село Сырчан. Сельская жизнь крестьян в стране находилась на крутом переломе – началась сплошная коллективизация. Мой отец, фельдшер Вахрушев и еще один сельский активист, за которым в 1937 году найдут ошибки, осудят и расстреляют, порешили сотворить чудо и сделать жизнь всех крестьян села более легкой, зажиточной и привлекательной. Они организовали колхоз «Светлый путь» в котором отец определился счетоводом. В один день календаря он сказал деду Андрею, что «если ты завтра не определишь свое хозяйство в колхоз, то послезавтра тебя придут раскулачивать, а потом может случиться и еще хуже что-нибудь». По словам тети Любы, дед Андрей собрал все семейство, естественно кроме отца, и погнали все движимое хозяйство в колхозные загоны. Дед всю дорогу и несколько дней подряд плакал. Потом всю крестьянскую недвижимость деда Андрея также забрали в колхоз (с этого момента дед Андрей фактически сник) и в крестьянской работе колхоза (пахота, сенокос, уборка урожая) не участвовал. Содержал положенное по закону количество скота и довольствовался урожаем с 6 соток земли на приусадебном участке. За трудодни изготавливал для колхоза сельский инвентарь. Отношения отца и деда вышли на грань отчуждения и, чтобы они вернулись в нормальное русло, потребовалось достаточно много времени. Тогда в этой ситуации я абсолютно не разбирался, не знал, кто прав и кто виноват, одинаково любил (и до сих пор люблю) деда и отца. Единственное, что потом мне стало известно, дед сказал отцу: – Если ты еще в партию вступишь, я тебя прокляну. 4 Так и остался до конца своей жизни мой отец Василий беспартийным большевиком (ББ). Такая аббревиатура существовала в нашей стране, пока у власти находились коммунисты. Опуская детали и осознав уже повзрослевши, причины (отчуждение с дедом; публикация в газете «Правда», которую отец выписывал постоянно, о перегибах в проведении коллективизации; гибель единомышленника и похороны фельдшера Вахрушева, на могиле которого отец проплакал до утра) моя семья (отец, мама, старшая сестра, я, пятилетняя и полугодовалая сестры) летом 1938 года оказались в поселке Медведок (18 км от села Сырчан). Место, в свое время, также достопримечательное. Поселок состоял из двух, в основном, жилых частных построек. Так называемый нижний поселок застроен был непосредственно на берегу реки Вятка и устья затона, бывшей старицы реки. Здесь на воде находился дебаркадер, к которому причаливали пароходы, а на крутом берегу красовалось заметное по реке издалека одноэтажное здание с пилонами, резными окнами и вывеской «Пристань Медведок». Верхняя часть поселка, примыкавшая к мощеному булыжником и обсаженному березами в екатерининские времена тракту, была сформирована частным сектором, различными конторами и учреждениями, а также небольшой, если можно так выразиться, верфью, на которой строились не самоходные баржи. Между обеими частями поселка на берегу затона находились так называемое предприятие заготзерно с не менее 15–ю складами, сушилкой, котельной, бараками для конторы и жилья, а также нефтебаза с десятком больших хранилищ. Теперь всего этого уже нет: Вятка обмелела; плотов не сплавляют; пароходы в верховье и средней части реки не ходят; нет ни заготзерно, ни нефтебазы, ни верфи. А тогда, в 1938 году, отец, проработав недолго в нескольких организациях и помыкавшись с семьей по частному жилью, был оформлен на работу главным бухгалтером сельпо (расшифровывается приблизительно как контора сельской потребительской кооперации). Контора сельпо размещалась в двухэтажном доме на втором этаже, а на первом этаже в одной из комнат жила наша семья, в другой комнате – семья председателя сельпо. Надо сказать, что этот добротный дом сельпо не строило. К нему, с входом со двора, мощеного булыжником, примыкали кирпичное одноэтажное здание пекарни, холодное летнее помещение для жилья (иначе горница), скотные дворы. Все это хозяйство в начале 30-х годов прошлого столетия было национализировано у местного купца Касаткина. Таких добротных двухэтажных домов со складами, подсобными помещениями для различного потребительского производства в поселке было не менее десятка (естественно, ранее купеческих), поскольку он находился на магистральном пути по реке и тракту между губернскими городами Вяткой и Казанью. В бытность моего детства в этих домах размещались различные конторы, школа для 5–7классов, которую я посещал. Родители, естественно с подачи мамы: чтобы дети не болели и росли здоровыми – их надо отпаивать молоком, – сходу приобрели корову. Мама же устроилась работать пекарем в эту пекарню и, забегая вперед, скажу, имея небольшое образование к началу войны, была уже заведующей этой пекарни. Ушла на пенсию после войны с этой должности. И не скрываю, с ее слов, имея всегда хороший припек, мы в войну не голодали. В это время и на этом месте я обзавелся новыми друзьями – Санькой Ентальцевым и Ленькой Родыгиным. Они оба были из многосемейных, но без отцов. Как и еще у некоторых ребят в округе без отцов. Вопрос не обсуждался – умерли, да и все. Почему и отчего умерли – до моего ума не доходило. Поселок речников, вредного заводского производства нет, пили естественно, горькую, но не мор же прошел по поселку. Это были для меня уроки более позднего времени. Запомнились на всю жизнь другие уроки из детства. Набегавшись и накупавшись с друзьями с порога пекарни кричу: 5 – Мам, я есть хочу! – Подождите, сейчас будет свежая выпечка. Наконец получаю в руки теплую булку белого хлеба, передаю ребятам. Сам лезу в погреб за кринкой молока. Усаживаемся на крыльце дома, поочередно отламываем от булки кусок теплого хлеба и запиваем из кринки холодным молоком. Становимся сытыми, довольными от души. Не сомневаюсь нисколько: и мама в свершившимся проступке, как во всей своей жизни, старалась, чем могла, помочь чужим людям, дальним и близким родственникам. Да и отец, в принципе, имел доброе сердце. Даже поступок видеть всех крестьян села богатыми и счастливыми исходил наверняка из добрых побуждений. Многократно был очевидцем, как к нему обращались за советом жители поселка, он писал своим каллиграфическим почерком для них разные просьбы и т.д. Был при своем высоком росте всегда подтянут, чисто выбрит, выдержан, корректен. От него, как и от деда, ни разу не слышал матерного слова. Вот эти, так необходимые всегда для нормального облика общества, весьма простые человеческие достоинства: доброта, порядочность, выдержанность, – я пытался усвоить от своих родителей, воплотить в своей жизни и передать своим детям. Друзья мои, Санька и Ленька, явились первопричиной следующего, не очень приятного для меня, урока. Несмотря на малолетство, (хотя они были постарше меня на год и два) они покуривали: «сшибали» у взрослых, собирали «чинарики» (т.е. окурки) у сельмага и клуба. Иногда пользовались самокруткой из мха. Пытались приучить меня к этому, я пару раз попробовал, мне не очень понравилось. Не знаю в чем причина, но мужской род (о женском разговора нет) Зворыгиных: дед, отец, я, сын – не курящие. Так вот, не имея ничего покурить, Санька меня спрашивает: – А деньги у вас есть? – Конечно, папа вчера зарплату получил. Получив зарплату, отец всегда клал ее на комод и дальше деньгами полностью распоряжалась мама. Этот принцип, как стал получать зарплату и появилась семья, соблюдаю и я. Но тогда мною был нарушен этот принцип – пацаны попросили взять одну денежку, поскольку им очень хотелось курить. Денежка оказалась пятеркой и по тем временам ребятам хватило на курево, конфеты, пряники и даже четушку. Выпив четушку, закусив и закурив, они оказались в единственной для песчаного поселка луже. Новость чрезвычайная для поселка и известная всем сразу же. Меня позвали с улицы, и я предстал перед отцом. – Откуда у Саньки и Леньки деньги?! Мои глаза уперлись в пол. Отец подошел к комоду, пересчитал деньги. – Снимай штаны. И стал медленно вынимать ремень из пояса. Я не стал просить прощения, чувствовал свою вину, не плакал. Мама стояла рядом и говорила: – Ну хватит, Вася, хватит. Надернув штанишки, я забрался под кровать, сестренки заглядывали и спрашивали: – Леня, тебе больно? Наступил ужин, все сели за стол, мне тоже хотелось есть. Мама несколько раз попросила отца простить меня. – Ну хватит из себя обиженного изображать, вылазь. Да запомни: красть ни у своих, тем более у чужих – непозволительно. Отец до этого случая и после, никогда меня даже пальцем не тронул. И урок этот я запомнил крепко-крепко. Друг Санька пошел в школу, я увязался за ним. Школа давнишняя, одноэтажная, на берегу речки, впадавшей в затон, с прекрасной панорамой заливных лугов и дубовой рощи. В этой школе с начала ее постройки учились 1-е – 4-е классы. На первом уроке учительница спрашивает: – Леня, ты зачем пришел? – Я с Санькой. 6 –Ну завтра уж не приходи. А назавтра я опять пришел и так остался с Санькой до окончания четырехлетки. Кроме учебы, толкотни на переменах, быстрых пробежек к речке, в которой летом поили лошадей, приезжавших на базар колхозников и разрешавших за это дополнительно верхом (ох, как же после этого болело одно место), прокатиться по лугу, запомнились недетские забавы этого периода. Полиграфическая промышленность не успевала за быстропротекающими событиями 1937–1939 гг. Наша учительница приходила в класс, давала клей и клочок газеты, просила открыть какую-то страницу учебника и заклеить фотографию такого-то, такого-то страшного врага народа. По-детски страшным он нам не казался, но мы верили, что это так. Уже шла гражданская война в Испании. Мельком, с подачи отца, из газет и журналов знал о ней. У ребят на голове стали модными испанки. В Артеке принимали испанских пионеров. В сознании взрослых страны подспудно чувствовалось скорое приближение тяжелой и грозной для нас новой войны. Такая атмосфера существенно влияла на поведение юношеского и детского поколения. Во-первых, игры старших ребят с привлечением младших, стали носить явно выраженный военный уклон. Фильм «Трактористы» отодвинулся на второй план, в фаворе были «Чапаев» (смотрел не менее 10 раз!) и «Мы из Кронштадта». Шла бескомпромиссная война, но без кровопролития, между нижним и верхним поселками. Рыли окопы, ходили в разведку, вступали в ближний бой. Деревянные сабли, деревянные ружья и даже для звукового эффекта «поджиги» применялись в ближнем бою. Санька и я были элитными «красноармейцами», нас никто не смел тронуть или обидеть. У нас была штатная обязанность адьютантов, так как старший брат Саньки, Иван, был одним из командиров и готовился в призывники. Это были ребята 1922–1923 годов рождения, их учили строевой, гранатометанию, они бегали кросс и сдавали нормативы на знак «Будь готов к труду и обороне». Здоровые, красивые, крепкие ребята и мы младшие им завидовали. Их под марш духового оркестра в 1940–1941 гг. провожали на пароход и они первыми попали в пекло войны. Вернулись единицы. Приближение войны и важность объекта работы, а может и заработная плата, сказались на том, что отцу предложили должность главного бухгалтера заготзерно. Семья поселилась в большой комнате барака, смежной с конторой заготзерно. Зимой вместе с новыми друзьями Генкой Черепановым и Вовкой Кожевниковым ходил в школу (расстояние 3–4 км), катался с горки на санках и самодельных лыжах, бегал по перволедку затона, оступившись в воду не раз. Учился без особого напряга и нажима, неплохо воспринимал математику, физику, географию. Хуже шел русский язык. Читал порядочно, разместившись на лежанке за «буржуйкой», где была пробита дырка в стене с соседней комнатой для общения с другом Вовкой. Летом с друзьями рыбачили, собирали грибы, зная особые места. Окончив семилетку, старшая сестра пошла работать, и в мои постоянные обязанности без особого напоминания родителей полностью вошли уход за коровой, овцами, поросенком. От других домашних работ (например, мытья пола) мама меня категорически отстраняла. «Ты что, девок полон двор». Участвовал также с родителями в сенокосе, заготовке дров для зимы. Эти первые навыки мне пригодились во всей моей дальнейшей жизни. А пол потом научился мыть элементарно. Простой урок детства – трудиться, для любого человека, живущего на земле, также необходим, как и его рождение. Летом 21 июня 1941 года отец, я и дядя Миша (муж сестры отца, работавшего в военизированной охране заготзерно и жившего с семьей в соседнем бараке) спали на сеновале над срубленным загоном для скота за бараками. Рано утром пришла дежурная из конторы, разбудила нас и сказала: «Василий Андреевич, война». Дальше было не до сна. Стал собираться народ. Дядю Мишу мобилизовали в первые же дни войны. О нем до сих пор ничего не известно, числится «без вести пропавшим». Отец пошел записываться на 7 пункт добровольцем, но ему, естественно, отказали, так как из-за травмы детства он значился «непригодным к воинской повинности». Скоро в штате заготзерно оказались исключительно одни женщины, несколько стариков заведующие складами, директор Девятых – из местных, и главный инженер – из приезжих (оба коммуниста, освобожденные от призыва «по брони»), отец. В поселке появились репатриированные с Поволжья и Прибалтики. Немецкий язык как раз начала вести учительница с Поволжья: интересно, доходчиво и усвояемо, что мне очень помогло в общении с местными горняками при работе в ГДР. Приехавшие прибалты были, в основном, более почтенного возраста и достаточно обеспеченными. Одного из них поселили у местных недалеко от заготзерно, он оказался рыбаком, прихватившим в ссылку даже лодку шпонку, которую я увидел впервые. Попросил маму пообщаться с ним, чтобы он взял меня в помощники гребцом. Он согласился, по-русски не говорил, общались жестами. У него также была добротная снасть-сети, улов всегда был хорошим, с которым делился со мной «по-братски». Но через непродолжительное время всех прибалтов снова собрали и отправили по-моему в Казахстан. Не было никаких признаков сгущения туч над Медведским заготзерно, не было никаких разговоров, что оно не справляется с поставленными перед ним задачами. Гром грянул среди чистого неба. По предвоенному времени охрана «стратегически важного объекта» в виде деревянного забора из плах со щелями в ладонь, высотой не более двух метров и колючей проволокой сверху, считалась удовлетворительной. В летнее время, когда уровень воды в реке и затоне падал, по прибрежью можно было проехать на танке. Да и обойти забор по воде в любое летнее время было не проблемой. Этим мы и пользовались постоянно, потому что клев на территории заготзерно всегда был классический. Зимой у забора наметало с обеих сторон сугробы снега по самую макушку. Катаясь на лыжах, перешагнув через колючую проволоку, мы снова оказывались на запретной территории. Злого умысла не имели, нас просто выгоняли подальше. Естественно, убирать снег было некому и нечем. Для пущей важности у ворот заготзерно находился охранник в форме и с трехлинейкой, проверял пропуска. В январе 1943 года на территории заготзерно случилось ЧП. За забором, зарытыми в снег, нашли четыре мешка несортированного зерна. Приехали представители КГБ, начались разборки. Прямых злоумышленников не выявили, возникли претензии к руководителям. Директору и главному инженеру вменили 58 статью (вредительство и потеря бдительности) и сразу взяли под стражу. Главному бухгалтеру, то есть моему отцу, была предьявлена 102 статья (халатность). Началось следствие, и как понимал отец, не предвещавшее ничего хорошего. Были известны неединичные случаи, когда за несколько колосков сажали в тюрьму. Для отца, вероятно, настал момент истины, он собрался встретиться с дедом Андреем. До деда Андрея также дошли слухи о случившемся ЧП. Запрягши в сани единственную, в прямом смысле, оставшуюся тягловую силу в заготзерно – мерина Сивого – закутав меня в тулуп, ранним утром тронулись в 18-километровый путь. Другой, основной тягловой силой в войну и послевоенное время на сортировке, погрузке, транспортировке, разгрузке зерна были женщины, испытавшие по полной программе душевный и физический груз того времени. Отец с дедом обнялись, я пообщался с ним, бабушкой, двумя тетями, вручил гостинцы: две булки черного хлеба и сухари. Бабушка расплакалась и вместо так мною любимых ватрушек показала каравай, где в долях присутствовала ржаная мука, лебеда и кора. Плата за трудодни, зарабатываемые тетями в колхозе, была доведена до самого критического минимума. Так что вскоре от всех тягот самая молодая, веселая, задорная тетя Маруся заболела и ушла в мир иной. 8 По привычке забрался на полати, поглядывал на отца и деда, прислушивался к их неторопливому разговору. Русский обычай не был нарушен – на крашеном столе стояла бутылка светлой. Для такого важного случая отец прихватил ее с собой, а может и не одну. Зимний день был коротким, начали собираться в обратный путь. Все расплакались (кроме меня), вероятно внутренне чувствуя, что встречаются последний раз. Проехали село, поднялись на взгорок и началось поле. Отец, утомленный встречей, переживаниями и выпитым, дал мне вожжи и сказал, что он немножко вздремнет, а Сивого понужать не надо, он дорогу домой всегда хорошо помнит. Окончательно стемнело и слегка запуржило. Тихо похрапывал отец, скрипели сани и мирно и не спеша Сивый вез нас в темноту. И вдруг уперся головой в стог сена и начал его жевать. С перепугу я заплакал, растолкал отца. Он меня успокоил, немножко поругал Сивого, развернул мерина и сани, через некоторое время мы снова выехали на большак. К утру были дома, отец собрался на работу, я – в школу. Мама спросила отца, как там бытует тятя (по деревенски – папин отец), он коротко рассказал о встрече. Вернувшись из школы, мама меня попросила рассказать о поездке более подробно. Я все изложил в деталях, не забыв о стоге сена. В итоге мама сильно расстроилась, а когда появился отец с работы, ему досталось сполна: – Голова твоя чем думала? Ты не только сам бы замерз, ребенка бы угробил. Мне было очень-очень жаль отца. Но я оправдывался тем, что они сами много раз внушали – врать нельзя, нужно говорить только правду. Хотя этот урок детства был с горьким привкусом, я старался также помнить о нем всю жизнь. Следствие по делу ЧП в заготзерно прошло быстро. Суд был назначен в Нолинске. Перед отъездом отец со мной провел внушительную, душевную и на равных беседу. По правде надо сказать – это был последний урок моего детства, хотя мне было всего 12 лет. Тезисы этой беседы таковы: – Какой будет приговор, мне безразлично, я ни в чем не виноват, буду проситься на фронт. – В доме мужчина будет только один – ты, значит ты – старший, поэтому за все несешь ответственность. – Коль ты мужчина и старший в доме, то всю мужскую работу должен выполнять сам. – Нужно учиться: с пустой головой кашу не сваришь, дом не построишь. Приговор был жестким, всем троим определили значительные сроки наказания с правом искупить свою вину кровью на фронте. Этим правом они воспользовались. На суде была только одна мама, через несколько дней их этапом отправили в Киров. Боевой путь отца по времени и дислокации был очень, очень коротким. Формирование штрафбатальона, короткая политучеба и освоение первичных солдатских навыков, фронт – операция по разблокированию героического города Ленинграда. Всего четыре солдатских треугольника: «Здравствуйте; приветы и поклоны тем-то, тем-то; Анка, береги детей; рвусь на фронт». Потом длительное молчание и похоронка: «Ваш муж, Зворыгин Василий Андреевич геройски погиб, защищая нашу Советскую Родину. Захоронен в братской могиле, квадрат №–№ Тосненского района Ленинградской области». И теперь даже по мелочам мне нельзя было ослушаться отца. Никаких детских игр в моей жизни больше не было. Овладев косой, старался не отставать от мамы. Ее предложение брать грабли в руки и начать вершить стог сена, считал оскорбительным для мужика. В руках у мужика должны быть вилы, чтобы пластами подавать сено на стог. По первому снежку вывозили это сено с лугов. Естественно, вручную: я – коренником в кошовке, мама – толкачем сзади. 9 Из ближнего леса подобрал весь сушняк на дрова, купили воз дров – с сестрой испилили, расколол. Потом эта процедура стала до старости развлечением и ощущением полезности. Летом 1944 года нас попросили съехать из барака заготзерно. Правда, не на улицу, а в развалившийся дом колхозника. Заделал сквозные дыры, зашил и утеплил все окна, в одной из комнат смастерил нары, на которых всей семьей вповалку перезимовали 1945 год. Уроки готовили у «буржуйки», руки мерзли. Последние два года писали уже на газетах. Под моей постоянной опекой были четыре сестры (две двоюродные). Я не дрался ни с кем, но мне как-то удавалось добиться, что моих сестер никто не обижал. День 9 мая 1945 года для меня очень значимый и незабываемый. Весенний, солнечный, радостный, питающий надежды. Школа была семилеткой, класс готовился к выпускным экзаменам. Известие о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, которое стало известно директору школы Марии Андреевне Черняевой, подняло всех с мест. Выбежали на площадь перед школой, клубом и поселковым советом. Стал собираться народ. Ребята прыгали, скакали, кричали. Взрослые обнимались. Начался торжественный митинг – мы победили! Кончилось окончательно детство. Позднее в памяти запечатлелось разрушенные и еще не восстановленные Ленинград и Лейпциг, Бухенвальд, Пискаревское кладбище, Саласпилс. И братская могила на станции Любань, куда был перезахоронен мой отец. С обелиском на крутом берегу речки Тигода, видного издалека. Мой сын своих дедов не видел. Но я ему очень благодарен за то, что он каждый год всей семьей приезжает 9 мая из Санкт-Петербурга с букетом цветов на могилу деда и прадеда Василия. Никто не забыт и ничто не забыто – для меня это остается святым. Уроки детства формируют характер, принципы и убеждения. Мне будет обидно, если кто-то скажет, что я не прав.