Евстафьева Анна Валерьевна
advertisement
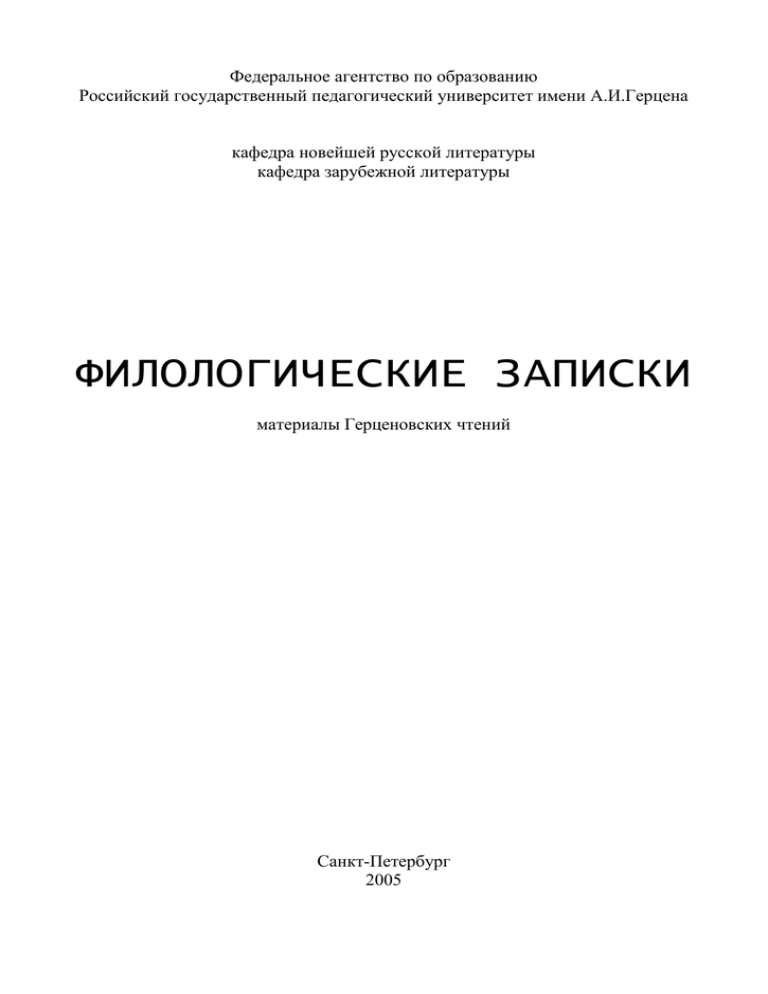
Федеральное агентство по образованию Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена кафедра новейшей русской литературы кафедра зарубежной литературы ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ материалы Герценовских чтений Санкт-Петербург 2005 Филологические записки: материалы герценовских чтений: Сб. ст. / Ред.-сост.: канд.филол.наук А.М.Новожилова; Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена. – Санкт-Петербург, 2005. – 86 с. Научный редактор: доктор филологических наук, профессор С.И.Тимина Ответственный редактор, составитель: кандидат филологических наук А.М.Новожилова Настоящий сборник включает в себя научные статьи, подготовленные на основе материалов Герценовских чтений кафедр новейшей русской литературы и зарубежной литературы филологического факультета РГПУ им. А.И.Герцена, проходивших в Санкт-Петербурге в апреле 2005 г. В исследованиях молодых ученых затрагиваются вопросы теории и художественной практики писателей и поэтов различных литературных направлений и течений новейшей русской и зарубежной литературы. Издание предназначено для филологов, изучающих проблемы развития отечественной и зарубежной литератур, специалистам-филологам, учителямсловесникам, студентам гуманитарных специальностей вузов. ©Коллектив авторов, 2005 ©Кафедра новейшей русской литературы ©Кафедра зарубежной литературы ©Новожилова А.М., составление и редактирование, 2005 2 ФИЛОЛОГИЯ СЕГОДНЯ: МОЛОДЫЕ ГОЛОСА Авторы данного сборника – аспиранты кафедр филологического факультета РГПУ имени А.И.Герцена. Собранные демонстрируют под одной спектр обложкой проблем в материалы жанре их коротких, исследований информативно сконцентрированных статей. Пожалуй, именно эта сжатость, отсутствие «воды» позволяют выявить концептуальную содержательность представленных работ. В сборнике доминируют статьи, посвященные разработке теоретических проблем современного русского литературоведения, таких, например, как способы формирования авторского «я» в художественном тексте (С.Петрова), как обращение к теории синтеза искусств для выявления взаимодействия музыки и литературы (Р.Крауклис), как использование японской поэтической традиции у поэтов Серебряного века (Костюк В.). Авторы находят новые грани в такой, казалось бы, традиционной эстетической категории, как сравнение (А.Камышова), научно обосновывают своеобразие мемуарно- автобиографического жанра в русской литературе ХХ века (А.Новожилова). Проблема интерпретации литературного текста в статье о природе интерпретации (О.Капполь) обогащается новыми примерами анализа. Раздел сборника, посвященный писателям зарубежных стран – охватывает литературу ХIХ – ХХ вв. В каждом отдельном случае молодые исследователи предлагают свое прочтение иноязычной прозы, поэзии и драматургии, используя новейшие принципы литературоведческого анализа. Так, по-новому рассматривается структура внутреннего мира текста «Английских фрагментов» Генриха Гейне (Н.Громова), жанровая специфика «Легенды об Уленшпигеле» Шарля де Костера (Н.Тулякова). Композиционное и сюжетное значение времени в поэзии Томаса Гарди (М.Крылова). В статье Ю.Толокновой убедительно доказывается, что миф является одной из центральных категорий в творчестве крупнейшего ирландского писателя У.Б.Йейтса. Э.Рогожкин выявляет сюжетообразующие и композиционные основы пьесы Т.С.Элиота «Убийство в соборе», оригинальное толкование 3 постмодернистского романа Д.Фаулза «Мантисса», как романа-метафоры, предлагает Н.Картузова. Ценность иных статей сборника – во введении в литературоведческий обиход новых имен писателей, исключенных злой волей из литературного процесса, таких как Александр Добролюбов, Лидия Чарская. Условия плотного пространственного регламента, естественно, вынуждали авторов статей оставлять за рамками своего текста иллюстрации, примеры. В то же время ряд статей умело передает очарование художественного образа, интонацию, музыку стиха (Велимир Хлебников, Елена Гуро, Александр Добролюбов, Иосиф Бродский и др.). Знакомство с большинством представленных работ без всякого усилия побуждает к выводу об их несомненной научной новизне в выборе объекта исследования, самостоятельных подходах, о свежем незашоренном взгляде на сложные вопросы. Привлекает в статьях молодая дискуссионность, отказ от пустой комплиментарной цитатности, апелляция к доказательности, а не «сугубо личной» интерпретации фактов. В добрый путь, молодые коллеги! доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой новейшей русской литературы С.И.Тимина доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой зарубежной литературы Г.В.Стадников 4 Секция новейшей русской литературы Камышова Анна Евгеньевна ОБ УСЛОВНО-ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНОМ СРАВНЕНИИ Вопрос о разграничении сравнений и условно-предположительных высказываний встает перед каждым исследователем, поставившим своей задачей описать сравнения того или иного писателя. Достаточно часто конструкции со словами как будто, как бы, точно, словно и подобными сложно с уверенностью квалифицировать как сравнительные, поэтому семантика указанных слов подталкивает к определению таких оборотов как «условнопредположительных сравнений». В самом деле, слово будто (сравнительный союз) имеет дополнительное значение неуверенности, сомнения в достоверности высказывания, «употребляется при выражении условнопредположительного сравнения и соответствует по значению словам: к а к б ы , к а к е с л и б ы . Наконец он [слепой] остановился, будто прислушиваясь к чему-то (Лермонтов, Тамань)» [9:I,121]. Это же значение обнаруживается и в других словах, например: [Кот] потерся о ноги Кузьмина, промурлыкал и ушел обратно в ночные комнаты, как бы приглашая Кузьмина за собой (Паустовский, Дождливый рассвет); Сверчок трещит однообразно, словно скучает (Тургенев, Дворянское гнездо); Кусты шевелятся и тихо шелестят, точно тихо разговаривают (Гаршин, Четыре дня) [9: II, 7; IV,139,392]. Но всегда ли эти слова являются показателями сравнительной конструкции? Одни исследователи (например, В.Н.Гвоздей) считают, что всегда. Даже более того: за указанными словами Гвоздей склонен признавать только условно-предположительное значение. При этом ученый сетует, что «в научной и справочной литературе» отмеченная им «специфика сравнительных оборотов с «как бы», «как будто», «точно» никак не отражена», приводя в доказательство ссылки на словари литературоведческих терминов. Однако многие исследователи прямо указывали, что семантика сравнения тесно связана с категориями недостоверности, иллюзорности [1: 27-28],[10: 246-247],[2: 144]. Кроме того, как можно было убедиться, толковый словарь в условнопредположительном значении этим словам не отказывает. Между тем В. Н. Гвоздей делает на основании своего тезиса следующее утверждение об их «специфике»: «в таких оборотах соотносятся д в е с и т у а ц и и : исходная, претендующая на достоверное отражение действительности, и— гипотетическая, подчеркнуто отступающая от достоверности. В обеих ситуациях задействован один и тот же объект: по сути он «замыкается» сам на себя. Этим конструкциям присущ вероятностный, предположительный, «сослагательный» оттенок. Они лишены категоричности». Поэтому он называет такие обороты «ситуативными сравнениями» [3: 18]. В качестве примеров приводятся следующие предложения: Маруся поднялась и, как бы желая отблагодарить доктора за лекцию, села за рояль и ударила по клавишам (Чехов, Цветы запоздалые); Он сидел мрачный и говорил, моргая глазами, как бы собираясь заплакать (Чехов, Ворона). В ранг «ситуативных» на основании 5 единственно употребления союза точно (который является «одним из средств создания ситуативного сравнительного оборота» [3: 34]), а не как возводятся и такие чеховские сравнения: Лицо его было сумрачно, не гладко, точно булыжник, щетинистые волосы глядели в разные стороны, глаза слипались (Чехов, Ворона); Тяжелая злоба, точно холодный молоток, повернулась в его душе, и ему захотелось сказать Мане что-нибудь грубое и даже вскочить и ударить ее (Чехов, Учитель словесности) [3:14, 34, 108]. Вернемся к анализу этих примеров чуть позже. Другие исследователи (например, Г.С.Ермолаев) находят критерий для различения сравнения и конструкции с условно-предположительным значением: этим критерием является образность. Ермолаев приводит два примера из «Войны и мира»: Ростов вырвал свою руку и с такою злобой, как будто Денисов был величайший враг его… и Она прошла между расступившимися мужчинами и прямо, не глядя ни на кого, но всем улыбаясь и как бы любезно предоставляя каждому право любоваться красотою своего стана, полных плеч, очень открытой, по тогдашней моде, груди и спины… подошла к Анне Павловне. Комментируя эти примеры, исследователь рассуждает так: «Можно ли назвать такие сравнения образными, зависит, на мой взгляд, от того, насколько ситуация, описанная фразами с «как будто» и «как бы» соответствует реальности. На самом деле Денисов был одним из лучших друзей Ростова. Таким образом, суть первого сравнения заключается в том, что Ростов вел себя по отношению к своему другу так, как он мог бы вести себя по отношению к своему врагу. Это различие существенно, и данное сравнение может рассматриваться как образное. Во втором примере есть высокая степень вероятности того, что Элен сознательно позволяла людям восхищаться красотой своего тела. В этом случае нет очевидной или существенной разницы между содержанием фразы с «как бы» и реальной ситуацией. Второй пример, следовательно, не является образным сравнением» [4: 197-198]. С одной стороны, логика применения критерия образности не вызывает возражений. Действительно, образ обладает внутренним противоречием, неправильностью, с точки зрения логики, это «сходство несходного», или «отождествление противоречащих в широком смысле понятий» [7: 13]. Поэтому, если семантика сопоставляемых компонентов не позволяет логически выявить их сходство, иными словами, если сравнение небуквальное [6:219-236], то оно является образным. С другой стороны, «во многих сравнениях, вводимых этими связками (как будто и как бы. —А. К.), различия между простым и образным сравнением действительно невозможно установить. Отбор образных сравнений поэтому должен определяться сугубо личной интерпретацией исследователя» [4:198]. Думается, в рамках научного труда руководствоваться таким субъективизмом недопустимо. Кроме того, этот вывод ученый делает исходя из того, что все анализируемые им конструкции по определению являются сравнениями. Но так ли это? Решение этого вопроса лежит в сфере лингвистической и имеет два аспекта. Оно связано, во-первых, с понятием о структуре сравнения и способах 6 его выражения, во-вторых, с грамматической неоднозначностью слов будто, словно, точно [11: 225-229]. Начнем с первого аспекта. Структура сравнения представлена тремя компонентами: первый член — то, что сравнивается, второй член — то, с чем сравнивается и третий член (tertium comparationis) — признак, на основании которого устанавливается сходство. Некоторые исследователи выделяют в качестве отдельного, четвертого, компонента этой структуры показатель сравнительного отношения первых двух членов [8: 5162], или, иначе говоря, модализатор [5], который может быть представлен союзами (как, словно), предлогами (подобно, вроде), некоторыми полнозначными словами (похожий, напоминает), морфемами (–ист–). В сравнительной конструкции должны быть представлены, эксплицитно или имплицитно, все компоненты этой структуры, иначе она не будет являться сравнением. Далее. Из многообразных способов выражения сравнения только два — сравнительный оборот и придаточное сравнительное имеют в своем составе сравнительный союз. Однако слова будто, словно, точно могут быть как сравнительными союзами, так и модальными частицами. Различия между ними можно представить в виде предлагаемой нами таблицы [12: 164-165]: Признаки сравнительных союзов Признаки модальных частиц Связующая роль: они соединяют два члена сравнения и одновременно относят их к третьему: Она влекла его к себе, как пропасть, как ужас, как то место, где можно погибнуть (Брюсов, За себя или за другую?). Односторонне соединены лишь с одним словом или сочетанием слов: Являются обязательным структурным элементом сравнительных конструкций: устранение их ведет к полному распаду логикограмматических связей. Изъятие частицы связи не нарушает этих связей, изменяется лишь модальность всей конструкции или отдельной ее части. Она ближе всех была к нему [Кутузову] и видела, как лицо его сморщилось: он точно собрался плакать (Толстой, Война и мир). Выражают отношения уподобления, Не выражают этих отношений, а сходства. служат указанием на предположительность тех отношений, которые существуют между частями предложения. Место союза строго закреплено: в простом предложении — всегда перед вторым членом сравнения, в сложном — в абсолютном начале придаточной части. Частица сохраняет способность передвигаться в пределах предложения вместе с любым членом предложения, модальность которого она выражает. 7 Следовательно, при анализе сочетаний со словами будто, как бы, точно, словно и подобными нужно обращать внимание на структуру конструкции, грамматическое значение этих слов и образность сопоставления. Только выявление всех признаков компаратива позволяет интерпретировать такие конструкции как сравнения. Вернемся теперь к приведенным выше примерам и рассмотрим их с этих позиций. Пять из них (Наконец он [слепой] остановился, будто прислушиваясь к чему-то; [Кот] потерся о ноги Кузьмина, промурлыкал и ушел обратно в ночные комнаты, как бы приглашая Кузьмина за собой; Маруся поднялась и, как бы желая отблагодарить доктора за лекцию, села за рояль и ударила по клавишам; Он сидел мрачный и говорил, моргая глазами, как бы собираясь заплакать; Она прошла между расступившимися мужчинами и прямо, не глядя ни на кого, но всем улыбаясь и как бы любезно предоставляя каждому право любоваться красотою своего стана…) обнаруживают только условно-предположительную модальность. Следующая пара (Сверчок трещит однообразно, словно скучает; Кусты шевелятся и тихо шелестят, точно тихо разговаривают) представляет собой олицетворения с той же модальностью. В самом деле, если опустить словно и точно, конструкция не разрушится, изменится только модальность. Кроме того, нет здесь ни признаков структуры сравнения, ни сравнительной семантики. Два примера (Лицо его было сумрачно, не гладко, точно булыжник…; Тяжелая злоба, точно холодный молоток, повернулась в его душе...) являются обычными сравнительными оборотами без дополнительного условно-предположительного значения. Последний пример (Ростов вырвал свою руку и с такою злобой, как будто Денисов был величайший враг его…) представляет определенную трудность. Чтобы лучше понять особенности этой конструкции, приведем схожие примеры из «Войны и мира»: Пьер шел, переваливаясь своим толстым телом, раздвигая толпу, кивая направо и налево так же небрежно и добродушно, как бы он шел по толпе базара; Он [Пьер] знал это в эту минуту так же верно, как бы он знал это, стоя под венцом с нею; Он [Ростов] ехал теперь рядом с Ильиным... с таким спокойным и беззаботным видом, как будто он ехал кататься. Вторая часть этих предложений представляет собой моделирование некоей ситуации, куда помещается персонаж, о котором идет речь в первой части (здесь мы частично соглашаемся с рассуждениями В. Н. Гвоздея, приведенными выше). Таким образом содержание первой части поясняется второй. На это указывают параллелизм построения (Пьер шел, как бы он шел; он знал это, как бы он знал это; он ехал, как будто он ехал), наречие так и местоимение такой, требующие пояснений. Если попытаться трактовать эти конструкции как сравнительные, нужно обнаружить в них компаративную структуру, которой нет. «Самосравнивание», о котором говорят В. Н. Гвоздей и Г. С. Ермолаев, противоречит смыслу образного сравнения, которое сопоставляет логически несхожие предметы. Части таких конструкций вступают в отношения не уподобления, а пояснения при помощи описания другой модели. Моделирование и уподобление суть разные процессы, и подменять один другим неверно. Скорее всего, о таких конструкциях уместно говорить как о моделирующих описаниях или пояснениях. 8 То же справедливо по отношению к таким примерам: — Петя, ты глуп, — сказала Наташа. — Не глупее тебя, матушка, — сказал девятилетний Петя, точно как будто он был старый бригадир (Толстой, Война и мир); Говорила Рената не глядя на меня, не ожидая от меня ни возражений, ни согласия, словно даже обращаясь не ко мне, а исповедуясь пред незримым духовником (Брюсов, Огненный ангел). Что касается первого предложения, то условнопредположительный характер ситуации подчеркивается еще и тем, что маленький Петя, как все дети, старается подражать взрослым, поэтому в его поведении присутствует сознательное стремление к моделированию ситуаций. В свете вышеизложенного само понятие условно-предположительного сравнения представляется не совсем корректным: не содержащие такой семантики конструкции являются обычными сравнениями, а выражения с подобной модальностью, как было показано, сравнениями быть не могут. Литература: 1. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры: Сб. ст. — М., 1990. 2. Вежбицкая А. Сравнение — градация — метафора / Пер. с польск. // Теория метафоры: Сб. ст. — М.,1990. 3. Гвоздей В.Н. Меж двух миров: Некоторые аспекты чеховского реализма. — Астрахань, 1999. 4. Ермолаев Г.С. Михаил Шолохов и его творчество. — СПб., 2000. 5. Женетт Ж. Фигуры. В 2-х т. / Пер. с франц. — Т. 2. — М., 1998. 6. Ортони Э. Роль сходства в уподоблении и метафоре / Пер. с англ. // Теория метафоры: Сб. — М., 1990. 7. Павлович Н.В. Язык образов. Парадигмы образов в русском поэтическом языке. — М., 1995. 8. Тулина Т.А. О способах эксплицитного и имплицитного выражения сравнения в русском языке // Филологические науки. — 1973. — № 1. 9. Словарь русского языка: В 4-х т./ Под ред. А. П. Евгеньевой. — 2-е изд. — М., 1981-1984. 10.Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. — 2-е изд. — М.,1998. 11.Черкасова Е.Т. О союзном и несоюзном употреблении слов типа «будто», «точно», «словно» и т.п. в сравнительных конструкциях // Памяти академика Виктора Владимировича Виноградова: Сб. ст. — М., 1971. 12.Черкасова Е.Т. Русские союзы неместоименного происхождения: Пути и способы их образования. — М., 1973. Поповский Андрей Александрович ГОЛОСА ПТИЦ В ПОЭМЕ В.ХЛЕБНИКОВА «ТРУБА ГУЛЬ – МУЛЛЫ» Птица – один из ключевых образов в контексте творчества поэта. Для того, чтобы в этом удостовериться, достаточно бегло просмотреть хотя бы заглавия произведений: поэма «Журавль», стихотворения «На ветке…», «Чайки 9 доли иной…», «Стая ласточек воздушных…» и др., или же ознакомиться с текстами «Зангези», «Ка», «Есир». Р.В.Дуганов пишет: «Отец – «поклонник Дарвина и Толстого. Большой знаток царства птиц, изучавший их целую жизнь», – внушил сыну не только естественное понимание природы, но и привил навыки первых научных наблюдений» [1:14]. Хлебников увлекался орнитологией – вспомним его путешествие в Павдинский край*. Раннее творчества Хлебникова всё наполнено птичьим щебетом, как весенний лес: Пинь, пинь, пинь! тарарахнул зинзивер** Там, где жили свиристели, Где качались тихо ели, Пролетели, улетели Стая легких времирей. Белостыня снеглых птиц… Хитрая нега молчания, Литая в брегах звучания, Птица без древа звучания… Даже самого Хлебникова, его облик, часто сравнивали с птицей [4: 55]: И, как нахохленная птица, Бывало, углублен и тих, По-детски Хлебников глядится В пространство замыслов своих. «Высокий рост, немного сутулый, как у орла взъерошенный загорбок, «длинная» падающая походка, профиль, также схожий с величественной птицей…» [2: 104]. Итак, образ птицы и «орнитологические» мотивы – важнейшие составляющие поэтического мира Хлебникова. Обратимся теперь к поэме «Труба Гуль-муллы» (далее – ТГМ). Текст пестрит птицами. Один из осевых образов поэмы – лебедь. «Лебеди» Хлебникова различны. Это и красота самого слова, раскрывающаяся в вариативном ряду неологизмов: «лебедиво», «лебедия» (так поэт называл дельту Волги); и образы, созданные им на страницах таких произведений, как «Ладомир»: Учебников нам скучен щебет, Что лебедь черный жил на юге, Но с алыми крылами лебедь Летит из волн свинцовой вьюги. 10 Или «Есир»: «В это время резкий стон прорезал многоголосный говор толпы. «Это проходил среди толпы высокий малый в белой рубашке и зипуне ярко-красного цвета. В руках у него был дикий лебедь, связанный в крыльях тугими веревками. « - Лебедь, живой лебедь!». В самом начале ТГМ – лебяжий пух – чистый, белый, как снег высоких гор: Горы денег сильнее пушинка его. И в руках его белый пух, перо лебедя, Лебедем ночи потерян, Когда он летел высоко над миром, Над горой и долиной. В руках пророка – пух лебедя, высоко летевшего над долиной, т. е. это утверждение особой, эпической точки зрения («с высоты птичьего полета»). В качестве контрастного по отношению к лебедю образа в поэму введены вороны: «Нет» - говорили ночей облака, «Нет» - прохрипели вороны моря, Оком зеленые, клювом железные, Неводом строгим К утренней тоне спеша на восток, Сетки мотнею Месяц поймав. Три мешочка икры Я нашел и испек, И сыт! Вороны – каркая – в небо! Вороны – не только контраст на уровне цвета (белый лебедь / чёрные вороны), но и контраст звуковой, образный. Воронам соответствуют жёсткие, колкие слова («прохрипели», «железные», «строгим»), в то время как лебедю соответствуют плавные и мягкие обороты вроде: Перья зеленые лебедя стаей плавают по воздуху, Ветки ее, И золотые чернила весны В закат опрокинуты, в немилости. «Перья зеленые лебедя» - скорее всего, это связано с ярким солнечным светом. Если лебедь – символ красоты, гармонии, олицетворение женского начала, молодости, то ворон – символ мудрости, старости, знания (ср. «Шаман и Венера»). В начале поэмы белизна пуха лебедя подчёркнута «ночным», чёрным фоном: Черное сено ночных вдохновений, 11 Стога полночей звездных, Черной пшеницы стога Птичьих полетов пути с дальних гор снеговых, пали на голые плечи. Хлебников несколько раз подчёркивает слитность белых, снежных гор и крыльев лебедя: Полетом разбойничьим Белые крылья сломав, Я с окровавленным мозгом С высот соколов Упал к белым снегам И алым садам. … И ресницей усталою гасил голубого пожарища мучений застенки, Закрыт простыней искалеченных крыл, раньше – лебедя … Алые сады – моя кровь, Белые горы – крылья. Так в рамках одной метафоры соединяются минералы (снежные горы) и царство птиц (лебедь). На страницах поэмы мы встречаемся и с другими птицами, но их роли, как правило, эпизодические, они добавляют новый оттенок, призвук к основному образу. Однако это не уменьшает их значимости, наоборот, являясь частью оркестровки крупного фрагмента, они имеют и самостоятельную ценность. Например, начало седьмой части: Смелее, не робь. Золотые чирикают птицы На колосе золота. Тавтологичная метафора («золотые» / «золота»). Птица на колосе – спелый летний образ. Будто продолжает эти строки отрывок из следующей части: Золото масла крышей покрыли, Чтобы в ней жили Глаз воробьи Для ласточек щебечущих глаз… Достаточно сложная, многосоставная метафора, но разбирать её логически не имеет смысла: такое напластование слов и неровные смысловые «швы» отсылают к примитивистской живописной манере. Ближе всего к стилю Ларионова или Гончаровой [3]. Зеленые куры, красных яиц скорлупа Ещё один сильный контраст (красный и зелёный). Цветовая гамма поэмы почти целиком построена на таких контрастах. Это связано, вероятно, с особым светом Ирана и Востока вообще. 12 Яркое солнце стоит высоко и освещает предметы сверху, что усиливает ощущение чистого цвета, усиливает контрасты: голубое небо, жёлтый песок, чёрные тени, синее и зелёное море, белые дома. Хлебников, получивший основы художественного образования и вращавшийся в среде художников, был очень чуток к освещению, а строй поэмы ТГМ это неоднократно подтверждает. Совсем иное – звукоподражательный рефрен, концовки двух смежных частей поэмы (15 и 16): «Беботеу вевять» Славка запела. «Беботеу вевять» славка поет! В строке из финальной части: Весла шумят. Баклан полетел. В этой почти дневниковой фактографичности много воздуха, простоты. Строки почти прозрачны. Но есть и звук, и образ свободного скольжения, полёта. Лодка идёт по воде, птица летит в небе, но движение неделимо, оно целостно! Един прекрасный миг проживаемой жизни: выдох и вдох – два коротких предложения в одной строке. Взмах весла и взмах крыла птицы. Примечания: *«…в 1905 году вместе с братом Александром при содействии Казанского общества естествоиспытателей совершил большое самостоятельное путешествие на Урал, в Павдинский край, ставшее одним из самых значительных событий в его жизни и отразившееся во многих его произведениях» [1]. **Здесь и далее тексты Хлебникова приводятся по изданию: Хлебников В. Собр. соч. в 6 т./ Под ред. Р. В. Дуганова. — М: ИМЛИ РАН, 2000 — 2005. 1. 2. 3. 4. Литература: Дуганов Р.В. Велимир Хлебников: Природа творчества. — М., 1990. Ник. Асеев. В.В.Хлебников // Мир Велимира Хлебникова: Статьи. Исследования (1911 – 1998). — М., 2000. О проблеме «Хлебников и живопись» см. Альфонсов В. Н. Чтобы слово смело пошло за живописью (В. Хлебников и живопись) // Литература и живопись. Л., 1982, Сарабьянов Д.В. Неопримитивизм в русской живописи и поэзия 1910-х годов // Мир Велимира Хлебникова: Статьи. Исследования (1911 – 1998). — М., 2000. Спасский С. Неудачники. — М., 1929. Крауклис Регина Гарольдовна ТИПОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫХ КОРРЕЛЯЦИЙ Проблема межвидовых связей искусства ставилась задолго до появления термина «интермедиальность» – в рамках общей эстетики, на базе 13 классификаций видов искусства, ведущих свое начало еще от «Поэтики» Аристотеля. Попытки описать синтетические явления, выявить их предпосылки и закономерности связаны с осмыслением всей системы искусства в целом. Они вращаются вокруг вопросов: что общего между различными видами искусства и на каком основании происходит их синтез? Первые же ответы установили два важных момента. Во-первых, синтез как таковой, в том числе синтез различных видов искусства, подразумевает объединение двух или нескольких видов искусства в единое, органичное целое. В данном случае речь идет о качественно новом художественном образовании, возникающем для осуществления определенной художественной задачи. Этим синтез отличается от эклектики (или конгломерата), где части не могут составить гармоничного единства. Вовторых, чтобы синтез состоялся, его «участники» должны иметь некоторое родство и, в то же время, качественно отличаться, чтобы взаимно обогатить друг друга и одновременно расширить возможности нового явления. Первая формулировка закона художественного синтеза относится к XVIII веку (Батте, Франция). Она возникла в ходе осмысления художественных открытий предыдущей эпохи: конец XVII – первая половина XVIII века считается веком оперы, которая возникла именно как синтетический жанр, ориентированный на древнее синкретическое искусство (творчество К. Монтеверди, Ф. Ковалли, М.-А. Чести, Д.-Б. Пергалези, Д. Паезиэлло и др.). Прежде всего, Батте подчеркнул роль организующего начала, которую берет на себя одно из искусств: «Закон скрещения различных искусств выражается в том, что в синтетических образованиях один из компонентов играет роль структурной доминанты» [5: 40]. XVIII век дал ряд классификаций видов искусства, основанных на выявлении общего и различного. Философы обращаются к истокам искусства и «заново» обнаруживают связь музыки и поэтического слова, музыки и языка. Вновь (в теории аффектов) осмысляется прагматическая функция искусства, подмеченная еще в эпоху синкретизма (древнегреческое учение об этосе, древнеиндийское понятие раса). К примеру, Ж.-Ж.Руссо увидел в «интонациях мелодии, сопряженных с интонациями речи, могучую и тайную связь страстей и звуков» [6: 246]. Показательны некоторые высказывания мыслителей, трактующих музыку как некий «второй язык», вид коммуникации. Так, Д’Аламбер назвал музыку «видом речи или даже языка, посредством которого выражаются различные чувства души» [6: 446]. В конце концов, сравнения видов искусства привели к определению его сущности как специфического способа передачи мысли, чувства и представлений от человека к человеку. Синтетические явления рассматривались в свете этой концепции как стремление обогатить содержание художественного произведения, усилив действие аффекта. Дальнейшие объяснения синтетических явлений связаны с поисками немецкой классической философии, которая заложила взгляд на искусство как на способ познания действительности. В связи с этим разрабатывается теория художественного образа как особой категории эстетики, которая характеризует присущий только искусству способ освоения и моделирования 14 действительности (Г.В.Ф. Гегель, В.фон Гумбольдт др.). Синтетические явления рассматриваются как своеобразные попытки глубинного, всестороннего познания мира. Эта же мысль нашла воплощение в творчестве романтиков, которые постоянно апеллировали к музыке, приписывая ей мистические качества, открывающие новые горизонты в познании мира и тайн человеческой души. Литературно-музыкальные открытия романтизма были осмыслены уже в середине XIX века опять же в немецкой эстетике (А.В.Амброс, Э.Ганслик). Концепции Шопенгауэра и Ницше во многом повлияли на создание синтетических явлений в искусстве модернизма. Отчасти благодаря этим концепциям, синкретичное искусство древности и музыка стали идеалом, «инвариантом», моделью для символистов (особенно младосимволистов). Опыты модернизма в области жанров и приемов стали толчком к новому осмыслению литературно-музыкальных связей со стороны как литераторов, так и музыкантов (работы О.Вальцеля, Б.Л.Яворского, Б.В.Асафьева). Наконец, под воздействием семиотики, выявившей универсальное в уникальных «языках» искусства, различные искания в области теории синтеза искусств обрели системность. Интермедиальность как достаточно самостоятельная сфера исследований оформилась на рубеже 50-60-х гг., когда появились работы (в основном зарубежных авторов), обобщающие межвидовые корреляции искусства (H.Petri, C.S.Brown, J.Mittenzwei, T.W.Adorno и др.). И здесь возникает насущная необходимость разделить собственно художественный синтез, который происходит в театральных жанрах (опере, пантомиме) и кинематографе, – и многочисленные явления «взаимного освещения» (О. Вальцель) и взаимодействия искусств, которые нельзя назвать синтезом в полной мере. Собственно для второй группы в последнее десятилетие XX века и был выдвинут термин «интермедиальность» (Й.Хельбиг, Й.Е.Мюллер, О.ХанзенЛёве и др.) по аналогии с термином Р.Барта и Ю.Кристевой «интертекстуальность». Исходя из представления о коммуникативной природе художественного языка, Ханзен-Леве установил разницу между «мультимедийной презентацией» (синтетические жанры) и «мономедийной», где «конститутивные границы установлены одним, главенствующим языком» [3: 291-292]. Мономедийная презентация даже при имитации средств иного языка искусства сохраняет «автономию художественной формы» [3: 292], в отличие от качественной новизны синтетического образования. Итак, интермедиальность – особый вид взаимодействия различных языков искусства в рамках мономедийной презентации. Интермедиальность трактуется подобно тому, как используется термин «интертекстуальность» во многих современных работах. Интермедиальные связи текста не означают постмодернистского стирания границ текста. Это всевозможные текстовые ссылки и «вид-типологические коррелиции» [3: 291]. Явление интермедиальности основано на отсылке через знак одного искусства к знаку 15 другого. При этом осуществляется «перевод художественного кода», один художественный язык включается в систему выразительности другого языка, в результате рождается новое «означаемое». Информация, переведенная в иной код, рассматривается сквозь призму нового кода и, следовательно, обретает новый смысл, подчиняясь ведущему языку. Первую классификацию музыкально-литературных корреляций предложил С.П.Шер [3]. Обратив внимание на то, что для немецкого романтизма характерна музыкальная тематика, он развел два понятия: одно из них касается музыкальности художественного слова (словесная музыка, word music), другое – связано с «вербализацией» музыки, т. е. описанием музыкальных произведений и впечатлений средствами литературы (вербальная музыка, verbal music). В общей сложности, Шер обозначил три вида музыкальнолитературных отношений: 1) словесная музыка; 2) литературная имитация музыкальных форм; 3) вербальная музыка. Эти три направления, которые в дальнейшем уточнялись, вполне охватывают массив интермедиальных исследований, посвященных проблеме литературно-музыкальных корреляций. К концу XX века, когда теория интермедиальности стала частью науки о языках искусства, А.Гир [1] обработал классификацию С.Шера под углом семиотики, описав, как соотносятся музыкальный и словесный знак при интермедиальных корреляциях. В случае словесной музыки А.Гир усмотрел связь литературного и музыкального означающего, сигнификанта. Структурные корреляции, по его замечанию, касаются области означаемого, сигнификата. В ситуации вербализации музыка становится для литературы референтом, денотатом. К настоящему времени в зарубежном и отечественном литературоведении накопился значительный пласт работ по всем направлениям. Более всего распространена практика нахождения музыкальной формы, соответствующей структуре конкретного литературного текста (Т.Жолковский, Е.Азначеева, И.Фоменко, Н.Фортунатов, Л.Фейнберг, Л.Гервер, Б.Кац). Однако, как отмечают сами исследователи (Б.Кац, И.Борисова), подобные опыты не всегда оправданны. Продуктивным остается направление «вербальной музыки», отыскивающее «музыкальные ключи» к литературным текстам (Б.Кац, Р.Тименчик, И.Борисова). И, наконец, в последние десятилетия вновь обретает актуальность «словесная музыка» в связи с теорией поэтической интонации, которая долгое время оставалась в тени (Ю.М. и М.Ю. Лотманы, В.Холшевников, К.Тарановский, Е.Невзглядова). Определенный размах получило мифопоэтическое направление (Л.Гервер, А.Махова), предметом которого стала музыка как некая мистическая философская (онтологическая) категория, а также мифы о композиторах, исполнителях, музыкальных произведениях, инструментах и т. д., закрепившиеся в культуре. В русле этого направления конкретные ссылки на музыкальные тексты и события интерпретируются как часть общего музыкального мифа, творимого поэтом. Композиторы и исполнители – участники разворачивающегося в истории 16 музыкального действа (ср. название главы в книге Л. Гервер «Музыкальные имена: боги и герои» [4]). Если придерживаться основных аспектов, которые рассматривает семиотика при изучении «языка» искусства, то можно внести еще одно семиологическое уточнение в классификацию Шера, которое проясняет некоторые важные аспекты. Литературно-музыкальные связи осуществляются через апелляцию к 1) семантике, 2) синтактике, 3) прагматике музыки. В первом случае мы предлагаем расширить понятие «вербальной музыки». Акцент переносится с музыки-референта на весь комплекс содержания, который приписывается музыкальному искусству вообще, музыкальным текстам, а также отдельным музыкальным терминам, жанрам, инструментам и т. п. Литература может апеллировать к обобщенному эмоциональному содержанию музыки через отсылку к конкретному произведению, описание вымышленного сочинения или собственных впечатлений от исполнения музыки. Художественная коммуникация здесь осложняется тем, что речь идет именно о музыке: весьма трудно говорить о глубине восприятия произведения, в то время как автор апеллирует именно к эмоциональному содержанию, ранее воспринятому читателем. Тема музыки в литературе не исчерпывается межсемиотической транспозицией из одного искусства в другое. Литературный текст также апеллирует к различным философским концепциям, связанным с «означаемым» музыки, а также к семантике слов-сигналов (музыка, напев, звук, ритм, хор, скрипка и т. д.), значение которых расширяется за счет литературного контекста. Структурные корреляции приближают словесный текст к музыкальной форме или структуре. Они вносят поправки в его синтактику, тем самым открывая новые внутритекстовые и межтекстовые связи (отсылают текст к той или иной жанровой парадигме, а также сочинениям автора, аналогичным по способу формообразования). Наконец, в третьем случае в центре внимания поэта или писателя оказывается огромная воздействующая сила музыки, точнее ее речи, при непосредственном исполнении, в условиях коммуникативной ситуации «адресат – текст – адресант». Этот вид корреляций наиболее характерен для поэзии, нежели для прозы. Как и в музыке, актуальной становится установка на слушательское ухо и, как следствие этого, в поэте просыпается страстный «звуколюб», которого особенно заботит организация звуковой ткани стихотворения: фоника (тембр – в музыке), ритм и интонация. Музыка и поэзия соотносятся как две речевые линии, озвученные и существующие в реальном времени, что связано со спецификой поэтической и музыкальной коммуникации. Соотношение музыкальной и поэтической речи обусловило использование всевозможных музыкальных терминов по отношению к поэзии (ритм, каденция, период) и речевых по отношению к музыке (фраза, интонация). 17 Три названных вида музыкально-литературных корреляций в тексте часто присутствуют одновременно, и их необходимо рассматривать в единстве, поскольку они отражают единство семантического, синтаксического и прагматического аспектов языка. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Литература: Gier A., G.W.Gruber (Hrsg.). Literatur und Musik. Komparatistischene Studien zu Strukturanalogien. - Fr/M., 1995. Hansen-Löve А. Intermedialität und Intertextualität Probleme der Korrelation von Wort und Bildkunst — am Beispiel der russischen Moderne // Wiener Slawistischer Almanach.- Sbd.11.- Wien, 1983. Scher St.P. Verbal Music in German Literature. - New Haven, 1968. Гервер Л. Л. Музыка и музыкальная мифология в творчестве русских поэтов.- М., 2001. Каган М. С. Морфология искусства. - Л., 1972. Музыкальная эстетика Западной Европы XVII-XVIII веков. - М., 1976. Костюк Виктория Валерьевна К ВОПРОСУ О ЯПОНСКОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ ЕЛЕНЫ ГУРО В 1913 г. в некрологе, посвященном памяти Елены Гуро, А.Ростиславов подчеркивал нерасторжимость живописного и словесного начал в ее творчестве: «Многие черты её художественного и литературного дарования неразделимы, например, японский лаконизм формы, прямо очаровательный в таких, например, литературных произведениях, как последние из цикла “Небесные верблюжата”» [9: 4]. Лаконизм, который Ростиславов считает основой интеграции изобразительного и словесного искусств, является программной установкой Е. Гуро – «лаконизм подразумевания»*, по ее собственному определению, – и он не случайно получает эпитет «японский». На рубеже XIX – XX веков в России наблюдается всплеск интереса к японской культуре. По свидетельству К. М. Азадовского и Е.М.Дьяконовой, «в 90-е годы XIX в. и особенно в 900-е годы после русско-японской войны, в России появилось множество “японских публикаций”, так что простое перечисление книг и статей на японские темы заняло бы несколько страниц» [1: 44-45]. Назовем только значимые для освоения литературного наследия Японии исследования В.Астона «История японской литературы» (1904), Востокова Г. «Языки и литература Японии – Япония и ее обитатели» (1904), хрестоматию Н.П.Азбелева «Душа Японии» (1905), Н.И.Познякова «Японская поэзия» и др. Переводы из японской литературы публикуют многие популярные журналы того времени: «Северный вестник», «Задушевное слово», «Новый журнал литературы, искусства и науки», «Нива», «Библиотека для чтения» и др. Октябрьский номер «Весов» 1904г. выходит в японском оформлении. В 1905г. в Петербурге с успехом проходит японская выставка. Мода на японскую 18 культуру активно поддерживалась стараниями русских символистов. Как отмечает Ю.Орлицкий, «освоение дальневосточной традиции начинается в Серебряном веке, прежде всего, благодаря усилиям Константина Бальмонта и Валерия Брюсова с их общей идеей фикс обозреть и приспособить к русской поэзии все существующие поэтические традиции. При этом для них и для их последователей, обратившихся в 1910-1920-е годы к переводам и подражаниям японской и – в гораздо меньшей степени – китайской лирике, главной притягательной чертой этих традиций была, прежде всего, их принципиальная непохожесть и на русскую, и на западноевропейскую поэзию. <…> Кроме того, русских любителей экзотики и новых путей в искусстве японские миниатюры привлекли еще и возможностью быть предельно лаконичными в выражении своих эмоций» [7]. Таким образом, непохожесть на известные литературные формы и лаконизм выражения, обеспечивающий увеличение семантики текста, делали весьма привлекательными для поэтов, ищущих новых средств выразительности, традиционные для японской литературы жанры хокку и танка. Отмеченный Ростиславовым «японский лаконизм формы» не является безосновательной отсылкой к модной теме, критик проницательно обозначил одно из влияний, сформировавших своеобразие творческого стиля Е.Гуро. Следует сразу отметить, что непосредственных свидетельств, указывающих на то, что Гуро сознательно ориентировалась на дальневосточную культурную традицию, нами не обнаружено, однако о знакомстве с ней свидетельствуют отзвуки буддистских представлений в творчестве Гуро**, кроме того, интенсивность освоения японской культуры в эпоху Серебряного века позволяет нам с достаточной долей уверенности утверждать наличие японского влияния, проявляющегося в тех или иных формах, тем более что хокку и танка, тесно связанные с живописью (хокку и танка нередко сочинялись как подписи к картинам, к тому же, в японской традиции каллиграфия приравнивается к изобразительному искусству), должны были привлечь особое внимание Е.Гуро – поэта и художника. Непосредственное воздействие японской культурной традиции на творчество поэтов Серебряного века отмечает и Ю.Орлицкий. В этот период, по утверждению исследователя, «в творчестве ряда поэтов экспериментальной ориентации <…> появляются многочисленные однострофные миниатюры, в которых число строк и слогов не совпадало с японским, однако влияние японской миниатюры с нестандартным для европейской традиции, воспринимаемым как свободное числом строк можно считать более или менее очевидным» [8: 381-382]. Освоение, в той или иной степени, поэтики японских стихотворных миниатюр стало одним из стимулов широкого распространения верлибра в русской поэзии начала века. Эта тенденция нашла отражение и в творчестве Гуро: начиная с 1909 г. она создает около пятидесяти верлибров, которые в книгах и публикациях чередуются с прозаическими миниатюрами. В качестве примера подражания японской стихотворной миниатюре Орлицкий приводит пятистрочный верлибр Гуро из сборника «Небесные верблюжата»: 19 Развеваются зеленые кудри на небе. Небо смеется. Мчатся флаги на дачах, струятся с гордых флагштоков, плещутся в голубом ветре [3: 15]. Однако влияние японской поэтической традиции чувствуется не только в этом тексте Гуро. Например, в этом же сборнике: Когда ветерок такой теплый, так его хочется собрать в горсточку, ветерок мой ветерок… [3: 90] “Японский” колорит ощутим и в отсылающих к хокку неопубликованных при жизни Гуро трехстишьях: Там песком донесся заглушенный Разговор раздался обыденный И все кругом безмолвно. [12: 55] Тесаный дом. Лает собака. Мороз стоит. Это день. На [снежную] крышу дорога идет [от саней] прямо с неба. Это проездил санями воздушными ветер. Это зимний день. [10] Если рассматривать в качестве ориентированной на японскую традицию не строго определенную форму хокку 5-7-5, а «фразу на один вдох с однойдвумя паузами»***, то к «японским» можно отнести многие миниатюры Гуро, особенно показательными в этом отношении являются этюды, записанные в одной из рабочих тетрадей [11]. Прежде всего, обращает на себя внимание стремление Гуро к характерной для японской литературы циклизации в соответствии с сезонным принципом: «основным постулатом, лежащим в основе хокку, является так называемый “ки”, буквально: “сезон”. Это значит, что основным элементом всякого стихотворения в жанре хокку, должен быть “мотив времени года”; все содержание стихотворения должно быть введено в рамки определенного сезона» [6: 497]. Как и японские поэты, Гуро группирует свои этюды в разделы: «Весенние этюды», «Зима», «Осень», которые представлены и вариантами: «Суровая зима», «Весна. Оттепель». Основную доминанту художественного мышления японских поэтов составляет особый характер взаимосвязи субъекта и природы – их эмоциональное слияние. Данный фактор во многом обуславливает специфику поэтики танка и хокку. Так, «олицетворение <…> ни поэтами, ни теоретиками не воспринимается как литературный прием, а является атрибутом мироощущения», – отмечает И. А. Боронина, говоря о литературных традициях японской лирики [2: 62]. Аналогичное восприятие природы определяет своеобразие поэтической картины мира Елены Гуро****, поэтому ведущим 20 приемом в ее творчестве становится олицетворение. В рассматриваемых лирических миниатюрах весь окружающий мир, природный и предметный в том числе, одушевлен: Меж снежными зубцами берегов вода струится. Друг на друга лезут барки с темными глазами. Из оттаявшего снега, крутые черные ребра лодок [12: 58]. В японской эстетике существует категория, чрезвычайно близкая концепции творчества Гуро – «моно но аварэ». «Моно» – «душа вещей», их сокровенная суть, которую необходимо постичь и выразить в поэтической форме, раскрыв ее особое очарование – «аварэ» [2]. Отсюда возникает стремление к эстетизации естественного состояния вещей и простота его описания: Сосульки повисли на крышах, как ледяные кудрявые гривы. Из водосточных труб вывалились ледяные языки почти до земли. По утрам воздух белый, туманный от сжимающегося холода [12: 56]. Гуро, как и японским создателям хокку и танка, важно зафиксировать чувствоощущение в картинке-образе, текст строится так, что он не описывает, а показывает, вызывая в читателе сходные эмоциональные переживания. Погружая читателя в состояние медитативного созерцания, Гуро часто актуализирует мотив молчания как обязательного атрибута слияния с природным универсумом, ибо чувство, создаваемое подобной миниатюрой, невозможно назвать: Черные металлические отражения уходят в свинцовую глубь молчания. Молчание над зимовкой барок. Скрипнуло и замолкло. Ставни домов закрыты. Все приготовилось к осаде [12: 57]. Конечно, в миниатюрах Гуро можно уловить достаточно сложное переплетение различных влияний и традиций – так, в процитированном выше трехстишье повторяющееся обращение «ветерок мой ветерок», напоминает о фольклорной поэзии, уменьшительно-ласкательные суффиксы, столь характерные для Гуро, – об инфантилизме и примитивизме, которые активно пропагандировали художники авангарда, однако прямое обращение к миру природы, стремление к слиянию с природным универсумом и постижению его скрытой сути, созерцательность, которые отличают этюды Гуро, наконец, лаконизм и склонность к верлибрам позволяют говорить о наличии в ее творчестве влияния дальневосточной поэзии. Еще один аспект, интересующий нас в контексте данной темы, – функционирование миниатюр в составе более крупного текстового образования, в частности, итогового произведения Е. Гуро «Бедный рыцарь». Текст этой незавершенной последней книги, которая в недавнее время была 21 дважды опубликована, является плодом компоновки фрагментов-миниатюр, сохранившихся в записных книжках, рабочих тетрадях, блокнотах, осуществленной М.Матюшиным и Е.Низен и откорректированной современными исследователями*****. Поэтому все предположения о функциях миниатюр носят гипотетический характер, т. к. сами вопросы об их включении в текст и расположении относительно других элементов остаются на данный момент неразрешенными. Тем не менее, выскажем предположение, что одним из составляющих элементов текстового целого «Бедного рыцаря» являются миниатюры с весьма явственной ориентацией на японскую поэзию, которые сохраняют относительную самостоятельность. Процитируем лишь некоторые: Золотой луч запутался в прутиках и остался надолго. Не торопится уйти; [4: 16] Удивленные своей чистотой и четкостью, остановились ветви; [4: 40] Переплавилась любовь в облако и сияет призывом; [4: 25] А над черепичной крышей стемневшей ратуши, напротив выцветал треугольничек вечеревшего неба; [4: 30] На окна мороз накинул нежные из ледяных цветочков ризки; [4: 37] Посреди горницы стол и на голой сосновой доске лежит хлеб и ножик [4: 36]. Мы уже отмечали значимость визуального компонента в японских хокку и танку, в которых созданная словесными средствами зарисовка природы коррелирует с выразительной формой иероглифов, где движение линий, изгибы, переходы от тонких линий к толстым образуют своего рода графическую картину и становятся объектом созерцания. Подобного синтеза слова и живописи стремится достичь и Гуро, разворачивая историю Бедного рыцаря не только в словесных текстах, но и в многочисленных рисунках. Процитированные лирические миниатюры, не связанные или слабо связанные с развитием сюжета, функционируют в тексте как своеобразные идеограммы, являющиеся промежуточным звеном между текстом и рисунком, скрепляющие визуальную и словесную составляющую мифа Гуро о Бедном рыцаре. Так, миниатюра «Золотой луч запутался в прутиках и остался надолго. Не торопится уйти», предшествующая появлению Рыцаря, не только создает эмоционально и семантически насыщенный природный образ, но и является косвенным сравнением: высокий, тонкий, с длинной «верблюжьей» шеей, бесплотный Рыцарь, явившийся на землю, чтобы, подобно солнечному лучу, осветить и согреть ее своей любовью. Семантическое напряжение, возникающее между лаконизмом миниатюры, которая является фрагментом, «осколком» мироздания, но в то же время моделирует свернутую, но целостную картину мира, как нельзя лучше способствует осуществлению творческой задачи, которую ставила перед собой Е. Гуро: И что же еще? 22 Еще принять мир, принять мир смиренно – со всеми, словно никуда не идущими, незначащими подробностями. <…> Из оттеночков (осколочков) едва видимых, едва ощущаемых, складывается шествие жизни… [5: 24] Примечания: * В письме к А.Крученых Гуро писала: «Недовольство формы бросило меня к теперешнему отрицанию формы, но здесь я страдаю от недостатков схемы, от недостатка того лаконизма “подразумевания”, который заставляет разгадывать книгу, спрашивать у нее новую, полуявленную возможность» [10: 92] ** Отмечая достаточно сложное переплетение многообразных влияний в эстетике и мировоззрении Гуро, Е.Бобринская в числе прочих называет и буддизм, воспринятый, очевидно, через посредство теософии. (Бобринская Е. Натурфилософские мотивы в творчестве Е. Гуро /Бобринская Е. Русский авангард: истоки и метаморфозы. - М., 2003. - С. 141. *** Такое определение хокку дал Алексей Андреев, автор множества стихотворений, созданных в японской традиции. Цит. по Линор Горалик. Хокку, танка, бронетранспортеры *, или Черт в табакерке: Об использовании жестких форм в русской литературе // http://www.guelman.ru/slava/nss/2.htm **** См., выражающие основной пафос творчества Гуро фрагменты из «Бедного рыцаря»: «Ты душу в вещах жалеешь. И красишь и любишь. – И у камушков, булыжничков моих значит есть душа? – обрадовалась. – И у камешков есть…»; «Светлый уже знает, что нет во вселенной пустого места, и все дух и душа везде…». ***** Об истории создания и публикации «Бедного рыцаря» см. Биневич Е. Елена Гуро и ее «Бедный рыцарь» / Гуро Е. Жил на свете рыцарь бедный. СПб., 1999. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Литература: Азадовский К.М., Дьяконова Е.М. Бальмонт и Япония.- М., 1991. Боронина И.А. Литературная традиция и инициатива автора в японской поэзии раннего средневековья / Поэтика литератур Востока. Традиции и творческая индивидуальность. - М., 1994. Гуро Е. Небесные верблюжата. - СПб., 1914 [Здесь и далее ссылки даются на это издание]. Гуро Е. Жил на свете рыцарь бедный. - СПб., 1999. Гуро Е. Из записных книжек (1908-1913). - СПб., 1997. Конрад Н.И. Японская литература в образцах и очерках. - М., 1991. Орлицкий Ю.Б. Ориентир – ориенталия (Отголоски классических восточных поэтик в современной русской поэзии и малой прозе) // Новое литературное обозрение. - № 39. – 1999. Орлицкий Ю.Б. Стих и проза в русской литературе. - М. 2002. Ростиславов А. Неоцененная // Речь. - СПб., 1913. - 28 апреля [Некролог]. 23 10.Миниатюры не опубликованы, цит. по: Гуро Е. Рабочая тетрадь. - РГАЛИ Ф. 134. Оп. 1. Ед. Хр. 6. 11.РГАЛИ Ф. 134. Оп. 1. Ед. Хр. 17. 12. Guro E. Selected Writings from the Archives. Ed. A. Ljunggren & N. Gourianova // Stockholm Studies in Russian Literature.- № 28. - Stockholm, 1995. Новожилова Алина Михайловна ДНЕВНИКОВАЯ КУЛЬТУРА В РОССИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА Произведения мемуарно-автобиографического жанра составляют неотъемлемую часть литературного процесса, активно взаимодействуют с произведениями других жанров, привлекают внимание читателей и исследователей. Существует множество мнений о специфике и «жизнеспособности» мемуарно-биографических жанров, утверждающих, что этот срез литературы является показателем уровня цивилизованности общества, его сознательного отношения к своему прошлому, средством духовной преемственности поколений, овеществленной исторической памятью [5]. Здесь находят свое отражение «переломные этапы умственного развития личности, понимания ею «себя в мире» и «мира в себе», а классические, вершинные образцы мемуарного жанра обозначают вехи в духовном освоении человеком действительности» [7]. Ряд подобных суждений можно было бы продолжить. Вопрос о жанровых особенностях целого ряда мемуарноавтобиографических произведений, стал актуальным уже в 1970-е гг. Большой пласт произведений мемуаристики, дневников, записных книжек справедливо стали относить к произведениям документальным. Выделяя дневники и записные книжки в отдельную нишу, и ставя их в пограничное положение с произведениями мемуарного жанра, критика предложила условное название этого «крыла» документальной литературы – «автодокументальня проза» [8]. На страницах журнала «Вопросы литературы» в 1971 году была опубликована дискуссия [4: 63-134], в которой писатели, ведущие литературоведы и критики выбрали объектом своего анализа произведения мемуарного и дневникового жанра. Они определили природную связь этого «документального взрыва» с усилением личностного начала в литературе, в котором обострен историзм, а также ощущение единства личности с историей. Вскоре была предпринята попытка классификации дневников [3: 64-69]. Дневники (как и записные книжки) в их изначальном виде естественно противопоставлять мемуарам. И различия эти очевидны. Автор-мемуарист придерживается принципа, который А.Т.Твардовский назвал «листать обратно календарь», т.е. двигаться от исхода событий к истоку. Автор дневника, наоборот, как бы срывает листки календаря поочередно и исход событий для него неизвестен. Оба автора идут от разных точек: один – из настоящего к прошлому, другой – из настоящего к будущему, что и переполняет дневник предположениями, предчувствиями и интересен он не только «сиюминутностью» впечатлений, но и предвосхищением будущего. 24 Обилие мемуаристики, публикация дневников, записных книжек, альбомов, писем и т.д. в конце ХХ века, как справедливо утверждают современные исследователи, ставит перед литературоведением задачу исследовать их не только с точки зрения информации и фактов, изложенных в этих изданиях, но и с позиций их литературной значимости. В работах исследователей, обращенных к такого рода изданиям, сделано многое для извлечения принципов литературного и внелитературного повествования. В общей системе русской литературы и культуры ХХ века таковы работы Н.А.Богомолова, А.В.Лаврова, Р.Д.Тименчика, М.О.Чудаковой и др. исследователей. Общая склонность к исповедальности отражалась в нач. ХХ века в распространенности и популярности всех форм автобиографических жанров дневников, писем, мемуаров, исповедей. При этом, в начале ХХ века дневники и письма создавались одновременно как художественный текст и документ, и, таким образом, выходили за пределы того, что в предыдущие столетия считалось интимным жанром. Всерьез, сама проблема соотношения литературных и внелитературных жанров, была впервые затронута русской формальной школой. Сегодня во всевозможных обзорах, разработках, статьях мы часто встречаем отсылки к «Литературному факту» Ю.Тынянова. Это говорит о том, что так называемые «пограничные жанры» в литературе до сих пор исследованы не в полном объеме. Огромный пласт дневников писателей и поэтов начала ХХ века, дошедший до нас, указывает на само стремление авторов вести дневниковые записи, или обращаться к ним. Современный читатель знаком с дневниками В.Брюсова, дневниками и записными книжками А.Блока, М.Кузмина, З.Гиппиус, с рядом текстов раннего и позднего периода Андрея Белого, Вяч.Иванова, с «Откровенными мыслями» Г.Чулкова, с поздним дневником Б.Садовского, «Камер-фурьерским журналом» В.Ходасевича, с дневниками Корнея Чуковского и Лидии Чуковской; опубликованы рабочие «Записные книжки» А.Ахматовой, краткие заметки о политической ситуации в стране и в мире Михаила Булгакова, озаглавленные автором «Под пятой», дневниковая проза Юрия Олеши («Книга прощания») и многие другие. У некоторых поэтов Серебряного века, функции дневников выходили за пределы интимного жанра. Так, В.Я.Брюсов свои юношеские дневники рассматривал как часть собственного жизнеописания: для него было важно понимание читателем не только его стихов, но и его самого. Ведя записи около десяти лет, Брюсов создавал их не только как материалы к автобиографии. Сравнивая свои записи с дневниками братьев Гонкуров, Брюсов считал, что информация дневника должна быть интересна не только людям, заинтересованным его личностью, а в большей степени тем, о ком он упоминает в своих дневниках. Автобиографическая проза, по замыслу Брюсова, должна была служить своеобразным введением к его дневникам, а они – ее продолжением. Его дневник традиционен, включает в себя и развернутые записи о событиях, и специально отделенную от них поденную хронику. Своей задачей Брюсов ставил фиксацию в дневнике «жизнестроения» в период 25 развития и становления русского символизма, демонстрируя таким образом сдвиг традиционного взаимоотношения жанра и действительности. Дневник он писал «для себя», несколько раз с возмущением отмечая, что люди пытаются прочесть его дневник – хронику событий и встреч, рассказ о каждодневной будничной жизни одного из «закрытых» поэтов ХХ века. Дневник Брюсова, как и повесть «Моя юность», так и остались фрагментами ненаписанного романа о себе. Возможность соотношения дневника и литературы реализовывалась иным способом у З.Гиппиус, которая относилась к своим дневниковым книгам как к художественным произведениям. Первую книгу из Петербургских дневников («Синяя книга: Петербургский дневник»,- Белград, 1929 г.) З.Гиппиус публиковала при жизни за границей (последующие публикации этих дневников состоялись спустя почти пятьдесят лет - в 1982 и 1990 г. с предисловием Н.Берберовой), внеся ряд изменений и комментариев, а ряд последующих дневниковых книг (три «Черные тетради», «Черная книжка» и «Серый блокнот») как бы «разворачивал» затронутую проблему во времени – описываемые события под ее пером приобрели художественно осмысленную структуру. Во многом аналогично подходу З.Гиппиус, было отношение к своим дневникам «друзей Гафиза», с регулярными чтениями и обсуждениями дневников на их собраниях [1]. Но здесь соотношение дневника и литературы реализовывалось уже по-другому. Вяч.Иванов, начав свой дневник в традиционной форме, продолжил его в виде писем к жене, находящейся в Швейцарии*. В.Иванов не раз указывал, что его дневник формально был письмами, а функционально – самым настоящим дневником и предназначался не для себя, а для чтения другого человека, не смотря на полную интимность его содержания, до сих пор не дающей возможность его публикации. В начале ХХ века в дневниковом жанре открываются новые черты: на задний план уходят потаенность и интимность содержания записей, появляется «доступность», которая делает дневник достоянием некоторого круга слушателей и читателей (путь от отъединенности себя - к единству с другими). В некоторой степени это нашло свое отражение в идее соборности В. Иванова. Обсуждения дневников друг друга, направлены не только на внешние факторы – описание происходящих событий, но на внутренние – на выявление содержания души автора, его «потаенного» мира, во многом скрытого от окружающих. Так же М.А.Кузмин читал свои дневники не только в узком кругу, но и совсем незнакомым людям. Тот факт, что дневники стали не просто «озвучиваться», но и публиковаться для всеобщего прочтения, анонсировался и в прессе, подобным сообщением: «В Петербурге подготовлены к печати «Дневники» М.А.Кузмина, обнимающие период с 1893 г. – по 1922 г.» [6]. Таким образом, значение дневников становится явлением, в некоторой степени бóльшим, чем литература – они являются, по словам Н.А.Богомолова, «свидетельством соответствия духовного пути человека некоему предначертанному идеалу (который, однако, сам изменяется в процессе жизни; степень этого изменения для различных людей различна, но само изменение 26 несомненно» [2]. Отражение ежедневного самопознания и самостановления, фиксация этого именно в момент взаимодействия, восприятие и осознание взаимодействия человека и всего, что его окружает, начинают доминировать в дневниках начала ХХ века. В творчестве А.Ахматовой можно отметить стремление к попытке зафиксировать свои воспоминания. Структура памяти, представленная в текстах А.Ахматовой, выглядит не сплошной логически выстроенной нитью, а набором отдельных эпизодов, которые складываются в картину только в ее индивидуальном воспоминании: «…И смерть Лозинского каким-то образом оборвала нить моих воспоминаний» («Листки из дневника»). Показательно название «Листки из дневника» именно как свидетельство дискретности памяти: Ахматова отбирала то, что должно запомниться, исходя из нравственного значения для автора. Поэтому произошла замена «дневника» писательского дневником художественным. Для других поэтов, например, С.Городецкого - такая позиция оказывалась изменой памяти вообще: «Вихрь событий ослабляет память», или у В.Маяковского – «Только не воспоминания», и др. Напряжение нравственного начала, которое явно присутствует и доминирует, обращаясь к памяти, к воспоминаниям у А.Ахматовой, О.Мандельштама, Б.Пастернака, В.Ходасевича заменяется напряжением своего волевого начала, которое перестраивает историю по тем законам, по которым она должна строиться «с нынешней» точки зрения автора. Именно этим вызываются некоторые хронологические неточности в воспоминаниях авторов (старающихся придерживаться позиции «только не воспоминания»), и категорическая перестройка всей иерархии событийной канвы в дневниковых записях. Обращаясь к различным мемуарным свидетельствам авторов этого круга, необходимо делать значительную поправку на подобный принцип изображения событий прошлого. Катаклизмы 1917 года и особенности российской исторической действительности в последующие годы прервали и видоизменили эту культуру и традиции дневникового жанра. После окончательного утверждения тоталитарного режима (с политическими репрессиями, идеологическими обработками, культом насилия и подавления личности) возможность ведения дневников и мемуаристики резко сузились. Дневниковые записи производились намного реже, в основном «для себя» или для нескорого «будущего». Стремление власти «стереть» историческую память общества привело к прекращению на очень длительный срок публикаций дневников и мемуаров. Дневниковые записи, ставшие отголосками своего времени и несущие в себе информационное пространство эпохи, как отмечает М.О.Чудакова, - вскоре «уже не были реальными памятниками культуры» и порой служили свидетельствами против самих авторов [9]. Это часто вызывало фальсификацию дневников, их «переделку», создание «копий» дневников. Известен факт уничтожения М.Булгаковым своего дневника, изъятого у него во время обыска, прочитанного в ГПУ и позже возращенного писателю**. В тридцатые годы все чаще становилось популярным переписывание своих дневников прежних лет (например, опубликованный дневник Н.С.Ашукина 27 «Заметки о виденном и слышанном»***). В связи с чем, по словам Н.А.Богомолова, исчезла и сама «проблема соотношения дневников и «чистой» литературы. А ее исчезновение свидетельствует лишний раз о том общем упадке исторического сознания» [2: 211-212]. Примечания: *«Нувель принес дневник и решил пересидеть [Ремизовых и Ал.Чеботаревскую – А.Н.] . Renouveau [В.Ф.Нувель – А.Н.] читал. Потом речь зашла об эросе. Я решил говорить с Сомовым о нем интимно – и, о чудо, он пошел охотно на встречу. <…> Тогда я окончательно пристыжен, неожиданная экспансивность Сомова и откровенность Renouveau, который сообщает каждый час своих переживаний, делают безобразной мою скрытность, не находящую себе извинения в факте дневника, который я направляю тебе, не делясь, как прежде, с друзьями своей жизни» (Цит. по: Богомолов Н.А. Русская литература первой трети ХХ века: портреты, проблемы. Разыскания. - Томск, 1999.- С.206207.). **Дневник М.Булгакова «Под пятой», имеющий подзаголовок «Мой дневник» при жизни Булгакова не издавался. Во время обыска в 1926 году на квартире Булгакова сотрудниками ОГПУ была изъята рукопись «Под пятой» а также рукопись и машинопись повести «Собачье сердце». М.Булгаков неоднократно пытался вернуть рукописи, обращался с прошением к председателю совнаркома Рыкову, выдал Екатерине Павловне Пешковой (супруге М.Горького) доверенность на получение рукописей, которые ему обещали вернуть, затем обращался в ОГПУ повторно, но ответа не получал. По свидетельству третьей жены М.Булгакова, после получения дневника, он его уничтожил. С рукописи в ОГПУ перед возвращением ее автору сняли машинописную и фотографическую копии, которые в 1989 – 1993 гг. были обнародованы в печати. ***Ашукин Н.С. Заметки о виденном и слышанном / Публ. Е.А.Муравьевой; пред. Н.А.Богомолова // Новое литературное обозрение. 1998. - № 31 – 33, № 36 – 38. Литература: 1. Богомолов Н.А. Михаил Кузмин: Статьи и материалы. - М., 1995. 2. Богомолов Н.А. Русская литература первой трети ХХ века: портреты, проблемы. Разыскания. - Томск, 1999. 3. Бочаров А. Закономерность дневникового жанра (попытка классификации дневников) // Вопросы литературы. – 1971. - № 6. 4. Круглый стол «Права и обязанности документалиста» // Вопросы литературы. – 1971. - № 6. 5. Елизаветина Г.Г. Жанровые особенности автобиографического повествования: Герцен, Руссо, Гете //А.И.Герцен – художник и публицист. - М., 1977. 6. Последние новости. - 1922.- 16 сентября. 28 7. Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика ХVIII – первой половины ХIХ века: От рукописи к книге. - М., 1991. 8. Урбан А. Автодокументальная проза // Звезда. – 1970. - № 10. 9. Чудакова М. Архивы в современной культуре //Наше наследие. - 1988. - № 3. Капполь Ольга Сергеевна О ЗНАЧЕНИИ КОММЕНТАРИЯ КАК ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТА Сам факт создания комментария говорит о двух характеризующих текст моментах: текст нуждается в нем и текст его достоин, обретая тем самым некое привилегированное значение. Комментарий – это результат работы с текстом, имеющимся в распоряжении, перечитанным и дополненным необходимой информацией. Комментарий обозначает новый этап жизни текста, при этом от качества работы и профессионализма комментатора зависит уровень интерпретации текста. Комментарий представляет собой такой род деятельности, которая направлена на актуализацию имеющегося знания или получение нового, она призвана компенсировать лакуны непосредственного понимания текста. Пользование комментарием как бы разрывает непосредственный контакт между читателем и книгой, но вместе с тем оно придает самому чтению новое качество. Обычное чтение становится исследованием, в процессе которого читатель вынужден действовать медленно и осознанно. Чтение комментария стимулирует не только «остановки» и «возвращения», но и дает повод для более глубокого проникновения в текст. Комментатор, таким образом, формирует ритм понимания, которое следует тексту и выходит за его рамки, но остается связанным с ним. Комментарий по сути своей является вторичным текстом, поскольку он основан на базе другого текста, причем, как правило, принадлежащего другому автору. При этом комментатор обладает правом находить дополнительную и необходимую в каждом конкретном случае информацию, что предполагает достаточно серьезную исследовательскую работу. «Понимание исторической дистанции требует научных поисков и частых объяснений о сложностях, встреченных в произведениях. Комментарий ставит ресурсы филологии на службу произведению, которое он объясняет, не искажая и не конкурируя с ним. использует научные методы и самоорганизуется как независимая дисциплина. Одновременно комментируемый текст подтверждает свое превосходство или выигрывает в авторитете» [1: 26]. Комментатор должен построить свою работу с текстом так, чтобы найти в тексте те места, содержание или интерпретация которых требует по тем или иным причинам присутствия комментатора. В рамках данной статьи предполагается уточнить функциональные особенности комментария как типа вторичного текста. По своей структуре комментарий отчасти дублирует первичный текст в том, что касается его логической последовательности и композиции. То есть композиция комментария характеризуется тем, что 29 комментируются следующие друг за другом фрагменты первичного текста. Исследовательская сторона комментария выражается в том, что автор комментария истолковывает первичный текст и анализирует его в ходе создания комментария. Для этого ему необходимо представить первоначальный текст в виде некоторой теоретической реконструкции, чтобы как можно точнее представить смысл, вложенный автором. При составлении комментария он как бы вносит в основной текст некий новый, дополнительный смысл. В этом, в первую очередь, проявляется творческая сторона работы комментатора. Комментатор, прибегая к «медленному» чтению, стремится идти от частного к целому и от целого к частному. Ему необходимо представить концепцию целого текста и вычленить те моменты, которым требуется объяснение, причем выводящее к общему смыслу и к смысловой роли каждой детали [3: 133]. Если первоначальный текст представляет собой некую детальную модель, то вторичный оказывается его обобщающей моделью. При этом для вторичного текста характерна значительная информационная сжатость. Когда фрагмент текста представляется неясным, то возникает необходимость в дополнительном пояснении, которое становится ответом на вопросы, связанные с этим фрагментом. Одной из наших задач является определение закономерности вычленения тех фрагментов основного текста, которые обычно нуждаются в привлечении пояснений или дополнительной информации. Интерпретация текста как процесс познания и интерпретация как логическое изложение различаются. Комментарий как текст, содержащий некое исследование, объясняет смысл первоначального текста, причем этот смысл актуализируется в нем самом. Тесная связь с первоначальным текстом проявляется и в том, что в тексте комментария могут встречаться отдельные «элементы» первоначального текста, а применительно к литературоведческим текстам, в частности, - приемы анализа произведения. В научном литературоведческом произведении анализируется художественный текст или направление творчества и т.д., излагается та или иная их интерпретация. Одна из задач комментария - пояснить ключевые понятия этой интерпретации, основные тезисы и аргументы. Исследователь обращается не только к «стандартным» объектам комментирования, которые являются предметами отдельных видов комментария, но и к глубинному смыслу отдельных деталей, символов, намеков и ремарок. Благодаря комментарию внимание читателя направляется на эти детали таким образом, чтобы основные положения авторской концепции были более наглядными. Комментарий отличается от примечаний большей информативностью и возможностью выхода на более обширный материал или темы, которые могут и не иметь прямого отношения к комментируемому месту. Как уже было сказано, в комментарии не просто приводится дополнительная информация, относящаяся к выбранному фрагменту основного текста, но эта информация представляет собой истолкование и трактовку комментируемого фрагмента. Таким образом, можно сделать вывод о том, что понимание некоторых фрагментов основного текста определяется в первую очередь комментарием. 30 Сугубо фактографическая информация обогащает читательское восприятие. Причем возможность ее интерпретации остается за читателем. Качество информации – важный показатель комментария. Комментарий может не просто вносить в понимание текста дополнительный смысл, но также указывать на способы выражения авторского замысла. И именно здесь очевидно, что для интерпретации допустима множественность, возможность существования различных вариантов истолкования [4]. Комментарий должен отвечать требованиям объективности, обоснованности, критической оценки информации при выборе возможных вариантов интерпретации. Некоторое множество истолкований связано с проблемой автора и текста и обусловлено «определенной гипотетичностью и вероятностью характера знания, а также возможностью/невозможностью оценки интерпретируемого знания» [2: 62]. При составлении комментария возможность существования различных толкований и оценок произведения исследователь учитывает в связи с историей жизни произведения, т.к. оценка произведения может быть тесно связана с определенной исторической или культурной ситуацией его прочтения. Этот фактор имеет большое значение для комментария. Изучая научную литературу, в которой могут быть даны те или иные оценки комментируемого произведения, комментатор должен обратить внимание на изменения интерпретации, если они имели место, при этом на первый план он все-таки должен поставить факт самостоятельного прочтения произведения, что, возможно, позволит рассмотреть произведение с новой стороны. Комментарий призван не только интерпретировать произведение, но показать читателю его смысл в современном научном и культурном контексте. 1. 2. 3. 4. Литература: Le texte hors de lui: le Commentaire // Litterature. - 2002. - № 25. Депцова Т.Ю. Библиографический метатекст в литературной рекомендательной библиографии: Дис. …канд. пед. наук. - М., 2001. Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание. - М., 1991. Мыльников В.С. Авторский комментарий и его художественная функция в произведениях русских писателей ХIII-ХХ веков: Дис. … канд. филол. наук.Волгоград, 1994. Евстафьева Анна Валерьевна ТВОРЧЕСКАЯ СУДЬБА Л.А. ЧАРСКОЙ В КОНТЕКСТЕ МАССОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НАЧАЛА ХХ ВЕКА Начало ХХ века связано с резким изменением и увеличением читательской аудитории, появлением особого типа читателя - читателя массового и активным развитием литературы, соответствующей эстетическим запросам этого читателя. Массовая литература начала ХХ века была представлена явлениями различного рода и качества: книгами М.П.Арцыбашева и его подражателей, 31 А.М.Амфитеатрова, А.П.Каменского, А.А.Вербицкой, Е.А.Нагродской, Анны Мар, Лидии Чарской, а также многочисленными «дешевыми» изданиями в виде детективов о сыщике Нате Пинкертоне. Для творчества упомянутых авторов характерно повышенное внимание к модным темам своего времени, отражение эпохи в несколько упрощенных формах и формирование литературных штампов, из которых складывалась специфика массовой литературы в нач. ХХ века. Успех произведений этих авторов был обусловлен, в первую очередь, знанием запросов читателя и границ его «горизонта ожидания». Так, романы М.Арцыбашева «Санин» (1907) и А.Каменского «Люди» (1908), использовавшие «атрибутику литературы, нацеленной на создание «героя времени», «нового человека» [1: 64] и генетически восходившие «к популярному в русской литературе XIX в. жанру романа о «новых людях» [1: 62], были рассчитаны в первую очередь на читательскую аудиторию, привыкшую к традиционному «идейному» роману, но не готовую к восприятию высокой литературы. Широкая аудитория читателей получила возможность судить о жизни и современных проблемах эпохи на основе произведений массовой литературы, в доступной и понятной ей форме. Значительную часть читательской аудитории начала ХХ века составляли женщины различных социальных слоев, творчество которых было востребовано литературой, рассчитанное именно на женское восприятие, затрагивающее и поднимающее интересующие их вопросы. Так, роман А.Вербицкой «Ключи счастья» (1908-1913), основанный на иллюзорном правдоподобии, был ориентирован на жанр сенсационного романа и затрагивал злободневные проблемы эпохи в сниженном и упрощенном варианте. Здесь бытовые реалии и события минувшей революции, изложенные в доступной для читателя манере, становились фоном для разворачивания «неправдоподобного» сюжета о судьбе Мани Ельцовой, в основу которого был положен «миф о Золушке», ставший очень популярным в массовой литературе. Произведения А.Вербицкой («Дух времени», «Ключи счастья») и Е.Нагродской («Гнев Диониса») представляли собой женский вариант романа о «новом человеке» - о новом типе женщины, сумевшей освободиться от привычных норм любви, выходящей из рамок личной жизни на общественную арену. Упрощенное изложение злободневных проблем и популярных теорий, принципы создания образа главного героя / героини позволяли читателю отождествлять себя с героем произведения, создавали иллюзорную возможность ощутить себя участником событий своего времени. Читательниц привлекало не столько упрощенное изложение модных теорий и текущих исторических событий, сколько то, что это служило фоном для развертывания определенного мелодраматического сюжета. Одним из примеров массовой литературы начала ХХ века стало творчество детской писательницы Лидии Чарской (1875 – 1937). Ее повести («Записки институтки», «Княжна Джаваха», «Записки сиротки», «Записки маленькой гимназистки», «Белые пелеринки», «Генеральская дочка» и др.), посвященные жизни девочек в закрытом учебном заведении - институте 32 благородных девиц, пансионе, приюте, принесли писательнице успех, сделав ее своеобразной «властительницей сердец и дум», о чем писали в те годы [4]. В произведениях Л.Чарской читательницы находили лиризм, эмоциональность и утверждение вечных ценностей (добра, любви к ближнему, благородство, верность себе и другу). Вера в торжество этих ценностей увлекала юных читателей, вызывала в них ответное чувство и была необходима им в напряженной и переломной атмосфере предреволюционной эпохи. Но не смотря на это в произведениях Л.Чарской присутствуют стилистическая небрежность, повторы, сходство сюжетных схем. Ее стиль порой грешит излишней «сусальностью», связанной, в первую очередь с внутренним миром девочек. Это отмечала и критика начала ХХ века. В то же время писательница одной из первых вторглась в заповедный мир чувств, переживаний, мыслей девочек-институток, подробно описала их быт, раскрыла истории из их жизни, потаенной и часто недоступной чужому взгляду. Это и оказалось успешным творческим приемом писательницы, вызвало интерес у читающей аудитории и любовь к произведениям Чарской. По мнению С.Ларсен [2: 404], произведения писательницы были неким стимулом самовыражения для читательниц, идентифицирующих себя с героинями ее повестей и находивших в женской (девичьей) дружбе источник интенсивной духовной жизни. Так, самоидентификации читательницы с героиней способствовала стереотипность героев, лишенных индивидуальной характеристики. Главные герои повестей – натуры одаренные и талантливые, но при этом описания их внешности достаточно шаблонны: «ангельские кудри», «большие глаза с длинными ресницами», удивительный голос. Героини, как правило, танцуют, поют, рассказывают необыкновенные и незабываемые истории. Повествование от лица героини раскрывает ее переживания, мысли и чувства, делает установку на правдоподобие происходящих событий. Принадлежность рассказчика к изображаемому им миру, включенность его вместе с другими персонажами в художественную структуру произведения дает возможность читателю увидеть события с точки зрения участника действия, погрузиться в мир произведения. Героини демонстрируют попытку разобраться в своих мыслях, чувствах, переживаниях, попытку субъективную, зачастую делая ошибочные выводы. Вера в реальность персонажей* и происходящие события создавала основу для самоотождествления читательниц с героинями повестей и понимание мира ее произведений как жизненноконкретного. Динамично разворачиваемый сюжет, обилие невероятных и фантастических происшествий отчасти компенсирует схематичность характеров героев. Интересно, что повести Л.Чарской нашли свое место и в библиотеке юной Марины Цветаевой. Так, в стихотворениях «Памяти Нины Джаваха», «Дортуар весной» прочитанные произведения писательницы органически переплетаются с жизненными впечатлениями поэта. 33 В российской культуре после 1917 года произведения массовой литературы с ее сентиментально-лубочными формами, были объявлены продуктом буржуазной идеологии [3: 256]. Полифоничность русской культуры, восстановленная к 1990-м годам, вызвала активный процесс по созданию отечественной массовой литературы. Массовая литература рубежа ХХ-XXI веков дает возможность выбора пути чтения, отвечает запросам разнообразных слоев новой читательской аудитории**. Развитие современной массовой литературы**** во многом повторяет пути и приемы массовой литературы начала ХХ века. Стереотипизация и упрощение идей, проблема репрезентации человеческих отношений, тиражируемость приемов и конструкций, серийность героя, прием контраста, эскапизм – все это присутствует и в современной массовой литературе. В то же время появляются новые жанры (фэнтези, боевик, триллер, дамский роман и др.), трансформируется образ главного героя. Постепенно развивается жанр отечественного «дамского романа». В произведениях жанра, героиней которого является женщина, отражаются изменения социального статуса и психологии современной российской женщины. Не обязательным становится хэппи-энд в виде долгожданной свадьбы или соединения с любимым; появляется линия социального, карьерного роста, что «отражает смену социальных ориентиров в массовом сознании» [6: 120]. Видное место в жанровой картине современной массовой литературы занял иронический детектив, включающий в себя детективную и любовную истории. В отличие от массовой литературы начала ХХ века эстетика современной массовой литературы оснащена богатым ассоциативным аппаратом, отсылающим читателя к практике кинематографа и телевидения. При всей новизне массовой литературы конца ХХ века ее объединяющей чертой остается стереотипность, тривиальность художественной идеи, компенсаторная функция и достаточно легкая возможность идентифицировать свою судьбу с вымышленной историей героев. Черты сходства, присущие произведениям массовой литературы, вызвали во второй половине 90-х годов ХХ века волну переиздания многих текстов начала ХХ века. К современным читателям, наряду с романами А.Вербицкой, А.Нагродской, Л.Д.Зиновьевой-Аннибал и др., пришли и переизданные повести Лидии Чарской, являющиеся лишь небольшой частью творческого наследия писательницы: институтские повести - «Записки институтки», «Княжна Джаваха», «Люда Влассовская», исторические повести - «Паж цесаревны», «Смелая жизнь», сказки - «Сказки голубой феи». Но вместе с тем, большое количество повестей и детских рассказов, стихотворений, а также произведения Чарской для взрослой аудитории современному читателю до сих пор не известны, а проблема восприятия ее произведений современным читателем, безусловно, заслуживает отдельного исследования. В обращениях современных исследователей к творческому наследию Лидии Чарской (Е.О.Путилова, С.Коваленко, С.Никоненко), отмечается особое внимание писательницы к миру ребенка, благоговейное отношение к его душе, 34 умение научить юного читателя покаянию, прощению и любви. Помимо специфики сюжетов повестей Л.Чарской о жизни девочек в закрытом учебном заведении, Е.О.Путилова выделяет в творчестве писательницы популярную тему для мировой литературы - история потерянных, похищенных детей. Сегодня предпринимаются попытки рассмотреть творчество Л.Чарской в рамках женской литературы как не соответствующие тому литературному канону, критерии которого «выводились по текстам, написанными мужчинами и определяемыми как классические» [5]. Одним из аспектов будущих исследований является богатый актерский опыт писательницы с его экспрессией и приемами, направленными на то чтобы вызвать у читателя ответную эмоциональную реакцию. Сборники сказок Л.Чарской «Сказки голубой феи» и «Подарок ангела» анализируются современными исследователями как пример художественного синтеза, характерного для литературы Серебряного века. [7]. Примечания: *Читатели Чарской (дети и взрослые) приходили к Новодевичьему монастырю в Петербурге (ныне – Московский пр., 100), разыскивая могилу Джавахи ** Совершенно разным читателям адресуют свои произведения В.Доценко и А.Бушков, Е.Монах и Б.Акунин, А.Маринина, Д.Донцова и Т.Устинова, М.Успенский и С.Лукьяненко. *** Проблеме развития современной массовой литературы, ее поэтике посвящены исследования М.А.Черняк, О.Бочаровой, Т.Сотниковой, О.Славниковой, В.Березина и др. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Литература: Грачева А.М. Бестселлеры начала ХХ века (К вопросу о феномене успеха) // Русская литература ХХ века на родине и в эмиграции. - М.: Изд-во МГУ. - Вып. 1. - 2000. Гречаная Е.П. Рецензия на кн.: Self and story in Russian History / Ed. By L.Engelstein and S.Sandler. – Ithaca; L.:Cornell University Press, 2000 // Новое литературное обозрение. – 2001. -№ 48. С. 402-405. Добренко Е. Формовка советского читателя. - СПб. -1997. Новости детской литературы. – 1911. - № 2. –С.6. Трофимова Е.И. Скорби и радости Лидии Чарской// www.jesaulov.narod.ru/Code/tezisy_trofimova.html. Черняк М.А. «Новые сказки» о Золушке: типологические черты русского любовного романа рубежа XX-XXI веков // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена. Сер. Общественные и гуманитарные науки.- 2004. - № 4. Матвеева А.С. Лидия Чарская: Стиль сказочной прозы. – М.-Ярославль, 2005. 35 Вольская Анна Борисовна МИР, СОЗДАВАЕМЫЙ ЛИТЕРАТУРОЙ (В ЗЕРКАЛАХ ПЕРЕПИСКИ «СЕРАПИОНОВЫХ БРАТЬЕВ») В конце ХХ века, когда была пересмотрена парадигма истории русской литературы уходящего столетия, возвращены из небытия утраченные культурные ценности (эмигрантское изгнание, цензурные запреты), появилась возможность воссоздать целостную картину русского столетия. Научные труды и учебники нового поколения, посвященные истории русской литературы ХХ века, сделали центром внимания эволюцию эстетических систем, школ, направлений, методов отдельных творцов. Именно под таким углом зрения понадобилось обращение историков литературы, исследователей к исключенной из литературного процесса предшествующих десятилетий деятельности творческой группы 1920-х гг. «Серапионовы братья». Так, наследие «Серапионовых братьев» заняло свое достойное место, например в новом учебнике [1], нашло свое отражение в монографии Б.Фрезинского [4], впервые соединены по одной обложкой произведения одного из ярких писателей группы Льва Лунца, его произведения, переписка, публицистика, критика и воспоминания о нем [2]. Вышедшее в 2004 году полное издание переписки «Серапионовых братьев» содержит большой материал, подлежащий дальнейшему исследованию как взаимоотношений писателей группы, так и их активного участия в литературной жизни двадцатых годов (переписка с А.М.Горьким, А.К.Воронским, крупнейшими писателями этой эпохи Б.Пильняком, И.Эренбургом и др.)*. Знакомясь с перепиской, мы сосредоточили наше внимание на важнейшей творческой проблеме, выдвижение которой было серьезным новаторским выступлением, под знаком которого происходило становление и зрелость серапионов. Современный исследователь так обобщает смысл деятельности группы: «Серапионы» отстаивали право художника на собственное суждение, утверждали независимость искусства от идеологического давления государства, провозглашали свободу литературы от сервильных или агитационных задач, защищали суверенность творческой личности» [1]. На фоне тоталитарной социализации литературы послеоктябрьского периода манифест «Серапионовых братьев», защищающий автономию литературы и культуры от политики, призывающий писателей посвятить сой талант творческому процессу как таковому, был неслыханной дерзостью. Л.Лунцу принадлежит создание манифеста группы, в котором отчетливо видны эти тенденции. Серапионы отвергали всякую тенденциозность искусства, его зависимость от идеологии («Мы пишем не для пропаганды»), защищали права художника на абсолютную индивидуальность в творчестве: «Искусство – не публицистика, - писал Лунц, - у искусства свои законы». Среди многочисленных фатов жизни и деятельности писателей, отраженных в изданной переписке, нетрудно обнаружить, сколь важной и 36 значимой является для молодых писателей проблема творчества. В их письмах друг другу обсуждаются творческие заботы, трудности, с которыми они сталкиваются на важных и значимых этапах своей деятельности. И что очень важно – сознание взятой на себя роли по формированию литературы новой эпохи. Рано эмигрировавший молодой поэт В.Познер в письме А.М.Ремизову формулирует общую для серапионов мысль: «вне России писать нельзя, а о другом не стоит» (Париж, 1921 г.). Это признание тем более важно, что на родине зреет наступление власти на искусство. В.Познер об этом далее: «Александр Александрович умер, Николая Степаныча расстреляли» (речь идет об А.Блоке и Н.Гумилеве – А.В.). Серапион Н.Никитин в письме из Берлина в 1923 г. пишет Лунцу: «Россия – ночь, но мы должны быть светляками, наше место там». Серапионы внимательно следят, чтобы официоз и идеология не вторгались на страницы их произведений. Это стало известно из материалов воспоминаний о творческих встречах в «Доме Искусств», а тексты исследуемой переписки подтверждают эту позицию. Так, Л.Лунц пишет А.М.Горькому: «По Всеволоду Иванову ударила проклятая публицистика, которая подняла вокруг Всеволода свистопляску и вскружила ему голову. Результаты самые губительные. Всеволод начал писать слабее, теряет часто сой голос, впадает в скучную остросюжетную тенденцию. Напишите ему непременно и обложите его хорошенько» [2: 69]. Получив уже с первых шагов признание в литературе, серапионы принимают активное участие в литературном процессе двадцатых годов. Важное место в переписке занимает их общение с издателями, писателями, критиками, определявшими ход и пути развития новой русской литературы. Среди этих адресатов важное место занимают А.М.Горький, А.К.Воронский, Е.И.Замятин, И.Ионов, А.Луначарский, С.Маршак, Б.Пильняк, И.Эренбург, В.Шкловский, К.Чуковский (переписка с Горьким отражена в 103 письмах – А.В.). Самые важные идеи с точки зрения концепции искусства обсуждались серапионами с Горьким. В этих письмах серапионы высказывают суждения о роли русской литературы, о возможности взаимодействия с западной европейской литературой, а главное, о том новом, что они хотели внести в современную русскую литературу: «Я не хочу писать, как пишут 9/10 русских беллетристов», - признавался Л.Лунц А.М.Горькому (Петроград, 1922) [2: 34]. Отправив Горькому рукопись своих пьес «Бертран де Борн» и «Вне закона» Лунц подробно обсуждает их, ждет «его мненья и сомненья» [2: 72]. Он делится с Горьким своей идеей «учиться фабуле, как у русских классиков на традициях западной романистики». Тут же добавляет: «Меня здорово облаяли, особенно за «западничество», но я держусь за него крепко. Полагая, что русское «скифство» - идеология провинциалов» [2: 72]. В письмах нашло место увлечение Лунца кинематографом двадцатых годов. Он в восторге от его динамизма и видит возможный синтез кинематографа и литературы. 37 Горький активно поддерживал новаторский поиск серапионов, видел в молодых писателях будущее русской литературы. Он признавал за серапионами «серьезное любовное отношение к священному делу искусства» (ГорькийФедину) [2: 47], а их лозунг «Писать очень трудно» считал превосходным и мудрым. «Не отступайте от него» призывал он писателей. Как показывает переписка, Горький знакомился с произведениями серапионов, давал им профессиональные советы и предостерегал: «Вы должны знать, что вас не сразу поймут и оценят. Вам нужно вооружиться терпением в пути, на который вас обрекает характер вашего таланта. Его надо очень любить и очень беречь, - это цветок оригинальной красоты, формы, я склонен думать, что впервые на почве русской литературы распускается столь странное и затейливое растение. Для меня, старого читателя, уже и теперь ваши рассказы выше подобных у Гоголя» (А.М.Горький - В.А.Каверину) [2: 60]. Очень рано серапионы на себе начинают ощущать холодное дыхание власти, которую не устраивает их позиция и взгляды на литературу. Еще не вышла книга Л.Троцкого «Литература и революция», в которой был произнесен приговор «Серапионовым братьям» за их «аполитичность и контрреволюционность», но в письмах уже ощущается напряжение, необходимость защищаться. «Лают нас на чем свет стоит»,- пишет Всеволод Иванов А.М. Горькому в январе 1923г. В письме М.Зощенко А.К.Воронскому попытки оправдаться: «... но только это не контрреволюция, это я просто размахнулся на большее, чем нужно... я только хочу вам сказать, что «для удовольствия белой печати», не писал и писать не хочу - пишу так как есть. А если и выходит иной раз с душком - такова жизнь, а не я» [2: 18]. Оказывая давление на каждого в отдельности писателя, власть стремится приспособить его творчество к нуждам «революционной необходимости». Пример тому переделка одной из «Партизанских» повестей Вс.Иванова в пьесу для МХАТа - «Бронепоезд 14-69». На раннем этапе этой переделки, судя по переписке, Вс.Иванов еще пытается сопротивляться. В письме к А.К.Воронскому он просит не переиздавать новый текст его произведения в Главполитпросвете. «За такие дела я бы дал по физиономии… я им написал ругательное письмо и боюсь - слишком мягко. Ради создателя, пусть не переиздают «Бронепоезд». Ответ А.К.Воронского: «Бронепоезд» расценивается среди коммунистов высоко. В восторге Сталин и прочая именитая публика». Известен факт, как вопреки воле писателя, Вс.Иванова сделали классиком советской литературы. В то же время, в 1923 году Лунц пишет Горькому о том, что «На серапионов ведется отчаянная травля в Питерских листах» [2: 89]. Таким образом, время демонстрировало, сколь дорого стоило право на свободу творчества. Через всю переписку красной нитью проходит мотив помощи и реальной поддержки Горьким всех начинаний «Серапионовых братьев». В письме к М.Слонимскому Горький обобщает, почему ему представляется столь важной творческая работа группы: «Поверьте, мое отношение вызвано глубоким сердечным интересом к работе вашей группы. Она для меня самое 38 значительное и самое радостное в современной России. На мой взгляд - и я уверен, что не преувеличиваю, - вы начинаете какую-то новую полосу в развитии литературы русской, - а это величайшее, что у нас есть. Слежу за вами с трепетом и радостью» [2: 38]. Обращение к произведениям, статьям, переписке «Серапионовых братьев» позволяет обнаружить важнейшие элементы драматичной эстетической эволюции, пройденной русской литературой на протяжении двадцатого столетия. «Сегодня с полным основанием можно говорить о том, что усилиями самых разных писателей русская литература вернула себе давно утраченное ею лицо и право быть равной и свободной среди других видов искусств. Не носительницей партийно-государственных функций по идеологическому воспитанию граждан, не оптимистическим рупором всенародного счастья и благополучия, не созидательницей псевдореальности, а творцом искусства средствами художественного Слова» [3: 6]. Зеркала переписки «Серапионовых братьев» отражают их творческое становление, вносят свидетельства участников литературного процесса в картину становления русской литературы пореволюционной эпохи. Примечания: * «Серапионовы братья» в зеркалах переписки. – М., 2004 (далее в тексте цитируется это издание) 1. 2. 3. 4. Литература: Васильев Е.Е. Группа «Серапионовы братья» // Русская литература ХХ века: школы, направления, методы творческой работы. – М., 2002. Лунц Л. «Обезьяны идут!»: проза, драматургия, публицистика, переписка / сост. текстов и комментарии Е.Лемминга. – СПб., 2003. Тимина С.И. Русский ХХ век // Русская литература ХХ века: школы, направления, методы творческой работы. – М., 2002. Фрезинский Б. «Судьбы Серапионов» Портреты и сюжеты. - СПб., 2003. Юрьева Мария Вячеславовна ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЖЕЙ В РАМКАХ ЖАНРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: РОМАН «ЗАВИСТЬ» – ПЬЕСА «ЗАГОВОР ЧУВСТВ» ЮРИЯ ОЛЕШИ Жанровая трансформация текста – достаточно частое явление в русской литературе первой половины ХХ века. Необходимо оговориться сразу, что под жанровой трансформацией мы понимаем изменение автором жанра раннее созданного им текста произведения. В качестве примеров могут служить роман «Белая гвардия» и пьеса «Дни Турбиных» Михаила Булгакова, повесть и пьеса «Бронепоезд 14-69» Всеволода Иванова и др. Иногда, особенно в конце ХХ века, мы встречаемся с фактом, когда вместо автора выступают другие лица, 39 которым заказываются версии театральных постановок или киносценариев уже написанных и получивших известность произведений. Нас же интересуют факты авторской работы над текстом, когда в результате изменения жанра появлялось отдельное, самостоятельное произведение. В этой статье мы рассмотрим творческую историю романа «Зависть» Юрия Олеши, который был опубликован в 1927 году в 7 и 8 номерах популярного литературного журнала «Красная новь». Опубликованный роман вызвал в критике бурную дискуссию. В ситуации объявленной идеологами эпохи 20-х годов программы создания образа героя, персонажи Ю. Олеши, Николай Кавалеров и Андрей Бабичев, резко отличались от рекомендуемой модели «героя нашего времени». Авторы некоторых опубликованных в 1928 г. статей [2][4] идентифицировали позицию писателя со взглядами явно лишенных положительных черт героев. Одни критики увидели в Андрее Бабичеве «карикатуру на коммуниста», другие защищали писателя, говоря, что автор «неповинен в контрреволюционном желании высмеять большевиков» [2]. Особенно показательными являются отзывы читателей, опубликованные в газете «Металлист»*: «Герои не увлекут читателя, особенно рабочих, которые навряд ли найдут в книжке «Зависть» удовлетворение, и едва ли все прочитанное ими будет принято так, как думает автор книги. И поэтому книга «Зависть» в рабочих библиотеках не должна бы распространяться (…). Положительные типы ходульные, отрицательные туманные и даже очень нежизненные». Олеша-художник оказался под давлением новой власти, запирающей его в рамки социального заказа, демагогически опирающейся на мнение «рабочего класса». Массовый же читатель был не готов к восприятию новой прозы, такой, как произведения Е.Замятина, И.Бабеля, А.Платонова, М.Зощенко, стилистически и концептуально отличающейся от «нормативного» официоза. Давление критики еще более усиливало наступление на писателя, определяло судьбу его произведения. Так же нельзя не учитывать тот исторический факт, что несколькими годами раннее была запрещена к печати полностью готовая книга стихотворных фельетонов Ю.Олеши, публиковавшихся в то время под псевдонимом «Зубило» в газете «Гудок»**. Такие факторы, как непонимание читателей и общая историческая ситуация побудили Олешу заняться переработкой теста романа и принять предложение театра к постановке пьесы. Драма «Заговор чувств» вышла в 1929 году. При сравнении двух текстов – романа и драмы – становится ясно, сколь важные изменения происходят на всех уровнях текста: сюжетном, идейном, стилистическом, в системе персонажей. В данном исследовании мы обратимся к одному из перечисленных уровней, так как на примере изменения системы персонажей концентрируются идеологические изменения в драме. Противопоставление главных героев романа – Николая Кавалерова и Андрея Бабичева – обеспечивает структурную основу романа. За пластичной, метафоричной тканью романа автором скрыта жестко выстроенная система 40 персонажей, построенная на противопоставлении. Еще в 20-30-е годы критиками было замечено, что героев романа можно разделить на две группы: так называемых «новых людей», занимающихся строительством коммунизма, и «реакционеров», мечтающих вернуть прошлое. Важным в построении системы взаимодействия персонажей является их «притяжение и отталкивание». Андрей Бабичев, колбасник, вдохновитель фабрики-кухни, в этой системе оказывается в одной группе с Володей Макаровым, футболистом и человеком-машиной, и дочерью Ивана Бабичева – Валей. Их антиподами являются находящийся на иждивении у Андрея Бабичева поэт Николай Кавалеров, изобретатель чудесной машины Офелии, брат Андрея, Иван Бабичев и вдова Прокопович. Сюжетная схема «Зависти» держится на актуализации архаичного сюжета «поиска настоящего наследника» [3]. В романе Иван Бабичев – сниженный, карикатурный двойник Николая Кавалерова (об этом говорит сцена встречи персонажей, они как будто отражаются друг в друге) видит Кавалерова женихом своей дочери, а, соответственно, и преемником. Их антипод, Андрей, прочит ей в мужья своего «наследника-двойника». Подобным сниженным «двойником» Андрея Бабичева является Володя Макаров. Таким образом, новые люди, озабоченные производством нового сорта колбасы - это бесчувственные, люди, которые хотят приурочить первый поцелуй к общественно важному событию, открытию фабрики-кухни, а мечтатель, поэт, желает вернуть прекрасные, но забытые чувства. Поэтому его, а не идеального футболиста Володю, наделяет Юрий Олеша чертами своего характера, в чем и признается в своей покаянной Речи на I Всесоюзном съезде советских писателей в 1934 году, раскрывая свою писательскую позицию. В пьесе для театра автор вносит кардинальные изменения в характеры и систему их взаимоотношений. Большинство из них направлены на то, чтобы создать конфликт между идеальным героем времени Андреем Бабичевым и малосимпатичным реакционером Николаем Кавалеровым. Юрий Олеша придает речи А. Бабичева несвойственную ей стилистику, разукрашивая ее метафорами. Это можно проследить в приведенном примере: Роман «Зависть», 1927 Николай Кавалеров: «Он моется, как мальчик, дудит, приплясывает, фыркает, испускает вопли. Воду он захватывает пригоршнями и, не донося до подмышек, расшлепывает по циновке. Вода на соломе рассыпается полными, чистыми каплями. Пена, падая в таз, закипает, как блин. Иногда мыло ослепляет его, – он, чертыхаясь, раздирает большими пальцами веки. Полощет горло он с Драма «Заговор чувств», 1929 Андрей: Отличный таз. По-моему, вода в тазу выглядит гораздо лучше, чем на свободе. Смотрите, какой синий таз. Красота. Вон там окно, а пожалуйста, если нагнуться, то видно, как окно пляшет в тазу.**** 41 клекотом. Под балконом останавливаются люди и задирают головы.*** Изменения же, внесенные в реплики Николая Кавалерова приводят к потере поэтичности, образности, что актуализирует основную тему персонажа, тему зависти. Иногда изменения прямо апеллирует к высказанным критиками претензиям. В соответствии с произведенной автором правкой кардинально меняется концепция пьесы. Если в романе идеологическим противником коммуниста-колбасника выступает Кавалеров, то в пьесе его место занимает Иван. Именно его идея «заговора чувств» ушедшего века противопоставлена идеям Андрея. Это противостояние решается и на сюжетном уровне. Чтобы поднять нравственный статус героя автор вводит в пьесу сюжет о любви Андрея и Вали, исключает образ молодого спортсмена Володи Макарова, очевидно, согласившись с критиками в оценках его «ходульности» и «нежизнеспособности». Таким образом, Юрий Олеша создает образ идеального «нового человека», занимающегося важным общественным делом и при этом не лишенного человеческих чувств. Встав на подсказанный путь, автор насильственно ломает структуру текста и характеристику образов героев. Сегодня, давая оценку этой авторской работе, историки литературы и советского театра, должны учитывать тот факт, что пьеса «Заговор чувств» является примером насильственной и безответственной правки методом автоцензуры и не может занимать достойное место рядом с талантливым и искренним романом «Зависть». Хочется отметить, что понадобилось несколько десятилетий, чтобы оказавшийся в вынужденной эмиграции литературовед А.Белинков опубликовал книгу «Сдача и гибель советского интеллигента: Юрий Олеша», в которой раскрыта трагедия высокого таланта писателя, склонившего голову в условиях жесткой идеологической системы. А исследуемый нами материал – еще одно подтверждение этого факта. Примечания: * № 16, 1928 г. **книга была полностью подготовлена к печати: Олеша Ю. «Зубило».– Л.: Гудок, 1924. 42 *** Здесь и далее цитируется по изданию: Олеша Ю. «Заговор чувств». СПб., 1999. - С. 8. **** Там же. С. 328 1. 2. 3. 4. Литература: Белинков А. Сдача и гибель советского интеллигента: Юрий Олеша. - М., 1991. Горбов Д. «Оправдание «Зависти» // Новый Мир. – 1928. - №11. Елисеев Н. Предостережение пишущим. - С-Пб – М., 2002. Черняк Я. «О «Зависти» Юрия Олеши» // Печать и революция. – 1928. №5. Петрова Светлана Андреевна ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ: А.М.ДОБРОЛЮБОВ (К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ АВТОРСКОГО «Я») Проблемы взаимовлияния творчества и биографии автора становятся особенно актуальными, если имеется факт сознательного моделирования определенного авторского «я», некоего образа или имиджа автора. О таком факте обычно пишут в воспоминаниях современники поэта или писателя, вместе с тем задействованы автобиографические элементы и в самом художественном творчестве. Задача этой статьи - рассмотреть одну из особенностей авторского «я» А.М.Добролюбова, проявившуюся как в жизни, так и в произведениях поэта, творившего в период Серебряного века русской поэзии, когда стремление к эстетизации нехудожественной реальности было особенно ярко выражено. В одной из своих работ Вл.Ходасевич писал, что в творчестве символистов отражались истории жизни многих людей. Он также отмечал, что некоторые произведения сознательно строились на взаимосвязи биографических событий, и вследствие этого могли быть понятны только на основе тех сопоставлений, сближений с реальным, происходящим в то время. «Едва ли не всё наиболее значительное открывается не иначе, как в связи с внутренней и внешней биографией автора…». Как пишет Л.Я. Гинзбург: «в биографических конструкциях, и закреплённых письменно, и незакреплённых, потенциально присутствует эстетическое начало. Чтобы пробудить это начало, нужно лишь воспринять биографическую связь как выражение некоей жизненной темы, идеи; нужно, чтобы события, поступки, переживания мыслились как формы этой жизненной темы, от неё неотделимые» [3: 83]. Далее она приводит в качестве подобных законченных сюжетов примеры жизней известных людей: Д.Байрон, его гибель в бунтующей Греции, дуэль и смерть А.С.Пушкина, уход из Ясной Поляны Л.Н.Толстого. В целом, биография, будучи описанием жизни человека или каких-то её фрагментов, также является представлением о чужой или личной (автобиография) жизни как о связном процессе, едином комплексе. При этом исследовательница обращает внимание, что и самая незаметная жизнь, но 43 рассматриваемая осмысленно в своём единстве, может стать моделью основных человеческих конфликтов, коллизий, т.е. случайное получит тогда мотивировку и станет выражающим. Таким образом, происходит эстетизация внеэстетического, и это относится не только к биографическим монографиям. Переходы между жизненными и литературными формами биографического, по словам Л.Я.Гинзбург, возможны, так как и те и другие осуществляются в речевой стихии, которая нераздельно связана с жизненным процессом и при этом активно его формирует. Б.М.Эйхенбаум в статье «Литературный быт» обращал внимание на необходимость исследования литературно-бытового материала в его соотношении с фактами литературной эволюции [10: 434]. В то же время существуют тенденции в литературоведении ценить и исследовать больше биографическую судьбу поэта, чем его творчество. О необходимости соблюдения определенной меры в этой области предупреждал Ю.Н.Тынянов в статье, посвящённой Велимиру Хлебникову: «Как бы ни была странна и поразительна жизнь странствователя и поэта, как бы ни была страшна его смерть, биография не должна давить на его поэзию. Не нужно отделываться от человека его биографией» [9: 471]. Так сложилось изучение творческой судьбы А. М. Добролюбова (18761945). Многие о нем писали, как отмечает К.М.Азадовский, но почти каждого из них интересовала не столько поэзия, сколько его судьба, его личность [1: 121]. Последнее доказывает, что существовала определенная тенденция эстетизировать жизнь поэта, мифологизировать его судьбу не только со стороны самого автора, но и со стороны его современников. Напомним, что А.М.Добролюбов выступил в качестве поэта-декадента и издал в 1895 г. книгу стихов «Natura Naturans. Natura Naturata», которая принесла ему скандальную славу непонятного и непринятого творца. Необходимо отметить, что его отец умер в 1892 г., когда поэту было только 16 лет. Под влиянием Владимира Гиппиуса Добролюбов начал изучать французских символистов и становится эстетом-декадентом. Об этом Гиппиус впоследствии писал: «Когда же умер отец, он почувствовал себя потерянным; он не мог пережить этой смерти, как вообще истинная любовь не может пережить этой смерти и обманывает себя. (…) Он столкнулся со мной – и стал эстетом» [7: 261]. Но в 1897 г в мировоззрении поэта стали происходить изменения, которые привели к переосмыслению всех духовных ценностей, в результате Добролюбвым было сформировано новое его «лирическое богословие» [6: 358]. Перевоплотившись в странника, он отказался от всего, что его связывало с прежними устремлениями, отказался от своих литературных творений, от социальных связей. В тоже время, он продолжал писать, выражая своё новое мировосприятие по-новому, издал произведение «Из Книги Невидимой». Поэт сформировал секту «добролюбовцев», которая строила жизнь в соответствии с его «богословием». Вокруг имени Добролюбова стала создаваться легенда, миф о скитальце, о русском Франциске Ассизском: «Д.С.Мережковский одно время считал Добролюбова «святым» и ставил его рядом с Франциском Ассизским. 44 «В самом деле, за пять веков христианства, кто третий между этими двумя…» [1: 121]. Как пишет А.А.Кобринский: «Миф об Александре Добролюбове, начавший складываться уже в самом раннем периоде развития русского символизма — неважно, как его называть, «дьяволическим» (Хансен-Леве) или «декадентским» (И. П. Смирнов), — окончательно сформировался уже в начале ХХ века, то есть когда сам Добролюбов уже ушел из литературы и порвал со своим привычным литературно-художественным кругом. Миф этот базировался на двух основных компонентах. С одной стороны, отказ Добролюбова от литературного творчества ради самой жизни рассматривался многими современниками как своего рода «строительная жертва» (Р.Д.Тименчик) – искупление общих «интеллигентских» грехов. (…) Вторая сторона мифа (…) представляет собой литературный извод мифа о святом страннике, само существование которого служит упреком людям, живущим одновременно с ним, но – мимолетной, пустой, суетной жизнью» [5: 4]. В тридцатые годы поэт пытался вернуться на литературную сцену. Но существовавшая тогда историческая ситуация не позволила это сделать. Не было отмечено ни кем из современников то, что биографический факт смерти отца поэтом был воспринят в ракурсе совпадения с трагической историей принца Гамлета из трагедии Шекспира и использован в создании авторского «я» – декадента, а в творчестве отразился реминисценциями из этого произведения. Так в тот период своей жизни, по воспоминаниям современников, Добролюбов одевался постоянно в черный странный костюм с белым кашне вместо воротника и галстука, принимал позы, говорил намеренную чепуху, садился посреди комнаты на пол. Поведение было подчеркнуто асоциальным, воспринимавшимся и как игра, и как странность, безумие*. Герой Шекспира не снимал чёрных одежд из-за траура в связи со смертью отца, а потом и притворялся сумасшедшим, также сидел на полу у ног Офелии во время спектакля**. Совпадение некоторых черт наводит на предположение о сходстве. Добролюбов, как писал Венгеров, был «хорошо знаком (…) с Пушкиным, Тургеневым, В.Гюго, писателями, которых больше всего любил…» [7: 253]. Он знал французский и мог читать трактат В.Гюго «Вильям Шекспир», в котором писатель называет величайшей трагедию Шекспира о Гамлете, а также – и само произведение английского драматурга на оригинальном языке. Первая книга стихов А.Добролюбова характеризуется многочисленными эпиграфами на иностранных языках, в том числе и на английском. В то же время в русской литературе сложилась определенная традиция осмысления этой трагедии. И.С. Тургеневым были разработаны два образатипа: Гамлет и Дон Кихот, - черты которых в той или иной степени присутствуют, по словам автора, практически в каждом человеке, о чём писатель рассуждает в статье «Гамлет и Дон Кихот». Следует также отметить, что одной из центральных мифологем символизма как зарубежного, так и русского, выделяется исследователем В.М.Толмачёвым герой трагедии Шекспира – Гамлет. «Мир, вышедший из 45 колеи» – это мир, который на взгляд поэта лишился эстетической достоверности (т.е. обуржуазился, стал глубоко плебейским и вульгарным, выставил всё, в том числе и творчество, на продажу, объявил поэта «безумцем») и превратился в своего рода декорацию, лжеценность, дурную бесконечность» [8: 980]. Художник должен искупить этот эстетический грех мира своего рода отцеубийством и самоубийством, принести жертву в виде отречения от общезначимого. Таким образом, А.М.Добролюбов сознательно формирует особый имидж декадента, тем самым, предвосхищая футуристов, используя при этом черты Гамлета, выбор героя Шекспира с одной стороны связан с биографическим фактом поэта, с другой – закономерен и детерминирован общим литературным направлением, к которому относит себе сам автор. Теория имиджа, в связи с творчеством футуристов, была разработана В.Н.Альфонсовым. Он определяет этот термин следующим образом: «Имидж – это личина и лицо одновременно. Личина демонстративно подчеркивает какието черты, а что-то утаивает – не исключает, а уводит в подтекст (…) Труднее и важнее почувствовать в нём скрытое значение, лирическое действие, внутренний сюжет. Поза есть поза, за нею всегда что-то стоит. Это «что-то» может быть пустой претенциозностью, но может нести по-настоящему значительное содержание» [2: 75]. Декадентская «вера» А. Добролюбова, созданная разумом, имеет скрытый исток – глубокую духовную трагедию сердца – смерть отца, – заставившую поэта иначе осознать себя и окружающий мир. Создавая новый имидж, надев маску декадента с чертами образа Гамлета, формируя особый подтекст, поэт тем самым выступает против сложившегося социального и мирового порядка, против «прогнившего» социума, достойного лишь анархии, против бытия, в котором люди рождаются для того, чтоб умереть. Он видит все противоречия, всё несовершенство, всё Зло и декларирует красоту Смерти, которая это все уничтожает безвозвратно. Его аморальность происходит именно из того, что все окружающее не отвечает законам морали. Обозначенные выше ассоциативные связи социального поведения Добролюбова, сходство того авторского «я», которое он формирует, с образом Гамлета помогают по-новому увидеть мотивы деятельности поэта, его особый склад личности, творческой индивидуальности, а также выявить особенности поэтики его произведений. В первой книге стихов поэт использует в качестве реминисценций элементы сюжета, некоторые мотивы и образы из трагедии В.Шекспира. Например, в стихотворении «Отцу» поэт обращается к умершему отцу как к коронованной особе: Царь! Просветлённый я снова склоняюсь пред гробом; Свечи зажгите! Священные песни начните! Плачьте! Пусть падают слёзы на шёлк и на ткани! [4: 33] Во второй части поэт импрессионистическим образом передает ту игру света и тени, в которой появляется то – неподвластное объяснениям с точки 46 зрения разума – приход призрака отца – событие, которое стало ключевым, телеологическим моментом в сюжете великой трагедии: Гаснет лампада. (…) Вспыхнуло что-то. (…) Ярко блеснули прозрачные крылья…(…) Пламя погасло. Ты светишь сквозь сумрак священный! Старческий голос твой слышу. Привет, неизменный. Снова молитвы мерцают. Привет, неизменный! [4: 35] И в дальнейших текстах первой части книги включаются элементы, развивающие этот момент: Призрак пройдёт пред Тобой – молчалив, неизменен – Медленно-гордой стопой. (“Lex mortis”) [4: 61] Присутствуют и другие интертекстуальные связи с трагедией В.Шекспира, актуализирующие глубокий мировоззренческий подтекст. Но в целом этот вопрос требует более детального исследования и в данном случае обозначена постановка проблемы для дальнейшего исследования творчества поэта А. Добролюбова, оказавшего влияние на последующее развитие русской литературы, выступившего в образе некоего «русского Гамлета» в начале своего творчества, и, подобно Дон Кихоту, ушедшего затем в странствие на борьбу со Злом. Примечания: * Подробнее о деталях жизни А. Добролюбова см.: Гиппиус Вл. Александр Добролюбов [8: I, 261]. ** Об описании одежд шекспировских героев подробнее: Чернова А. Д. Все краски мира, кроме жёлтой: Опыт пластической характеристики персонажей В. Шекспира. - М., 1987. *** Здесь и далее цитирование текстов А.Добролюбова с указанием страниц дается по изданию: Добролюбов А.М. Сочинения. Modern Russian Literature and Culture. Vol. 10. Berkeley, 1981 Литература: 1. Азадовский К. М. Путь Александра Добролюбова // Ученые записки Тартуского государственного университета.- Вып. 459. Творчество А. А. Блока и русская культура ХХ века. - Блоковский сборник. III. - Тарту, 1979. 2. Альфонсов В.Н. Поэзия русского футуризма. // Русская литература ХХ века: Школы, направления, методы творческой работы. – СПб.-М., 2002. 3. Гинзбург Л.Я. Литература в поисках реальности. - Л., 1987. 4. Добролюбов А.М. Сочинения. Modern Russian Literature and Culture. - Vol. 10. - Berkeley, 1981. 5. Кобринский А.А. Разговор через мёртвое пространство (Александр Добролюбов в конце 1930-х – начале 1940-х годов) // Вопросы литературы.- № 4. - 2004. 47 6. Орлицкий Ю.Б. Стих и проза в русской литературе. - М., 2002. 7. Русская литература ХХ века. 1890-1910 / Под ред. С.А.Венгерова. - Т.1. - М., 2000. 8. Толмачев В.М. Творимая легенда // Энциклопедия символизма: Живопись, графика, и скульптура. Литература. Музыка. - М., 1999. 9. Тынянов Ю.Н. История литературы. Критика. - СПб., 2001. 10. Эйхенбаум Б.М. О литературе: работы разных лет. - М., 1987. Хитальский Олег Викторович ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА З.Н. ГИППИУС НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В последние годы в литературоведческой науке наблюдается особый интерес к поэзии Серебряного века. Особенностям творчества, стилю, поэтике в целом Ф.Сологуба, А.Белого, А.Блока, В.Брюсова, Д.Мережковского посвящаются монографии, защищаются кандидатские и докторские диссертации. Одной из знаковых фигур русской культуры начала ХХ в. является З.Гиппиус: поэт, прозаик, литературный критик, мемуарист, драматург. Изучение наследия З.Гиппиус проводилось еще ее современниками, но в силу исторических обстоятельств (ее отрицательное отношение к советской власти, вынужденная эмиграция), было прервано на долгое время. В справочниках, библиографических словарях, книгах по истории литературы, изданных в России, о жизни и творчестве З.Гиппиус только упоминалось. Тем временем, за рубежом – в Париже, Нью-Йорке, Мюнхене активно издавалось наследие русской писательницы: книга воспоминаний «Дмитрий Мережковский», сборники стихотворений и поэм, переписка с Берберовой и Ходасевичем, «Петербургские дневники», письма Д.Мережковского к З.Гиппиус. На родине же творчество З.Гиппиус недооценивали, ее рассматривали, прежде всего, как ярого врага действующей власти, формировался образ поэта декадентского толка, выразительницы упадочнических настроений, в некоторых исследованиях даже «разоблачались» ошибки писательницы. Первое серьезное исследование творчества З.Гиппиус в биографическом, философском контексте было предпринято в 1971 году профессором Иллинойского университета Т.Пахмусс «Zinaide Hippius: An intellectual profile», определившей своеобразие художественного метода писателя. В начале 1990-х гг. в России издано немало работ, посвященных биографии З. Гиппиус ([7],[13],[20]), своеобразию ее поэзии [11],[19], романов [7], публицистики [10], религиозному сознанию [18]. В последние десятилетия в России были опубликованы собрания стихотворений, романы, повести, рассказы, дневники и очерки писательницы. В 1995 г. в ИМЛИ РАН была проведена первая международная научная конференция, посвященная творчеству З.Гиппиус. Доклады были посвящены как общим проблемам творчества З.Гиппиус, так и отдельным вопросам, 48 жанрам и произведениям, включены в сборник «Зинаида Николаевна Гиппиус: Новые материалы. Исследования» (М., 2002). В последнее время внимание исследователей привлекла проза З. Гиппиус. Не очень высоко оцененный ее современниками этот достаточно объемный пласт литературной деятельности Гиппиус заслуживает серьезного внимания. Остаются нераскрытыми до конца проблемы поэтики прозы З.Гиппиус, ее сложное взаимодействие с поэзией и внутренним миром писательницы. Месту, которое занимает дилогия (романы «Чертова кукла» и «Романцаревич») З.Гиппиус в контексте развития русского социально-политического романа XIX-XX вв., посвящена тема диссертации К.В.Алексеева [1]. Исследователь приходит к выводу, что в социально-политическом романе существует особый характер взаимоотношений в системах «автор – герой», «автор – читатель», основным элементом образной системы в романе является принцип «свои – чужие» (иными словами характерной чертой социальнополитического романа является бинарная оппозиция), а основным приемом художественного изображения – противостояние и контраст. Система антитез – один из основных элементов поэтики социально-политического романа. Герой романа «Чертова кукла» Юрий Двоекуров в изображении автора продолжает линию героев романов Ф.Достоевского, Н.Чернышевского, Н.Лескова. В романе осмысливаются в новом историческом контексте теории Раскольникова, Лужина, Лопухова, Кирсанова. Современные исследователи ставят задачу рассмотреть прозу З.Гиппиус в общем контексте русского социально-политического романа к.XIX – н.XX вв. и выявить ее специфику на фоне романов М.Горького, А.Вербицкой, М.Арцыбашева и др. писателей-современников. Разрабатывая темы любви, революции, внимательно отслеживая актуальную проблематику объединения народа и интеллигенции, проблемы соотношения религии и революции, духовности и атеизма, З.Гиппиус проводит собственную идею, основанную на соединении революции социально-политической и религиозной. Преодоление нравственного и духовного кризиса, замена нигилизма верой в Бога – вот путь, по которому должны пойти революционеры, – считает З.Гиппиус. Причину взаимного непонимания интеллигенции и народа писательница видит в отсутствии духовного единства, а выход – в новом религиозном сознании, которое стало бы единым для всех. В настоящее время опубликованы работы, раскрывающие некоторые черты поэтики З.Гиппиус: «Притчевое начало в рассказе З.Гиппиус «Вымысел» [17], «Творческая история сказки З.Н.Гиппиус «Время» [3], «Специфика заглавия в лирике З.Гиппиус» [4], «Идея “невыразимости мира” и ее лексическое воплощение в лирике З. Гиппиус» [23] и др. Австрийский ученый А. Ханзен-Леве в трудах о русском символизме рассматривает мифопоэтические аспекты поэзии З.Гиппиус, составляющие феномен декадентского эстетического мироощущения: мотивы «замкнутости», «забвения», характерные для «демонического», «диаволического», осмысления реальности [22]. 49 Исследовательница Л.Д.Дмитриевская в диссертационной работе «З.Н.Гиппиус – прозаик и поэт (пейзаж и портрет в стиле рассказов 1890-1900 гг.)» [4] выявляет в прозе Гиппиус доминантные функции образов-символов природы (луны, неба, тумана, дома, сада и др.) и приходит к выводу о том, что природный образ предстает: как портретируемая действительность, создающая фон действия, как философская квинтэссенция, воплощающая религиознофилософские идеи автора (в рассказах «Яблони цветут», «Ведьма», «Луна», «Голубое небо», «Небесные слова»), как средство психологической характеристики, когда он пропущен через восприятие кого-либо из героев (в рассказах «Мисс Май», «Живые и мертвые», «Кабан», «Комета»), как средство создания импрессионистического пейзажа. В разделе «Роль цветового эпитета в создании образа природы в малой прозе З.Гиппиус» Л.Дмитриевская утверждает, что для каждой книги рассказов характерен свой индивидуальный набор эпитета со значением цвета. Цветовой эпитет в рассказах полифункционален. Помимо основных функций (описания, украшения, пояснения), он служит для ассоциативной передачи символистской «истины» о мире через диалог внутренних значений нескольких цветовых эпитетов, для отражения психологии персонажа или повествователя через его цветовое восприятие мира. Особенностям символизации в романе З.Гиппиус «Чертова кукла» посвящена статья Н.В.Кононовой [7]. Символ в романе «Чертова кукла» рассматривается как доминанта художественного мышления З.Гиппиус. Символизации подвержены многие структуры романа: заглавие, названия глав, образы-маски, имена, понятия, детали и т.д. По мнению автора, символика романа окрашена в религиозные тона, т.е., прежде всего, связана с христианской спецификой. Выполняют роль символов целый ряд образов: лампада, свеча, сердце, старец, черепки, судьба, игрок, пленник. Для поэтики романа в целом характерны дихотомические системы «света» и «тьмы», «слов» – «молчания», «времени» – «вечности», «жизни» – «смерти», «добра» – «зла»… Так, «тьма» и «свет» даны в романе как часть предметного мира в повествовании от автора. Тьма включает в себя бесперспективность бытия, силы зла, духовное ослепление. Целью диссертационного исследования А.М.Новожиловой является «анализ и рассмотрение всех книг Петербургских дневников З.Гиппиус как хронологического и повествовательного единства, в котором наглядно проявляются особенности поэтики документально-художественной прозы в рамках дневникового жанра» [14]. Анализируя жанровые особенности дневников З.Гиппиус, исследовательница относит Петербургские дневники к жанру «дневника писателя». Дневники Гиппиус выступают как явление истории, идеологии эпохи. Эстетическое решение проблемы введения героя в структуру художественного целого подчеркивает жанрово-стилевое своеобразие «дневника писателя». В разделе «Герой в дневниковом тексте» А.Новожилова анализирует систему персонажей дневниковых книг, условно классифицирует всех героев-участников дневника на несколько различных групп, анализирует принципы портретирования в дневниках, выявляет 50 доминирующий хронологический план «современной записи». Также анализу подвергаются принципы отбора попадаемой в дневник информации и источники информирования Гиппиус. Отдельного внимания заслуживает глава «Текстологические наблюдения над Петербургскими дневниками», в которой диссертантка сопоставляет раннюю и позднюю редакции дневниковых текстов, а также прибегает к сопоставительному текстологическому анализу дневниковых записей за февраль-март 1917 г. З.Гиппиус и Д.Философова. Итальянская исследовательница-славист М.Паолини анализирует критическую прозу З.Гиппиус [16]. В этой работе рассматриваются генезис, творческие принципы, основные темы, мотивы и объекты критической прозы З.Н.Гиппиус периода 1899 - 1918 гг. Обращает на себя внимание глава «Система «персонажей» критики З.Н.Гиппиус». Литераторы, объекты статей, с точки зрения исследователя, могут рассматриваться как «персонажи» критических сюжетов, имеющие свои устойчивые характеристики и эволюцию. Система «персонажей» может быть сведена к схеме: «свои»–«близкие»– «спутники»–«далекие»–«чужие». Наполнение схемы менялось в разные периоды деятельности Гиппиус-критика. В рамках работы рассматривается эволюция четырех «персонажей»: М.Горького, Л.Андреева, А.Блока и «коллективного персонажа» женщины-литератора. При рассмотрении эволюции персонажей автором выявлен «транстекстуальный» характер критической прозы З.Гиппиус. Еще исследователями-современниками З.Гиппиус подчеркивалось «мужское» и «женское» воплощение ее «я» в поэзии, прозе, критических статьях. Этот аспект выделяется исследователями и сегодня [2],[15],[21]. Но если Д.Томпсон на основании приведенных им литературных и биографических фактов склоняется к тому, что основной причиной возникновения «мужского» «я» была «психологическая потребность» (точнее, некий психофизический комплекс З.Гиппиус), то М.Паолини приходит к выводу, что то, что часто истолковывается, как «андрогенное» в творчестве З.Гиппиус, в значительной степени можно интерпретировать, как стремление утвердить свою творческую подлинность среди «мужских» приоритетов интеллектуального и художественного. В последнее время предприняты попытки выявления родства поэтической мысли З.Гиппиус и А.Ахматовой [5], общности гражданской и христианской позиций З.Гиппиус и Д.Мережковского [12]. При достаточно интенсивных переизданиях поэтических и прозаических произведений З.Гиппиус, критических статей, опубликовании исследовательских работ по некоторым аспектам творчества писательницы в России и за рубежом, в целом ее наследие не до конца введено в современную филологию. До сих пор отсутствует целостное осмысление художественных методов З. Гиппиус, принципы развития основных тем и мотивов в единстве эстетики писательницы. 51 Литература: 1. Алексеев К.В. Дилогия З.Н. Гиппиус (романы «Чертова кукла» и «Романцаревич») в контексте развития русского социально-политического романа XIX-XX вв.- Автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 2004. 2. Архипова О.Ю. З.Н. Гиппиус: поэзия как «текст культуры». - Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Барнаул, 2004. 3. Гецевичюте М. Творческая история сказки З.Н.Гиппиус «Время». – http://diaghilev.perm.ru/confirence/s3/newpage4.htm. 4. Дмитриевская Л.Д. З.Н. Гиппиус – прозаик и поэт (пейзаж и портрет в стиле рассказов 1890-1900 гг.). - Автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 2004. 5. Колеватых Г. Специфика заглавия в лирике З. Гиппиус. – http://publisher.rsuh.ru/tpz_kolevatih_2004.htm. 6. Королева Н.В. З.Н. Гиппиус и А.А. Ахматова // Зинаида Николаевна Гиппиус: Новые материалы. Исследования. – М.: ИМЛИ РАН, 2002. 7. Кононова Н.В. Тип героя в романах З. Гиппиус «Чертова кукла» и «Романцаревич» // Genus poetarum: Сб. науч. трудов. - Коломна, 1995. 8. Кононова Н.В. «Некоторые особенности символизации в романе З. Гиппиус «Чертова кукла» // Зинаида Николаевна Гиппиус: Новые материалы. Исследования. – М.: ИМЛИ РАН, 2002. 9. Курганов Е.Я. «Декадентская мадонна» // Гиппиус З.Н. Живые лица: Стихи. Дневники. Воспоминания. (В 2 кн.) - Кн. 1. – Тбилиси, 1991. 10. Лавров А.В. «Люди и нелюди»: из публицистики З.Н. Гиппиус первых послеоктябрьских месяцев // Литературное обозрение.- 1992.- № 1. 11. Мескин В.А.Заклинание (О поэзии Зинаиды Гиппиус) // Русская словесность.-1994.- №1 12. Мстиславская Е.П. Д.С. Мережковский и З.Н. Гиппиус. Лирический диалог (1889 – 1903) // Зинаида Николаевна Гиппиус: Новые материалы. Исследования. – М.: ИМЛИ РАН, 2002. 13. Николюкин А.Н. З.Гиппиус: Поэт в эмиграции // Русское литературное зарубежье: Сборник обзоров и материалов. - Вып. I. – М., 1991. 14. Новожилова А.М. Петербургские дневники Зинаиды Гиппиус («Синяя книга», «Черные тетради», «Черная книжка», «Серый блокнот»): проблемы поэтики жанра.- Канд. дисс. – СПб., 2004. 15. Паолини М. Мужское «я» и «женскость» в зеркале критической прозы Зинаиды Гиппиус // Зинаида Николаевна Гиппиус: Новые материалы. Исследования. – М.: ИМЛИ РАН, 2002. 16. Паолини М. Критическая проза Зинаиды Гиппиус (1899 – 1918). - Автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 2003. 17. Рогова Г. Притчевое начало в рассказе З.Гиппиус «Вымысел» – http://www.utmn.ru/frgf/No14/text14.htm. 18. Савельев С. Жанна Д`Арк русской религиозной мысли. – М., 1992. 19. Соболев А.Л. Зинаида Гиппиус. Стихотворения // Русская литература.1991.- № 2. 20. Соколов А.Г. Судьбы русской литературной эмиграции 1920-х годов. – М., 1991. 52 21. Томпсон Д. Мужское «я» в творчестве» Зинаиды Гиппиус: литературный прием или психологическая потребность? // Преображение.- № 4. – М., 1996. 22. Ханзен-Леве А. Русский символизм: система поэтических мотивов. Ранний символизм. – СПб., 1999. 23. Яцуга Т. Идея «невыразимости мира» и ее лексическое воплощение в лирике З. Гиппиус – http://mmj.ru/index.php?id=44&article=383&type=98. Чевтаев Аркадий Александрович СТРУКТУРА ПОВЕСТВОВАНИЯ В СТИХОТВОРЕНИИ И.БРОДСКОГО «НОВЫЙ ЖЮЛЬ ВЕРН» Система повествования в поэзии И.Бродского представлена различными типами участия нарратора в повествуемом мире*. Наррация в его текстах осуществляется посредством дискурсов экзегетического нарратора («Прошел сквозь монастырский сад...», «Переселение», «Дидона и Эней», «Post aetatem nostram»); диегетического нарратора, участвующего в событиях повествования («Зофья», «Мы вышли с почты прямо на канал...», «Вертумн»); диегетического нарратора, не принимающего участия в рассказываемой истории («Под вечер он видит, застывши в дверях...», «Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холодным холмам...», «На смерть Жукова»); диегетического повествователя, включающий в собственное повествование нарративные дискурсы персонажей (усложнение структуры текста за счет инстанции вторичного нарратора) («Горбунов и Горчаков», «Посвящается Ялте»). Среди повествовательных стихотворений И.Бродского особое место занимает стихотворение «Новый Жюль Верн» [1: III, 115-121], написанное в 1976 году, в период зрелого творчества поэта, где в концентрированном виде представлены основные мотивы и темы, развиваемые в творчестве поэта в конце 60-х – 70-х гг. Текст состоит из десяти фрагментов, каждый из которых становится отдельным эпизодом рассказываемой истории. Центральным событием сюжета является гибель корабля, потопленного гигантским осьминогом. Тема этого стихотворения, очевидно, связана с целым рядом произведений беллетристической литературы, на что указывает само название: «Новый Жюль Верн». Этот текст можно интерпретировать как пародию на известные сюжетные штампы приключенческой литературы**, если не учитывать порождаемых в процессе наррации экзистенциальных смыслов, выводящих стихотворение на уровень постановки философских вопросов о смысле человеческого бытия. На существенное расширение семантического плана текста, по сравнению с романами, рассказывающими о морских приключениях, указывает сама структура повествования. Лирический субъект здесь является экзегетическим нарратором, не имеющим персонификации в повествуемом мире. Все фрагменты текста, принадлежащие речи нарратора, представлены повествованием от 3-го лица: Безупречная линия горизонта, без какого-либо изъяна. Корвет разрезает волны профилем Франца Листа. 53 Поскрипывают канаты. Голая обезьяна с криком выскакивает из кабины натуралиста [1:III, 115]. Особую организацию получает временная перспектива нарраториальной «точки зрения»: рассказ о событиях дается как синхронный их протеканию (формы настоящего времени глаголов и номинативные синтаксические конструкции). Такая позиция повествователя позволяет представить частную, конкретную ситуацию как всеобщую, раскрывающую законы человеческого бытия, репрезентируя событие. В этом проявляется реализация лирической интенции текста, где высказывание является обращением к каждому читателю как к непосредственному участнику коммуникативного акта. В первом фрагменте, где представлена экспозиция сюжета, нарратор, локализуя повествуемый мир в пространстве и времени, вводит несколько персонажей истории, причем они даются через действия или предметы и явления: «капитан бросается с кулаками на мачту», «Порой из кают-компании раздаются аккорды последней вещицы Брамса. // Штурман играет циркулем, задумавшись над прямою // линией курса». Второй фрагмент является развернутой характеристикой персонажей, но именно здесь максимально проявляется направленность текста на выявление всеобщего в частной ситуации: вместо традиционного описания героев повествования, нарратор предлагает ряд формул-сентенций, где раскрываются черты, присущие морским путешественникам в целом («Пассажир отличается от матроса // шорохом шелкового белья...», «Матрос отличается от лейтенанта // отсутствием эполет...» [1:III, 115]). Система персонажей здесь образуется стандартным набором тех, кто мог присутствовать на судне: пассажиры, матросы, офицеры, капитан***. Синтаксический параллелизм в характеристике каждого персонажа подчеркивает оппозицию между персонажами, вступающих между собой в иерархических отношениях, и кораблем, на котором они находятся, являющимся одновременно их ограниченным пространством и безразличным к человеку предметом: «И только корабль не отличается от корабля. // Переваливаясь на волнах, корабль // выглядит одновременно как дерево и журавль, // из-под ног у которых ушла земля» [1:III, 116]. Укажем, что повествование здесь организовано «точкой зрения» нарратора в плане идеологии, но психологический план изображения дается через персональную «точку зрения» персонажа, характеризуемого в конкретном речевом отрезке. Таким образом, первые два фрагмента фактически лишены событийности: они только описывают тот универсум, в который помещены персонажи. В третьем и четвертом фрагментах, носящих названия «Разговоры в кают-компании» и «Разговоры на палубе», нарратор самоустраняется. Ситуация передается через реплики персонажей, которые не вводятся повествователем посредством глаголов речи, а даны как диалог, где нарратор внешне отсутствует. Эти фрагменты от рассказа о ситуации смещаются к ее показу, что свойственно драматическим жанрам. Таким образом усиливается эффект репрезентативности события, изначально выражаемый совпадением временной перспективы нарратора и персонажей****. В третьем фрагменте изображается диалог между пассажиркой корабля и лейтенантом, обсуждающими самые 54 различные бытовые вопросы: Событие здесь еще не происходит, но в репликах персонажей уже моделируется возможность экстремальной ситуации: «...Вам случалось тонуть, лейтенант?» «Никогда. Но акула меня кусала». «Да? любопытно... Но представьте, что – течь... И представьте себе...» «Что ж, может, это заставит подняться на палубу даму в 12-б». «Кто она?» «Это дочь генерал-губернатора, плывущая в Кюрасао» [1:III, 116]. В следующем фрагменте – «Разговоры на палубе» – через диалог пассажиров корабля фиксируется изменение в изображаемом мире: «Слышишь, кореш?» «Чего?» «Чего это там вдали?» // «Где?» «Да справа по борту». «Не вижу». «Вон там». «Ах, это... // Вроде бы кит. Завернуть не найдется?» «Не-а, одна газета... // Но Оно увеличивается! Смотри!.. Оно увели...» [1:III, 117]. В пятой части стихотворения высказывание лирического субъекта становится итеративным: повествование замедляется при помощи обобщенного рассуждения. Противопоставляя море и сушу («Море гораздо разнообразней суши. // Интереснее, чем что-либо»), лирический субъект предстает в качестве обобщенной инстанции, объединяясь с персонажами рассказа в единое целое – «мы»: На земле существует четыре стены и крыша. Мы боимся волка или медведя. Медведя, однако, меньше и зовем его «Миша». А если хватает воображенья – «Федя» [1:III, 117] С помощью сентенций лирического субъекта, вскрывающих сущность человеческого знания о бытии и констатирующих наличие явлений, противостоять которым человек не способен, семантический центр текста смещается с эпической линии повествования в область экзистенциальных смыслов, порождаемых частной ситуацией, о которой рассказывается в стихотворении: «Море полно сюрпризов, некоторые неприятны. // Многим из них не отыскать причины», «Кровь у жителей моря холодней, чем у нас; их жуткий // вид леденит нашу кровь даже в рыбной лавке» [1:III, 117]. Переход границы семантического поля текста осуществляется именно в этом фрагменте: изменяется код стихотворения. Беллетристическая сюжетная линия отступает на второй план, а в центр помещается философские вопросы: что есть человек и где пределы его рациональным знаниям и уверенности в собственном всесилии? В следующих двух фрагментах, вновь организованных как непосредственный диалог персонажей, все реплики выстраиваются вокруг происходящего события: появляется новый персонаж – гигантский спрут, семантика которого раскрывается в двух планах: 1) существо, представляющее опасность для корабля и его пассажиров; 2) стихийное проявление не подвластных человеку сил, обозначающее пределы человеческой рациональности. Нарратор констатирует наличие экзистенциальной проблематики: Каждый парус выглядит в профиль, как знак вопроса. 55 И пространство хранит ответ [1:III, 118]. Следующий эпизод становится своеобразным ответом на этот вопрос: «Да ты только взгляни!» «О Боже, не напирай! // Ну, гляжу. Извивается... но ведь это... Это... // Это гигантский спрут!.. И он лезет к нам! Николай!..» Далее, стихотворение вновь организуется «точкой зрения» нарратора, но между седьмой и восьмой частями возникает разрыв в повествовании: центральное событие – гибель корвета – оказывается пропущенным. Повествователь сообщает о результате, не говоря о самом происшествии: «Море внешне безжизненно, но оно // полно чудовищной жизни, которую не дано // постичь, пока не пойдешь на дно... // Изо рта вырываются пузыри. // В глазах возникает эквивалент зари. // В ушах раздается некий бесстрастный голос, считающий: раз, два, три» [1: III, 119]. Такой повествовательный прием перекодирует семантику текста: акцент переносится с событийности рассказываемой истории на внутренний, обобщенный сюжет человеческой жизни. Как отмечает М. Ю. Лотман, «одна из основных тем Бродского – пересечение границ: государственных и иных. В числе этих иных – граница смерти» [3: 64]. Пересечение границ семантического поля нарратором становится событием сюжетообразующим событием в «Новом Жюль Верне». Персонажи стихотворения погибают. Важной особенностью композиции здесь является девятый фрагмент, представляющий собой письма уцелевшего лейтенанта Бенца к своей возлюбленной, написанные из утробы спрута. Здесь лейтенант наделяется функцией вторичного (диегетического) нарратора. Он рассказывает о своем пребывании в желудке осьминога, о встрече с капитаном Немо*****, о жизни протекающей внутри спрута. Смена повествователя в данном случае способствует наделению смерти, если не положительной, то, по крайней мере, нейтральной коннотацией. Через дискурс персонажа раскрывается причина смерти пассажиров корвета: Немо «говорит, что мир потонул во зле. // Осьминог (сокращенно – Ося) карает жестокосердье // и гордыню, воцарившиеся на земле. // Обещал, что если останусь, то обрету бессмертье» [1:III, 119]*****. «Бессмертье» в данном контексте означает «смерть» персонажа для всего остального мира. Характерно, что нарратор отказывается от роли всеведущего в диегетическом плане текста, констатируя собственное незнание о дальнейшей судьбе лейтенанта: «(Здесь обрываются письма к Бланш Деларю от // лейтенанта Бенца)». Десятый, финальный, фрагмент стихотворения рассказывает о восприятии события персонажами, не участвовавшими до этого в истории. Здесь на первый план выходит оппозиция «нарратор – персонажи» по признаку «знание / незнание о случившемся»: Когда корабль не приходит в определенный порт ни в назначенный срок, ни позже, Директор Компании произносит: «Черт!», Адмиралтейство: «Боже». Оба не правы. Но откуда им знать о том, что приключилось. [1:III, 120] 56 Необходимо отметить, что здесь море, вода наделяются свойственной поэтике И.Бродского окказиональной семантикой: «будущий итог человеческой цивилизации, возвращение к истокам». Эта историософская концепция развивается во многих стихотворениях поэта («Когда-нибудь оно [море], а не – увы – // мы, захлестнет решетку променада // и двинется под возгласы «не надо»... // – круша столы, грядущему моллюску // готовя дно» [1:II, 416], «Теперь ослабь // цепочку – и в комнату хлынет рябь, // поглотившая оптом жильцов, жилиц // Атлантиды, решившей начаться с лиц» [1:IV, 130]). Фактически в этом стихотворении знак-символ «море» является концентрацией всего текстопорождающего процесса, и нарративный акт становится раскрытием смыслового потенциала, заложенного в этом знаке. В связи с вышеизложенным можно констатировать, что в стихотворении И.Бродского «Новый Жюль Верн» синтезированы различные композиционные приемы, свойственные повествовательной поэзии И.Бродского: использование формы настоящего времени, ведущее к снятию темпоральной дистанции между дискурсом нарратора и событиями повествования; ограничение авторитетной позиции повествователя по отношению к «точкам зрения» персонажей; организация стихотворения или его фрагментов по структурной модели послания (письма лейтенанта Бенца). В данном тексте представлена особая повествовательная модель: рассказ о событиях осуществляется посредством неразрывного взаимодействия дискурса нарратора и речи персонажей. Общая картина развития событийного ряда складывается за счет разделения функций лирического повествователя и персонажей рассказываемой истории. Информация о событиях эпического плана сообщается в диалогах персонажей, а поэтические формулы-суждения и осмысление результатов произошедших событий, то есть лирическая линия сюжета, представлены в речи нарратора. Изменение традиционной нарративной структуры способствует здесь образованию новых смысловых значений текста. Примечания: * Рассматривая повествовательную структуру лирики И. Бродского, мы используем терминологию современной нарратологии [2], [6]. В современной теории повествования термин «нарратор» обозначает повествователя, осуществляющего нарративный акт. Нарратор может быть экзегетическим (не принадлежащим повествуемому миру) и диегетическим (находящимся внутри повествуемого мира), что соответствует традиционному разграничению повествующей инстанции на повествователя и рассказчика, основанное на грамматическом показателе: повествование от 3-го лица (повествователь) и повествование от 1-го лица (рассказчик). ** Отметим, что пародийность в целом несвойственна творчеству И.Бродского. Как констатирует В.П.Скобелев, «Бродский у пародии как к жанру не склонен, как пародист к читателю не выходил» [5: 167]. В тех же случаях, когда элементы пародии присутствуют в его текстах, они становятся механизмом смыслообразования, расширяющим семантическое значение 57 стихотворения, и находятся в тесном взаимодействии с другими принципами создания художественной реальности. *** В стихотворении моделируется ситуация морского путешествия на рубеже XIX-XX веков, что подтверждается указанием ряда характерных исторических реалий: эполеты у лейтенанта, фотокарточки на память, чтение книг Канта, Мопассана и Маркса и т. д. Эти детали подтверждают соотношение текста с моделью повествования в приключенческой литературе (Ж.Верн, Л.Буссенар, Г.Эмар и другие), расцвет которой пришелся на вторую половину XIX века. **** Отметим, что этот текст мы относим именно к повествовательным, а не драматическим, потому что информация о событии здесь дается и в дискурсе нарратора, и в дискурсах персонажей, а речь лирического субъекта (повествователя) по своим функциональным характеристикам противоположна авторским ремаркам в драматических произведениях. ***** Еще одна отсылка к произведениям Жюля Верна. ****** Особое значение здесь получает имя осьминога – Ося. А.М.Ранчин считает, что это – один из способов самоидентификации лирического субъекта Бродского: «тело осьминога Оси (=Осипа =Иосифа) как бы тождественно телутексту автора (=осьминога =Иосифа), узниками которого изначально были персонажи стихотворения [4: 101]. На наш взгляд, такая интерпретация, несмотря на точность референции (осьминог как часть диегетической реальности текста и сокращенное имя поэта), все же редуцирует механизм взаимоотношений автора и персонажей, переводя их в область тотальной детерминации волей автора. Само композиционное строение текста, где сообщение о событиях дается через речь персонажей, свидетельствует о некоей их автономности. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Литература: Бродский И.А. Сочинения. В VII-томах / Сост. Г.Ф.Комаров. - СПб., 19972002. Женетт Ж. Повествовательный дискурс // Женетт Ж. Фигуры. В 2-х томах. - Т. 2. - М., 1998. Лотман М.Ю.«На смерть Жукова» (1974) // Как работает стихотворение Бродского.- Сб. ст. - М., 2002. Ранчин А.М. «На пиру Мнемозины»: Интертексты Бродского. - М., 2001. Скобелев В.П. «Чужое слово» в лирике И. Бродского // Литература «третьей волны». -Самара, 1997. Шмид В. Нарратология. - М., 2003. 58 Секция зарубежной литературы Громова Наталья Александровна «АНГЛИЙСКИЕ ФРАГМЕНТЫ» ГЕНРИХА ГЕЙНЕ: ВНУТРЕННИЙ МИР И КОМПОЗИЦИЯ «Английские фрагменты» - завершающая часть «Путевых картин» Генриха Гейне, и в содержательном, и в структурном плане во многом отличаются от предыдущих их частей. Эти отличия объясняются именно особой позицией и функцией произведения. «Английские фрагменты» подводят итог, суммируют основные идеи, высказанные автором на предшествующих страницах. В то же время, на первый взгляд, композиционно это произведение не укладывается в общие принципы построения «Путевых картин». Если сравнивать «Английские фрагменты» с предыдущими произведениями, входящими в «Путевые картины», приходится отметить наибольшее соответствие текста жанровым законам путевого очерка. Во всех предыдущих произведениях в тексте неизменно присутствует фабульный элемент, в той или иной мере определяя построение текста [4]. Рассказчикпутешественник, помимо выполнения традиционной для жанра функции перемещающейся точки зрения на мир, одновременно в качестве героя вовлечен в сюжет. Таким образом, динамику текста обеспечивает не только физическое передвижение рассказчика, но и его внутренний путь, а также взаимоотношения внутреннего и внешнего миров. «Английские фрагменты» построены как публицистический текст. Фабульные элементы здесь сведены к минимуму. Это произведение представляет несколько иную, чем прежде, систему взаимоотношений повествователя и героя, автора и читателя. Композиция определяется не путешествием героя, а логическими законами рассуждений повествователя. Рассказчик уже предстает не как герой, вовлеченный в фабульное действие, а как очеркист, сообщающий читателю новую информацию и свои взгляды на мир. Структура текста определяется жанровыми законами очерка, в котором автор приобретает власть над описываемым материалом. Однако, несмотря на отсутствие в «Английских фрагментах» фабулы, структура и внутренний мир текста могут быть сопоставлены с внутренним миром предыдущих «Путевых картин». Основой структуры произведения, как и прежде, служит фрагментарность, что подчеркивает само название произведения, однако природа этой фрагментарности иная. Предыдущие тексты, заявленные как фрагменты, обладали безусловной внутренней завершенностью. Фрагмент, в соответствии с романтической поэтикой служил способом отразить бесконечность мира [2]. На этот раз фрагментарность отражена в самой структуре текста: произведение строится как череда фрагментов, связанных друг с другом не сюжетно, а риторически [5]. В этом случае можно говорить, 59 что структура «Английских фрагментов» повторяет структуру «Путевых картин в целом». Единство в них достигается не за счет хронологических или фабульных связей, а за счет тематических и образных лейтмотивов. В «Английских фрагментах» присутствуют два отграниченных друг от друга мира: Англия и Европа. Если первый мир является местом нахождения героя и главным объектом описания, то второй неизменно присутствует в сознании рассказчика и служит материалом для сравнения. Англия в тексте представлена как замкнутый, островной мир со сложившимися законами. Переход из одного мира в другой собственно и составляет путевый фрагмент произведения. В первой главе, изображающей приезд рассказчика в Англию, актуализируется образ, традиционно связываемый во всех «Путевых картинах» с темой пути – образ реки. Этот образ сохраняет положительную коннотацию: глядя на воды Темзы, рассказчик испытывает радостное ожидание встречи с миром свободы. В композиции всех «Путевых картин» мотив пересечения границы двух миров оказывается чрезвычайно важным [3]. Здесь герой часто встречается с персонажем, выполняющим функцию своеобразного проводника в новом мире, символически или эксплицитно отражающим его основные черты. Таким персонажем в «Английских фрагментах» становится «желтый человек». Он характеризует Англию как законченную модель мира и описывает ее законы. Основой построения мира является преломление в нем свободы. Отношение к свободе служит базой для изображения национального характера, для противопоставления Англии Франции и Германии. Специфика свободы в Англии заключается в том, что она соседствует с неравенством. «Свобода и равенство! Их не найдешь здесь, их нет даже там, наверху. Эти звезды там не равны, одна больше и ярче другой, ни одна из них не свободна в своих путях, все повинуются предначертанным железным законам – в небе рабство, как и на земле» [1: 371]. Неравенство во вселенной проецируется на социальное неравенство, которое в свою очередь определяет неравенство в семье. Семья, по словам «желтого человека», представляет собой модель общества. Таким образом, изображаемый мир предстает как завершенное единство, в котором каждая часть повторяет структуру целого. Образное строение первого фрагмента определяется противопоставлением свободы и несвободы на тематическом уровне. Начавшись с изображения реки, глава заканчивается упоминанием Тауэра образом башни, который на страницах «Путевых картин» часто служит символом замкнутого мира, противопоставленного пути. Таким образом, физическое путешествие ограничивается пределами первого фрагмента. Путешественник достигает места назначения, но не обретает того, к чему стремился. Вместо страны свободы он оказывается в мире неравенства. Говоря о композиции «Английских фрагментов», необходимо обратить внимание на цитату из «Божественной комедии» Данте: перед входом в Олд Бейли повествователь вспоминает надпись на вратах Ада. Описываемое путешествие строится не как освоение все более широкого пространства, а как все более глубокое погружение в чужой, пугающий мир. 60 Мир Англии изображается как недолжный, искаженный. В основе изображения всех аспектов жизни лежит принцип оппозиции. В изображаемом мире борются и сосуществуют смех и трагизм, богатство и бедность, пуританство и фривольность. Но противоборствующие силы не разделены, а сосуществуют в каждом описываемом объекте: «Непомерное богатство и нищета, правоверие и неверие, свобода и рабство, жестокость и милосердие, честность и плутовство (…) - все это до такой степени связано, что нельзя представить себе одно без другого» [1: 380]. Подобная противоречивость является следствием основной для текста оппозиции – свободы и неравенства. Данная оппозиция реализуется при изображении пространства Лондона. Каждая семья, желая сохранить собственную независимость, отгораживает себя стенами дома от внешнего мира. Личная свобода ведет к тесноте и общественной несвободе. Отделены друг от друга не только дома, но и кварталы, не только люди, но и социальные классы. В этом предельно структурированном мире нет места природе, которая на протяжении всех «Путевых картин» не признавала никаких границ. Недостаточным, ограниченным представляется в «Английских фрагментах» не только пространство, но и время. Оно заполнено вечно спешащими людьми, у которых нет возможности остановиться. На место личного времени приходит обезличенное. Оно более не определяется ни ритмом путешествия героя, ни природной цикличностью. Даже смена дня и ночи имеет скорее социальное, чем естественное основание: день становится временем богатства, ночь – бедности. Отсутствие природного времени соответствует исключению из текста пейзажа. Таким образом, описываемая модель мира противопоставлена природе, неестественна. В искаженном мире «Английских фрагментов» правит зло несвободы, принимающее разные формы. В основе мира лежат долг и клевета. Эти явления рассматриваются в нескольких фрагментах. Долг предстает как в своем экономическом аспекте, так и как феномен нравственный, культурный и философский. Во фрагменте «Новый кабинет» безумный философ из Бедлама говорит о долге как о законе бытия: «У господа бога было пустовато в кассе, когда он создал мир. Он принужден был занять денег у черта под залог всей вселенной. И вот, так как господь бог (…) остается еще должником черта, то (…) он не может ему препятствовать слоняться в мире и насаждать смуту и зло» [1: 391]. Долг провозглашен источником всякого зла, однако он одновременно является и способом обуздать это зло: черт не спешит получить долг обратно и потому не творит слишком много зла. В равновесии противоположностей заключается источник, на котором держится мир. Однако мир, основанный на долге, не может рассматриваться положительно, поскольку долг противен всякой свободе. Долг становится мотивом как личных поступков, так и общественных явлений. И если долг служит экономической основой дурного общества, то клевета – идеологической, и они неразрывно связаны друг с другом. Именно долг заставляет Вальтера Скотта оклеветать Наполеона. Клевета, как и долг, противна свободе. Если в предыдущих частях «Путевых картин» речь шла об 61 иллюзиях и обмане, то теперь рассказчик исследует клевету во всех ее проявлениях. На личном уровне клевета ведет к смерти человека, на общественном – к искажению сознания. Реализацией этой идеи служит эпизод суда над черным Вильямом (фрагмент «Олд Бейли»). В этом эпизоде реализуется традиционный для «Путевых картин» мотив разлуки возлюбленных. Вильям, оклеветанный своим бывшим другом и братом своей любимой, приговорен к повешению. Однако трагедия любви, в отличие от предыдущих произведений, не занимает центрального места в тексте. Подобно тому, как роза, замеченная рассказчиком на судейском столе, выглядит неуместно, любовь становится неуместной в изображаемом мире. Она теряет свое универсальное значение. История любви превращается в историю судебного процесса. Но клевета не только губит жизни, но и подрывает основы мироздания, поскольку отравляет историческую память, связь настоящего с прошлым. Клеветники используют главное оружие свободы – печатное слово – против самой свободы. Оппозиция клеветы и правды в заключительном фрагменте получает открытое выражение: современность изображается как борьба правды и лжи. Текст, таким образом, разоблачая клевету, становится орудием борьбы. Он не только призывает к ней, не только декларирует ее, но является самим актом этой битвы. Вообще, на страницах «Английских фрагментов» слово, текст, получают принципиальное значение. Здесь общаются не люди, а тексты. В повествование вставляется множество, обширных цитат, с некоторыми из которых повествователь соглашается, с некоторыми – спорит. Литературность «Английских фрагментов» - иного рода, нежели, например, в «Путешествии по Гарцу». Цитаты берутся не из художественной литературы, а из публицистики. Литература больше не создает собственной реальности, развивающейся параллельно внешнему миру. Она отображает его, не преобразуя. Подобно тому, как герой не принадлежит внешнему миру, рассматривает его со стороны, он не принадлежит и миру литературы. Скрытая цитата, аллюзия уступают место прямой отсылке. Рассказчик оценивает чужой текст с той же отстраненностью, что и реальный мир. Он стоит над ним и может использовать его для иллюстрации или доказательства своей точки зрения. Цитата, слово заменяет здесь портрет персонажа. Политические деятели изображаются как ораторы, их сила – не в идеях, а в словах. Слово становится главным действием человека. Однако в дурном мире природа слова искажается клеветой и неравенством людей. Люди не общаются, они действуют с помощью слов. Глубинная разделенность народов выражается в мотиве непонимания чужого языка. Но слово не только разделяет, но и соединяет людей, если это слово свободы. Так происходит в эпизоде общения героя с моряками с Востока: «Тут я нашел, наконец, средство – выразить им одним словом мое дружественное расположение: почтительно (…) протянув вперед руку, я воскликнул: «Магомет!» Радость озарила темные лица чужеземцев, они благоговейно скрестили руки и в ответ мне радостно воскликнули: «Бонапарте!»» [1: 425]. 62 Текст «Английских фрагментов» имеет кольцевую композицию: начавшись с прославления свободы, он им и заканчивается. Пройдя через мир несвободы, через отжившую структуру, герой утверждается в мысли, что «свобода – религия нашего времени» [1: 432]. Описание внешнего мира служит доказательством убеждений рассказчика: отрицание свободы приводит к искажению целого мира. Таким образом, движение текста обеспечивается не развитием фабулы, а логикой развития мысли. 1. 2. 3. 4. 5. Литература: Гейне Г. Путевые картины // Гейне Г. Собрание сочинений. - Т. 4. - Л., 1957. Грешных В.И. Ранний немецкий романтизм: фрагментарный стиль мышления. - Л., 1991. Groddeck W. Heinrich Heines Reise von Munchen nach Genua als Paradigma einer ‘modernen’ nachromantischen Poetologie // Konzepte der Moderne. Stuttgart, 1999. - Р. 350-366. Sammons J.L. Heines-komposition // Heine-Jahrbuch, -1967. - Р. 40-47. Sengle F. Biedermeierzeit. Deutsche Literatur in Spannungsfeld zwischen Restauration und Revolution 1815-1848. - Bd. 2. - Stuttgart, 1972. Тулякова Наталья Александровна «ЛЕГЕНДА ОБ УЛЕНШПИГЕЛЕ» ШАРЛЯ ДЕ КОСТЕРА И ТРАДИЦИЯ ЖАНРА ВИДЕНИЯ «Легенда об Уленшпигеле» – произведение, вобравшее в себя многие жанровые традиции и синтезировавшее их. Исследователи «Легенды» часто прибегают к понятиям плутовского романа, романа-странствия, исторического романа, эпопеи. Однако «Легенда», при своей масштабности, вобрала в себя также некоторые «малые» жанры – от поговорок, которыми изобилует речь персонажей, до проповеди, по образцу которой строятся некоторые главы. К подобным жанрам, вошедшим в «Легенду», относится жанр видения, влияние которого на автора недостаточно изучено. Видение – жанр, своим рождением обязанный Средневековью, хотя истоки его лежат еще в античности. «…Восходя в генетическом отношении к античным путешествиям в подземный мир, снам и видениям, включенным в состав Библии и апокрифов, как самостоятельный жанр видение окончательно складывается лишь в эпоху средневековья. Прежде всего трансцендентность средневекового мировоззрения, признающего вмешательство потусторонних сил как событие вполне естественное и реальное, стала идеологической предпосылкой формирования жанра» [4: 6]. В эпоху Средневековья видение существовало как жанр, непосредственно оформлявший целое произведение. Далее видение в качестве отдельных элементов проникает в куртуазную литературу, в плутовской роман, в творчество романтиков. Имея много общего с жанром аллегорической поэмы, видение было связано с областью таинственного и принимало форму сновидения. Оно обладало четкой композиционной и смысловой завершенностью. Прежде всего, 63 видения строились по единому для всех литератур образцу: «Сначала упоминается о болезненном или экстатическом состоянии, предшествующем видению; далее следует эпизод «богоявления» и описание «увиденного» или «услышанного»; затем вводятся детали, способные подтвердить реальность пережитого (дата происходящего, сопутствующие году исторические события, обозначение местности, в которой происходит действие, имена очевидцев описываемых событий и т.д.). Обязательной в ходе повествования является характеристика ясновидца. Наличие его фигуры является одной из важнейших жанровых особенностей видения. Образ ясновидца является как бы структурообразующим элементом сюжета, связывающим воедино фрагментарную ткань повествования. В заключение вводится так называемый мотив «обращения» ясновидца, фиксируется нравственное обновление его личности. Завершает повествование специальная дидактическая часть, содержащая обращенные к читателю прямые призывы и наставления автора» [4: 7]. Смысловая наполненность видения – постижение мира в его истинной сути, невозможное в обыкновенных условиях, даруемое лишь откровением. При этом земные заслуги, причины «избранности» тайнозрителя не всегда очевидны. Когда видение проникает в литературу в качестве элемента, оно сохраняет не столько свою композиционную целостность – некоторые элементы могут выпускаться или видоизменяться, – сколько идею постижения мира не эмпирическим, а трансцендентным путем. Видение оформляет эпизоды, связанные с прорицаниями, предсказаниями, принимает форму вещих снов, снов наяву, т.е. позволяет проникнуть в будущее и или прикоснуться к тайнам мироздания. «Видения имеют место в произведениях романтиков не только в связи с особым интересом этих писателей к эпохам средневековья и Возрождения, но и в связи с установленным ими культом “чудесного, таинственного, бессвязного и оживленного”» [1: 88]. В «Легенде» несколько ситуаций и, соответственно, несколько глав, связанных с прорицанием и предсказанием, причем они разнятся и по временной отнесенности, и по своей структуре. Тайнозрителями, или визионерами, в книге являются сразу три персонажа: Катлина, Неле и Тиль. В 5-й главе первой книги, перед появлением на свет Филиппа, сына императора Карла V, Катлина сообщает о своем видении наяву: «Нынче ночью привидения косили людей, точно косари траву… Девушек заживо в землю закапывали! На их трупах палач плясал… Камень девять месяцев кровоточил, нынче ночью распался» [3: 24]. Катлина, «бледная как смерть», говорит о том, что уже случилось (рождение Уленшпигеля) и о том, что произойдет. Ее прорицание связано не только с индивидуальной судьбой Тиля, но и судьбой Фландрии и, более того, мира. Катлина аллегорически описывает Фландрию, упомянув всех фабульно значимых персонажей (даже не существующую пока Неле), и засыпает. Фландрия вводится в контекст священной истории: «Наверху – душители народа, внизу – жертвы; наверху – разбойники, внизу – трудолюбивые пчелы, а в небе будут кровоточить язвы Христовы» [Там же]. Прорицание Катлины, которая автором называется «доброй ведуньей», а злыми 64 людьми колдуньей, возможно именно благодаря ее связи с потусторонними силами. Ни Сооткин, ни Клаас, будучи более мудрыми в житейских делах и более приземленными, не могут провидеть, а только удивляются. Свой дар Катлина передает дочери, Неле. «…Она волшебной силой слов и движений наделяла Неле даром ясновидения, и мысленному взору Неле открывалось все, что происходило на сто миль в окружности – на площадях, улицах и в домах» [3: 121]. Таким образом, Неле не может провидеть по собственному желанию и не может предсказывать будущее. Зато она видит изнаночную сторону жизни, а не только публичную – отсюда уточнение «на площадях, улицах и в домах». Неле становится своеобразным соглядатаем (термин Бахтина) жизни, и она публично оглашает увиденное ею, как и Катлина. По такому принципу строится 58-я глава первой книги. Неле погружается в сон и наблюдает за разговором Карла V, собирающегося отречься от престола, и Филиппа II. Видение Неле сходно с типом видения в плутовском романе Велеса де Гевары «Хромой бес», когда посредством видения открывается истинная, неприглядная суть вещей (икота и кашель Карла V, его обжорство, ночные похождения Филиппа II). Речь Карла представляет собой пример смехотворного саморазоблачения. Третий эпизод этой книги, связанный с предсказаниями, располагается в последней, 85-й, главе. Тиль говорит Катлине: «Пепел Клааса бьется о мою грудь, я хочу спасти землю Фландрскую. Я спрашивал творца неба и земли, но он мне ничего не ответил» [3: 180]. В предыдущих главах изображались лишь раздумья Тиля, но о чем он думал, было непонятно. Катлина советует Уленшпигелю обратиться к духам стихий, которые через ангелов передают творцу просьбы людей. Духи стихий обладают двойственной природой, небесной и земной. Катлина дает Неле и Тилю волшебный порошок, и они отправляются на шабаш весенних духов, на пасху соков земли, где наблюдают за битвой Зимы и Весны – типичный сюжет средневековой живописи и литературы. С одной стороны, это природное, цикличное, вечно повторяющееся явление, с другой, оно проецируется на историческую ситуацию. Филипп и Карл, как великан Зима, губят землю Фландрскую, они – враги всего живого, самой жизни, воплощение зла. Но здесь же царит закон, которому подчинено все: «Сильный поедал слабого и на глазах тучнел, доказывая этим, что Смерть проистекает из Жизни, а Жизнь – из Смерти» [3: 183]. Тиль сообщает насмешливому царю Весне о бедственном положении своей родины, а в ответ получает загадку. Это видение, в отличие от христианских видений (это шабаш духов, то есть язычество) и ясновидения Неле, повествует не о загробной жизни, но о Жизни вообще, о ее законах. Эта жизнь мудра и жестока, она вершит историю – история есть порождение именно жизненного хода как такового. Это видение не нуждается в публичном оглашении (Неле и Тиль пытаются узнать тайну вопреки всему, по собственной инициативе); его цель – побудить конкретного человека, Тиля, к действию. Дальнейший путь Тиля – разгадка заданной ему задачи. Тот факт, что духи нарочно пытаются запутать Тиля, имеет символическое значение. Спасти 65 Фландрию можно, только пройдя собственный путь сомнений и мучений – другого выхода нет. В отличие от традиционного жанра видения, где ясновидящий перемещается в потусторонний мир один, Тиль и Неле вдвоем проникают туда. Чтобы сделать это, они рискуют собственными жизнями. Заметим, что на шабаш духов Тиль может попасть только в сопровождении девушки. Сцена шабаша проникнута эротизмом, это явно языческое зрелище, хотя утверждается, что духи стихий общаются с ангелами. Таким образом, христианство и язычество предстают здесь в неразрывном единстве. Любовь становится пропуском героя к загадкам бытия, хотя он ищет вовсе не личного счастья и спасения, а спасения своей родины. Хронотоп, представленный в этом видении, далек от хронотопа традиционных видений и близок скорее к хронотопу видений романтических, где нет четкого порядка, а есть скорее хаос и перетекание одного в другое. Здесь важно отметить и такой момент, как реакция Тиля и Неле на увиденное ими. Хаотическое начало в мире пугает их и делает ближе друг к другу; но кажется, что они забывают о нем сразу после разговора с духами. Реакция Неле вообще не описывается, душа Тиля, которая по законам традиционного видения должна была обновиться, остается прежней. Смысл видения здесь не в назидании, а в том, что оно сообщает повествованию интригу, а странствиям Тиля – поиск. В 11-й главе четвертой книги Тиль и Неле снова принимают волшебный порошок, и их вновь посещает видение. Происходящее в нем параллельно происходящему в реальности – морскому сражению на Флиссингене, в котором они принимают участие. Тиль и Неле видят множество гибнущих людей и корабль со Смертью и семью Грехами, губящими человечество. Эта сцена очень схожа с брейгелевской «Смертью», который также черпал вдохновение из средневековых видений [2: 232]. В этом видении особенным становится то, что Тиль и Неле лишь видят происходящее, но отстранены от него, не принимают в нем участия и не способны передвигаться по этому хаотическому, охваченному разрушением миру. Напомним, передвижение, хождение – одна из главных черт видений. Обычно подобное передвижение, участие в жизни загробного мира, частичное наказание за грехи или угроза такового и приводили к перерождению души. В данном случае, поскольку Тилем движет не желание личного спасения и не страх за собственную душу, вопрос о спасении его души не поднимается. Скорее всего, его переход в бессмертное состояние совершился именно в конце первой книги, когда он отказался от своей жизни, отправившись к духам. В этом безраздельном царстве смерти нет никакого просвета, однако уже в следующей главе, параллельно с освобождением Тиля, Неле и других из плена – единственной серьезной опасности, которой они подвергаются во всей книге, Де Костер помещает еще одно видение, уже без помощи волшебного порошка. Под воздействием голода и ужаса Неле видит, как семь грехов вступают в схватку с семью добродетелями, хотя они так и не называются: «Я вижу на западе пятерых мужчин и двух женщин – они уселись в кружок (…)» 66 [3: 418]. Она наблюдает картину боя, но не видит его исхода. Уленшпигель опять не понимает смысла «Семерых» или же не знает, где их искать. Однако истина открывается ему: «Не мы, так кто-нибудь другой освободит землю Фландрскую» [3: 419]. Наконец, последнее видение, помещенное в предпоследней главе «Легенды», опять возвращает Тиля и Неле к духам стихий. На этот раз духи отвечают на ими же заданную загадку. Победа семи добродетелей над семью грехами сопровождается здесь веселым хороводом, христианские мотивы сочетаются с языческими (и грехи, и добродетели предстают в образе идолов). Де Костер уточняет понятие борьбы грехов с добродетелями, которая была сюжетом различных аллегорических видений и поэм. Они не просто борются, они неразрывно связаны. Добродетели «Легенды» – не ортодоксальные, они не противопоставлены грехам, а являются их оборотной стороной. В человеке заложено все, и он развивает это либо в хорошее, либо в дурное. Элементы видений, представленные в «Легенде», очевидно, принадлежат к разным традициям. Видение Катлины восходит к литературе романтической, Неле – к плутовскому роману, видение Тиля и Неле на корабле – к средневековой традиции. Линия посещения Тилем и Неле царства духов является контаминацией жанра видения с жанром загадки или сказки. Эти видения тесным образом связаны с жанром аллегорической поэмы, персонифицировавшей абстрактные понятия, в том числе грехи и добродетели. Центром аллегорической поэмы была борьба за душу человека и – шире – человечества. Характерно, что видения Неле и Тиля характеризуются смешением аллегорического и логического начал, что проявляется в своеобразной топографии данных видений. С одной стороны, Неле видит, как грехи возникают на Западе, а добродетели – на Востоке; это явно не географические, а символические координаты происходящего: «…Топографическая терминология применена в рассказах о видениях и странствиях по загробному миру к явлениям непространственным, (…) речь (…) идет о страхах и надеждах, выраженных в подобных «геометризированных» образах (…). Пространство видений – это прежде всего экстериоризация «душевного пространства» средневекового человека» [2: 217218]. С другой стороны, духи загадывают загадку, также связанную с топосом: «В час, когда север поцелует запад, придет разрухе конец». В этой загадке речь идет не о символическом, как в случае с Семерыми, а о материальном, логическом значении упомянутых явлений. Север – Нидерланды, Бельгия – запад, поясняют духи, когда Тиль оказывается не в состоянии разгадать эту загадку. Очевидно, последнее явление связано не столько с религиозной, сколько с народной стороной культуры. Духи стихий, в отличие от многих персонажей видений, очень несерьезны и насмешливы, диалог между ними и Тилем часто решен в комическом ключе. Таким образом, элементы жанра видения занимают значительное место в структуре «Легенды об Уленшпигеле»: все эпизоды, оформленные как видения, приходятся на ключевые, переломные моменты книги, что связано с авторской концепцией истории. Анализ глав, построенных по законам жанра видения, 67 показывает, что опора Де Костера на разные интерпретации этого жанра не случайна. В «Легенде» он актуализирует весь смысловой потенциал видения – это и способность заглянуть в будущее, и постижение законов жизни и смерти, и разоблачение внешне привлекательного мира. Для Де Костера подобное сближение принципиально: в «Легенде» будущее, настоящее и прошлое не просто неразрывно связаны (поэтому видение – это и взгляд вдаль, в будущее, и вглубь, в настоящее). Не существует настоящего или прошлого, они одновременны: все, что будет, уже свершилось, все, что свершилось, происходит и сейчас. За внешне изменчивым миром скрывается вечность, и туда уходят герои в конце книги, приобретая бессмертие. Таким образом, история конкретного государства, представленная в «Легенде», органичным образом вписывается во вневременную борьбу добра и зла, исход которой зависит в том числе и от земной истории. 1. 2. 3. 4. Литература: Андреюшкина Т. Н. Развитие жанра видения в творчестве немецких романтиков // Эволюция жанрово-композиционных форм: Сборник научных трудов. Калининград, 1987. С. 87-94. Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. -М., 1981. Де Костер Ш. Легенда об Уленшпигеле. - М., 1997. Никола М. И. Эволюция средневековых видений и «Видение о Петре Пахаре» Уильяма Ленгленда. Автореф. дис… канд. фил. наук. - М., 1980. Крылова Мария Петровна ТЕМА ВРЕМЕНИ В ПОЭЗИИ ТОМАСА ГАРДИ Томас Гарди (1840-1928) вошел в европейскую литературу в 1860-е годы, прежде всего как прозаик. По собственной формулировке, он является автором «романов характера и среды»: «Меллстокский хор» 1872, «Вдали от обезумевшей толпы» 1874, «Возвращение на родину» 1876, «Мэр Кэстербриджа» (1886), «В краю лесов» (1887), «Тесс из рода д’Эрбервиллей» (1891), «Джуд Незаметный» 1896. Из-под пера Гарди вышли также несколько сборников рассказов, самый знаменитый из которых — «Уэссекские повести» (1888). После резкого неприятия критикой последнего его романа писатель отказался от прозы и обратил все свое внимание на поэзию. Хотя первый сборник стихов Гарди «Уэссекские стихотворения» (Wessex Poems) вышел только в 1898 г, его путь как поэта начался намного раньше. Необходимо отметить, что уникальное сочетание поэтического и прозаического мышления позволили Гарди создать удивительный художественный мир, в котором гармонично сосуществуют лирические описания чувств и картины социальной действительности, строгие городские пейзажи и романтические сельские уголки, история любви и история социальной борьбы. Если на обширном пространстве прозаического текста автор имеет возможность развернуть философские идеи, связанные с различными социальными, семейными, историческими и другими проблемами, то в относительно 68 небольшом стихотворном тексте художественная мысль максимально концентрируется и предстает перед читателем фактически в виде художественной формулы. Это определяет особое место поэзии Гарди и, следовательно, особое значение ее изучения. Одному из аспектов воплощенной в его поэзии философии посвящается эта статья. С 1860 года до конца своих дней Томас Гарди написал более 900 стихотворных произведений. Русские и зарубежные исследователи не раз обращали внимание на их жанровое и тематическое своеобразие (J. Southworth, S. Hynes, М. В. Урнов, Н. Я. Дьяконова и др.) Одной из тем, объединяющих все поэтическое наследие Гарди в единое целое, можно назвать тему времени. Она проявляется в разных аспектах: от философской категории The Time (Hap, To Life, I said to Love) до использования обычных наречий времени, организующих текст стихотворения и создающих его сюжет. Почему тема времени была так актуальна для Томаса Гарди? Можно предположить, что одна из причин кроется в том, что, как уже упоминалось выше, активная творческая жизнь писателя была необычайно длинной. Историческая и социальная действительность стремительно менялись на протяжении всего XIX и начала XX века. Мир пережил эпоху важнейших физических, биологических, этнографических, социологических открытий. Не только Англия, но и Европа в целом была вовлечена в серию ожесточенных войн и катастроф, на которые не могли не откликнуться люди, обладавшие чутким историческим сознанием, к каковым, несомненно, можно причислить Гарди. На протяжении многих лет история предоставляла автору «Стихотворений о прошлом и настоящем» (Poems of the Past and Present, 1901) богатый материал для анализа и сравнения. Отношения между прошлым и настоящим никогда не были простыми для Гарди. В его стихотворениях, как правило, присутствуют только эти два временных пласта. Будущее с его неопределенностью, бесплотностью не интересует поэта: он обращен в стихию материальной повседневности. Прошлое и настоящее тесно взаимосвязаны, причем вполне очевидно, что для Гарди настоящее — не что иное, как изменившееся прошлое. Художественный мир его стихотворений представляет собой мир, в котором пласты времени накладываются друг на друга и «просвечивают» друг сквозь друга. Так, в стихотворении «Римская дорога» (The Roman Road) лирический герой идет по наезженному сельскому тракту, но, кроме уже знакомой дороги, видит легионы римских солдат, марширующих в далеком прошлом. Однако более значительным образом, рождающимся при виде дороги в голове у лирического героя, становится образ его матери, направляющей первые шаги маленького сына по «голой и прямой, как пробор в волосах» римской дороге [3: 264]. Момент воспоминания, прогулка с матерью и марш легионеров сосуществуют в едином временном измерении, характерном для всего творчества Гарди. Укорененность мировоззрения Гарди в настоящем определяет «вещность» его поэзии, то есть наполненность хронотопа предметами бытовой реальности. Эти предметы (Римская дорога, зеркало, письмо, книга и т. д.) 69 являются, во-первых, импульсом для воспоминания, а во вторых, связующим звеном между настоящим и прошлым. В стихотворении с латинским названием «Domicilium» (Родной дом), открывающем составленный самим Гарди сборник, тема времени имеет композиционное значение. Герой рассказывает о доме, где родился и провел детство. Распадаясь на две части, стихотворение, однако, не утрачивает художественной цельности. Первые три строфы посвящены современному облику дома. Вторая часть стихотворения, в которой описывается дом много лет назад, не разделена на строфы и представляет собой нерасчленимый поток воспоминаний. Герой сопоставляет образ дома в прошлом и дом, который у него перед глазами. Один из дорогих герою людей — бабушка — названа матерью отца (my father’s mother), что наводит на мысль о намеренном акцентировании мысли о преемственности поколений, то есть преемственности временных пластов (бабушка — отец — герой). Эту мысль можно проследить также и через описание пейзажа. Внешний облик усадьбы меняется: на месте узкой тропинки теперь дорога (that road a narrow path), высокие березы и ели еще не были посажены тогда (those tall firs and beeches were not planted) [3: 3]. Дом видится героем как связующее временную цепочку звено; он хранит свое прошлое и прошлое героя. Большая группа стихотворений строится на противопоставлении. Часто это противопоставление выражается наречиями времени before, after, later, then, now, first, last. В качестве примера приведем несколько таких стихотворений. Заметим, что оппозиция, заложенная автором уже в названиях, может быть временной (противопоставляются два события, одно из которых произошло раньше, чем другое) или смысловой (противопоставляются две ситуации, два объекта или два героя, что, однако, не отменяет главенства темы времени в стихотворении). Временная: Her Death and After; The Coquette, and After; Before Life and After; Before and after Summer; First Sight of Her and After; Before Marching and After; Then and Now; First or Last; The Old Neighbour and the New; This Summer and Last; A Nightmare, and the Next Thing; Boys Then and Now; June Leaves and Autumn. Смысловая: Memory and I; A Wife and Another; To Meet, or Otherwise; A Dream or No; Seventy-Four and Twenty; A Thought in Two Moods; The Dead and the Living One; Going and Staying; The Two Houses; Two Serenades; The Child and the Sage; The Two Wives; Life and Death at Sunrise; Alike and Unlike; A Poor Man and a Lady; A Private Man on Public Men. Приверженность Гарди к бинарным оппозициям в осмыслении действительности свидетельствует о постоянном присутствии в его сознании двух точек зрения на моделируемую в стихотворении ситуацию: синхронической и диахронической, причем обе эти точки зрения существуют неразрывно друг от друга. В стихотворении «Призрачная всадница» (The Phantom Horsewoman) описывается человек, который каждый день приходит на берег моря и своим внутренним взором видит давнюю сцену: юная наездница скачет на лошади по 70 краю прибоя. В стихотворении присутствуют два пространства: пространство реальности, где рассказчик наблюдает за героем, и пространство грез, в котором «застрял» герой. Для героя мир грез реальнее, чем настоящий: «They say he sees an instant thing \ More clear than today» [3: 354]. Возлюбленная в его мечтах навсегда останется молодой, в то время как он стареет и медленно сходит с ума: «He comes and stands \ In a careworn craze» [3: 353]). Рассказчик описывает героя с синхроничной, внешней, рассудочной точки зрения, ссылаясь на мнение людей, а внутренний мир героя диахроничен, обращен в прошлое. Время повествования и сцена на морском берегу объединены образом героя: он одновременно живет в настоящем и является «носителем» прошлого. «Зазор» между прошлым и настоящим в этом стихотворении позволяет говорить об элементах сюжета, что не характерно для большинства лирических стихотворений. Эту черту поэзии Гарди можно отнести к новым приемам, которые британская поэзия только начала осваивать в конце XIX — начале XX века. Кроме стихотворений, строящихся на оппозициях различного рода, в стихотворном наследии Гарди можно выделить такие, в которых поэт обращается к временам года: To Flowers from Italy in Winter; An August Midnight; Birds at Winter Nightfall; Winter in Durnover Field; The Seasons of Her Life; The Farm Woman’s Winter; Autumn in King’s Hintock Park; The Spring Call; Before and after Summer; At Day-Close in November; On a Midsummer Eve; A January Night, At Middle-Field Gate in February; It Never Looks like Summer; Summer Schemes; A Wet August, A Night in November; If It’s Ever Spring Again; Last Week in October, The Later Autumn; Night Time in Mid-Fall; This Summer and Last; An Unkindly May; June Leaves and Autumn. Легко заметить, что в приведенном списке доминируют, в основном, «осенне-зимние» названия. Это время заметных природных изменений — падающих листьев, дождей, ветра, тумана, замерзающей земли и холодов. Для героев Гарди это «погода страдания» (the weather of suffering) [4: 115]. Один из исследователей творчества Гарди, Самюэль Хайнз, сделал попытку выделить типичные для стихотворений природные детали и составить из них единое описание. «Мы можем с легкостью составить типичную для Гарди сцену: пустошь, зима, серое небо, ледяной дождь; на переднем плане голое дерево, под ним умершая от голода птица. Поэт рассматривает птицу» [4: 117]. Безликое описание природы (погоды) никогда не является целью поэта. Как пишет Самюэль Хайнз, «мы видим не природу, а человека, окруженного природой» [4: 115]. Внешний мир в стихотворении подчинен внутреннему: каждая деталь создает настроение. К примеру, в «Нейтральных тонах» (Neutral Tones) пруд, белое, словно проклятое Богом солнце, зимний день, упавшие листья ясеня на земле, словно умирающей от голода, помогают почувствовать холод в отношениях двух некогда любивших друг друга людей. Гарди пытается как можно более точно зафиксировать момент, в который произошло то или иное событие. Здесь речь идет не о дате написания стихотворения (известно, что поэт был беспечен в отношении хронологии 71 своих произведений), а о мельчайших внешних деталях, сопровождавших описываемую ситуацию. Упоминание времени года, месяца, времени суток или даже дня недели наводит читателя на мысль о важности этих временных подробностей. Одно из возможных объяснений заключается в том, что, по мысли Гарди, каждый новый сентябрь, к примеру, таит в себе все бывшие сентябри, и когда поэтическое воображение обращается к настоящему, оно автоматически направлено и ко всем пластам прошлого. Таким образом, не только конкретные бытовые предметы, но также и вечное возвращение годичного, недельного и суточного цикла может стать толчком для лирического воспоминания. Итак, тема времени прнизывает все поэтические опыты Гарди. Время может иметь 1). композиционное 2). сюжетное, а также 3). концептуальное для философии Гарди значение. Прошлое и настоящее в художественном сознании Гарди неотделимы. Эту синкретичность поддерживает такой литературный прием, как «вещность». Любой предмет реальности, появляющийся в тексте стихотворения играет роль посредника между настоящим моментом и моментом в прошлом. Как правило, именно вещь становится толчком к написанию стихотворения и воскрешению давно забытого эпизода жизни. Поэзия Гарди необычайно богата во многих аспектах. Хочется надеяться, что изучение темы времени поможет более глубоко проникнуть в художественный мир поэта. Литература: 1. Дьяконова Н. Я. Лирическая поэзия Томаса Гарди. Известия АН. Серия литературы и языка. - Том 60. - №1. - СПб., 2001. - С. 12 — 21. 2. Урнов М. В. Томас Гарди. Очерк творчества. - М., 1969. 3. Hardy Thomas. The Complete Poems. – NY. - 2001. 4. Hynes Samuel. The Pattern of Hardy’s poetry. - Chapel Hill. – 1961 5. Southworth James G. The Poetry of Thomas Hardy. - NY. – 1947. Толокнова Юлия Вячеславовна МИФ В ТВОРЧЕСТВЕ У.Б. ЙЕЙТСА У.Б.Йейтс - личность грандиозная и уникальная - занимает совершенно исключительное место в ирландской культуре (в отличие от своих соотечественников Дж.Свифта, О.Уайльда, Б.Шоу, он всегда считался ирландским автором). «Для Ирландии творчество Йейтса – целая эпоха, его биография – история ирландской литературы на протяжении полувека: поэзии, драмы, прозы, критики – Йейтс был мастером всех литературных родов. Такого полувека, который определил во многом и последующее развитие ирландской литературы. Но влияние его распространялось далеко за пределы острова. Он и сам черпал из разных культур…» [9: 313] Можно сказать, что он является фигурой знаковой для культуры периода рубежа веков в целом, своего рода, символом этой эпохи. Т. Элиот назвал У.Б.Йейтса «одним из тех редких людей, 72 чья личная история - это история их времени, (…) одним из тех, кто являет собой часть сознания своей эпохи, понять которую без них просто невозможно» [12: 301]. Его личность и творчество отразили основные проблемы и противоречия того переходного времени. Исследователи единодушно отмечают, что У.Б.Йейтс представляет собой «удивительный случай творческого долгожития (от символизма до модернизма), творческой плодовитости (пьесы, стихи, проза, статьи, эссе, романы, автобиографии, политические речи (после освобождения Ирландии Йейтс вошел в сенат страны) и удивительной траектории взлета (лучшие стихи создаются именно в старости, вопреки всем романтическим концепциям творчества)… «великий» поэт, отец английского модернизма и его оппонент…» [2: 29]. Миф является одной из центральных категорий в творчестве У.Б.Йейтса, центром его поэтической образности. При этом можно отметить несколько подходов к пониманию мифа и к трактовке его своеобразной авторской мифологии. В последние годы ХХ века в литературоведении стало популярным осмысление биографии художника как текста культуры (не случайно, в литературе появляется жанр беллетризированной биографии, например, «Дневник Оскара Уайльда» П.Акройда). В европейском сознании идея художественного жизнестроительства, выстраивания жизни художника по законам искусства и художественного произведения актуализировались со второй половины XIX века в философии эстетизма и символизма, которые являлись «не просто направлениями культурного развития», но скорее, своего рода, «жизнестроительной моделью» (О.Уайльд, О.Бердслей, французские символисты) [11]. Современники У.Б.Йейтса символисты подчинили свое поведение ритуалу, превратив свою жизнь в эстетический «эксперимент, достойный записи и анализа», поскольку «те, кто придут после, вправе ее знать» [4: 38]. Следуя этой символистской жизнетворческой установке, У.Б.Йейтс и был драматургом собственной жизни, он «мифологизировал» свой внутренний мир, свою биографию в поэзии: «Моя жизнь воплотилась в моих стихах, чтобы создать их, я растолок свою жизнь в ступе». [8: 23]. Он считал, что для каждого человека должен существовать свой собственный миф. Вся его жизнь стала творением «мифа о поэте», где каждое событие, каждое душевное переживание превращалось в элемент поэтической мифологии, и таким образом, приобретало метафизическую значимость. По словам Шеймаса Дина, Йейтс сам представляет собой «наиболее яркое произведение собственного художественного воображения» [3: 246]. Такая культурологическая концепция жизни поэта как художественной биографии, жизни превращенной в миф – это один из подходов в понимании творчества и личности У.Б. Йейтса [8] [11]. Другой подход – литературоведческий – исследование своеобразия поэтической мифологии У.Б. Йейтса, особенностей интерпретации фольклорномифологических образов и сюжетов, положенных в основу его произведений. Действительно, большинство произведений У.Б. Йейтса имеют в своей основе мифологические сюжеты ( как отмечают исследователи Т.М. Кривина, И.К. Еремина, Б. Бджерсби и др.). 73 И, наконец, ряд исследователей склонны воспринимать все весьма разнообразное в жанровом плане художественное наследие У.Б.Йейтса как своеобразную авторскую мифологию, акцентируя внимание на особенностях мифопоэтики, функционирования мифа и мифологических категорий в его произведениях на разных этапах творчества [1][2][6]. Действительно, следует отметить, изменение авторского отношения к мифу и интерпретации мифологического материала от ранних произведений к произведениям позднего периода, прежде всего, книге «Видения». Свои первые прозаические произведения У.Б. Йейтс пишет в 1890-е гг., в период расцвета Ирландского Культурного Возрождения. В это время интерес к национальной мифологии был обусловлен подъемом национального самосознания и задачами восстановления национальной традиции. В данной культурной ситуации в центре внимания оказывается сам сюжет мифа или легенды, национальные мифологические образы и герои. У.Б.Йейтс увлеченно занимается собирательством фольклора (в 1888 году он совместно с леди Грегори издает «Волшебные народные сказки ирландских крестьян» и ряд других фольклорных сборников), а в 1893 году публикует сборник «Кельтские сумерки», представляющий собой собрание ирландских сказаний, легенд, поверий и зарисовок из жизни ирландского крестьянства. Он активно использует мифологические сюжеты и образы в драматургии и поэзии. Применительно к ранним произведениям, действительно, можно говорить о «мифологическом материале», У.Б.Йейтс берет только внешнюю канву – сюжет, персонажей, образы. Поэтому они представляют собой, по большей части, нарративный пересказ кельтских мифов, легенд и сказаний (сборник «Кельтские Сумерки»), либо «стилизованные под фольклор» авторские рассказы на основе кельтской мифологии (сборники «Рассказы о Рыжем Ханрахане», «Сокровенная Роза»). Такое отношение к мифу свойственно литературе на протяжении многих веков, когда античная (или реже, любая другая) мифология являлась для нее универсальным арсеналом художественных средств. Ситуация начинает меняться с эпохи Романтизма, проявившей интерес к сущностным основам мифа, его универсальным категориям, структуре, законам и принципам мифологического мышления. Начиная с рубежа XIX-ХХ вв. и на протяжении всего ХХ столетия миф является одной из основополагающих философскохудожественных категорий культуры. Для искусства модернизма миф стал неким универсальным началом, основой всего сущего, основополагающим законом мироздания, по которому развивается Вселенная и Человек (и произведение искусства, в частности), придающим смысл эмпирическому человеческому существованию. Именно эта онтологическая сущность мифа, его созидательная функция, направленная на упорядочивание хаоса и творение из него космоса, оказалась наиболее привлекательной для модернизма. В самой общей форме можно сказать, что литература ищет в Мифологии схему и тип, то есть, иначе говоря, модель мира и человека, новые качества художественного моделирования действительности. «Пафос мифологизма ХХ века… заключается в выявлении неких неизменных, вечных начал, позитивных или 74 негативных, просвечивающих сквозь поток эмпирического быта и исторических изменений» [7: 295]. Для поздних произведений У.Б.Йейтса (1920-30 гг.) характерно уже принципиально иное отношение к мифу. Мифологический сюжет отходит на второй план, говоря точнее, вовсе отсутствует. Главное место теперь занимают некие универсальные мифологические мотивы, образы и категории, миф воспринимается как основополагающие вечные космические начала бытия, произведение строится по принципам мифотворчества. Это проявляется в универсальных образах его поэтической мифологии, в теории символического театра, в концепции театра «маски», в теории «внутренней драмы», выявляющей «изначальные первоосновы человеческой души». Категории Временного и Вечного (принципиально важные для мифологизирующей литературы ХХ века) становятся основной оппозицией и центрами его образности. У «зрелого» Йейтса «центр повествования и проблематики … цельнорожденный мифологический образ, изначально удаленный от черт конкретности, от всего, что стоит за личностными интенциями. В силу этого принципа образ первичен как универсалия, и в поле зрения поэта – драматурга находится не конфликт эпического, сильного характера героя или разных планов бытия, который происходит «внутри» человека, а «внутренний» конфликт разносторонних начал мифа, который уподобляется человеку, герою разных времен» [6: 167]. По мере освобождения от декоративности мифологических реминисценций укреплялась его личная мифология. «Мифологизируя» свой внутренний мир, вплетая «сугубо личные переживания в общий узор мифа и символа», У.Б.Йейтс творит, таким образом, свою собственную уникальную мифологическую систему, нашедшую свое законченное воплощение в его финальном труде - книге «Видение» [8: 23]. В этой книге, представляющей собой «уникальный сплав» из древнеиндийского учения Веданты, древнеирландской «космогонии» друидов, эзотерической философии и особой поэтической системы образов, У.Б.Йейтс создал свою систему мировидения и мировосприятия, своего рода «мифологическую философию». С помощью этой своеобразной «космогонии» он «стремился придать устойчивость мифа неустойчивости человеческого состояния» [8: 23]. Применительно к творчеству У.Б.Йейтса, можно сказать, что для первого периода его творчества характерно «цитатное» использование мифа, т.е. ориентация на некий, уже имеющийся мифологический сюжет и использование его в качестве своеобразного «претекста». Он использует сюжеты ирландских легенд и сказаний, осуществляет литературную переработку фольклорных текстов, творит свои собственные тексты «на мифологический сюжет». Для зрелого же периода его творчества характерно, в большей степени, «нецитатное» использование мифологического материала, где мифомоделирование происходит посредством «метафоризации фактов эмпирической реальности, придания им универсального, вневременного смысла, (…) без опоры на традиционные сюжетные реминисценции» [10: 25] Иначе говоря, в первом случае, миф используется как материал для создания 75 литературного произведения, во втором - произведение строится по принципам мифотворчества, уподобляясь мифу по своей структуре. В поздний период для У.Б.Йейтса более важными становятся некие общие базовые мифологические категории и закономерности, свойственные любой мифологической системе. Из смешения нескольких таких систем (друидическая кельтская мифология, индуистская космогония), а также личной поэтической мифологии и научных мифологических концепций (К.Г.Юнг, Дж.Фрезер), ставших весьма популярными в начале ХХ века, У.Б.Йейтс творит собственную философскомифологическую систему, изложенную им в «Видении». «Цитирование», свойственное для данного произведения, можно охарактеризовать термином, появившемся в литературоведении позже, уже во второй половине ХХ века – «интертекст». Т.С.Элиот назвал использование мифа в целях моделирования картины мира «мифологическим методом», он же сформулировал суть этого метода, которая состоит в том, чтобы «взять под контроль, упорядочить, придать форму и значение необозримой панораме пустоты и анархии, каковой является современная история». Он же отсылает к У.Б.Йейтсу как к первому, кто осознал необходимость использования «мифологического метода». [9: 286] Таким образом, У.Б. Йейтс стал одним из первых европейских авторов в ХХ веке, использовавших метод мифологизации в качестве главного принципа художественного творчества. Его уникальная мифологическая система, нашедшая отражение не в каком-то отдельном произведении, но сформировавшаяся и последовательно воплотившаяся во всем, весьма разнообразном, его творчестве, определила собой один из способов мифологического моделирования и восприятия мира. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Литература: Аствацатуров А. Мир как миф? (Йейтс, Элиот, Джойс) // У.Б. Йейтс Тайная Роза. - СПб., 2000. Голубович К. «Йейтс как проблема» заметки составителя // У.Б. Йейтс Видение. - М., 2000. Дин Ш. Век Ирландской литературы // Иностранная литература. – 1995. № 2. Йейтс У.Б. Символизм в поэзии // У.Б. Йейтс Видение. - М., 2000. Кривина Т.М. Национальная мифология в драматургии У.Б. Йейтса («Земля сердечных желаний» и «На мели Байли») // Литература и Мифология. - Л., 1975. Машинян А. В. Мифология У.Б. Йейтса: символ, образ, архетип // У.Б. Йейтс Тайная роза. - СПб., 2000. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. - М., 2000. Саруханян, У.Б. Йейтс и Дж. Джойс. Мифология и мифологизм как способ осмысления мира // Ирландская литература XX века. Взгляд из России. - М.,1997. Саруханян А.П. Поэзия Йейтса // Йейтс У.Б. Избранные стихотворения, лирические и повествовательные. - М., 1995 76 10. 11. 12. Тишунина Н.В. Язык литературы ХХ века - СПб.; 1999. Хорольский В.В. Эстетизм и символизм в поэзии Англии и Ирландии рубежа XIX – XX вв. - Воронеж, 1995. Элиот Т.С. Йейтс // Элиот Т.С. Назначение поэзии. - М., 1997. Рогожкин Эдуард Евгеньевич ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРИНЦИПОВ МОДЕРНИЗМА В ПЬЕСЕ Т.С. ЭЛИОТА «УБИЙСТВО В СОБОРЕ» «Убийство в соборе» - первая законченная пьеса Томаса Стернса Элиота, написанная специально для Кентерберийского фестиваля 1935 года. При ближайшем рассмотрении становится очевидно, что эта пьеса органично входит в контекст творчества Элиота, будучи связана как с его поэзией 20-х годов, так и с поздней поэзией и драматургией. В то же время нельзя не отметить особое значение «Убийства в соборе» и для творчества Элиота, и для английской литературы 1930-х годов. До сих пор эта пьеса вызывает разноречивые оценки литературоведов и критиков. Вопросы возникают уже при определении ее жанра. Некоторые исследователи рассматривают «Убийство в соборе» как историческую драму. Для этого действительно есть основания. В качестве сюжета пьесы Элиот избирает эпизод английской истории XII века – борьбу английского короля Генриха II с архиепископом Кентерберийским Томасом Бекетом, ставшую одним из первых в истории примеров противостояния Церкви и Государства. На протяжении всей пьесы Элиот остается в целом верен историческим фактам: как известно, перед написанием пьесы Элиот тщательно работал с историческими источниками. Другие исследователи называют «Убийство в соборе» религиозной драмой, вплоть до того, что считают эту пьесу открытой пропагандой католицизма (особенно это было характерно для советской науки). В 1928 в предисловии к книге эссе «Ланселоту Эндрюсу» Элиот определил свое кредо как «классицист в литературе, роялист в политике и англо-католик в религии». С этого времени в его творчестве очень важную роль стали играть христианские мотивы, интерпретированные в традиционно-католическом духе. В этом отношении «Убийство в соборе» является одним из центральных произведений Элиота 1930-х-40-х гг. В пьесе рассматривается тема мученичества за веру и связанные с ней темы страдания и искупления, истинной и мнимой святости, морального долга верующего. Впоследствии, в статье «Поэзия и драма» Элиот так определял свои первоначальные цели: «…я не хотел писать хронику политических событий двадцатого века, и я также не хотел перекраивать скудные исторические сведения, как это сделал Теннисон (который ввел характер Прекрасной Розамунды и намекнул, что юный Бекет был обманут в любви). Я хотел сосредоточиться на смерти и мученичестве» [4: 217]. Действительно, религиозное содержание в «Убийстве в соборе» доминирует над историческим содержанием, но в полной мере не выражает все 77 смысловое богатство пьесы. Созданная одним из мэтров литературного модернизма, она не могла не впитать, хотя бы отчасти, те идеи, художественные принципы, поэтические приемы, которыми одушевлялась модернистская литература и, в частности, творчество самого Т.С.Элиота. Поэтому в рамках данной статьи мы попытаемся ответить на следующий вопрос: в какой мере можно говорить об осуществлении художественных принципов модернизма применительно к пьесе «Убийство в соборе»? Здесь, прежде всего, на наш взгляд, необходимо говорить о таких чертах модернизма, как принципиальный антиисторизм и мифологическое моделирование художественной реальности. Создавая пьесу на исторический сюжет, Элиот не ставит перед собой задачи исследования социальноисторических причин описываемых событий. Более того, Элиот, очевидно, не стремится и выявить какие-то универсальные законы истории, на основании которых можно было бы проводить аналогии между давними событиями и современностью. Если, исходя из текста «Убийства в соборе», и можно проводить такие аналогии (например, между событиями английской истории XII века и развитием фашизма в Европе ХХ века), то они будут носить частный характер, не затрагивая сущности художественных поисков Элиота. Эти поиски в пьесе направлены на выявление «сверхисторических», онтологических законов человеческой жизни, для которых исторические события являются лишь внешней оболочкой. В этой связи уместно вспомнить неоднократно проводимое сопоставление драмы Элиота с не менее судьбоносной для европейской драматургии пьесой – «Святая Иоанна» Бернарда Шоу. Если Шоу стремится к разумному осознанию истории, к интеллектуальному ее постижению, ориентируясь на изыскания социально-экономических, исторических, биологических наук, то Элиот, используя «притчеобразные ходы христианского мышления с его изначальным иррационально-диалектичным соединением несоединимого, добивается ее <истории> эмоционального, эстетического переживания» [3: 10]. Если Шоу в своей пьесе пренебрегает исторической спецификой, то «за этим стоит желание постигнуть и сформулировать ее основные, вечно действующие закономерности, затемненные, с его точки зрения, конкретными и индивидуальными обстоятельствами, которые не позволяют разглядеть основные движущие силы истории» [1: 119]. Если Элиот пренебрегает исторической спецификой, то за этим стоит стремление выразить вневременной характер происходящего, показать мифологическое измерение исторического события. Таким образом, перед нами своеобразная попытка выстроить универсальную мифологическую модель «всечеловеческой жизни», в которой проблема социального детерминизма полностью снимается; выявить некие неизменные, вечные начала, просвечивающие сквозь поток эмпирического быта и исторических изменений. Но, разумеется, мифологизм в пьесе «Убийство в соборе» реализуется не только как специфическое мироощущение, но и как конкретный художественный прием. 78 На наш взгляд, основным сюжетообразующим и композиционным принципом пьесы «Убийство в соборе» является миф об умирающем и воскресающем боге. Это один из центральных мифов календарного цикла, и он может быть прослежен, практически, во всех архаических культурах, особенно у народов Средиземноморья. В соответствии с этим мифом годичный календарный круг, осенне-зимнее замирание и весенне-летнее пробуждение природы предстают в символическом изображении ежегодного умирания и ежегодного воскресения бога плодородия. Мифу соответствует ритуал, воспроизводящий гибель и воскресение бога и, тем самым, способствующий сохранению мирового природного порядка. Классическим образцом такого мифа является египетский миф об Осирисе. Модификацией этого мифоритуального комплекса является архаический ритуал умерщвления старого царя-жреца, подробно описанный в «Золотой ветви» Фрейзера, а также ряд других мифов и ритуалов, связанных с «умилостивительной жертвой». Многие религиозные представления (в том числе история смерти и воскресения Иисуса Христа) также могут быть соотнесены с указанным мифом. Весь этот контекст значений крайне важен для понимания роли мифа об умирающем и воскресающем боге в пьесе «Убийство в соборе». Уже с самого начала, с первого выступления Хора (которое вообще является одним из ключевых моментов пьесы) Элиот актуализирует в сознании читателя эти значения. Прежде всего, вводится мотив осеннего умирания природы и связанного с ним бесплодия земли: Since Golden October declined into somber November And the apples were gathered and stored, and the land Became brown sharp points of death in a waste of water and mud… И далее: Winter shall come bringing death from the sea… [2: 238] Этот мотив в контексте всего творчества Элиота можно и необходимо воспринимать в качестве развернутой метафоры гибели мира, оскудения животворных сил природы, бессилия человека перед вторжением сил Хаоса. В этой связи можно вспомнить и центральный образ поэмы «Бесплодная земля», и образ «мертвой страны» в поэме «Полые люди». Это вполне отвечает фольклорно-мифологическому пониманию календарного цикла. Очевидная параллель зимы и смерти является характернейшей чертой любой аграрной мифологии. В тексте Элиота эта параллель усугубляется мотивом смерти, приходящей из-за моря, то есть, согласно распространенным мифологическим представлениям, из чужого, потустороннего мира. Таким образом, в нескольких начальных строках пьесы происходит своеобразное наложение исторического плана (тревожное ожидание прибытия Томаса Бекета «из-за моря», то есть из Франции) на мифологический план (ощущение предстоящего торжества смерти, гибели всего живого). Мы проследили параллель мифологического и исторического ракурсов только на примере самых первых строк «Убийства в соборе», но эту параллель можно проследить и на протяжении всей пьесы. Здесь также необходимо подчеркнуть роль специфической модернистской образности, наполняющей 79 пьесу. Образы хаоса, гибели Бога и мира, оскудения природы и человека тесно связаны с образным строем ранней поэзии Элиота и поэмы «Бесплодная земля». Налагаясь же на христианскую символику, эти образы приобретают дополнительное измерение и углубляют проблематику пьесы, выводя ее на метафизический, онтологический уровень. В рамках данной статьи невозможно в полной мере описать все аспекты функционирования модернистской поэтики и проблематики в пьесе Элиота. Тем не менее, мы можем утверждать, что принципы модернизма (как на уровне поэтики, так и на уровне мироощущения) чрезвычайно существенны для объективного понимания пьесы «Убийство в соборе». Во взаимодействии традиционно-христианской проблематики и символики с модернистской рождается новое художественное качество, делающее пьесу Элиота значимым явлением английской литературы ХХ века. 1. 2. 3. 4. Литература: Дьяконова Н.Я. Послесловие к пьесе Шоу «Святая Иоанна» // Дьяконова Н.Я. Из истории английской литературы. – СПб., 2001. Цит. по: Элиот Т.С. Избранная поэзия. Поэмы, лирика, драматическая поэзия. – СПб.,1994. Швыдкой М.Е. Идейно-художественные проблемы английской исторической драмы ХХ века.- Автореф. дис. …канд. филол. наук. – М., 1977. Элиот Т.С. Назначение поэзии. – Киев-М., 1996. Картузова Ирина Борисовна АВТОР И ТЕКСТ В РОМАНЕ Д. ФАУЛЗА «МАНТИССА» Роман «Мантисса» (1982), как признавался автор в одном из интервью, «был задуман как комментарий к проблемам творческой жизни писателя» [8: 176]. Латинский термин в заглавии романа в переводе означает "дополнение сравнительно малой важности". Книгу Фаулза, действительно, можно рассматривать как комментарий писателя к своему творчеству, комментарий существенный, хотя и поданный с большой долей иронии. По справедливому наблюдению переводчицы романа на русский язык И. Бессмертной, «Мантисса» продолжает раздумья автора об искусстве и художнике; это «роман о романе как жанре, о методе творчества, о романе современном; здесь есть буквально все, что встречалось в предыдущих книгах: взаимоотношения с искусством (исследование природы реального и творческого, проблемы отчужденности искусства, эволюции писательского творчества, приведшей к самопогруженности современной литературы), отношение к политике вообще, к социальным проблемам (и социализму) в частности; отношение к женщине, к литературе и театральному искусству» [3: 296]. Однако форма, в которую облекаются раздумья автора, на сей раз новая: это роман, действие которого происходит исключительно в голове главного героя; роман-метафора, где "больничная палата" - это замкнутое на себя писательское сознание; медленно 80 нарастающее вожделение - это потребность в творчестве; секс - развернутая метафора взаимоотношений автора с текстом. Рассуждая об авторском сознании в «Мантиссе», Н. Пальцев замечает: «роман представлял собою нечто вроде предсмертного видения попавшего в реанимационную палату литератора Майлза Грина... Ирония и самоирония правят бал в этом причудливом повествовании, где «игра в Бога» претворяется в любовную игру с музой Эрато»» [5: 21]. Автора в книге занимает процесс создания художественного текста, особенности его зарождения и модифицирования в сознании автора. Иначе говоря, «Мантисса» - это роман о сложности написания романа. Фаулз вкладывает в уста своего героя ироническую защиту постмодернистского кредо: «Писать о романе, - заявляет Майлз Грин, представляется гораздо более важным, чем писать сам роман... Роль автора абсолютно случайна, он является всего лишь агентом, посредником. Он не более значителен, чем продавец книг или библиотекарь» [7: 179-180]. Подобный подход к проблеме авторства, а вместе с ним новый подход к культуре и истории как тексту, по наблюдению И. П. Ильина, сложился в результате «одного из постулатов постструктурализма – отождествления сознания человека с письменным текстом как единственно возможным средством его фиксации более или менее достоверным способом» [4: 60]. Культура начинает воспринимается как единый «текст», являющийся претекстом по отношению к любому новому тексту, а автор превращается в пустое пространство проекции интертекстуальной игры. Ю. Кристева подчеркивает бессознательный характер этой «игры», «отстаивая постулат «безличной продуктивности текста», который порождается как бы сам по себе, помимо сознательной волевой деятельности индивида» [4: 60]. Текст приобретает значение, превышающее по важности ту роль, которую в традиционном тексте играет автор. Ролан Барт провозглашает «смерть автора», связанную с утверждаемой им безличностью и объективностью текста как знаковой системы: писатель, заявляет философ, «может лишь вечно подражать тому, что написано прежде и само писалось не впервые; в его власти только смешивать тексты друг с другом, не опираясь всецело ни на один из них» [1: 391]. Фаулз намеренно начинает повествование с образа "неподвижного тела", а затем амнезии как исходного условия творчества. И в точности теми же словами заканчивает книгу: «Пациент в глубоком забытьи лежит на больничной койке, устремив невидящий взор в потолок, в положении, которое теперь можно считать наиболее для него характерным; он сознает лишь, что погружен в пронизанную светом бесконечную дымку, как бы парит в ней, словно божество, альфа и омега (и все прочие буквы между ними) сущего, над океаном легких облаков. Благословенная тишина снисходит наконец на серую комнату...» [7: 293]. Такое буквальное воспроизведение идей Барта в пародийном ключе обусловлено намерением автора с ними не согласиться. Пародийный модус повествования определяется несогласием Фаулза с постулатом постструктуралистов о том, что современный текст не имеет 81 создателя, причем пародия направлена также на чрезмерный интеллектуализм постмодернистского романа, на его преклонение перед умозрительными концепциями литературы. Как говорил сам писатель, «Я не приемлю слишком явного использования теории в романе» [8: 205]. С одной стороны, в книге представлена блестящая пародия на постструктурализм и деконструктивизм; а с другой, как говорил сам Фаулз, - роман был шуткой, прежде всего книгой для развлечения [8: 176]. Форма и стиль шутки позволяют Фаулзу с юмором говорить о тяжеловесных литературоведческих категориях. Другой элемент, который также подвергается пародированию в книге чрезмерное увлечение современных авторов откровенным изображением сексуальных сцен. Интеллектуальный диспут, который ведет со своей музой Грин, имеет откровенную эротическую окраску; при этом секс выступает в качестве метафоры творческого процесса и повествовательных приемов. Как говорит сам герой, «Господи, да секс всего лишь метафора. Должен же быть там хоть какой-то объективный коррелят герменевтической стороны происходящего. Ребенку понятно» [7: 176]. Метаморфозы, происходящие в романе, носят подчеркнуто сексуальный характер и являются главным сюжетным механизмом романа, равно как и способом порождения новых персонажей. Роман строится как развернутый диалог между двумя героями, которые стремятся выяснить, кто же из них настоящий автор и как рождается текст - то ли в авторском сознании, то ли в некоем мифологическом пространстве, являющемся подлинным источником всего сущего. Попытка доказать, кто является автором текста, оборачивается почти насилием. Грин и Эрато предстают и как со-творцы, и как соперники, отстаивающие – каждый – свое право на главенствующую роль в творческом процессе. Их соперничество завершается, как правило, актами сексуального насилия – то автора над музой, то музы над автором. Сексуальные сцены представляют собой метафору рождения текста, создания очередной главы, книги. «В то время как доктор Дельфи, с помощью сестры Кори и собственных решительных манипуляций, наконец успешно приводит Майлза Грина к оргазму, - пишет по этому поводу С.Онега, - мы неожиданно обнаруживаем, что он одновременно завершается метаморфозой – рождением ребенка. Плод этой, так сказать, «двойной кульминации» есть не что иное, как текст, который сестра Кори внимательно изучает, пока доктор Дельфи, участник этого процесса, покоится в обьятиях Майлза Грина» [9: 129]. Фаулз соотносит творческий процесс с процессом эротической игры, показывая, что в обоих случаях работают одни и те же механизмы, и результат – рожденный текст – есть смысл и конечный итог сексуально-мозговых игр, происходящих в сознании автора. Основываясь на типологической близости творческого и сексуального актов, совпадении их основных стадий, аффектов и эффектов, автор фиксирует «эротичность» процесса письма Писатель разворачивает повествование в соответствии с фрейдовской идеей о том, что творчество представляет собой сублимацию полового влечения, - сексуальный акт становится у Фаулза метафорой процесса письма, а текст - продуктом «совокупления» действующих в нем персонажей. 82 Литературное творчество в книге предстает как особый род психической деятельности, даже как отклонение, которое может служить предметом внимания медицины и психоанализа: «...моя специализация, – заявляет Эрато, психическое расстройство, которое вы, невежды, именуете литературой» [7: 214]. «Мантисса» - это, безусловно, не эротический роман в его узком понимании: эротика, густо настоянная на едкой самоиронии, на игре с интеллектуальными тонкостями, на культурно-исторических намеках, на передразнивании медицинской, чаще выдуманной, и теоретико-литературной лексики, а также феминизма, фрейдизма, постструктурализма и политкорректности, служит здесь лишь средством; она не способна выполнять функцию, которую выполняет этот вид литературы. Это не эротический роман прежде всего постольку, поскольку он не отвечает требованиям, предъявляемым к данному жанру, а превосходная пародия на него. «Мантисса» в известном смысле - это произведение о свободе - как свободе творческой, авторской, так и о свободе восприятия книги, то есть читательской свободе. Авторская свобода, как явствует из текста, весьма ограниченна. Реальная действительность, которую пытается открыть Грин, всего лишь зеркало его собственного сознания. «Ты не можешь выйти из собственного мозга»,– бесцеремонно заявляет герою Эрато [7: 189]. Сцену в книге, где стены палаты Майлза Грина вдруг на несколько минут становятся прозрачными, и за героями наблюдают остальные пациенты клиники, И. Бессмертная трактует как проявление «вуайеризма» читателей, как метафору роли читателей в тексте, которые не вовлечены в действие и могут лишь наблюдать за происходящим: «Писатель предстает перед нами как божество – альфа и омега сущего, витающий в эмпиреях создатель миров, обитающий в беспредельном пространстве собственного мозга. И словно божество, он обречен на вечное одиночество... на одинокое безумие творца. Жизнь врывается в поле зрения творца в виде безмолвных зрителей акта творения, не способных проникнуть внутрь замкнутого пространства, не испытывающих тех же чувств, но тем не менее безмолвно взирающих, наблюдающих этот акт» [3: 297]. Текст (мир вымышленный) соприкасается с реальностью только через посредничество читателя. В книге Фаулза актуальна проблема взаимоотношений мира реального и вымышленного, мира воображения. В. Г. Тимофеев замечает, что роман построен на «противопоставлении внутреннего мира фантазии и рефлексии внешнему миру действительности» [6: 98]. Эти два мира связаны между собой образом часов с кукушкой, роль которого символична: «раскрытие их секретов не приводит к выходу в мир действительности, а лишь убеждает в том, что этот внешний мир, который литература и призвана отражать, оказывается в этих произведениях столь же замкнутым миром воображения» [6: 98], поскольку владелец часов О’Брайон – это персонаж Брайона О’Нолана, то есть структура книги повторяет строение матрешки. Реальность оказывается всего лишь вымыслом Майлза Грина, а он сам создан воображением ирландского джентльмена, который, в свою очередь – всего лишь один из псевдонимов 83 реально существующего писателя. Майлз Грин пишет автобиографическую книгу о герое Майлзе Грине, но автор Майлз Грин – это всего лишь персонаж под пером Фаулза, автора книги о Майлзе Грине. В основе этого приема лежит один из главных принципов постмодернистской философии - диалогическое отношение к литературе: «расширение круга указывает на «свое» в «чужом», а порука на «чужое» в «своем»» [6: 100]. Роман был крайне неоднозначно встречен; именно после его публикации отечественные литературоведы стали обвинять Фаулза в отходе от реалистической традиции (см., например, И. В. Кабанова), а зарубежные (Pamela Cooper) – в чрезмерном эротизме, тогда как роман был прежде всего пародией на постструктуралистские «штудии», то есть поданным в ироническом ключе анализом механизмов авторского сознания в момент создания им текста. Но вряд ли сам Фаулз возражал против разноплановых интерпретаций книги, ибо способность книги предоставить бесконечное множество вариантов ее прочтения – именно то, что, по Фаулзу, определяет ценность художественного текста, открывающего свободу читательскому восприятию. Кроме того, можно предположить, что Фаулз сознательно стремился спровоцировать такое множество различных интерпретаций, желая подшутить над своими незадачливыми критиками. Последнее слово в романе - тоже шутка, хотя и в чем-то печальная. Когда Грин, поставив точку, опять замер, из часов внутри его сознания показывается кукушка. И звучит "окончательное, негромкое и одинокое, до странности одинокое "ку-ку" [7: 294]. «Cuckoo в разговорном английском (как, впрочем, и в русском) означает "глупец", "разиня" или "не в своем уме"» [2: 15]. Романшутка заканчивается шуткой. Литература: 1. Барт Р. Смерть автора. // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. 2. Баткин Л. Автор, оказывается, не умер. // Иностранная литература. – 2002. № 1. 3. Бессмертная И. Послесловие переводчика. / Дж. Фаулз. Мантисса. - М.: Махаон. -2001. 4. Ильин И. П. Проблема личности в литературе постмодернизма: теоретические аспекты/ Концепция человека в современной литературе. 1980-е годы. -М., 1990. 5. Пальцев Н. Роман как игра в Бога, или Магический театр Джона Фаулза. //Дж. Фаулз. Коллекционер. Волхв. / Пер. И. Бессмертной, Б. Кузьминского. М., 2004. 6. Тимофеев В. Г. Уроки Джона Фаулза. - СПб., 2003. 7. Фаулз Дж. Мантисса. Пер. И. Бессмертной. -М.: Махаон, 2001.. 8. Conversations with John Fowles/. Ed. by Dianne L. Vipond. University press of Mississippi, Jackson, 1999. 9. Onega S. Form and meaning in the novels of John Fowles. - London, 1989 84 СОДЕРЖАНИЕ: стр. Тимина С.И., Стадников Г.В. Филология сегодня: молодые голоса 3 Секция новейшей русской литературы: Камышова А.Е. Об условно-предположительном сравнении 5 Поповский А.А. Голоса птиц в поэме В.Хлебникова «Труба Гуль-Муллы» 9 Крауклис Р.Г. Типология литературно-музыкальных корелляций 13 Костюк В.В. К вопросу о японской поэтической традиции в творчестве Е.Гуро 18 Новожилова А.М. Дневниковая культура в России начала ХХ в. 24 Капполь О.С. О значении комментария как интерпретации текста 29 Евстафьева А.В. Творческая судьба Л.А.Чарской в контексте массовой литературы начала ХХ в. 31 Вольская А.Б. Мир, создаваемый литературой (в зеркалах переписки «Серапионовых братьев») 36 Юрьева М.В. Изменение системы персонажей в рамках жанровой трансформации: роман «Зависть» - пьеса «Заговор чувств» Юрия Олеши 39 Петрова С.А. Штрихи к портрету: А.М.Добролюбов (к проблеме формирования авторского «Я») 43 Хитальский О.В. Проблемы изучения творчества З.Н.Гиппиус на современном этапе 48 Чевтаев А.А. Структура повествования в стихотворении И.Бродского «Новый Жюль Верн» 53 85 Секция зарубежной литературы Громова Н.А. «Английские фрагменты» Генриха Гейне: внутренний мир и композиция 59 Тулякова Н.А. «Легенда об Уленшпигеле» Шарля Де Костера и традиция жанра видения 63 Крылова М.П. Тема времени в поэзии Томаса Гарди 68 Толокнова Ю.В. Миф в творчестве У.Б.Йейтса 72 Рогожкин Э.Е. Осуществление художественных принципов модернизма в пьесе Т.С.Элиота «Убийство в соборе» 77 Картузова И.Б. Автор и текст в романе Д.Фаулза «Мантисса» 80 86