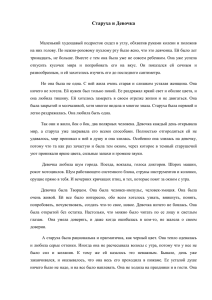Прекрасная мельничиха
advertisement
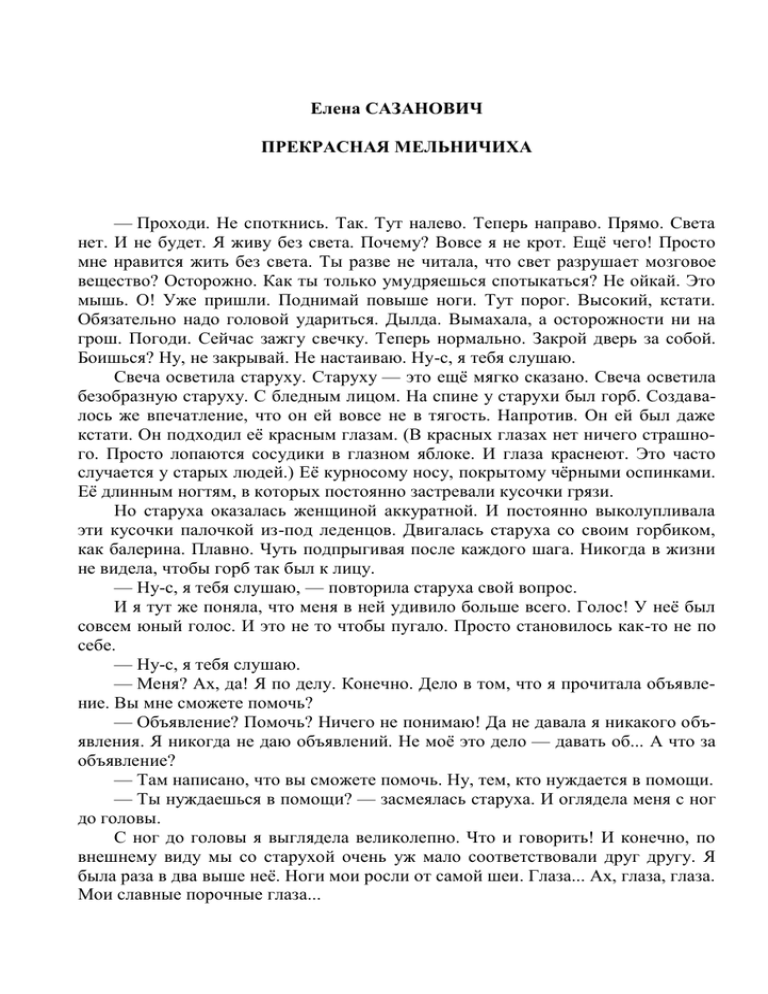
Елена САЗАНОВИЧ ПРЕКРАСНАЯ МЕЛЬНИЧИХА — Проходи. Не споткнись. Так. Тут налево. Теперь направо. Прямо. Света нет. И не будет. Я живу без света. Почему? Вовсе я не крот. Ещё чего! Просто мне нравится жить без света. Ты разве не читала, что свет разрушает мозговое вещество? Осторожно. Как ты только умудряешься спотыкаться? Не ойкай. Это мышь. О! Уже пришли. Поднимай повыше ноги. Тут порог. Высокий, кстати. Обязательно надо головой удариться. Дылда. Вымахала, а осторожности ни на грош. Погоди. Сейчас зажгу свечку. Теперь нормально. Закрой дверь за собой. Боишься? Ну, не закрывай. Не настаиваю. Ну-с, я тебя слушаю. Свеча осветила старуху. Старуху — это ещё мягко сказано. Свеча осветила безобразную старуху. С бледным лицом. На спине у старухи был горб. Создавалось же впечатление, что он ей вовсе не в тягость. Напротив. Он ей был даже кстати. Он подходил её красным глазам. (В красных глазах нет ничего страшного. Просто лопаются сосудики в глазном яблоке. И глаза краснеют. Это часто случается у старых людей.) Её курносому носу, покрытому чёрными оспинками. Её длинным ногтям, в которых постоянно застревали кусочки грязи. Но старуха оказалась женщиной аккуратной. И постоянно выколупливала эти кусочки палочкой из-под леденцов. Двигалась старуха со своим горбиком, как балерина. Плавно. Чуть подпрыгивая после каждого шага. Никогда в жизни не видела, чтобы горб так был к лицу. — Ну-с, я тебя слушаю, — повторила старуха свой вопрос. И я тут же поняла, что меня в ней удивило больше всего. Голос! У неё был совсем юный голос. И это не то чтобы пугало. Просто становилось как-то не по себе. — Ну-с, я тебя слушаю. — Меня? Ах, да! Я по делу. Конечно. Дело в том, что я прочитала объявление. Вы мне сможете помочь? — Объявление? Помочь? Ничего не понимаю! Да не давала я никакого объявления. Я никогда не даю объявлений. Не моё это дело — давать об... А что за объявление? — Там написано, что вы сможете помочь. Ну, тем, кто нуждается в помощи. — Ты нуждаешься в помощи? — засмеялась старуха. И оглядела меня с ног до головы. С ног до головы я выглядела великолепно. Что и говорить! И конечно, по внешнему виду мы со старухой очень уж мало соответствовали друг другу. Я была раза в два выше неё. Ноги мои росли от самой шеи. Глаза... Ах, глаза, глаза. Мои славные порочные глаза... Старуха поднялась на цыпочки, и погладила меня по голове. — Почему стриженая? — Я? Ну как-то это... В общем... Видите ли... — На Агузарову похожа. — Неправда, — обиделась я. — Я симпатичней. — Что ты понимаешь! Агузарова — шарм. Тебе до неё... — Старуха махнула рукой. — А можно присесть? — спросила я. И бухнулась на обшарпанный табурет. Старуха села на пол. Горбом обперла стену. И руками обхватила белые острые коленки. Могла бы и чулки надеть. Очень приятно мне смотреть на её костлявые ноги. — Не нравится — не смотри, — обиделась старуха. — Что вы! Мне очень нравятся! Даже очень! Ваши колени... Они такие... — Не ври. — Я никогда не вру. Это некрасиво — врать. Очень неприлично... — По тебе видно. — Что по мне видно? — Что любишь крепкий кофе. Дорогие сигареты. Хорошее вино. И красивые вещи. — Я ещё люблю музыку. — Правда? — обрадовалась старуха. И притащила из соседней комнаты рояль. — Сбацаешь? — Это обязательно? — Угу. Я села за рояль. И сбацала. Всё, что помнила. А помнила я, если честно, очень мало. Несколько вариаций к “Прекрасной мельничихе”. — Людвиг ван Бетховен, — протянула старуха. — Бет-хо-вен, — повторила протяжно старуха. Словно пробовала на вкус фамилию классика. — Я рада в вас найти единомышленника. Вы так прекрасно разбираетесь в классической музыке. Это, знаете ли, такая редкость сегодня. Но... Но я вообщето не о музыке с вами хочу поговорить... — Как ты думаешь, она была и впрямь прекрасна? — Кто? — Эта мельничиха. — Я не знаю. Не знаю. Наверно. Хотя... — Меня начинала раздражать эта наглая старуха. И так захотелось пульнуть в неё чем-нибудь твёрдым. Старуха вытащила из кармана замусоленного фартука огромный гранат. Нож. И тарелку. Медленно разрезала гранат на четыре части. И так же медленно начала доставать по одному зёрнышку. Аккуратно обсасывать его со всех сторон. — Хочешь чего, говори. — Хочу. Понимаете, хочу... Чтобы помогли, хочу. — Говори. — Я была у психиатра. — Мужик или баба? — Мужик. При чём тут это? — возмутилась я. — Ну да. Ни при чём. И что он? — Он — ничего. Вернее, он ничем не помог мне. Совсем ничем. Он хотел усыпить меня. Но я не уснула. — Что потом? — Потом я отдала ему деньги. И ушла. — Много? — Я не знаю. Не помню. Я плохо разбираюсь в деньгах. Но это были деньги. Это точно были деньги. — И что? — Потом я шла по городу. И была метель. Сильная. И я пошла не в ту сторону. Представляете, совсем в другую сторону. И на столбе. Постойте. Я даже помню. Там ещё сотый автобус останавливается. — Я слушаю. — На том столбе висело объявление. — Объявление с собой? — Нет. Но я... Вы извините, пожалуйста, его уже нет. Но оно было. Я не вру. Было! Было! — Где оно? — Я пошла в пивную. Вы только не подумайте, что я алкоголичка. В пивной был свет. Только в пивной, а кругом такая темнота. И ещё тепло там было. Только там. Я пошла на свет и тепло. К тому же очень хотелось есть. — Было вкусно? — Очень! Я ничего подобного в своей жизни не ела. — Ты его быстро выпила? — Я выпила его залпом. Но мне постоянно мешали. Вокруг стояло столько мужчин. Они хватали меня за пальто. Ой, извините. Можно снять пальто? Как-то жарко у вас. Можно? — Что мужчины? — Какие? Я не знаю никаких мужчин. Зачем мне мужчины? При чём тут... Ах, в пивной? Ну какие там мужчины. Они всё время смеялись. Кто-то ущипнул меня за коленку. Так было больно. — Ты отбивалась? — Не могла. Поймите! Одной рукой я держала кружку. Другой — пирожок. — А объявление? — Понимаете, мне надо было уже идти. Быстро-быстро. Я не люблю, когда меня щупают. Бежать надо было. Но руки. Они такие жирные. Липкие. А у меня ничего с собой не было. — А объявление? — Ну, я им и вытерла руки. Ах, извините, пожалуйста, что я им вытерла руки. Вы меня, наверное, осуждаете. Но прошу вас извинить... — Извиняю. Тем более — это не моё объявление. — Но это неправда. Там был написан ваш адрес. Я его хорошо запомнила. И сразу же пришла к вам. — Я тебе нравлюсь? — Вы? Очень! Конечно. Я сразу же поняла. Вы мне поможете. Только вы. Я поэтому не ушла. Я сниму ботинки. Вот теперь совсем благо... — Вы уже едите свой гранат ровно час. — А сколько я его должна есть? — Как сколько? Минуту! Секунду! Вы понимаете? Вы по зёрнышку выколупливаете. Медленно так. Аккуратненько. Я так не умею. Смотрите! Я выхватываю из рук старухи гранат. Лихорадочно грызу его. Глаза мои блестят. Скулы вращаются, как колёса. — Вы меня понимаете? Я не могу по-другому. Я хочу сразу. И всё. — Да. Но на твоих белых колготках красные пятна от сока. — Пусть! Но поверьте! Вы в своей умеренной трапезе выглядите гораздо омерзительнее, нежели я. — Ну-с? — Я не могу вот так. По частям. Медленно. Размеренно. Умеренно. Я не могу сдерживаться. Хоронить всё в себе. — Что ты предлагаешь? — В жизни всё движется равномерно. Она поэтому и такая долгая — жизнь. Поэтому она растягивается на месяцы. Годы. Чувства наши мы отдаём по месяцам. Годам. Они разбросаны по мелочам. И всё ради того, чтобы подольше жить. Я так не хочу. Я хочу, чтобы всё, что разбросано по годам, соединилось в одно целое. И воспользоваться в один день тем, что мне выделено на целую жизнь. — Ты не пробовала играть в театре? — Не то! Не то вы говорите! Не то! Конечно, пробовала. Я думаю, вы сами могли бы об этом догадаться. Я не хочу испытывать за других то, что могу испытать сама. — Наркотики? Алкоголь? — Всё было... Ну, ясно, было... Но потом наступает утро. Вы бы знали, какое утро! Когда хочется удавиться от стыда! Когда осознаешь, что все чувства выплеснуты напрасно. И попали не в ту мишень. Когда осознаёшь, что это больные, бредовые ощущения. Из которых половину не помнишь. И слава богу! Я хочу помнить всё. Я хочу, чтобы мой мозг работал сознательно. Иначе нет смысла. Я хочу реальных чувств. До которых можно дотронуться. У которых есть свой запах. Свой цвет. Я не хочу иллюзорных наслаждений. — Значит, ты решила... — Да. — Что ж. Ты сама себе выбрала судьбу. — Я не пожалею. Сколько мне это будет стоить? — О расплате не беспокойся. Всё всегда воздаётся по праву. Что получишь, то и отдашь. — Я понимаю. — Твои пожелания. Какие чувства ты хотела бы испытать? — Те, которые испытать до конца невозможно. — Ну-с, и какие чувства? Какие ты желаешь испытать до конца? — Я? Ой, простите. Ну, конечно же, я. Кто же ещё? Можно, я сниму юбку? У вас так жарко. Духота такая. Почему у вас такая духота? Я снимаю юбку. Бросаю её на пол. Остаюсь в белых колготках и свитере. — Ты меня слушаешь? — совсем неожиданно я перешла на “ты”. Старуха не удивилась. Мне показалось даже, что она давно ждала этого. — Мне надо совсем мало. Совсем капельку. Я больше не попрошу. Я постараюсь не затруднять тебя. Честное слово. Пречестное. — Короче. — Я хочу узнать до конца то, чего узнать до конца невозможно. Ты меня внимательно слушаешь? Свободу! Старуха скривилась. — Именно свободу! Бабушка, ты понимаешь? Старуха кивнула. — Дальше? Господи, что же дальше? Дружбу. А что это? Состояние? Просто факт? Ну хорошо, пусть будет факт. Слово какое-то неуклюжее. Старуха внимательно разглядывала свою голую коленку. И мне показалось, что она меня вовсе не слушает. — Почему ты меня не слушаешь? Ещё любовь! И счастье! — выпалила я на одном дыхании. — Счастье? — переспросила старуха. — Ну, что ж. Пусть будет счастье. Если так тебе этого хочется. Старуха встала. Встала я. Старуха пошла. Пошла я. Старуха остановилась. Остановилась я. — Может, ещё сбацаешь? Так. На всякий случай. Может, больше не придётся. — Я ничего не помню. Кроме “Мельничихи”. Но мне она не нравится. Хотя она и прекрасная. И хотя Бетховен. И потом, из меня никудышный музыкант. Ах, лучше не проси. — Как хочешь. Старуха схватила одной рукой рояль. Другой табурет. И утащила их. В комнате ничего не осталось. Кроме свечи на подоконнике. И моих вещей. Небрежно валяющихся на полу. — Собери вещи, — приказала старуха. — И вынеси в коридор. Я послушно собрала их и бросила в коридоре. — Колготки сними и застирай. — Нет. Нет. Я не буду стирать. Я не люблю стирать. Я их лучше выкину. И куплю новые. Правда, у меня нет денег. А хочешь, я их подарю тебе? Они не порванные. Не зашитые. Я не ношу зашитых колготок. Они тебе нравятся? — Ладно уж. Возьму. Мне нравится белый цвет. Я быстренько сняла колготки. И преподнесла их старухе. А сама осталась в трусиках и свитере. Старуха притащила из соседней комнаты солому. И постелила на пол. — Ложись, — буркнула она мне. Я улеглась на солому. — Спасибо. Я не знаю, как тебя благодарить. Не знаю. Это так любезно с твоей стороны. Так неожиданно. Так благородно. Так... — Спи. Завтра вечером приступим к работе. День можешь провести по своему усмотрению. Слышишь? Это твоё право. Хорошенько подумай. Взвесь. Ты меня поняла? Старуха забрала свечу. И ушла. Даже не пожелав мне спокойной ночи. Видимо, догадывалась. Нет! Знала, чертовка, что, желай не желай, ночь спокойной не будет. Я попыталась уснуть. Но уснула только под утро. Мне приснилась старуха. Я стояла перед ней на коленях. Она держала за хвост раздавленную мышь. И перед моим носом покачивала ею. А я, как кот, пыталась ухватить мышь зубами. Но у меня это никак не получалось. Наконец я укусила старуху за руку. Старуха вскрикнула. Мышь выскользнула из её рук. Я на лету схватила её зубами. И проглотила. Старуха засмеялась. И сказала, что это вовсе не мышь. Это то, за чем я пришла. От неожиданности я подавилась. Закашлялась. И проснулась. Я проснулась. И сразу же решила, что пора смываться. Что я была не права. И всё себе придумала. И вулкан страстей. И белые колготки. И мышь. Я крикнула старуху. Мне не ответили. Старухи нигде не было. Я стала одеваться. Нигде не оказалось моих белых колготок. Интересно, где они. А от меня ещё на ключ запирается. Чёрт! Я хлопнула себя по лбу. Я же сама ей подарила. Я с трудом натянула ботинки на босые ноги. И выскочила на улицу. На улице меня встретил сильный мороз. Слава богу, что без ветра. Но мороз и без ветра умудрялся ловко щипать меня за голые коленки. Постепенно я привыкла к морозу. Даже перестала его чувствовать. Зачем мне сдалась старуха, думала я. Разве в моей жизни мало свободы? Или любви? Или счастья? Вовсе нет. Напротив. Очень даже много. У меня нет только денег. Но не в деньгах счастье. Тем более, если есть остальное. Деньги — не проблема. Я вскочила на скамейку. И положила шапку под ноги. — Пушкин. “К Чаадаеву”! — крикнула я во весь голос название стихотворения, которое лучше всего помнила из школьной программы. Но меня схватили за руки. И стащили со скамейки. Я всё-таки успела схватить шапку. В которую кто-то милостиво успел бросить две копейки. Ничего себе. Гения в две копейки оценили. А эти чего ко мне прицепились? Что я такого натворила? Во-первых, я честно хотела заработать. Организовала собственное выступление. Люди, может, уже и думать забыли про Пушкина. Я сделала доброе дело — напомнила. И потом, почему на Пушкина я должна спрашивать разрешение? Но моё мнение никого не интересовало. Меня потащили в высокое здание. Внутри оно пестрело какими-то символами, знаками, атрибутами. В ка- бинете, куда меня не очень вежливо пригласили, сидело много мужчин. Все они были в очках. И шляпах. И все они не предложили мне сесть. Хотя я была единственной женщиной. Хамы. И я, не дожидаясь приглашения, бухнулась в кресло. — Встаньте, — сказал мне хор шляп. Дулю, подумала я. И встала. — Вы знаете, что в продаже есть полное собрание сочинений Александра Сергеевича? — Знаю. — Вы знаете, что в библиотеке можно свободно взять полное собрание сочинений Александра Сергеевича? — Знаю. — Знаете ли вы, что наш народ достаточно просвещён? У нас всеобщее среднее образование. Вы это знаете? — Знаю. — Что из этого следует? Из этого следует, что читать в центре цивилизованного города Пушкина вовсе не обязательно. Сейчас я им выскажу. Вот сейчас. Скажу, что они шляпы. А ещё очкарики. И жлобы. — Так получилось. Понимаете... — промямлила я. И опустила голову. — Но вы же не сознательно это сделали? Ну? Не сознательно? Нет? Ну? Нет? Нет? Как же. Не сознательно. В полном и ясном здравом смысле. Разве может быть не сознательно желание заработать? Вполне здравое желание. — Я? Нет. Что вы! Какое там сознание! Что-то со мной случилось. Что-то на меня нашло. Где-то сдвинулось. Было холодно. А я без колготок. — Кстати, почему? Это что — новый вид протеста? — Что вы! Какой уж там протест. Когда такая холодина. У меня просто нет денег на колготки. Я как-то... Что-то меня... И ветер начался. А тут эта скамейка. Я почувствовала, как меня со всех сторон сжимают атрибуты. Я оказалась во вражеском окружении. Мне захотелось их разбить. Разломать. Бросить на пол. Топтать ногами. Вот сейчас... — Почему вы не имеете денег? — Почему? Почему не имею? Как почему? Они кончились. Деньги есть. А потом раз — и их нет. Так бывает. И очень часто. Почти всегда. А помощи ждать неоткуда. Я уже собой не владела. Мной владел дикий, животный страх. И откуда он только берётся? — Мы вам поможем с деньгами. Но вы должны извиниться. В этом ничего такого вовсе нет. Просто дадите честное слово. Что никогда ничего подобного в своей жизни больше не выкинете. Ладненько? Извиниться? Перед кем? Что-то я не совсем понимаю. Я знаю, что передо мной должны извиниться. За то, что сделали больно. Сейчас я плюну в эти рожи. Плюну. Чёрт побери! Я начала сосредоточенно собирать слюну. Двигала челю- стями. Шевелила яростно языком. Мне хотелось собрать слюны как можно больше. Чтобы хватило на всех. — Здесь двадцать пять рублей. Вам на колготки хватит? — Да, да. Извините за всё. Конечно. Хватит. Хотя я не разбираюсь в деньгах. Но столько и в руках не держала. Это так мило с вашей стороны. Вы так любезны. Чёрт с этим Пушкиным. Он действительно лучше воспринимается на глаз. Чем на слух. Ах, как я была не права! Но я вовремя одумалась. Конечно... Я пятилась к двери. Прижимая к груди двадцатипятирублёвку. — А вы заходите. Заходите. Если что увидите. Услышите. Знаете, эти любители поэзии. Они так несобранны. Их некому направить на путь истинный. Путь праведный. А мы желаем только добра. Иначе какой смысл жить. Иначе нет смысла в жизни. — Да. Да. Я вас так понимаю. Я разделяю вашу точку зрения. Добро ближнему. Это так... Я выскочила за дверь. В бессилии плюхнулась на пол. И закрыла глаза. И сразу же почувствовала, как чья-то тёплая волосатая ладонь ползает по моей голой коленке. Я вскочила. Передо мной сияло очкастое лицо в шляпе. — Что вам надо? — Совсем мало. Плитку шоколада. Хи-хи-хи. Вы же не дурочка. А? Должны понимать. Это так просто. Ничего просто так не кончается. Это не шуточки. Пушкин! На вас уже составлены бумаги. Мелочь. Как там? Собрать бы книжки все. Да сжечь? Пушкин? Ах, не кривитесь. Грибоедов. Но это всё равно. Мелочь. Пока мелочь. А что — после? Дальше всё от вас зависит. Именно. — Что вам надо? — У вас красивые ноги. Я думаю, они стоят порванных бумажек. Замахнуться? Ударить? Со всей силы? — Но зачем вам это? Ну-у-у. Вы так молоды. Впереди жизнь. Вот адресочек. И лучше не дурите. А? Скотина. Я сжала кулаки. — Ну же! Берите, говорю! — И тёплая волосатая ладонь похлопала по кончику моего носа аккуратно сложенной бумажкой. Вот я сейчас. Сейчас. Только соберу силы... — Давайте. — Умница! Я знал, что с вами можно договориться. Кстати, есть места, где денег хватает не только на порванные колготки. Вы об этом знаете. Я пошла не оглядываясь. На улице меня стало слегка подташнивать. Но почему-то не рвало. А я думала оценить Пушкина в две копейки. Две копейки. Так, мои две копейки. Они есть. И можно позвонить. К нему. И мне станет легче. И перестанет тошнить. Чёрт с ней. Подумаешь, свобода! Я ему позвоню. Он меня успокоит. И я всё забуду. Он мне скажет: это такие пустяки, ведь у тебя есть я. И я всё, всё-всё забуду. Через полчаса мы сидели на ледяной лавке. И курили. — Что случилось? Пожалуйста, говори. Скорее. Не тяни. У меня мало вре- мени. Меня ждут люди. А это так ответственно. А рабочий день так короток. А я должен так много успеть. Ну? Я тебя слушаю. Ну? Ну? — Я не могу так. Не могу. Когда ты говоришь “скорее”, я вообще ничего не соображаю. — Нет, ты соображаешь, зачем меня-то вызвала? Оторвала от дела. У людей бывают дела. Ты хоть это понимаешь? — Почему ты такой злой? — Не обижайся. Не злой я. Просто озабоченный. — Чем? — Жизнью. В отличие от тебя. — Ты знаешь, у меня есть целых двадцать пять рублей! Ты можешь бросить работу. И мы с тобой куда-нибудь поедем. Можно полететь на самолёте. Ты не боишься самолётов? Туда и обратно. Это быстро. Нам хватит два дня. Я больше от тебя ничего никогда не потребую. — Ты соображаешь, что говоришь? Или нет? Я? Бросить работу? На какие такие два дня? Я что-то не пойму. Мы и так встречаемся. Что ты хочешь? Я ничего не понимаю. Двадцать пять рублей? На самолёт? Туда и обратно? А куда? Ты знаешь, что двадцать пять рублей — это не деньги. Да что ты вообще о деньгах знаешь? — Ну, ты одолжишь. Но ведь не в деньгах дело. Просто, понимаешь, именно сегодня! Да ну их, эти деньги. Я сама их где-нибудь раздобуду. Продам пальто. Или свитер. Или... Но не в этом дело. — Успокойся. Ты сошла с ума. Я? Сегодня? Полететь? На два дня? Я не вижу смысла. Я не понимаю. — Господи! Ну как же ты не понимаешь! При чём тут полететь? И при чём тут два дня? Можно на день. Можно на час. Можно не лететь. Можно поехать. Можно посидеть где-нибудь. Но сейчас. И ни перед кем не отчитываться. А можно вообще не ехать, не сидеть. А просто мне сказать: я хочу сейчас быть с тобой. Это же так просто. — Это ты, чёрт побери, ни черта не понимаешь! Зачем говорить то, чего не будет?! Идиотизм какой-то! Ты обо мне хоть подумала? Что у меня могут быть неприятности. А? — Зачем думать о том, что будет. Я сижу рядом. И обо всём можно забыть. Ты пробовал когда-нибудь о чём-нибудь забыть? — Нет! И не собираюсь. Извини. Ты меня раздражаешь. Я не люблю, когда у меня отнимают время. Запланированное. Ты в это время не входишь. Для тебя есть другое время. И если тебе чёрт знает чего захотелось прямо сейчас... — Вовсе не захотелось. Просто хочется видеть тебя. И больше ничего. — Всё. Надоело. Я побежал. — Ещё чуть-чуть. Я тебя прошу... — Кстати, почему без колготок? Б-р-р. Холодно же. Тебя что? Кто-нибудь уже успел раздеть? Негодяй. Ты купи. Это, колготки. Во. Своей двадцатьпятке и найдёшь применение. А то — два дня. Самолёт. Тебе ещё и на майку денег хватит. А то — извини. Меня раздражает эта манера. Натягивать свитер на голое тело. Негигиенично же! К тому же колется. Ну пока. Созвонимся. Он побежал по аллее. Закуривая на ходу следующую сигарету. Мне страшно хотелось что-нибудь крикнуть ему вслед. Чтобы он понял. И чтобы остановился. Но я проглотила свои слова вместе со слюной. А из моего левого глаза выкатилась слеза. Я шла по городу. На меня сочувственно поглядывали замороженные прохожие. Кто-то думал, что я двинутая. Кто-то предлагал помощь. Я шла прямо. И увидела очень знакомый дом. Где-то я уже его видела. То ли на открытках. То ли на фотографиях. То ли... Ну, конечно же! Я же здесь сегодня ночевала! Раз меня впустили ночевать. Осмелюсь предположить, что предложат и поесть. Я позвонила. Послышались приплясывающие шаги. Так ходят только балерины. На пороге стояла моя старуха. Моя старая знакомая. Горбатая старушенция. Я опустила глаза и увидела мои белые колготки. В которых приплясывала балерина старуха. И надо сказать, они ей даже шли. Это меня взбодрило. — Что ж? Приступим к делу? — сказала старуха своим молодым голосом. — Я не знаю... В общем... Мне, конечно, неудобно... Если, конечно, это для вас имеет значение... Но я... Мне... Но я хочу есть. У вас что-нибудь найдётся? Старуха молча достала из фартука гранат. Я схватила двумя руками гранат и начала его жадно грызть. Сок тонкой струйкой стекал по моему подбородку на пол. — Это свинство, — сказала старуха, собирая тарелочные осколочки в фартук. — Свинство. Я совершенно с вами согласна. Ещё какое свинство. Но вы поверьте. Я целый день ничего не ела. Думала, может, он накормит. Но он так спешил. Вы знаете, у него столько работы. Важной. Ему некогда меня кормить. А я... Я только разденусь. Вы снова натопили? Я осталась в трусиках и свитере. — Снимай свитер. — Свитер? Ах, да! — Я судорожно стала поднимать свитер вверх. И увидела неожиданно свой голый живот. — Ой! Забыла. Я же ничего не поддеваю под свитер. Его это так раздражает. Он даже предложил купить майку. Хорошее предложение. Правильное. Он такой правильный. Но я не люблю майки. Как вы думаете? Наверное, стоило купить? — Снимай свитер. Ложись на солому. Животом. Я сделаю массаж. — Зачем? Хорошо. Хорошо. Я не буду спрашивать. Я легла. Старуха пошевелила пальцами. И стала меня мять. Она мяла меня всю. С такой силой. Что мне хотелось кричать. Ударить её ногой. В зубы. Но я терпела. — Ты знаешь, — я снова перешла на “ты”. — Мне уже один раз делали массаж. Это было в другом городе. Более большом. И более важном. В гостинице. У меня болела спина. И он предложил... Он жил в соседнем номере. Я его так мало знала. Вернее, я его совсем не знала. Но он сказал, что поможет. Он был такой сильный. И, по-моему, ты знаешь, сорокалетний. Представляешь? Старик. Он стал стучать по моей спине. Ой, прямо как ты. Потом гладить. Потом щипать. К этому времени я успела в него влюбиться. Да, да. Как только он начал щипать. Я уже была переполнена любовью. Но он... Он сделал массаж. И ушёл. Пожелав мне спокойной ночи. Где уж тут успокоиться! Представляешь? Взял — и ушёл! Как ты думаешь, он был импотентом? Вот и не угадала. Он был массажистом. Представляешь, какая скука. Обычным массажистом. Я так разочаровалась. Он всем подряд делал массаж. Имел двадцатилетний стаж работы. И получал за это деньги. Да. И за массаж. И за стаж. Много денег он получал. И от меня ждал того же. Не более. Но ни на следующее утро. Ни потом. Я не принесла ему их. У меня их просто не было. И горничная мне прямо намекнула. Представляешь, какая нахалка! Без стеснения. Было бы за что платить. Я ему принесла шарф. Он совсем новый. Шерстяной. Правда, в одном месте зашит. Но это совсем не видно. Разве на шее можно что-нибудь увидеть? Но он меня выгнал. И обозвал хамкой. Странный какой-то. Как ты думаешь? — Прими душ, — повторила старуха. И бросила в меня огромное махровое полотенце. Из ванны я не шла. Летела. Я укуталась в полотенце. — С лёгким паром! — сказала старуха. — Ах, если бы только знала! Если бы! Как хорошо. Так хорошо мне давно не было. У меня в пальто осталась “Астра”. Принеси, пожалуйста. Старуха вопросительно на меня посмотрела. Но принесла “Астру”. Нет. Я ей определённо нравилась. Я прикурила от свечки. — А? — я кивнула на сигареты. Старуха отрицательно покачала головой. — А я, знаешь, балуюсь. Кофе бы с коньячком, — протянула я жалобно. Но старуха сделала вид, что не поняла мой намёк. Я прикрыла веки. И услышала. Как старуха из соседней комнаты что-то тащит. Мне так лень было открывать глаза. И потом, пришлось бы помогать. Конечно, я сейчас. Ещё чуточку. И помогу. Но мои благие намерения оказались тщетными. Старуха сама всё втащила. И поставила на пол. Я открыла глаза. Это был шкаф. Лаковый шкаф. Моды семидесятых. Я приподняла брови. — Тут вещи, — разъяснила старуха. — Много вещей. Очень красивых. Ты сможешь выбрать для себя всё. Что пожелаешь. На каждую ночь. Ты же любишь вещи. Я очень люблю вещи. Я люблю вещи больше людей. Поэтому, когда открываю дверцы шкафа. Глаза мои блестят. В нетерпении. На носу выступают капельки пота. Ах, какая прелесть! Я перебираю пальцами каждую вещь. Вдыхаю их запах. Прижимаюсь к ним щекой. Так много места в моей жизни занимают вещи. Они заменяют места каких-то людей. Которые должны быть в моей жиз- ни. Но люди ненадёжны. Они могут предать. Вещи никогда не предадут. И никогда не изменят. Вещам могу изменить только я. — Ну? — прервала мои глубокие мысли старуха. — Ну. Ну и ну! — Выбирай самое лучшее. — Уж я-то выберу. Не сомневайся. Но старуха и не собиралась сомневаться. Она села на свой обшарпанный табурет. И уставилась на меня. Я выбирала долго. Вечерние платья. По фигуре. Свободные. Длинные. Совсем короткие. С мехом. Без. Чёрт! Так всего много. И как красиво. Но меня всё как-то не устраивало. Что-то мешало. То ли моё отечественное происхождение. То ли постоянное желание сидеть где угодно. Спать где угодно. Таскаться где угодно. Есть на ходу. — Вот, — из самой глубины шкафа я вытащила шорты. У меня дома где-то валяются такие же. Я в них играю в бадминтон. И катаюсь на велике. — Точно. Это. И маечку. Так-так. Сейчас поищу. О! Что тут написано? На китайском не волоку. Но думаю, не мат. И не лозунги культурной революции. Через полминуты я сияла перед старухой. В полном обмундировании. Старуха причмокнула языком. — Слушай, — сказала вдруг старуха. — Беги отсюда. Ты совсем девчонка. Прошу, беги! Ну, послушай старую мудрую женщину. Катайся на велике. Играй в бадминтон. Бацай на пианино. Пей кофе с коньяком. Целуйся со своим... этим... Словом. Делай всё. Что хочется. А? Беги? — Я не могу делать всё, что хочу. За этим и пришла к тебе. Старуха вздохнула. — Я к тебе стала привыкать... — Всё очень просто. Проще и не бывает. Иду. Прямо. Хочу свернуть влево. Но не сворачиваю. Потому что в 20.00 назначена встреча. Прямо. По пути встречаю человека. Ненавижу его уже тысячу лет. Лицо рыхлое. Двойной подбородок. Жирные волосы. И всю эту тысячу лет мечтаю ему плюнуть в лицо. Или подарить шампунь на день рождения. Но я отвечаю ему. Что? Дела? Хорошо. Спасибо. И мило улыбаюсь. А на день рождения дарю альбом Клода Монс. Что потом? Короче. Что же. Что же потом. Сейчас. Погоди. Не торопи. Потом... Потом у меня есть одна бумажка. Так. Пустяк. Так вот. Хочу её вернуть. Назад. Но не возвращаю. А отдаю деньги. Не знаю. Много. Мало. Каждый день собираюсь написать архитектору. Что здание это. Вон, посмотри, из твоего окна видно. Неверно оно построено. Бездарно. Безграмотно. Но я не пишу. Я пишу другу бумаги. Медленным красивым почерком. Но это не мой почерк! Мой почерк корявый. Сумасшедший! Я ненавижу красивый почерк. Впрочем, как и красивых мужчин. Красивыми имеют право быть только женщины. И вещи. Но я целуюсь со смазливыми мужчинами. Пишу красивым почерком. И в магазинах равнодушно прохожу мимо безобразных вещей. Но я так не хочу! Чёрт подери! Я показываю язык самым дорогим людям. Потому что не боюсь их. Я люблю жизнь. И пренебрегаю жизнью. Я не хочу носить кольца. Но меня окольцовывают. И снять я их не могу. Я закрыла лицо руками. — Бедная девочка, — старуха погладила меня по голове. — Ты так мало хочешь. Пойдём. — И взяла меня за руку. Как маленькую. Хотя я была на две головы выше её. Старуха подвела меня к двери. Которая всегда заперта днём. — Ты... Это... Иди... Только знаешь. Как это. Всё хорошо. Но ты должна знать. Что у всех бывает когда-нибудь жирный волос. Но это не значит, что всем на день рождения дарят шампунь. И молоко, право, пить полезнее чужой крови. И манная каша иногда вкуснее чужого тела. А впрочем... Ты и так все сама знаешь. Ну да. Всё. Всё. Иди. Старуха втолкнула меня в комнату. И на моей спине отпечатались её крючковатые пальцы. И я ступила за порог. Я никогда не видела столько света. Он шел не от солнца. И не от электричества. Он был какой-то странный. Свет. Его излучала белизна. Белым было всё. Земля. Воздух. Реки. Здания. Птицы. В белых одеждах двигались люди. И ели белые кушанья. И читали белые книги. У меня заболели глаза. Я их закрыла. И вместо темноты увидела ту же белизну. У меня закружилась голова. И я села на белый асфальт. И вытянула ноги. — Вам плохо? — Ко мне подошла девочка. Лет десяти. — Идёмте. Я вас провожу. Она взяла меня за руку. И повела по дороге. Мы ступили на белую площадь. И я увидела много людей. — Хотите есть? — спросила меня десятилетняя девочка. — Очень. — И из её рук я взяла сыр. Не успела откусить кусок. Как ко мне подскочил какой-то тип. И выхватил сыр из рук. Ну прямо как у вороны. И стал жадно жевать. — Но это мой сыр, — попыталась ему объяснить. — Меня угостили. И это неприлично... Он посмотрел на меня удивлёнными глазами. И рассмеялся. — Вон, видишь, — девочка показала пальцем, — там кто-то ест. Идём, отберём. Мы отобрали миску жареной картошки. И за углом съели. — Спасибо тебе, — сказала я девочке. И поцеловала её в лоб. — Ты очень глупая, — ответила мне девочка. Показала язык. И убежала. И я увидела, как она уже другому, размахивая руками, что-то объясняет. Я обиделась. И подумала. Что не плохо было бы отстегать её ремнём. Но она, уловив мой недоброжелательный взгляд, скрылась. В толпе. Я осталась одна. Вдруг ктото меня схватил за коленку. Я опустила глаза. И увидела. Что передо мной на корточках сидит тот самый очкарик. В шляпе. Который оставил свой адресок. Он хватал меня за коленки. И пытался их поцеловать. Я ударила его ногой в лицо. Очки разбились. И отлетели в сторону. Он спокойно достал из кармана дру- гие очки. Протёр их носовым платком. Проверил на свет. Встал. — Вы подонок, — сказала я ему без страха. — И я вас ненавижу. — Я плюнула ему в лицо. Он противно захихикал. И потёр свои волосатые руки одна о другую. — Бумажечки-то. Бумажечки. Пойдут в ход. — Как пойдут. Так и выйдут, — сказала я. И ещё раз на всякий случай плюнула в его рожу. Он снова захихикал. — А ты мне нравишься. Я сразу тебя приметил. Козочка этакая. И ножки ничего. Он схватил меня на руки. И поволок куда-то за угол. Я царапалась. Кричала. Кусалась. Но бесполезно. Никому до меня не было дела. Все были заняты. — Я вас ненавижу. От вас разит одеколоном. Вы противны. Я не хочу... — А я хочу... — захихикал он в очередной раз. Надо сказать, что он был не оригинален в своём хихиканье. — А я хочу. Кто сильнее — побеждает. А? Как там? Но в нас горит ещё желанье. Под гнётом власти... — Он повалил меня на асфальт. Разорвал мои шорты. Его волосатые руки забегали по моему телу. Я стала задыхаться. От его слюнявых поцелуев. И потеряла сознание. Когда очнулась. Увидела его хохочущую виляющую задницу. Которая удирала за поворот. В бессилии я заплакала. Мимо меня прошёл знакомый тип. Который отобрал у меня сыр. — Чего ревёшь? — удивился он. — Подумаешь, изнасиловали. Хочешь — иди ты изнасилуй кого-нибудь. Я, если хочешь, могу подсобить. По знакомству. Я ударила его по лицу. Он дал сдачи. Но гораздо сильнее. И кулаком. Пошёл, насвистывая Бетховена. “Прекрасную мельничиху”. Я не могла встать. Потому что замок в моих шортах был вырван с корнем. Я заметила мальчикаподростка. Который пробегал мимо меня вприпрыжку. Я подставила ему подножку. Он свалился прямо возле меня. — Снимай брюки. Или придушу, — сказала я. И для убедительности пошевелила пальцами. Он в страхе сбросил штаны. И убежал. Я натянула штаны. Они сидели в обтяжку. Длиной до колена. Получились вполне приличные бриджи. Я пошла дальше. И увидела большую группу людей. Человек сто — не меньше. Они одновременно кричали. Орали. Визжали. Кто-то рядом стучал на барабане. У меня заболели уши. Я их закрыла ладонями. И подошла ближе. — Чего орём?! — заорала я на ухо соседу. — Чего хотим. То и орём. А ты чего хочешь? Становись рядом. И ори. Кто тебе мешает? Я стала рядом. И закричала: а-а-а-а-а... — Со словами. Со словами, — поправил меня сосед. — Со словами не умею. И не хочу, — обиделась я. И подошла к барабанщику. И от злости стукнула кулаком по барабану. В барабане незамедлительно образовалась дыра. Барабанщик заплакал. И сказал, что барабан ему достался в наследство. От дедушки — участника гражданской войны. Я погладила бара- банщика по голове. И сказала, что куплю ему тысячу барабанов. Он сказал, что тысячу ему не нужно. А нужен один. Дедушкин. И опять захныкал. Я не знала, куда дальше идти. И я не знала, что дальше делать. И я не знала, что я хотела. Я могла делать всё, что хотела. Но ничего не делала. Потому что уже не хотела ничего. Перед моими глазами плясали белые кляксы. Я пыталась разогнать их руками. Но они не убирались. За поворотом я увидела женщину. В длинном белом платье. С белыми искусственными цветами в волосах. Я бы сказала, что она была красива. Если бы она не улыбнулась. Но она улыбнулась. И я увидела, что её рот заполнен гнилыми зубами. А зуб мудрости вообще отсутствует. Она поманила меня пальцем. Я покорно приблизилась к ней. — Я тебе нравлюсь? — спросила она меня. И прижала к своей груди. — Не очень. У вас лицо из воска. — Но на нём никогда не проступят морщины. — А зубы всё равно гнилые. — Слишком много они жевали. — Это ваш город? — Город Сумасшедших. — Как??? Почему? Обман! Я не сюда шла! Предательство! Меня предали! Конечно. Как я сразу не догадалась! Боже! Они все сумасшедшие. А я с ними ещё разговаривала. Пыталась доказать. Обычные душевнобольные! Психи! Я — и психи? При чём тут я? — Тебя никто не обманул. Ты хотела полной свободы? Но ведь только сумасшедший может быть истинно свободен. Я в бешенстве вцепилась женщине в горло ногтями. И стала душить. Она слабо сопротивлялась. Я даже и не рассчитывала на такую лёгкую победу. Она закатила глаза. Открыла рот. И изо рта пошёл запах гнили. Я швырнула её головой наземь. И из рукава её платья вылетел зуб мудрости. И разбился об асфальт. Стало совсем темно. Нет. Это была не ночь. И это не пропало электричество. Просто всё вокруг стало чёрным. Я поволокла труп через весь город. Наугад. На ощупь. Наконец я стукнулась лбом о что-то твёрдое. Это твёрдое оказалось дверью. Толкнула дверь ногой. Она неожиданно открылась. И глаза мои встретились с глазами старухи. — Помоги мне, — властно сказала я. Старуха схватила труп за ноги. И мы втащили его в комнату. В комнате старуха долго поливала мою ладонь горячей водой. Потому что никак не могла расцепить онемевшие пальцы. И освободить от волос белой женщины. Наконец она отрезала прядь. И прядь осталась в моём кулаке. — Зачем ты её? — спросила старуха. И даже при этом округлила глаза. Якобы удивилась. Ну и лгунья! Отлично же знала, что этим дело и кончится. — Зачем? — переспросила я по своей дурацкой привычке. Которая уже старуху почему-то не раздражала. Старуха молчала. Я молчала. Так мы промолчали. Пока я не сумела всё-таки разжать кулак. Прядь волос плавно опустилась на пол. — Похороним? — спросила старуха. И пошла в соседнюю комнату. И мне показалось, что она не просто приплясывала. А танцевала в этот момент. — Да. Конечно. Нехорошо как-то. Я склонилась над лицом умершей. На её лице отчётливо виднелись ссадины. На шее — синий отпечаток пальцев. Я приложила к отпечатку свою ладонь. Пальцы совпали. Мои. Подумала я с удивлением. Вдруг я заметила, что труп пытается из своих пальцев соорудить что-то вроде фиги. Я ступила на её ладонь. Ладонь хрустнула, как хворост. И безжизненно упала. Старуха тем временем из соседней комнаты притащила гроб. Мы заколотили гроб. И торжественно понесли его в соседнюю комнату. В соседней комнате я увидела много могил. Я стала искать яму поглубже. Мы опустили туда гроб. Помолчали. — Может, всё-таки уйдёшь? — спросила старуха. И в её глазах мелькнул дикий страх. Ух, как она не хотела, чтобы я уходила. — Нет. Спасибо. Люблю острые приправы. Они возбуждают аппетит. Старуха притащила из соседней комнаты рояль. — “Мельничиху”, а? — попросила она жалобно. — Извини, старуха. Но я хочу спать. Ступай и ты. Я проспала до вечера. Открыв глаза, я увидела старуху. Она сидела на своём обшарпанном табурете. И сосала зёрнышки граната. — Ну-с? — спросила старуха. ...Я открыла гардероб. И выбрала широкое льняное платье. В стиле крепостного права. На локтях светились заплаты. А внизу отпоролся подол. — Обувь? — Нет. Нет. Не люблю обувь. Люблю босиком. Знаешь, как-то здоровее. Удобнее, что ли. Ну, в общем... — Как хочешь. Хотя я могу предложить... — Так вот. Я надеваю платье. Очень редкое. Дорогое. Одно плечо открыто. Она мне говорит: “Как ты чудесно выглядишь!” Ты представляешь? Вот так и говорит. Чудесно выглядишь. Женщина — женщине. Знаешь, чем это грозит? Нет? Меня целуют в открытое плечо. По очереди. И много раз. Её не целуют. Потому что у неё всегда закрыты плечи. Я же не виновата. Не могут же целовать её плечи через ткань. Это даже неприлично. А она мне на ухо: “Будь осторожна!” Представляешь? Вот так прямо и говорит. И ещё на ухо. Нет бы вслух. Так нет. На ухо норовит: будь осторожна. В её голосе столько тревоги. За меня. А знаешь, что это такое? Когда женщина тревожится за другую? Нет? Жаль. А я заглядываю в её комнату. А у неё там ящерицы копошатся. Представляешь? Оказывается, она их коллекционирует. Опыты на них проводит. И откуда она их откапывает? При нашем-то климате. Я к ней приезжаю в три ночи. Мне некуда больше ехать. Он меня выгнал. Я похожа на побитую собаку. Каждый когда-нибудь бывает похож на побитую собаку. Меня промочил дождь. Или снег. Не помню. И она меня впускает. Даже даёт полотенце. Принять ванну. Стелет чистую простыню. Знаешь. Всё вроде бы... А утром даже кофе с сосисками. А я обожаю сосиски. И так редко их ем. А она замечает. Так. Невзначай. Будто бы о чём-то другом. Или кому-нибудь другому. Но я знаю. Мне. Мне. Что у неё однокомнатная квартира. И она живёт с мужем. А муж у неё нервный. Нет. Я не спорю. Он действительно какой-то психопат. Не повезло ей, короче, с мужем. Так вот. Он не любит, когда в три часа ночи звонят в дверь. Ей, конечно, всё равно. И она даже рада моему приходу. В любое время. Но и его надо понять. Муж всё-таки. Я ухожу. Правда, взяв взаймы немного денег. И забываю. Нет. Я не хамка. Просто я как-то быстро забываю про деньги. Особенно когда их пущу в ход. Оказывается, она мне дала очень много денег. Целый червонец. И просила вернуть. Я ей говорю: ты станешь тонуть. А я тебя спасу. Она отвечает, что тонуть не собирается. Потому что умеет отлично плавать. Представляешь? Старуха хватает меня под мышки. Без слов. И бросает в соседнюю комнату. Я вхожу в лес. Благо что летний. Слышу, кто-то стонет. Подхожу. Ощупываю тело. Длинный пышный волос. Крупные руки. Пухлые губы. Без сомнений. Это моя подруга. — Что ты тут делаешь? — Я одна... Уже третий день... Мне страшно... Я хочу есть. Мне больно. Здесь столько комаров. Они тоже хотят есть. Но почему-то пьют... Мою кровь. — Ничего не бойся. — Я глажу подругу по руке. — Я тебя выведу отсюда. На. Бери гранат. Нет. Половину. Сразу нельзя много. Она берёт. И по одному зёрнышку бросает в рот. Ну прямо, как моя старуха. Мне становится неприятно. Три дня не есть. И вот так. Спокойно. Без истерик. По одному зёрнышку. Но я подавляю свою неприязнь. И беру её на руки. И несу через лес. Она крупнее меня. Сильнее. Выше. И мне очень тяжело её нести. На руках. Мои ноги заплетаются. Но я её всё равно несу. Прямо как из вражеского окружения. На какой-то поляне мы переводим дух. Вернее, дух перевожу я. У неё, по её словам, его просто нет. Я уснула. Когда приоткрыла глаза. Мне показалось, что она измеряет высоту моих ног. Зачем ей? И откуда у неё силы. Не от моего ли граната? У меня осталась половина граната. Мы решили её съесть. Но подруга раньше уже съела свою половину. — Вот ты. Скажи. Я не верю. Ты же меня оставишь. Бросишь. На произвол судьбы. Тебе тяжело. А я... Тут... Одна. Прошу. Не оставляй. Она плачет. Но мне почему-то её уже не жаль. Меня начинает раздражать её крупное тело. Длинные волосы. Пухлые губы. Нашла носильщика. Конечно. Только я могу влипнуть в такую ситуацию. С удовольствием бы сейчас её бросила куда-нибудь под куст. И я с каким-то нездоровым чувством представляю себе. Как она лежит одна. Ночью. Кругом страшные шорохи. Скрипы. Шипенье. — Послушай, — шепчу загадочно, — ты одна. Ночью. А звери есть? — Коли комары — это звери. То есть. Пожалуй, комары похуже зверей. Они такие наглые... Ты чего! Ты чего! — вдруг испуганно она мне смотрит в глаза. — Нет! Что ты! Вовсе ничего. А ты не бойся. Я с тобой. — Мне вдруг становится стыдно за свои мысли. С чего это я? Она — мой друг. Мне близкий человек. А я... Такие мысли... Вдруг я услышала нечто похожее на мурлыканье. Я смотрю в рот своей подруге. Это она шевелит губами. И пытается петь. И даже при этом умудряется кокетливо болтать ножкой. Ля-ля-ля. Ля-ля! Ну, это уже слишком. Я валюсь с ног. Руки мои отекли. А она — ля-ля-ля... — Послушай. — Она прекращает петь. И так. Между прочим. Как она это умеет. — Говорят, ты подрабатывала натурщицей? Но я плохо соображаю, что она спрашивает. От сильной усталости в моих ушах стоит беспрерывный звон. А перед глазами — жёлтые круги. Ноги становятся ватными. Но я ими умудряюсь ещё передвигать. — Я ничего не понимаю. Погоди! Какие ноги? Какая натурщица? — Ой, ну только не надо! Ты же знаешь прекрасно, что от людей никогда ничего не скроешь. Но обидно, что твоя лучшая подруга узнаёт об этом в последнюю очередь. Моя лучшая подруга ещё что-то долго объясняет. Настаивает. Утешает. Но я ничего не соображаю. Я знаю только одно. Что надо идти. Что скоро будет вечер. Я беру её на руки. И снова тащу через весь лес. Чтобы нести человека. Который тяжелее тебя в энное количество раз. Надо, если не любить его. То хотя бы питать к нему доброжелательные чувства. Я решаю разобрать себя по полочкам. И искать. На какой такой полочке завалялось подобное чувство. Но полочки оказываются пусты. Я нервничаю. Кусаю губы. Из моих глаз ручьём текут слёзы. Я ощупываю дрожащими пальцами полочки со всех сторон. Заглядываю под них. Но безрезультатно. Мои слёзы падают подруге на шею. — Ну зачем ты плачешь? Не плачь. Я же твой лучший друг. Я всегда приду к тебе на помощь. Только, знаешь, не носи открытые платья. Сама понимаешь. Мало ли что могут про тебя подумать. — Прошу тебя. Замолчи. Ну, пожалуйста... Я очень ценю твоё великодушие... Только замолчи. Подруга надувается, как воздушный шарик. И становится в два раза тяжелее. Затем украдкой достаёт из кармана сантиметровую ленту. И измеряет длину моей шеи. Я чувствую, что вот-вот упаду. Свалюсь. И никогда больше не встану. Моя подруга уже измеряет меня всю. Каждую мою клеточку. Чем больше измеряет — тем больше вертится. Крутится. И нести её становится просто невыносимо. Наконец, когда мои колени приняли форму буквы “г”. Я замечаю огни города. Лес исчезает. На пороге города стоит муж моей подруги. И широко улыбается своей неврастеничной улыбкой. Подруга соскакивает с моих рук. И вприпрыжку несётся навстречу мужу. Бросается ему на шею. И дрыгает ногами. — Ах, как я тебе благодарен. — Муж моей лучшей подруги расшаркивается. Раскланивается. Бегает вокруг меня на цыпочках. И пытается нащупать мою руку. Чтобы её горячо пожать. Руку я прячу за спиной. — Ах, ах! Уголовный розыск. Милиция. Ничего. Никто. Три бессонные ночи. А одного мальчика комары съели. Какой ужас! Она такая у меня слабенькая. Хрупкая. Как мотылёк. Мы твои должники. Коньяк? Вино? За успешное возвращение? Всю жизнь буду помнить. Вот проявление истинного товарищества. Братства! В неоплатном долгу. Сколько доброты! Благородства! Заходи в любое время. Мой дом — твой дом. Чем больше он говорит, тем сильнее блестят его глаза от нескрываемой ненависти. И на губах время от времени от бешенства появляется пена. Я его понимаю. Волнуется. Вдруг соглашусь. Появляться в любое время суток. Вдруг их дом приму за свой. Вдруг потребую в долг. Вдруг... Ну, кому охота быть вечным должником? — Исчезаю. — И я машу рукой. И слышу, как подруга за моей спиной доказывает своему мужу. Что у меня фигура — так себе. А муж облегчённо вздыхает по поводу моего ухода. Они танцуют. Кувыркаются. И шлют мне воздушные поцелуи. Я их ловлю на лету. И давлю в своей ладони насколько хватает сил. Из кармана моей лучшей подруги выползает сантиметровая лента. И становится ужасно похожей на змею. Извивается. Подмигивает мне. Шевелит языком. Я сжимаю кулаки. Поворачиваюсь. Бегу, спотыкаюсь. О чьё-то тело. Женщина. Опять женщина! Огненно рыжая. Гибкая, как сантиметровая лента. Так же шевелит языком. Я подаю руку. Она поднимается. — Ты довольна? — Очень! — Изнаночная сторона дружбы — ненависть. Ты разве не знала? — Не знала. — А вы бы могли ещё дружить тысячу лет! — Мне хватило одного дня. — Ты обрекаешь себя на одиночество. — Я обрекаю себя на самую верную дружбу — с собой. Рыжеволосая засмеялась. Достала из сумочки два полных стакана вина. Поставила на асфальт. — Выпьем? — С удовольствием. — За настоящее? — И она посмотрела вдаль. До сих пор не пойму, зачем она отвернула голову. И зачем она дала мне этот шанс. Я незаметно подменила бокалы. Она выпила залпом. И упала замертво. Её тело удлинилось. Позеленело. Передо мной лежала обычная змея. Мерзкая. Гадюка. Я скрутила её в клубок. И нащупала дверь. Старуха хихикнула. И потерла руки. — Как думаешь, если её засушить? — Не стоит. Выгорит при нашем солнце. Станет похожей на сушёный банан. Зачем? — Ну хорошо. Хорошо. Ты только не волнуйся. Ты не волнуешься? Я тоже не люблю пресмыкающихся. Так что ты правильно. Это... Того... Руки помыла? Ах, да! Сначала её... Старуха схватила змею за хвост. И, танцуя, пошла на кладбище. И хотя мне страшно хотелось спать. Я, как приличный человек. Собралась с последними силами. И пошла за ней. В соседнюю комнату. — Может, без гроба — не очень? — И в моём глазу блеснула порочная слеза. — Ну, знаешь, дорогая, — возмутилась старуха моей внезапной сентиментальностью. — Ещё зарыдай. Если для каждого ползучего гада сооружать гроб. То знаешь... Придётся все деревья повырубить. И не на одной планете. — Как хочешь. — Я пожала плечами. И села возле ямы. Которую уже успела выкопать моя старуха. Хотя яма — это громко сказано. Старуха и не собиралась копать что-нибудь солидное. Так. Слегка отгребла песок. Небрежно бросила туда бедную змейку. Присыпала песком. — Будешь? Ну, речь. Стихи. Песни. — Издеваешься? — обиделась я. — Не обижайся. Я не хотела оскорблять твои чувства. Но, поверь, тебе удивляюсь. Жалеешь то, о чём думать не стоит. Забываешь мгновенно о том, о чем следует помнить вечно. — Извини. Мой мозг в данное время не очень-то расположен к философии. Он уже дремлет. — Так вот. Слушай. Ты как-то странно слушаешь. Будто вовсе и не слушаешь. — Ты ко мне придираешься. Я очень внимательно тебя слушаю. — Да. Но иногда мне кажется, что рассказываю стенке. — Ты не ошиблась. Ты рассказываешь и стенке тоже. Потому что стены имеют уши. Но это вовсе не значит, что я не имею ушей. У меня тоже есть уши. Вполне приличные. И на слух никогда не жалуюсь. — Ну, хорошо. Хорошо. Ты меня убедила. Так вот. Слушай. На чём я остановилась? — Ты приходишь к нему... — Да. Я к нему. А он волочёт меня на кухню. Ставит перед моим носом банку с вишнёвым компотом. И говорит: ешь! Представляешь? Просто вот так: ешь. Я столько ждала. Я так редко его вижу. У него столько всегда работы. А он: ешь! Что я, есть к нему пришла? — Ты что, вишнёвый компот не любишь? Я что-то не понимаю. — В том-то и дело, что люблю. Вишнёвый компот. Иначе бы я гордо развернулась. И ушла. Но я люблю этот дурацкий компот. И не могу уйти. Я ложкой выгребаю вишни. Прямо из банки. Хотя бы в стакан положил. Так нет — из банки. Он, наглец, рассчитывал. Что я съем всё. И я, как последняя идиотка. Целый час сижу. И лопаю вишни. Аккуратно складываю косточки на стол. Надо было в лоб ему запустить. И что ты думаешь? Я, действительно, съела всё. — А он? Что, вишни не любит? — Он? Ой, не знаю. Как-то не догадалась спросить. Но он не ел их. Значит, не любит. Наверно. Ну и хорошо. Хоть вишен наелась. Он, видимо, мечтал, что я лопну. Но не тут-то было. Я продолжаю сидеть. А он курит. И рассказывает мне про свою важную работу. Разве можно думать о работе? Когда я сижу рядом. Но он успешно думает. Звонит по телефону. Читает газету. И всё это совмещает с моим присутствием. Я просто какая-то сотая часть его жизни. А может, и тысячная! — Что потом? — Потом? Ничего особенного. Мы идём в комнату. И я долго смотрю на него. У меня темнеет в глазах. И мне кажется, что я куда-то лечу. Я слабею. И опускаюсь на диван. И тащу его за собой. — Ну? Ну? — Ну-ну. Ну чего — ну. Он вежливо отстраняет мои руки. Вообще-то он вежливый. Встаёт. И начинает раздеваться. Представляешь? Медленно так. Снимает рубашку. И вешает на стул. Чтобы не помялась. Потом брюки. Тоже так. Аккуратненько. Терпеливо расправляет канты. И тоже — на стул. Он ужасно аккуратный. Ему же потом — на работу. Не пойдёт же он туда в мятых штанах. Не забулдыга же какой-нибудь. Затем он, кажется, забывает, зачем разделся. Но тут видит меня. И не очень радуется этому обстоятельству. Но целует в губы. Целует и думает. О том, что не успел задать кому-то важный вопрос. Он формулирует этот вопрос про себя. Проверяет грамотность. И целует мои губы. — Потом? — Потом извиняется. Он никогда не забывает извиниться. И идёт на работу. Он не любит, чтобы его тревожили ночью. Потому что ночью он спит. Вечером. Потому что вечером читает. Днём. Потому что днём работает. Выделяет иногда для меня утро. Но крайне редко. Скажи, он способен перепутать время? Когданибудь? Нет? Но почему? Я тащу его в ювелирный магазин. Единственное место. Где ещё можно купить подарки. И показываю ему браслет. Который мне очень нравится. Он соглашается, что браслет, действительно, ничего. И смотрит на выход. Я говорю, что если надену браслет, все упадут в обморок. Он говорит, что не любит обмороки. Тогда я откровенно прошу его купить этот браслет. У него белеют губы. Когда он злится — у него всегда белеют губы. И говорит. Что ему на этот браслет работать полгода. Но, если на один браслет работать полгода. То зачем вообще работать? Он знакомит меня со своими друзьями. Я люблю мужское общество. Поэтому откровенно кокетничаю. Строю глазки. И делаю круговые движения открытым плечом. Он меня тащит в ванную комнату. Обливает холодной водой. И обзывает. Но я радуюсь. Если злится, значит... И звоню на следующее утро. Но он отвечает, что нет ни секунды времени. Что он не может оторваться от дел. Прилипает он к ним, что ли? И просит перезвонить в установленное время. Я ему не нужна. Но он меня и не бросает. Держит при себе на всякий случай. А какой может быть случай? Я перестаю болтать ногами. Заодно и языком. Смахиваю слезу. И подхожу к шкафу. Долго в нём роюсь. И ничего не нахожу. Надеваю свой свитер. На голое тело. Старуха машет безнадёжно рукой. С опущенной головой я толкаю дверь соседней комнаты. Ступаю на мокрый песок. Кругом — море. Я ложусь на песок. Ветер усиливается. Волны ложатся на меня. И мне становится холодно. Я поднимаюсь. Смотрю на воду. В воде плавает солнце. Ныряет. И вновь плывёт по волнам. Я беру в ладони песок. Пересыпаю его из ладошки в ладошку. Протираю песком лицо. Шею. Меня окликают. Оглядываюсь. И вижу его. Он стоит в одних плавках. Худой. Загорелый. Белозубый. И машет мне рукой. Я краснею. Закрываю лицо руками. Мне почему-то становится стыдно. Сердце бешено стучит. Солнце ныряет в последний раз. Под воду. И больше не появляется. Совсем темно. Он не видит, что я покраснела. Я не двигаюсь. Он не двигается тоже. — Зачем ты здесь? — шепчут мои губы. И хотя он находится за десять метров от меня. Он меня хорошо слышит. — Я ждал тебя, — отвечают его губы. — Ты меня никогда не любил. — Зачем ты так. — Холодно. — Утром здесь всегда столько солнца. — Я не умею делить день по частям. И жизнь тоже. — Я хороший учитель. — С тобой было всегда скучно. — Но ты от меня не уходила. — Я уходила от тебя тысячу раз. Открывала чемодан. Бросала туда свою пижаму. В которой спала с тобой. Свои открытые платья. В которых ходила в гости с тобой. Свои слова. Которые тысячу раз говорила тебе про себя. Но никогда — вслух. Свои слёзы. Свою бессонницу. Свои надоедливые звонки. Свои оправданные обиды. Своё унижение. Свою необузданную страсть. Я складывала в чемодан. И закрывала его на замок. И уходила от тебя. В очередной раз. И всегда возвращалась. Ну почему я всегда возвращалась? Не стоило этого делать. — Ты не могла не вернуться. — Ты думаешь — это любовь? — Я думаю... — Мне всегда казалось, что ты растрачиваешь себя не на то. Тебе кажется, что это надо. Но это надо на миг. На день. На один случай. И вовсе не тебе. Но потом... Потом пройдёт жизнь. И ты поймёшь. Что ты, оказывается, делал не то. Нет, не то. Работал не на близких. А на посторонних. Когда это поймёшь, ты испугаешься. Но уже... Уже... — Иди сюда. Ты вся дрожишь. — Мне всегда казалось, что ты очень одинок. И я бы могла. Я это чувствую. Могла бы тебе помочь. Но ты этого не хочешь. Боишься. Сторонишься. Почему... — Я прошу тебя. Иди ко мне. Здесь так хорошо. Ты стоишь на мокром песке. У меня большие. И теплые руки. Иди. Не бойся... Я иду к нему. Я плохо его вижу. Потому что темно. Я прислушиваюсь к шелесту его волос. И иду на этот шелест. Я подхожу очень близко. Глажу ладонями по его лицу. Закрываю ладонями его глаза. Касаюсь кончиками пальцев его губ. Он обнимает меня. И мы садимся на землю. Земля под его ногами удивительно сухая. Тёплая. Даже горячая. Из неё идет пар. И я быстро согреваюсь. С неба срывается звезда. И медленно приближается к нам. Нет. Это вовсе не звезда. А маленький ангелочек. Кудрявый. Розовощёкий. Он невинно болтает крылышками. Кружит над нашими головами. — Я ни с кем не буду тебя делить. И ни с чем. — Кругом столько жизни. — Ты забудешь мать и отца. Друзей и врагов. Ты никогда не будешь смеяться. Если не будет меня. Ты никогда не будешь биться головой об стену. Если я буду рядом. Ты больше не будешь работать на других. Ты будешь работать только на меня. И я тебе заплачу. Любовью. Это очень высокая плата. Не верь никому. Я умею любить. По-настоящему. Поверь мне. Пожалуйста, поверь. — Я верю. По берегу идет женщина. Она поёт песню. Улыбается. — Идем со мной, сын, — говорит она моему возлюбленному. — У меня один путь. С этой женщиной. — Я тебе подарила жизнь. — Теперь мне дарит жизнь только эта женщина. — Она обманет тебя. Как обманула многих. Это злая. Пустая женщина. — Уйди, мать. Тот, кто посмел сказать грубое слово о моей любимой. Не увидит больше меня. По берегу идут молодые люди. Они громко смеются. Бросают в море пустые бутылки. И непогашенные сигареты. — Идём с нами, старик, — говорят друзья моему возлюбленному. — Это моя женщина. — Не глупи. Мы тебя познакомим с тысячами женщин. И ты поймёшь, что любить можно каждый день. Другую. — Я хочу любить всю жизнь. Одну. — У неё порочные глаза. Они излучают предательство. Как ты не видишь! — Вы больше мне не друзья. Вы посмели обидеть мою любимую. По берегу идёт человек в галстуке. В его руках — дипломат. Заполненный исписанными бумагами. — Идём со мной. Это самый верный путь. — Самый верный путь — к этой женщине. — Тебя ждут большие деньги. И большая слава. Ты всё это можешь бросить к ногам этой женщины. Но для этого ты должен на время забыть её. — Я не забуду её ни на миг. Мне не нужны деньги. И слава. Мне нужна она. — Нищего она тебя бросит. — Уходите. Я прижимаю его голову к своей груди. И плачу. Мои слёзы падают на его волосы. Запутываются в них. Волосы блестят. Словно их посыпали конфетти. — Почему ты плачешь? — Я не плачу. Я осыпаю твои волосы конфетти. Потому что сегодня — праздник. Над морем своими белыми зубами смеётся ангелочек. — Он похож на чайку. — Мне с тобой ничего не страшно. — Неужели это когда-нибудь кончится? — Хочешь, я стану самой красивой? И тебе все позавидуют? Здесь действительно много света. Утром. Он ослепляет меня. Я щурюсь. И смотрю на солнце. Мой возлюбленный обхватывает ноги руками. И прячет голову в свои колени. Наверно, ему больно смотреть на солнце. Он в этот момент похож на страуса. И мне почему-то становится неприятно. Я встаю. И иду к морю. — Почему ты уходишь? Я пожимаю плечами. И иду дальше. — Я тебя обидел? Так быстро случилось утро. Я не виноват. Что так быстро прошла ночь. Разве этим можно обидеть? Если любишь? Я иду, не оборачиваясь. — Подожди. Ну. Ну, скажи что-нибудь. Так нельзя. Это нечестно. Пойми. Молча нельзя уходить. Он подбегает ко мне. Трясёт за плечи. Я прячу свои глаза. — Ты пойми. Как тебе сказать. Да пойми ты! Ну, в общем. В общем, ты зря от всего отказался. Ну, как ты не понимаешь. И мать свою прогнал. И друзей. И что нам с тобой теперь делать. Ночи всегда кончаются. И всегда наступает утро. А я люблю бывать в обществе. Ты же знаешь. Ты мог бы неплохо заработать. Конечно, я плохо разбираюсь в деньгах. Но я знаю, что на них можно купить вещи. А я люблю вещи. И, как бы тебе сказать. Ну... Постоянство — это что-то застывшее. Холодец напоминает. Съедаешь. А чувство голода остаётся. Я не люблю постоянства. Он размахивается. Со всей силы. И бьёт меня по лицу. И уходит. Я смотрю ему вслед. Худой. Загорелый. Белозубый. И мне кажется, что я любила его понастоящему. И никого так не любила. Я облегчённо вздыхаю. Под моими ногами валяется тельце умирающего ангелочка. — Почему? — спрашиваю я у него. — Самая большая любовь — неосуществлённая. Но этим она обрекает себя на смерть. Это замкнутый круг. Неосуществлённое желание — самое сильное. Но и самое короткое. Ангелочек покорно закрывает глаза. Совсем ребёнок. Я бережно беру его за крылышки. Как бабочку. И несу перед собой. Старуха открывает дверь. Крестится. Вздыхает. — Синяк на щеке. Откуда? — Он меня ударил. Представляешь? Посмел поднять руку на женщину! Старуха не отвечает. Несёт ангелочка на кладбище. Сквозь стену я слышу, как она что-то бормочет про себя. Молится, наверно. Всхлипывает. Ей искренне жаль этого розовощёкого крепыша. Старуха возвращается. И смотрит на меня с ненавистью. — Ты его...? — Что ты! Как можно! Он сам! Честное слово, сам... Я детей не обижаю. Дети — цветы жизни... — Цветы, цветы, — передразнивает меня старуха. — Не пойму, что тебе надо? — Посмотри. Вон идёт он. — Я подзываю старуху к окну. — Тебе он нравится? Мой возлюбленный шагал мимо старухиного окна. Размахивал весело дипломатом. И что-то мурлыкал себе под нос. Можно предположить, что сегодня у него дела на службе идут как нельзя лучше. — Так себе, — морщится старуха. — Он идёт на службу. Со службы он придёт домой. И станет есть жареные котлеты. — А тебе какое дело? — Мне? Вовсе никакого. И жена у него будет маленькая. И пухленькая. Он изредка умудрится напиться. И она безропотно снимет его ботинки. А наутро сбегает за пивом. И котлеты поджарит. — Но тебе-то? Тебе-то какое дело? — Пусть ест. Мне не жалко. — Я отхожу от окна. Растираю свою опухшую щёку. Ложусь спать. — Ты вообще довольна? — Почему ты об этом спрашиваешь? — Да так себе. Вид у тебя бледный. — При таком освещении ты ещё можешь судить о моём виде? — Может, ты и права. Может... — Мне снятся приятные сны. Иногда. Такие приятные... Что хочется плакать, когда просыпаешься. Иногда плачу. Хочется что-то уловить. Но чаще — забываю. Но на целый день — какое-то приятное ощущение полёта. Я слушаю прекрасную музыку. Такую прекрасную, что забываюсь. Где я. Что со мной. Как меня зовут. В каком городе я родилась. Я где-то летаю. Где-то плаваю. Где-то прыгаю. Я не знаю, где я. Что со мной. Но я знаю, что мне хорошо. Очень. Я смотрю на картины. И хочу туда. Ненадолго. Там покой. Там другое освещение. Там не бывает неприятностей. Суеты. И делёжки жизни на годы. Там можно всё взять сразу. И без труда. Я открываю шкаф. И нахожу своё детское платье. В ромашках. Которое сшила мне моя мама на десятилетие. Я его надеваю. Прижимаюсь щекой к старушечьему лицу. Лицо почему-то очень холодное. Меня передёргивает. Я от- крываю дверь. И вхожу в берёзовую рощу Куинджи. Ложусь на неестественно яркую траву. Около меня на колени опускается моя мама. В её ладонях блестит вода из криницы. Вода сочится между мамиными пальцами. И капает на моё лицо. — Пей, доченька, — просит моя мама. — Пей. Это очень вкусная вода. Она даст тебе силу. Я приподнимаю голову. Пью. И целую мамину руку. — Мама. Я так рада. Ты даже себе не представляешь. Ты только никуда не уходи от меня. Мама. — Ты ничего не бойся. Здесь хорошо. И не страшно. Ты только не бойся. — О чём ты? — Среди мёртвых не бывает врагов. Смерть мирит. И делает братьями. Мёртвых нельзя бояться. — О чём ты, мама? Мама целует меня в лоб. Крестит. — Сколько тебе лет, мама? — Двадцать пять. — Мне совсем скоро тоже. Двадцать пять. Совсем скоро. Мы ровесницы? — Да. — Ты такая красивая. Мама. Я так боюсь тебя потерять. Ты спой мне песню. Ты возьмёшь меня за руку. И будешь держать — крепко-крепко. Чтобы я не упала. Я с тобой никогда не падала. Мама. Не разжимай своей руки. И я никогда не упаду. Моя мама машет мне рукой. И скрывается в куинджевой роще. Я сажусь. Вытягиваю ноги. Вокруг меня водят хоровод люди. Они красивые. Эти люди. С прозрачной кожей. Голубыми глазами. В белых нарядах. В руках белые лилии. Они не ступают по земле. Двигаются плавно по воздуху. Я всю жизнь мечтала двигаться по воздуху. И у меня это иногда получалось. Но меня одёргивали. И наступали на ноги. — Тебе хорошо? — спрашивают они. — Мне так хорошо никогда не было. — Оставайся. Здесь никогда не плачут. Никогда не обрызгивают грязью. Никого не хоронят. Здесь красота. И гармония. Оставайся. — А можно? Из рук в руки люди замедленными движениями передают младенца. Наконец — ребёнок на моих руках. — Чей это малыш? — Ты не узнаешь? Это твой нерождённый ребёнок. — Мальчик, — улыбаюсь я. — Я так и знала, что это мальчик. — Я расстёгиваю передние пуговицы ромашкового платья. И прижимаю ребёнка к груди. Ребёнок сосёт мою грудь. В ней нет молока. Она пуста и безжизненна. Но ребенок всё равно сосёт. И даже при этом улыбается. — Какой славный малыш, — говорю я. — Как хорошо, что он так и не ро- дился. Он бы вырос самовлюблённым глупцом. Как его отец. Или испорченным мучеником. Как его мать. Он перехитрил всех. Он навсегда останется невинным божьим созданием. Люди в знак согласия кивают головой. — Ты оставайся. Ты будешь каждое утро кормить его грудью. И петь ему песни. Целовать его глаза. И укутывать его тельце. Оставайся. Пока не совершила больших грехов. И большего зла. Здесь не бывает ночи. Здесь можно отдохнуть. И всё забыть. Здесь не перед кем отчитываться. И не перед кем краснеть. Здесь ты познаешь истинную свободу. Любовь. Счастье. Преданность. Мы здесь все — братья. Оставайся. Здесь нежные краски. И мелодичная музыка. Добрые люди. Здесь ты не будешь мучиться. Потому что здесь не бывает мук. — Я сог... — Меня кто-то хватает за руки. И тянет за собой. Мы прячемся в роще. — Зачем? — не понимаю я. И смотрю в лицо. Где-то я уже видела это лицо. Мальчишечье. Курносое. Покрытое веснушками. — Зачем? — повторяю я. — Беги отсюда. Тебе нельзя здесь. Беги. — Но счастье... Здесь так хорошо. Так счастливо... — Это мертвецы. Обычные мертвецы. Сюда ты всегда успеешь. — Как? Почему? Обман? — Нет. Не обман. А действительно счастье. Разве ты не понимаешь. Что вершина истинного счастья — смерть. — Не понимаю. — Вся наша жизнь — это долгий путь к смерти. Жизнь не может быть счастливой. Но счастье есть. Значит, весь путь — это к счастью. Только смерть несёт покой. О котором ты говоришь. Музыку. Которую ты слушаешь. Краски. Которых в жизни не может быть. Только застывшая форма может породить счастье. Счастья в движении не бывает. Бывает удача. Радость. Победа. Но не счастье. Вот почему в искусстве ты иногда находишь подобие счастья. Искусство тоже мёртво. Ты всё поняла? А теперь беги. — А ты? — А я... — Мальчик вздыхает. — А я. Как твой нерождённый ребёнок. Не согрешил. Потому что не успел. А что может быть слаще греха? Так что спеши. Спеши грешить. Потому что искупить свой грех здесь ты всегда успеешь. Уж мне-то поверь. Жаль, что ты его не родила. — Наверно, жаль. Красивый малыш. — Ну, пока... Мальчик скрылся за деревьями. И я даже не успела спросить, где мы с ним встречались. Наверно, жили где-нибудь в одном дворе. Или ходили в один детский сад. Или дружили наши родители. Но точно я не помнила. А он не захотел мне этого сказать. Значит, имел на это причину? Я бегу через берёзовую рощу. Ударяюсь о стволы деревьев. Царапаю о кусты руки. Задеваю головой облака. Добегаю до рамы картины. И бросаю картину на землю. Становится темно. Ногой ощупываю дверь. Старуха радостно встречает меня у порога. — Ну и слава богу. Я уже было подумала. Что не захочешь. Вернуться не захочешь. Молодец. Вернулась-таки. Что? Картина разбилась? Ерунда какая. Мы её — на свалку. Или под землю. Как угодно. Старуха говорила без умолку. Уставшая, я уселась прямо на пол. — Как ты думаешь, Куинджи знал, что писал? — Ах, при чём тут Куинджи! — Старуха махнула рукой. И поспешила на кладбище. Никогда не видела, чтобы с такой радостью посещали кладбище. Старуха вернулась через полминуты. И протянула гранат. — Ешь! Я осторожненько стала выколупывать каждое зёрнышко. Медленно бросать в рот. Обсасывать со всех сторон. — Наконец-то ты всё поняла, — вздохнула старуха. — А что, разве я что-то не понимала? — Сбацаешь? — Сбацаю, — неожиданно согласилась я. И сбацала “Прекрасную мельничиху”. Никогда в своей жизни я не играла так вдохновенно. С таким порывом. И даже благородством. Это была без преувеличений гениальная игра на рояле. Старуха танцевала легко. И свободно. И я подумала, что она в прошлом балерина. Но не спросила её об этом. Потому что меня это не интересовало. — Она была прекрасной по-настоящему — эта мельничиха. У неё была тонкая талия. Длинные ноги. И чёрные глаза. Она умела красиво танцевать. И играть на рояле. Она умела любить. Она была бесстрашной. И страстной. Какой должна быть настоящая женщина. Она была настоящей женщиной. Но в один миг она захотела всё сразу. Когда берёшь всё сразу. В итоге ничего не имеешь. Она не побоялась этого. Она была настоящей женщиной. Как думаешь, об этом хотел сказать Бетховен? — Не знаю, — пожала плечами я. — Скорее всего — нет. — Жаль. — Как насчёт долга? — спросила я о том, о чём стала постоянно думать. — Не думай. Всё придёт само собой. Главное, не думай. Не порть себя. Жаль с тобой прощаться. Я привыкла к тебе. Ты... Ты... Ты — это... Впрочем, не буду. В тебе удивительно переплелись... Перепутались. Невероятная наивность. И невероятная испорченность. Но всё... всё скоро встанет на свои места... Всегда всё становится на свои места. Тебе этого захотелось быстрее... Как знать... Может быть, ты скоро об этом пожалеешь. Гораздо скорее, чем думаешь ты. И чем думаю я. — Старуха всхлипнула. — А там и впрямь хорошо. Правда? Покой. Счастье. Музыка. Краски... Я совсем не слушала старуху. Я очень хотела спать. Ничего в жизни я так не хотела. Ни свободы. Ни любви. Ни счастья. Я просто хотела спать. Я последний раз взглянула на старуху. Мне хотелось её пожалеть. Успокоить. Прижаться щекой к её щеке. Но глаза мои слипались. Мысли путались. Прекрасная мельничи- ха. Танцующая старуха. Младенец, кусающий мою грудь. Возлюбленный, стреляющий в меня косточками от вишнёвого компота. Змея, измеряющая мою талию. Двадцатипятирублёвка, прилипшая к моему сердцу... И я уснула. Сбылось всё, чего я так сильно хотела. Утром я проснулась от пронзительного звонка в дверь. Вставать страшно не хотелось. Я кликнула старуху. Мне никто не ответил. Я попыталась встать. Но какая-то невероятная тяжесть давила тело. В дверь продолжали звонить. На полу я заметила валяющийся клочок бумаги. С трудом согнув спину. Я его подняла. “Ты это. Того. Не обижайся. Думаешь — красота — это всё? Это ничего. Ничего совсем. Что ты имела со своей красотой. Предложение обменять донос на твои ноги? Или выделенные часы, в которые он соизволит уделить тебе внимание? Милостыню... А, что и говорить. Ты получила всё. Что хотела. Ты похоронила всё. Что не хотела уже совсем. Ты всё поняла. Ты смогла в этом рациональном мире стать сумасшедшей. Какой и должна быть прекрасная мельничиха. Гранаты. Рояль. И шкаф с одеждой найдёшь в соседней комнате. Там найдёшь и всё остальное. Свечу туши на ночь. Дни они, сама знаешь, сегодня есть. Завтра... За колготки спасибо. Я верю в тебя. И верю в нашу встречу. Скоро... Уже совсем скоро. Гораздо скорее, чем думаешь ты. И чем думаю я...” В дверь продолжали пронзительно звонить. Я похолодела. Я начинала всё понимать. Сквозь длинный коридор я подошла к двери. И открыла её. На пороге стояла девушка. Снизу вверх я смотрела на неё. Раза в два выше. Глаза... Эти порочные славные глаза. Я узнала их. Невероятная невинность. И невероятная испорченность. — Вы ко мне? — Я? Да. Конечно. Бабушка. Я по объявлению. Вы мне сможете помочь? — В общем-то я не давала никаких объявлений. Но заходите. Коль уж пришли, — сказала я удивительно молодым голосом. И пошла вперёд танцующей походкой. Которая бывает только у балерин. И у прекрасных мельничих. И никогда — у торговцев. г. Минск. 1989