Глава вторая - Ты выдумал меня
advertisement
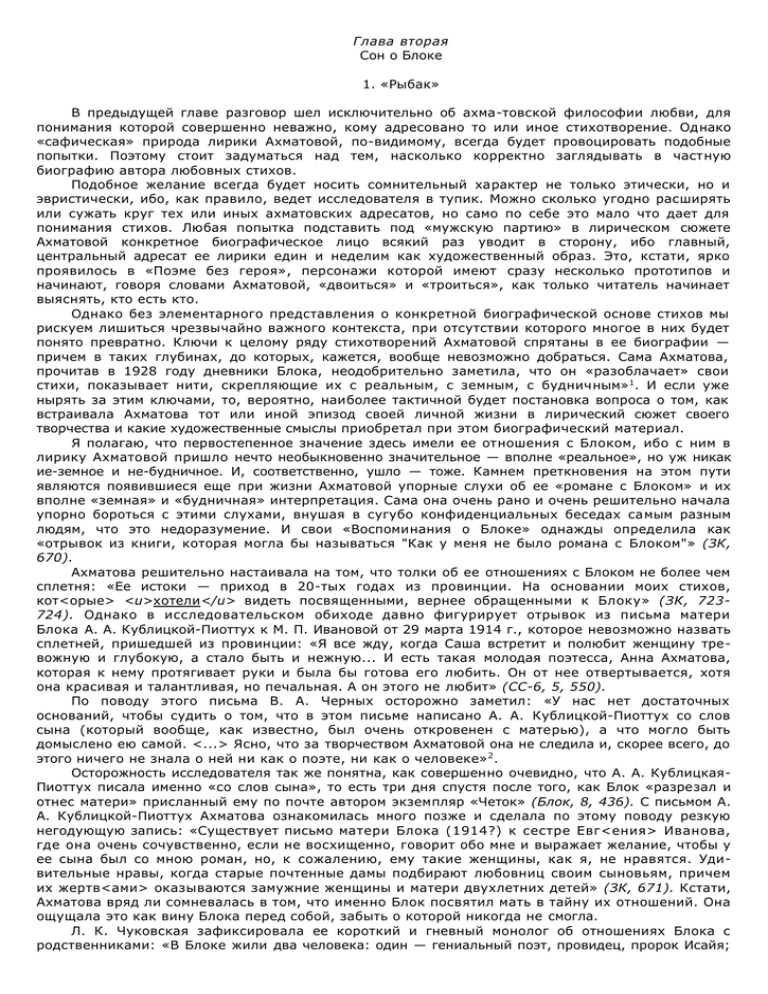
Глава вторая Сон о Блоке 1. «Рыбак» В предыдущей главе разговор шел исключительно об ахма-товской философии любви, для понимания которой совершенно неважно, кому адресовано то или иное стихотворение. Однако «сафическая» природа лирики Ахматовой, по-видимому, всегда будет провоцировать подобные попытки. Поэтому стоит задуматься над тем, насколько корректно заглядывать в частную биографию автора любовных стихов. Подобное желание всегда будет носить сомнительный характер не только этически, но и эвристически, ибо, как правило, ведет исследователя в тупик. Можно сколько угодно расширять или сужать круг тех или иных ахматовских адресатов, но само по себе это мало что дает для понимания стихов. Любая попытка подставить под «мужскую партию» в лирическом сюжете Ахматовой конкретное биографическое лицо всякий раз уводит в сторону, ибо главный, центральный адресат ее лирики един и неделим как художественный образ. Это, кстати, ярко проявилось в «Поэме без героя», персонажи которой имеют сразу несколько прототипов и начинают, говоря словами Ахматовой, «двоиться» и «троиться», как только читатель начинает выяснять, кто есть кто. Однако без элементарного представления о конкретной биографической основе стихов мы рискуем лишиться чрезвычайно важного контекста, при отсутствии которого многое в них будет понято превратно. Ключи к целому ряду стихотворений Ахматовой спрятаны в ее биографии — причем в таких глубинах, до которых, кажется, вообще невозможно добраться. Сама Ахматова, прочитав в 1928 году дневники Блока, неодобрительно заметила, что он «разоблачает» свои стихи, показывает нити, скрепляющие их с реальным, с земным, с будничным»1. И если уже нырять за этим ключами, то, вероятно, наиболее тактичной будет постановка вопроса о том, как встраивала Ахматова тот или иной эпизод своей личной жизни в лирический сюжет своего творчества и какие художественные смыслы приобретал при этом биографический материал. Я полагаю, что первостепенное значение здесь имели ее отношения с Блоком, ибо с ним в лирику Ахматовой пришло нечто необыкновенно значительное — вполне «реальное», но уж никак ие-земное и не-будничное. И, соответственно, ушло — тоже. Камнем преткновения на этом пути являются появившиеся еще при жизни Ахматовой упорные слухи об ее «романе с Блоком» и их вполне «земная» и «будничная» интерпретация. Сама она очень рано и очень решительно начала упорно бороться с этими слухами, внушая в сугубо конфиденциальных беседах самым разным людям, что это недоразумение. И свои «Воспоминания о Блоке» однажды определила как «отрывок из книги, которая могла бы называться "Как у меня не было романа с Блоком"» (ЗК, 670). Ахматова решительно настаивала на том, что толки об ее отношениях с Блоком не более чем сплетня: «Ее истоки — приход в 20-тых годах из провинции. На основании моих стихов, кот<орые> <u>хотели</u> видеть посвященными, вернее обращенными к Блоку» (ЗК, 723724). Однако в исследовательском обиходе давно фигурирует отрывок из письма матери Блока А. А. Кублицкой-Пиоттух к М. П. Ивановой от 29 марта 1914 г., которое невозможно назвать сплетней, пришедшей из провинции: «Я все жду, когда Саша встретит и полюбит женщину тревожную и глубокую, а стало быть и нежную... И есть такая молодая поэтесса, Анна Ахматова, которая к нему протягивает руки и была бы готова его любить. Он от нее отвертывается, хотя она красивая и талантливая, но печальная. А он этого не любит» (СС-6, 5, 550). По поводу этого письма В. А. Черных осторожно заметил: «У нас нет достаточных оснований, чтобы судить о том, что в этом письме написано А. А. Кублицкой-Пиоттух со слов сына (который вообще, как известно, был очень откровенен с матерью), а что могло быть домыслено ею самой. <...> Ясно, что за творчеством Ахматовой она не следила и, скорее всего, до этого ничего не знала о ней ни как о поэте, ни как о человеке» 2 . Осторожность исследователя так же понятна, как совершенно очевидно, что А. А. КублицкаяПиоттух писала именно «со слов сына», то есть три дня спустя после того, как Блок «разрезал и отнес матери» присланный ему по почте автором экземпляр «Четок» (Блок, 8, 436). С письмом А. А. Кублицкой-Пиоттух Ахматова ознакомилась много позже и сделала по этому поводу резкую негодующую запись: «Существует письмо матери Блока (1914?) к сестре Евг<ения> Иванова, где она очень сочувственно, если не восхищенно, говорит обо мне и выражает желание, чтобы у ее сына был со мною роман, но, к сожалению, ему такие женщины, как я, не нравятся. Удивительные нравы, когда старые почтенные дамы подбирают любовниц своим сыновьям, причем их жертв<ами> оказываются замужние женщины и матери двухлетних детей» (ЗК, 671). Кстати, Ахматова вряд ли сомневалась в том, что именно Блок посвятил мать в тайну их отношений. Она ощущала это как вину Блока перед собой, забыть о которой никогда не смогла. Л. К. Чуковская зафиксировала ее короткий и гневный монолог об отношениях Блока с родственниками: «В Блоке жили два человека: один — гениальный поэт, провидец, пророк Исайя; другой — сын и племянник Бекетовых и Любин муж. "Тете нравится"... "Маме не нравится"...» (Чуковская, 2,229-230). В связи с этим Ахматова была вынуждена строить сложную и тонкую тактику защиты, состоявшую не только в отрицании «романа с Блоком», но и в сознательном редактировании своей биографии и датировки своих стихов. По этой же причине она создала весьма уклончивую версию одного из важнейших событий ее жизни в форме ярко и выпукло написанного «мемуара» — «Воспоминания о Блоке», — к которому правильнее всего относиться как к художественному произведению. И даже в «Записных книжках» Ахматова всегда оставалась предельно сдержанной и осторожной, зная, что рано или поздно они будут открыты постороннему взгляду. Там, однако, остались следы настойчивых попыток восстановить в памяти все свои встречи с Блоком, что в более или менее окончательном варианте приобрело следующий вид: «1. Первое знакомство (Ак<адемия> стиха). Вероятно, а<прель> 1911 г. 2.Открытие Цеха поэтов у Городец<кого> на Фонтанке (20 окт<я6ря> 1911). 3. На Башне. См. дневн<ик> Блока. (Дата. Надо ли?). 4. На ст<анции> Подсолн<ечная>. 1914. 9 июля. 5. На каком-то лит<ературном> веч<ере> после выхода гумилевск<ого> . 6. На Бест<ужевских> курсах (о тенорах). 1913. Осень. (Дата. Чествование Верхарна). 7. На царскос<ельском> вокзале. Обедали, первые дни войны. (С Гумил<евым> .) Гум<илев> о соловьях. 8. В Собр< ании> Армии и Флота. Пасха. 1915. 9. В Акад< емии> худ<ожеств> . Благотв< орительные> вечера в пользу... 10. В одно из последних воскресений тринадцатого года» (ЗК, 744). Этот весьма неполный хронологический перечень, датированный 2 октября 1965 года, лег в основу «Воспоминаний о Блоке», предназначенных для телевизионной передачи, которая состоялась через десять дней, 12 октября, на Ленинградском телевидении. Так Ахматова, подводя итог никогда не исчезавшей с ее горизонта «блоковской теме», вступила в прямой, открытый разговор с читателем. При этом она сделала явной только самую верхушку этого айсберга, тщательно скрыв всю его подводную часть. В по з дн ю ю п ор у с в ое й ж и з н и Ах м а то в а л ю б ил а д ек л а ри ро вать свою открытость и в стихотворении «Читатель» (1959) сказала об этом так: Не должен быть очень несчастным И, главное, скрытным. О нет! – Чтоб быть современнику ясным, Весь настежь распахнут поэт. Однако именно «на публике» Ахматова, делая вид, что объясняет события собственной биографии, ставила себе задачей внушить слушателям то, что считала нужным. Она не только активно строила свою биографию поступками, но и внедряла ее авторизованную версию в сознание читателя. В. А. Черных в статье «Блоковская легенда в творчестве Анны Ахматовой» сделал резо нное предупреждение каждому, кто рискует взяться за эту тему: «Блок, как известно, в конце жизни сжег свои записные книжки № 34-38, охватывающие время с осени 1911 до лета 1913 г. Двухлетний период с осени 1911 до лета 1913 г. в истории взаимоотношений Блока и Ахматовой представляется зияющей лакуной...» 3. Но еще большей лакуной является отсутствие записной книжки № 40, уничтоженной Блоком в июне 1921 года 4. В ней были записи с октября по декабрь 1913 года, когда отношения Ахматовой и Блока вступили в решающую и завершающую фазу. Между тем на основе известных нам фактов можно сделать некоторые предположения относительно этого зияния. В записях П. Н. Лукницкого сохранилось любопытное высказывание Ахматовой о характере Блока: «О хвастовстве: "Вот чего не было у Блока... Ни в какой степени. С ним можно было год прожить на необитаемом острове и не знать, что это — Блок!" У него не было ни тени желания как-то проявить себя в разговоре. Блок был очень избалован похвалами, и они ему смертельно надоели» (Лукницкий-2,193). Этот эпизод говорит не только о наблюдательности Ахматовой, но и о том, что в какой-то период ее общение с Блоком было более тесным, во всяком случае, более длительным и постоянным, чем это может показаться на основе составленного ею перечня встреч с ним. Например, на высказывания Георгия Иванова о Блоке она возражала следующим образом: «Но Жора (Г. Иванов. — В. М.) допускался к Блоку один раз в год. Так уж было заведено: раз в год он звонил Блоку и просил разрешения прийти. Блок разрешение давал, и Жора шел к нему. <...> Блок, замкнутый, не любивший многолюдства у себя, всегда держал таких людей, как Жора, на большом расстоянии от себя. У него были свои друзья, которых он выбирал, руководствуясь своими особыми причинами — Зоргенфрей, Иванов-Разумник... "Попробуйте пойти к Сологубу, интимно говорить с ним! А с Сологубом это легче, чем с Блоком!.."» (Лукницкий-1, 289). Или что стоит брошенное ею вскользь замечание, что Блок вел свой дневник «тайно» и никогда никому его не открывал (Лукницкий-2, 334). Весьма показательна еще одна запись П. Н. Лукницкого: «<...> АА заговорила о том, кому из поэтов она не решилась бы сделать указания на какой-нибудь недостаток. Стала думать — Блок? Блоку, пожалуй, она могла бы сказать... Такого случая с ней не было, но она представляет себе, что он мог бы быть. "Он поблагодарил бы и сказал — "Хорошо,' я посмотрю потом"...» (Лукницкий-2, 165-166). Из всего этого следует, что Ахматова достаточно хорошо представляла себе характер Блока и брала на себя смелость предположить, как бы он реагировал на те или иные жизненные ситуации. В марте 1925 года П. Н. Лукницкий оказался свидетелем, как Ахматова «разбирала книги в столовой на полу»: «Попалась книга Блока с его надписью "А. А. Гумилевой" (1913). <...> АА усмехнулась: "Вот как люди надписывают"» (Лукницкий-1, 76). Но среди известных нам инскриптов такой надписи нет. В декабре 1913 года после визита Ахматовой Блок надписал свои книги не «А. А. Гумилевой», а «Анне Ахматовой». Значит, речь шла о какой-то книге, подаренной раньше и неизвестно по какому поводу. Записи П. Н. Лукницкого вообще являются весьма ценным источником в том отношении, что в общении с их автором Ахматова была максимально раскованна и зачастую «проговаривалась». Тогда как в разговорах с другими (даже с Л. К. Чуковской) свои высказывания она строго редактировала. Тем не менее, следует подвергнуть сомнению весьма распространенное убеждение, что стихи лирического поэта могут быть «дешифрованы» путем привлечения источников документ тального или мемуарного характера. По крайней мере, в случае с Ахматовой следует идти от обратного. Память о Блоке хранилась у нее в «том <i>первом слое</i>, который поэты скрывают почти что от себя самих» (СС-2, 2, 165). Но только стихи являются выражением этого «слоя», и только они — самый правдивый «документ». «Побольше стихов, — написала однажды Ахматова. — <...> Потому что из стихов может возникнуть нужная нам проза, которая вернет нам стихи обновленными и как бы увиденными в ряде волшебных зеркал <...>» (СС-2, 2, 179). Иное дело, что стихи в той же мере скрывают автора, в какой и раскрывают его, становясь одновременно и «шифром» и «дешифровкой». Разумеется, они не позволяют в обращении с собой неточности и недобросовестности, отказывая исследователю в адекватном прочтении. Но тут уже стоит вопрос о такте, мере, вкусе, чутье и совести того, кто берется их читать. Разумеется, все сказанное вовсе не дает права пренебрегать какими бы то ни было свидетельствами о жизни поэта, но обязательно соотнесение этих свидетельств с самым надежным и самым точным источником — его стихами. В этой главе мне придется постоянно переходить от стихов к так называемым «фактам» и от них — снова к стихам. И, как будет видно в дальнейшем, стихи Ахматовой всегда оказываются более точными, чем «факты». В 1926 году она рассказала П. Н. Лукницкому о своем первом знакомстве с Блоком: «Познакомилась с Ал. Блоком в Цехе поэтов. Раньше не хотела с ним знакомиться, а тут он сам подошел к Н. С. и просил представить его АА. <...> Знакомство произошло в Цехе. И было так: в то время была мода на платье с разрезом сбоку, ниже колена. У нее платье по шву распоролось выше. Она этого не заметила, но это заметил Блок. Когда АА вернулась домой, она ужаснулась, подумав о впечатлении, которое произвел этот разрез на Блока. Сказала Н. С, укоряя его за то, что он не сказал ей вовремя об этом беспоряд ке в ее туалете. Н. С. ответил: "А я видел. Но я думал — это так и нужно, так полагается... Я ведь знаю, что теперь платья с разрезом носят"» (Лукницкий-1, 59). Осенью 1927 года она еще раз напомнила П. Н. Лукницкому дату своего знакомства с Блоком: «1911. Октябрь. Познакомилась с Блоком» (Лукницкий-2, 315). Однако Ахматова прекрасно помнила, что ее первая встреча с Блоком произошла не в октябре, а в апреле — и не в Цехе поэтов, а в Обществе ревнителей художественного слова, или так называемой Академии стиха, заседавшей на Мойке, 24 в редакции журнала «Аполлон». В «Записных книжках» один из перечней ее встреч с Блоком открывается записью: «Предыстория: "Ник<олай> Степ<анович>, представьте меня вашей жене". (Академия стиха.) 1911 г., вероятно, в апреле» (ЗК, 673). В другом месте повторила: «Первое знакомство (Ак<адемия> стиха. Вероятно, апр<ель> 1911 г. » (ЗК, 744). Иными словами, рассказывая П. Н. Лукницкому о деталях знакомства с Блоком, она спокойно «вынула» их из апреля и «вставила» в октябрь. И это далеко не единственный пример ее тактики в создании книги «Как у меня не было романа с Блоком». Таким образом, мемуарное свидетельство П. Н. Лукниц-кого представляет собой записанный им со слов Ахматовой тонко мистифицированный рассказ. Тем не менее, в нем есть 4 детали, позволяющие по возможности скорректировать ахматовскую мистификацию. Вряд ли светски воспитанный человек, каким, естественно, был Блок, при первом знакомстве с молодой женщиной дал бы понять ей, что заметил непорядок в ее туалете. Как следует из рассказа П. Н. Лукницкого, Ахматова обнаружила распоровшийся шов на платье только после того, как вернулась домой и забеспокоилась о том, какое впечатление это могло произвести на Блока («Когда АА вернулась домой, она ужаснулась...»). Но когда и как она могла узнать, что этот конфуз заметил Блок? Вероятно позже — и в каком-то их приватном разговоре. Касаясь вопроса о том, «какое впечатление произвел Блок на Ахматову п ри первой встрече», В. А. Черных сделал осторожное, но, думается, достаточно обоснованное предположение: «Решусь отметить лишь, что в облике героя стихотворения Ахматовой "Рыбак" смутно угадываются черты Блока. На этом наблюдении вряд ли можно было бы настаивать, если бы стихотворение не было датировано 23 апреля 1911 г. — на следующий день после их первой встречи в редакции "Аполлона"» 5 . Действительно, Блок не мог не поразить Ахматову своей, внешностью, которая производила сильное впечатление на всех, без исключения, его современников, особенно на женщин. Сам он хорошо знал об этом, иначе бы не написал: Розовая девушка встала на пороге И сказала мне, что я красив и высок. В. А. Черных не прав только в одном: облик Блока в стихотворении Ахматовой вовсе не выглядит «смутным». Уже в начальных его строфах нарисован яркий и четкий портрет: Руки голы выше локтя, А глаза синей, чем лед. Едкий, душный запах дегтя, Как загар, тебе идет. И всегда, всегда распахнут Ворот куртки голубой, И рыбачки только ахнут, Закрасневшись пред тобой. Портрет этого «рыбака» отчетливо перекликается с «Воспоминаниями о Блоке» Андрея Белого, писавшимися сразу же после его смерти: «Что меня поразило в А. А. — цвет лица: равномерно обветренный, розоватый, без вспышек румянца, здоровый; и поразила спокойная статность фигуры, напоминающая статность военного, может быть, — "доброго молодца" сказок». Там же Белый особо отметил «очень большие, прекрасные, голубые глаза» 6. В мемуарной книге «Начало века», создававшейся десять лет спустя, черты внешнего облика Блока будут Белым сохранены практически полностью: «<...> Александр ли Блок — юноша этот, с лицом, на котором без вспышек румянца горит розовый обветр? Не то "Молодец" сказок; не то — очень статный военный; <...> он подходит, растериваясь голубыми глазами <...>»7. Мужское обаяние Блока хорошо передают воспоминания Л. А. Дельмас: «Весь облик поэта меня поразил: блондин, здоровый цвет лица, высокий прекрасный лоб, пепельные кудри с золотым оттенком, смело очерченный замкнутый рот, очень красивый; глаза — лиловые васильки, подернутые мечтательной грустью, с большим любопытством и жадностью рассматривающие меня. Волевое, умное выражение лица <...>» 8. Как видим, знаменитая «острота» поэтического восприятия Ахматовой сказалась в безошибочной фиксации черт внешности Блока, неизменно вызывавших восхищение и запоминавшихся раз и навсегда: розовый загар («обветр»); цвет глаз, которые «синей, чем лед» («лиловые васильки»); статность фигуры, вызывающей фольклорные, «простонародные» ассоциации. В сознании бывшей черноморской девчонки («херсонески») это не могло не дать быструю, мгновенную аналогию («рыбак»), которая выстроила весь остальной ассоциативный ряд: зака танные рукава, синяя куртка с расстегнутым воротом, ахающие рыбачки. Блок был увиден мгновенно и зорко — едва ли не по пословице «рыбак рыбака видит издалека». Лирическая героиня ахматовского стихотворения предстает рядом с «рыбаком» влюбленной и потерянной девочкой: Даже девочка, что ходит В город продавать камсу, Как потерянная бродит Вечерами на мысу. Щеки бледны, руки слабы, Истомленный взор глубок, Ноги ей щекочут крабы, Выползая на песок. Но она уже не ловит Их протянутой рукой. Все сильней биенье крови В теле, раненном тоской. Ахматова дорожила этим стихотворением. Она включила его в свою первую книгу «Вечер» и повторила в «Четках» (раздел «Из книги "Вечер"»). Мы находим его в составе не вышедшего двухтомника (1924-1926) и неосуществленного тома «Избранных стихотворений» (1959). Оно входило в ее итоговые сборники — «Из шести книг» (1940), «Стихотворения» (1961) и «Бег времени» (1965). Интересно, что, готовя упомянутый двухтомник, она изменила дату написания «Рыбака» с 23 апреля на 21 февраля, а при составлении «Избранных стихотворений» восстановила ее. В «Стихотворениях» 1961 г. и в «Беге времени» она предпочла проставить только год — 19119. Мы уже видели эту игру с датами на примере записок П. Н. Лукницкого. Что она означает в данном случае? Л. В. Гор-нунг в 1924 году записал поразившее его свидетельство Софьи Парнок о встрече с Ахматовой в Петрограде в начале января 1924 года: «Очень ее удивило, что свою рукописную тетрадь со стихами Анна Андреевна достала из-под матраца. Стихи были написаны карандашом, и оказалось, что при поправках строки или одного слова Анна Андреевна стирала резинкой старый текст и вписывала новый. Анна Андреевна объяснила это тем, что после смерти Александра Блока все его черновые рукописи стали доступны посторонним, в них рылись и пытались разобраться уже в первые дни после кончины Блока, и ей видеть это было неприятно» (Воспоминания, 180). Говоря иначе, в начале 1920-х годов Ахматова не могла не опасаться, что в дневниках или записных книжках Блока остались записи об их встречах. Возможно, этим и было вызвано изменение даты написания «Рыбака» на месяц раньше. Однако уже в 1928 году после издания дневников Блока было ясно, что записи за 1911 год начинаются только с октября. А к 1959 году, когда вовсю шла работа над восьмитомным собранием сочинений Блока (первый том вышел в 1960 году), Ахматова, скорее всего, уже знала, что записные книжки за этот период им были уничтожены. Поэтому она могла спокойно восстановить подлинную дату. Опасение относительно «Записных книжек» Блока — не досужая выдумка исследователя. Ахматова была уверена в том, что в них должны были остаться следы их взаимоотношений. Наталия Роскина свидетельствовала: «Когда Анна Андреевна прочитала записные книжки Блока и увидела, что не оставила в них следа, — это уязвило ее. Не раз я слышала ее высказывания в таком духе: "Как известно из записных книжек Блока, я не занимала места в его жизни..."» (Воспоминания, 537). О том, какое значение Ахматова придавала «Записным книжкам» Блока как возможному источнику ее собственной биографии, говорит одна черта ее «Воспоминаний о Блоке», замеченная В. Н. Топоровым. Он писал, что ахматовский текст состоит «в основном из цитации блоковских упоминаний о встречах с Ахматовой (в его "Записных книжках")», и даже сделал решительный вывод о том, что Ахматова сознательно уступила Блоку «право и первенство вспоминать» 10. Иначе говоря, обо всем, что могло расширить «блоковские упоминания» или противоречить им, она сознательно умолчала. Во всяком случае, ее явное нежелание выдать биографическую подоплеку «Рыбака» ничуть не удивительно, поскольку концовка стихотворения: Все сильней биенье крови В теле, раненном тоской, выдавала любовную эмоцию высокого накала. Одно из последних свидетельств глубоко затаенного отношения Ахматовой к Блоку оставила в своих воспоминаниях о жизни в Ташкенте Г. Л. Козловская: «О Блоке говорила редко. Он был для нее бесспорной очевидностью. А в своих стихах она назвала его "трагический тенор эпохи". Но было еще что-то неуловимое, скрытое в ее отношении к нему. Однажды я была свидетельницей сцены, когда Ахматова, как говорится, "взорвалась". Одна ее посетительница рассказала, что только что прослушала лекцию в университете, где лекторша среди прочего рассказала о романе Ахматовой и Блока. "Боже! — почти закричала Ахматова. — Когда кончится эта чушь и вздор! Никогда не было никакого романа, ничего похожего на него!!" Посетительница лепетала: "А как же стихи?" "И поэтам свойственно писать стихи", — с убийственной иронией сказала Анна Андреевна, и разговор был окончен. И вдруг, какое-то время спустя, она неожиданно сказала: "У него была красная шея римского легионера"» (Воспоминания, 391). Между первой (апрель) и второй (октябрь) встречей с Блоком была поездка Ахматовой в Париж (май-июнь), завершившаяся разрывом с Модильяни. Весьма возможно, этот разрыв стимулировал возникшее чувство к Блоку, производившему впечатление человека простой, ясной и здоровой породы «рыбака» или «римского легионера». Стилизованное распределение ролей, намеченное в первом «блоковском» стихотворении Ахматовой, окажется устойчивым для ее любовной лирики 1910-х годов. Так, в стихотворении «Муж хлестал меня узорчатым...» (осень 1911) возлюбленный лирической героини оказывается «кузнецом»: Рассветает. И над кузницей Подымается дымок. Ах, со мной, печальной узницей, Ты опять побыть не мог. Как и в «Рыбаке», у влюбленной героини оказывается сразу много соперниц: Для тебя я долю хмурую, Долю-муку приняла. Или любишь белокурую, Или рыжая мила? И, наконец, еще одна скрытая перекличка — у «кузнеца» в силу особенностей его профессии тоже ведь «руки голы выше локтя». В декабре 1913 года, то есть в период, когда ее отношения с Блоком вступили в решающую фазу (об этом — чуть ниже), пишется еще одно фольклорно стилизованное стихотворение: Я с тобой не стану пить вино, Оттого что ты мальчишка озорной. Знаю я — у вас заведено С кем попало целоваться под луной. А у нас — тишь да гладь, Божья благодать. А у нас — светлых глаз Нет приказу подымать. Вряд ли эти строки обращены к Артуру Лурье (Кралин, 1, 377) 11. И не только потому, что сама Ахматова датировала знакомство с Лурье 8 февраля 1914 года (Летопись-1, 69), но и потому, что фольклорная, почти частушечная форма, кроме Блока, не вяжется ни с одним из современников — претендентов на роль адресата ее любовной лирики. При этом нет никаких оснований видеть в качестве адресата этого стихотворения именно Блока, поскольку речь идет лишь о том, что именно «блоковская тема» определила его жанровые и стилистически параметры. С гораздо большей вероятностью можно говорить о блоковском подтексте стихотворения с похожей фольклорной окраской, написанного в июле 1914 года и по времени примыкающего к так называемому «киевскому циклу» (о нем речь еще впереди). В нем Ахматова «проиграла» невозможный в реальности, но художественно вполне вообразимый сюжет: Лучше б мне частушки задорно выкликать, А тебе на хриплой гармонике играть, И, уйдя, обнявшись, на ночь за овсы, Потерять бы ленту из тугой косы. Лучше б мне ребеночка твоего качать, А тебе полтинник в сутки выручать, И ходить на кладбище в поминальный день Да смотреть на белую Божию сирень. К этим стихам отыскивается параллель в блоковском стихотворении «Холодный день» (из цикла «Город»), автор которого тоже «проигрывает» для себя возможность совместной жизни с женщиной городских «низов»: Нам скоротает век работа, Мне — молоток, тебе — игла. Однако если у Блока речь идет о сознательном отказе от пребывания «в радостном саду» за счет чужого неблагополучия, то у Ахматовой развивается мотив любви к простому, сильному и красивому человеку, перерастающий в трагическое сознание невозможности элементарного счастья. Или как будет сказано в другом ее стихотворении: «Ведь где-то есть простая жизнь и свет...». «Простая жизнь и свет» — та скрытая подоплека, которую Ахматова интуитивно ощутила в Блоке и о которой сам он позже скажет в «Ямбах»: Простим угрюмство — разве это Сокрытый двигатель его? Он весь — дитя добра и света, <i>Он весь — свободы торжество!</i> (курсив Блока. — В. М.) О скрытой, внутренней стороне личности Блока, которая могла вызывать фольклорные коннотации, выразительно говорит его дневниковая запись, сделанная в январе 1912 года: «Скучно, скучно, неужели жизнь так и протянется — в чтении, писании, отделываньи, получении писем и отвечании на них? Но — лучше ли "гулять с кистенем в дремучем лесу"?» (Блок, 7, 123). Говоря иными словами, альтернативой «чтения, писания, отделыванья» было для него «гулять с кистенем в дремучем лесу», иначе вряд ли бы Блок смог написать «Двенадцать». Позднее в цикле «Три стихотворения», обращенном к памяти Блока, (1944-1960), Ахматова, с одной стороны, впишет Блока в гармоничный и светлый простор подмосковного пейзажа, с другой — подчеркнет «разбойную», взрывную сторону его натуры: Пора, пора к березам и грибам, К широкой осени московской. Там все теперь сияет, все в росе, И небо забирается высоко, И помнит Рогачевское шоссе Разбойный посвист молодого Блока... «Разбойный посвист» — образ того же ассоциативного стихотворении «Рыбак» или «кистень» в блоковском дневнике. ряда, что «запах дегтя» в 2. «Короткое звонкое имя...» Для Блока апрельское знакомство тоже не прошло бесследно. 20 октября, побывав на открытии «Цеха поэтов» и увидев Ахматову второй раз, он сразу выделил ее из общей массы присутствующих: «Безалаберный и милый вечер. <...> Молодежь. Анна Ахматова» (Блок, 7, 75). А 7 ноября зафиксировал свое впечатление от чтения ею стихов на «башне» Вячеслава Иванова: «А. Ахматова (читала стихи, уже волнуя меня; стихи чем дальше, тем лучше)» (Блок, 7, 83). А. В. Тыркова вспоминала, как вела себя Ахматова в присутствии Блока на «башне»: «А перед Блоком Анна Ахматова робела. Не как поэт, как женщина. В Башне ее стихами упивались, как крепким вином. Но ее темные глаза искали Блока. А он держался в стороне. Не подходил к ней, не смотрел на нее, вряд ли даже слушал. Сидел в соседней полутемной комнате» 12. Блоковская тема, возникнув в апрельском стихотворении 1911 года, с самого начала приобрела у Ахматовой глубоко зашифрованный характер. Вот почему некоторые кажущиеся иррациональными смысловые ходы ее стихов неожиданно проясняются в контексте блоковской лирики. Так, например, обстоит дело со стихотворением «Сад», написанным, судя по всему, зимой 1911 года: Он весь сверкает и хрустит, Обледенелый сад. Ушедший от меня грустит, Но нет пути назад. И солнца бледный, тусклый лик – Лишь круглое окно; Я тайно знаю, чей двойник Приник к нему давно. Здесь мой покой навеки взят Предчувствием беды, Сквозь тонкий лед еще сквозят Вчерашние следы. Кто этот таинственный двойник, становится понятным, если положить рядом строки из стихотворения Блока «Окна во двор» (цикл «Город»): Я слышу — старинные речи Проснулись глубоко на дне. Вон теплятся желтые свечи, Забытые в чьем-то окне. <...> Эй, малый, взгляни мне в оконце!.. Да нет, не заглянешь — пройдешь... Совсем я на зимнее солнце, На глупое солнце похож. Герой этого стихотворения чувствует себя двойником зимнего солнца, которое никого не может согреть и потому никому не нужно. У Ахматовой эта ассоциация говорит о «тайной», внутренней связи с человеком, нарушившим покой и вторгшимся в жизнь лирической героини предчувствием беды. Имя Блока табуированно возникает в стихотворении, написанном зимой 1912 года: Безвольно пощады просят Глаза. Что мне делать с ними, Когда при мне произносят Короткое, звонкое имя? Естественно, что у современников Ахматовой «короткое звонкое имя» отождествлялось с Блоком. Однако позднее появилась тенденция эту перекличку оспаривать. Так, например, в комментарии к подготовленному им ахматовскому двухтомнику М. Кралин пишет: «В литературе об Ахматовой бытует мнение, что это стихотворение адресовано А. Блоку, но на экземпляре сборника стихов 1958 г., подаренного Ахматовой ближайшей подруге В. С. Срезневской, оно имеет посвящение: С. С. <Сергею Судейкину?>. <i>Короткое звонкое имя</i> — возможно, "<i>Пим</i>" — домашнее прозвище Судейкина» (Кралин, 1,374). Комичность и несуразность подобного предположения совершенно очевидны, ибо речь идет об имени, которое приводит лирическую героиню в смятение тем, что оно у всех на слуху и произносится окружающими очень часто. В их первую апрельскую встречу Ахматова навсегда запомнила «то мгновение, как Александр Александрович поклонился и сказал: "Блок"...» (Чуковская-1, 139). «Короткое звонкое имя» прозвучало для нее голосом Блока, и это сразу делает понятным, почему лирическая героиня просит пощады «глазами», когда это имя произносится при ней окружающими, — оно напоминает о его голосе. Стоит вспомнить ахматовские строки, написанные в «до-блоковский» период: Смотреть, как гаснут полосы В закатном мраке хвой, Пьянея звуком голоса, Похожего на твой. Эти строки не имеют отношения к Блоку, но они дают понять, какое значение для лирической героини Ахматовой имеет голос любимого человека. Что касается посвящения на экземпляре В. С. Срезневской, то оно представляет собою обычный для Ахматовой прием дезориентации любопытствующих современников. В. А. Черных справедливо заметил, что «к концу 1912 г. Ахматова оказалась во враждебной Блоку литературной группировке», и посетовал на то, что мы не можем точно определить, как это «сказалось на их отношениях друг с другом» 13. Но, судя по всему, Блока менее всего волновало, что Ахматова — «акмеистка». Его отношение к ней, во-первых, определялось вовсе не литературными причинами. А, во-вторых, в течение всего 1912 года, несмотря на волнение, испытанное от ее стихов, он остался равнодушен к ней лично. Получив 5 ноября 1912 года приглашение «в «Аполлон» слушать чтение стихов «Цеха поэтов», которое должно было состояться вечером 7-го», Блок его проигнорировал, хотя, несомненно, Ахматова там должна была присутствовать. Для него куда важнее было, что «7-го ноября этого года — ровно десять лет с тех пор» (Блок, 7, 174), то есть десять лет со дня решительного любовного объяснения с Любовью Дмитриевной. Об этом красноречиво говорит запись, сделанная вечером 7 ноября: «В ней — моя связь с миром, утверждение несказанности мира. Если есть несказанное, — я согласен на многое, на все. Если нет, прервется, обманет, забудется, — нет, я "не согласен", "почтительнейше возвращаю билет"» (Блок, 7, 176). Кроме того, в этот период общий настрой Блока относительно связей с женщинами был сугубо негативным, и в дневниковой записи от 13 января 1912 г. он признавался себе: «<...> Все известно заранее, все скучно, не нужно ни одной из сторон. Влюбляется или даже полюбит, — отсюда письма — груда писем, требовательность, застигание всегда не вовремя; она воображает (всякая, всякая), что я всегда <i>хочу</i> перестраивать свою душу на "ее лад". А после известного промежутка — брань. Бабье, какова бы ни была — 16-летняя девчонка или тридцатилетняя дама. Женоненавистничество бывает у меня периодически — теперь такой период» (Блок, 7, 123). Так что не удивительно, что Блок возникал в стихах Ахматовой как «двойник» зимнего — «тусклого, мертвого» — солнца, то есть как глубоко равнодушный к ней человек. Если принять версию В. А. Черныха, что цикл «Смятение», написанный в феврале 1913 года, адресован Блоку, то, вероятно, Ахматова интуитивно чувствовала его «женоненавистничество». Во всяком случае восклицание: Не любишь, не хочешь смотреть? О, как ты красив, проклятый! — звучит как монолог «негодующей Федры», уязвленной красавцем и женоненавистником Ипполитом. У Ахматовой есть указание на одну загадочную дату, с которой начинается стихотворение «Ждала его напрасно много лет...» (1916) — о встрече с «женихом» в Вербную субботу: Ждала его напрасно много лет. Похоже это время на дремоту. Но воссиял неугасимый свет Тому три года в Вербную субботу. Мой голос оборвался и затих С улыбкой предо мной стоял жених. А за окном со свечками народ Неспешно шел. О, вечер богомольный! Слегка хрустел апрельский тонкий лед, И над толпою голос колокольный, Как утешенье вещее, звучал, И черный ветер огоньки качал. И белые нарциссы на столе, И красное вино в бокале плоском Я видела как бы в рассветной мгле. Моя рука, закапанная воском, Дрожала, принимая поцелуй, И пела кровь: блаженная, ликуй! В «Подорожнике» под этими стихами стояла дата «1916», и Ахматова повторила ее при составлении невышедшего двухтомника 1924-1926 гг. Но в рукописном плане «Подорожника» она попыталась изменить эту дату, поставив под текстом стихотворения — «1918?» (СС-6, 1, 829). Я еще вернусь к этой игре с датами ниже, но стихи написаны все-таки о Вербной Субботе, которая падала на 6 апреля 1913 года (Летопись-1, 61). М. Кралин обратил внимание на то, что за два дня до Вербной Субботы — 4 апреля — состоялось первое заседание «Общества поэтов», на котором Блок читал «Розу и крест». О том, что Ахматова придавала важное значение этому дню, говорит запись П. Н. Лукницкого: «Письмо Скалдина к А А, СПБ 1 апреля 1913 г. В Петербурге образовался новый литературно-художественный кружок, задачи которого трудно изложить в письмах. Но участие Блока, Недоброво и Зелинского ставит его на солидную почву. На первом заседании общества поэтов, которое состоится 4-го апреля, Блок прочтет свою "Розу и крест"» (Лукницкий-1, 196). На этом заседании Ахматова, бесспорно, была. Но поскольку на нем председательствовал и даже выступал с докладом Н. В. Недоброво, то М. Кралин, убежденный в том, что именно последний был неразделенной любовью Ахматовой, связал Вербную Субботу 1913 года именно с ним. Он предположил, что это — стихи о первом любовном свидании Ахматовой с Недоброво. Более того, М. Кралин счел возможным утверждать, что Ахматова, случайно узнавшая из письма А. Д. Скалдина адрес Недоброво, зашла к Николаю Владимировичу «в гости вечером перед Светлым Воскресением» 14. Однако трудно представить Ахматову, без приглашения «зашедшую» в квартиру Недоброво (Кавалергардская, 20). Есть основания полагать, что речь в этих стихах идет о встрече с Блоком после всенощной накануне Вербного Воскресенья, или Входа Господня в Иерусалим. Героиня стихотворения вы ходит со службы, на которой в этот праздник полагается стоять с зажженными свечками («моя рука, закапанная воском»), и [после которой] верующие приносят зажженные в храме свечи домой («А за окном со свечками народ неспешно шел»). Была ли эта встреча случайной или условленной, мы не знаем. Но что в ней был элемент радостной неожиданности — несомненно: Мой голос оборвался и затих — С улыбкой предо мной стоял жених. Героиня стихотворения вскрикивает от неожиданной радости, и первое, что бросается в глаза, — его улыбка. В стихотворении «У меня есть улыбка одна...» есть мотив, являющийся ключевым для всей любовной лирики Ахматовой: Предо мной золотой аналой, И со мной сероглазый жених. Не имеет значения, обращены эти строки к Блоку или нет, поскольку важен сам лиричес кий сюжет «жениха» (или «царевича»), в который на разных этапах своей творческой жизни Ахматова вводила разный биографический материал. Куда важнее, что в стихотворении «Ждала его напрасно много лет...» продолжает жить память о встрече с Блоком, который к тому времени (1916 год) был от Ахматовой уже совершенно далек. И не менее важно, что оно пронизано блоковскими ассоциациями. Стоит вспомнить стихотворение «Вербочки» (1906), написанное о Вербной субботе и вряд ли Ахматовой неизвестное: Мальчики да девочки Свечечки да вербочки Понесли домой. Огонечки теплятся, Прохожие крестятся, И пахнет весной. Ветерок удаленький, Дождик, дождик маленький, Не задуй огня! В Воскресенье Вербное Завтра встану первая Для святого дня. В рукописи этого стихотворения были еще шесть строк, которые Блок выпустил, потому что они показались ему «не синодальными» (Блок, 2, 401): И на сонной улице За углом целуются Невеста и жених. Огонек, не гасни-ка, Быть бы нам у праздника, Не взглянуть на них! Создается ощущение, что Ахматова в своем стихотворении не только повторяет главные, опорные слова-символы блоков-ского стихотворения (теплящиеся огоньки, ветер, невеста и жених), но и говорит как бы от лица «блоковской» девушки, идущей из церкви, чтобы встать утром «первой, для святого дня». Возможно, здесь таится и отгадка стихотворения «8 ноября 1913», в котором лирическая героиня, просыпаясь утром, сравнивает себя с «причастницей» и вспоминает о том, что сегодня — праздник для любимого человека: «Милый, нынче праздник твой» (к нему я ниже еще вернусь). «Вечер богомольный» Вербной Субботы, кроме колокольного звона и свечек, остался памятен «белыми нарциссами на столе», «красным вином в бокале плоском», а, главное, поцелуем «закапанной воском» руки. Эта сдвоенная символика храма и ресторана — тоже блоковская по происхождению — отыскивается все в том же цикле «Город» (стихотворение «Ты смотришь в очи ясным взором...»): Здесь ресторан, как храмы, светел, И храм открыт, как ресторан... Однако в отличие от Блока, стоящего в своей лирике на грани религиозного отчаяния и кощунства, Ахматова, вводя ресторанные реалии внутрь церковного календаря, освящает их символикой Вербного Воскресенья. Исследователи и комментаторы ахматовской лирики, как ни странно, иногда склонны отрицать блоковские подтексты в силу их совершенной очевидности. Так произошло и с июль ским стихотворением 1913 года, написанным в Слепневе: Покорно мне воображенье В изображенье серых глаз. В моем тверском уединенье Я горько вспоминаю Вас. Прекрасных рук счастливый пленник На левом берегу Невы, Мой знаменитый современник, Случилось, как хотели Вы, Вы, приказавший мне: довольно, Поди, убей свою любовь! И вот я таю, я безвольна, Но все сильней скучает кровь. В. М. Жирмунский склонялся к тому, чтобы видеть в адресате этого стихотворения Блока, подкрепляя это следующим соображением: «Современники говорили, что у Л. А. Дельмас, воспетой Блоком в образе Кармен, были прекрасные руки» 15. Однако в 1954 году Ю. Л. Сазонова-Слонимская выдвинула иную версию: «Нам представляется, что в стихах Ахматовой в "Четках": Прекрасных рук счастливый пленник <...> она обращалась к Недоброво, а не к Блоку, как принято считать. Блок не был пленником прекрасных рук и, во всяком случае, это не могло быть его отличительным признаком. О прекрасных руках жены Недоброво говорилось часто, и это как бы было ее особенностью. <...> Н. В. Недоброво мог быть назван пленником по своей обычной покорности жене, которую он полушутя называл "императрицей". Эпитет "знаменитый", не применимый к мало печатавшемуся Недоброво, мог быть либо дружеским преувеличением, либо просто желанием направить критику по ложному следу» 16. Основываясь на этом предположении, М. Кралин не только признал его единственно верным, но и прибавил к нему дополнительные аргументы: «Кроме того, в определении "знаменитый современник" угадывается элемент легкой иронии над увлечением Недоброво своей родословной, которую он возводил к Пушкину. И не случайно Ахматова почти цитирует фразу из пушкинского письма: "Я скучаю в моем псковском уединении"» (Кралин, 1,375) 17. Однако его аргументы разбиваются о трагический и горький тон ахматовского стихотворения, в котором нет места ни «дружескому преувеличению», ни «легкой иронии». И уж совсем не убедительно выглядит мысль о том, что Николай Владимирович Недоброво, влюбленный в Ахматову, зачем-то приказал любимой женщине: «Поди, убей свою любовь!». Н. В. Королева резонно указала, что Недоброво не мог быть адресатом июльского стихотворения, поскольку «близкая дружба Ахматовой и Недоброво началась не раньше зимы 1913/14 г.», а отнести эти стихи к разряду «блоковских» мешает то, что «след острого взаимного интереса» Блока и Ахматовой отыскивается только в «стихах декабря 1913 г. — января 1914 г.» (СС-6, 1, 749). К этому можно добавить, что и увлечение Блока Л. А. Дельмас началось гораздо позже июля 1913 года (их личное знакомство состоялось только 28 марта 1914 года). Следовательно, «прекрасные руки» в ахматовском стихотворении не имеют к Л. А. Дельмас никакого отношения, но не будем забывать ни того, что Блок был для Ахматовой, прежде всего, певцом Прекрасной Дамы, ни того, что в ахматовских стихах о «тверском уединеньи» строчка: «Но все сильней скучает кровь», — перекликается с аналогичным смысловым ходом из стихотворения «Рыбак»: «Все сильней биенье крови / В теле, раненном тоской». Блоковская тема в стихах Ахматовой с осени 1913 года приобретает все большую и большую напряженность и начинает звучать на предельно высокой ноте. В стихотворении, написанном осенью 1913 года («Здравствуй! Легкий шелест слышишь...»), напряженно звучит тема человека, приводящего в отчаяние лирическую героиню своим равнодушием. С ним связана мысль о простой, гармоничной, но недоступной жизни. Здесь хорошо заметно, как драматическая острота любовного чувства балансирует на грани назревающей психологической катастрофы: У тебя светло и просто. Не гони меня туда, Где под душным сводом моста Стынет грязная вода. Мотивы легкости и простоты пронизывают и стихотворение «8 ноября 1913», адресатом которого принято считать М. Л. Лозинского, поскольку речь идет о дне Архистратига Михаила. Этот день сравнивается лирической героиней с праздником причастия: «Оттого и я, бессонная, / Как причастница, спала». Но вряд ли подобная религиозная напряженность могла быть связана у Ахматовой с М. Л. Лозинским, к которому она испытывала нежные дружеские чувства, но не более того. Л. К. Чуковская рассказывает, как она узнала, что М. Л. Лозинский является адресатом стихотворения «Не будем пить из одного стакана». Диктуя поправки к его тексту, Ахматова сказала: "— Михаил Леонидович обиделся, увидав, что я переменила, сделала не так, и вот восстанавливаю по-старому. <...>. "Как! Значит, это ему!", — подумала я, но не произнесла!» (Чуковская-1, 108). Получается, что М. Л. Лозинский был адресатом двух любовных стихотворений, в одном из которых лирическая героиня переживает невозможность «пить из одного стакана», а в другом признается в высоком религиозном настрое любовного чувства. Причем главным препятствием является их разная духовная природа: ее — лунная, его — солярная: «Ты дышишь солнцем, я дышу луною». Их общая духовная близость ощущается лирической героиней только через стихи («Лишь голос твой поет в моих стихах, / В твоих стихах мое дыханье веет») или через известную только ей одной таинственную календарную дату — 8 ноября. Не слишком ли драматично для отношения Ахматовой к Лозинскому? В. Н. Топоров, соглашаясь с тем, что М. Л. Лозинский является наиболее вероятным адресатом этого стихотворения, не исключил, однако, что речь, возможно, идет вовсе не о дне рождения. Он предположил, что здесь может иметься в виду «важнейшее событие в жизни Блока», зафиксированное в дневнике за 1902 год18. Как известно, в ночь с 7 на 8 ноября состоялось решительное объяснение Блока с Любовью Дмитриевной Менделеевой. В кармане у него лежала написанная накануне предсмертная записка — на случай, если объяснение окажется неудачным. Любовь Дмитриевна согласилась стать его женой, и Блок записал в дневнике: «Сегодня 7 ноября 1902 года совершилось то, чего никогда еще не было, чего я ждал четыре года. Кончаю как эту тетрадь, так и тетрадь моих стихов сего 7 ноября (в ночь с 7-го на 8-е). Прикладываю билет, письмо, написанное перед вечером, и заканчиваю сегодня ночью обе тетради. Сегодня — четверг. Суббота — 2 часа дня — Казанский собор. Я — первый в забавном русском слоге о добродетелях Фелицы возгласил. Ал. Блок Город Петербург 7-8 ноября 1902» (Блок, 7, 66). Естественно, Ахматова не могла знать этой дневниковой записи, и потому вполне понятно, почему В. Н. Топоров предпочел довериться не собственной исследовательской интуиции, а внешне логичному предположению М. Б. Мейлаха, поддержанного В. М. Жирмунским относительно совпадения даты рождения М. Л. Лозинского с датой, вынесенной в заглавие ахматовского стихотворения. Но ведь Ахматова могла узнать о том, что произошло в жизни Блока в ночь с 7 на 8 ноября, от него самого. Достаточно было спросить его о причинах отсутствия на собрании «Цеха поэтов» в «Аполлоне» вечером 7 ноября 1912 года, чтобы получить правдивый и точный ответ. И тогда вполне объясняется религиозно приподнятый тон, с которым Ахматова пишет о «празднике» любимого человека. Более того, в стихотворении «8 ноября 1913» дата становится знаком их скрытого от посторонних взглядов поэтического диалога. О том, что ноябрь в ее отношениях с Блоком был особенным месяцем, говорит запечатленный в ее воспоминаниях эпизод о том, как 25 ноября 1913 года она выступала вместе с ним на Бестужевских курсах. Вот как выглядит он в ахматовском изложении: «В Петербурге осенью 1913 года, в день чествования в каком-то ресторане приехавшего в Россию Верхарна, на Бестужевских курсах был большой закрытый (то есть только для курсисток) вечер. Кому-то из устроительниц пришло в голову пригласить меня. Мне предстояло чествовать Верхарна, которого я нежно любила не за его прославленный урбанизм, а за одно маленькое стихотворение "На деревянном мостике у края света". Но я представила себе пышное петербургское ресторанное чествование, почему-то всегда похожее на поминки, фраки, хорошее шампанское, и плохой французский язык, и тосты — и предпочла курсисток. <...> В артистической я встретила Блока» (СС-2, 2, 185). В изложении Ахматовой получается, что она с Блоком оказалась на этом вечере случайно. Но вряд ли, получая приглашение от «бестужевок», она не знала, что Блок зван на этот вечер. П. Н. Лукницкому она рассказывала об этом эпизоде так: «Осень. В тот день, когда Николай Степанович был на чествовании Верхарна, приезжавшего в Петербург (чествование происходило в каком-то ресторане. Николай Степанович даже приветствие говорил. АА не пошла туда, считая это малоинтересным для себя), АА вместе с Блоком выступала на Бестужевских курсах, где был закрытый вечер» (Лукницкий-2, 30-31). И тогда совершенно по-другому выглядит следующее место из «Воспоминаний о Блоке»: «Я спросила его, почему он не на чествовании Верхарна. Поэт ответил с подкупающим прямодушием: "Оттого, что там будут просить выступать, а я не умею говорить по-французски"» (СС2,2, 185). Гумилев, слушавший в Сорбонне лекции по французской литературе, переводивший французских поэтов и путешествовавший по Африке, которая тогда была в основном франкоязычной, вряд ли имел «плохой французский язык». Этот контраст делал признание Блока особенно запоминающимся. А, главное, получается, что Ахматова выбирала не между курсистками и Верхарном, а между Блоком и Гумилевым, который должен был говорить «приветствие» бельгийскому гостю. Вероятно, тогда же произошел и инцидент, о котором Ахматова лаконично вспоминает в «Записных книжках»: «Бл<ок> и студент-распор<ядитель> на бл<оковском> вечере, кот<орого> Бл<ок> уговаривал не провожать нас в машине, пот<отому> что он простудится» (ЗК, 223). Дневник Корнея Чуковского сохранил записанный в 1923 году более пространный рассказ Ахматовой об этом случае. Причем в нем, как и в «Воспоминаниях о Блоке», тоже фигурировала «артистическая»: «И вот в артистической — Блок захотел поговорить со мной о моих стихах и начал: "Я недавно с одной барышней переписывался о ваших стихах". А я дерзкая была, и говорю ему: "Ваше мнение я знаю, а скажите мне мнение барышни..." Потом подали автомобиль, Блок опять хотел заговорить о стихах, но с нами сел какой-то юноша-студент. Блок хотел от него отвязаться: "Вы можете простудиться", сказал он ему (это в автомобиле-то простудиться!). "Нет! — сказал студент, — я каждый день обливаюсь холодной водой... Да если бы и простудился — я не могу не проводить таких дорогих гостей!"». Рассказ Ахматовой, записанный Корнеем Чуковским, имел всю ту же цель — доказать тем, кто полагал, что у нее был роман с Блоком, обратное. Там же Чуковский зафиксировал ее слова: «Это неверно. Любить его как мужчину я не могла бы. Притом ему не нравились мои ранние стихи» 19 . Но вряд ли Блок хотел в тот вечер остаться с ней один на один только для того, чтобы сообщить, что ему не нравятся ее стихи. И вряд ли студент-распорядитель мог помешать желанию Блока поговорить с Ахматовой. В стихах 1913 года появляются опознавательные знаки мест, которые для Ахматовой были связаны скорее всего с Блоком — в частности, в небольшом диптихе «Стихи о Петербурге»: Сердце бьется ровно, мерно. Что мне долгие года! Ведь под аркой на Галерной Наши тени навсегда. Сквозь опущенные веки Вижу, вижу, ты со мной, И в руке твоей навеки Нераскрытый веер мой. Оттого, что стали рядом Мы в блаженный миг чудес, В миг, когда над Летним садом Месяц розовый воскрес... Речь идет о прогулке (или прогулочном маршруте), топонимика которой определена Сенатской площадью, набережной Невы и Летним садом. В круг этих реалий включена «арка на Галерной». Блок жил на улице Галерной (дом № 41, кв. № 4) в 1907-1910-м годах, и, вероятнее всего, показал его Ахматовой. Маршрут от Галерной до Летнего Сада настолько отпечатался в памяти Ахматовой, что она включила его в «Поэму без героя»: На Галерной чернела арка, В Летнем тонко пела флюгарка... Таинственная «флюгарка», как убедительно показал В. Н. Топоров 20, пришла из блоковского стихотворения «Моей матери», вошедшего в «Книгу вторую» (цикл «Разные стихотворения»): Тихо. И будет все тише. Флаг бесполезный опущен. Только флюгарка на крыше Сладко поет о грядущем. ................... Сладки мне песни флюгарки: Пой, петушок оловянный! Флюгаркой, как известно, называется вращающаяся часть флюгера, которая часто оформлялась в виде петуха и, скрипуче поворачиваясь, «пела» на ветру. Вероятно, это «пенье» было не только слышано ею в Летнем саду, но и связано именно с Блоком во время прогулки до Летнего сада в «блаженный миг чудес». В ноябре 1913 года Ахматовой запомнились не только арка, соединяющая здания Сената и Синода и служащая проходом на Галерную улицу, но и венчающие ее чугунные ангелы, которые упомянуты в другом стихотворении: Как ты можешь смотреть на Неву, Как ты смеешь всходить на мосты? Я недаром печальной слыву С той поры, как привиделся ты. Черных ангелов крылья остры, Скоро будет последний суд. И малиновые костры, Словно розы, в снегу цветут. Возможно, Блок показал ей не только дом на Галерной, но и «красный» ректорский дом, в котором жил его дед Андрей Николаевич Бекетов и в спальне которого на верхнем этаже родился сам поэт. Так легко объясняются строки из стихотворения «О тебе вспоминаю я редко...»: Красный дом твой нарочно миную, Красный дом твой над мутной рекой, Но я знаю, что горько волную Твой пронизанный солнцем покой. В том же стихотворении речь шла о желании «второй», «неизбежной» встречи с его адресатом: Я над будущим тайно колдую, Если вечер совсем голубой, И предчувствую встречу вторую, Неизбежную встречу с тобой. С Блоком связано и еще одно ахматовское стихотворение, в заглавие которого стоит дата — «9 декабря 1913» (опубликованное, кстати, лишь в 1916 году). В. А. Черных предположил, что она связано с предстоящим визитом Ахматовой к Блоку в декабре 1913 года: «Само по себе превращение календарной даты (дня зимнего солнцестояния) в название стихотворения говорит о том, что этой дате (за 6 дней до визита к Блоку) автор придавал особое значение. Двумя днями раньше, 7 декабря, Блок и Ахматова, по-видимому, встретились на лекции В. А. Пяста "Поэзия вне групп" в зале Тенишевского училища. Может быть, именно в эти дни Ахматова условилась с Блоком о своем визите, и стихотворение "9 декабря 1913 года" написано как бы в предвосхищении встречи» 21. Это стихотворение подтверждает одну общую особенность сюжета любовной лирики Ахматовой, как правило, вписанного в структуру календаря — народного, связанного с приметами года, и церковного, в котором выделены сакральные дни или темпоральные промежутки в потоке профанного времени: Самые темные дни в году Светлыми стать должны. Я для сравнения слов не найду – Так твои губы нежны. Только глаза подымать не смей, Жизнь мою храня. Первых фиалок они светлей, А смертельные для меня. Вот поняла, что не надо слов, Оснеженные ветки легки... Сети уже разостлал птицелов На берегу реки. Ожидание встречи с любимым человеком уподоблено нарастанию света в природе, а потому опасность и коварство любовной ситуации (мотивы смертельных глаз и разостланных сетей) перекрываются ощущением нарастающего света и праздничной легкости. Праздник в церковном календаре — это ведь и есть «светлый день». Если «первая встреча» с Блоком состоялась в апрельскую Вербную Субботу, то ясно, что «первые фиалки» — это «апрель» в декабре, или, говоря словами самой Ахматовой, «пятое время года», которое несоизмеримо с реальным природным календарем. Позднее в стихотворении «Небывалая осень построила купол высокий...» возникнет похожий смысловой ход: любовная встреча будет изображена как весна в сентябре («весенняя осень»). Скрытым указанием на блоковский подтекст является мотив «глаз», которые лирическая героиня считает для себя «смертельными». В. А. Черных точно отметил, что во многих «блоковских» стихотворениях Ахматовой настойчиво повторяется мотив глаз, несущих опасность 22. Он выделял в связи с этим цикл «Смятение», написанный в феврале 1913 года: Было душно от жгучего света, А взгляды его — как лучи. --Не любишь, не хочешь смотреть? --И загадочных, древних ликов На меня поглядели очи... В стихотворении «9 декабря 1913» лирическая героиня адресат поменялись местами: теперь она умоляет его не подш мать глаз, которые воспринимает для себя как «смертельные: Можно вспомнить похожую деталь и в «Стихах о Петербурге) где лирическая героиня зорко смотрит на своего спутник «сквозь опущенные веки». Хорошо заметно, что в стихах Ахматовой с апреля 1911-г по декабрь 1913-го речь идет о глазах одного и того же персе нажа: «А глаза синей, чем лед»; «А взгляды его — как лучи* «Первых фиалок они светлей»; «Ясно смотрит на меня». Он ясны и наполнены светом, но в них уже ощущается нечто та кое, с чем лучше бы не иметь дела. В цикле «Смятение» эти глаза названы «очами», которы глядят «загадочней древних ликов», то есть икон. В «Записны книжках» Ахматова, вспоминая о посещении Кирилловског монастыря в Киеве, пишет о «Богородице с сумасшедшими гла зами», а через абзац та же деталь повторена в описании БЛОКЕ «И снова я встречаю в театральной столовой исхудалого Блок с сумасшедшими глазами» (ЗК, 672). Наконец, в стихотворении «Я пришла к поэту в гости...: (январь 1914), описывающем ее визит к Блоку 15 декабря 1911 года, так же присутствует тема глаз: Как хозяин молчаливый Ясно смотрит на меня. У него глаза такие, Что запомнить каждый должен; Мне же лучше, осторожной, В них и вовсе не глядеть. И здесь лирическая героиня тоже видит своего собеседни ка, не поднимая на него глаз. Ахматова не сразу поняла, что Блок не вписывается в любовный сюжет ее лирики в качестве «сероглазого жениха», поскольку эта роль раз и навсегда уже была сыграна им в «Стихах о Прекрасной Даме», где главной была идея мистического брака. Впоследствии она говорила П. Н. Лукницкому: «У Блоков рано измены начались — и с той, и с другой стороны. У Блока был роман с Чулковой, у Л. Д. с... — АА назвала, я не помню. — Но, во всяком случае, это был <i>брак</i>, а не то, что было у Н. С. Разве можно считать, что он был в браке с Анной Николаевной? Или со мной? Разве <i>это был брак</i>?» (Лукницкий-1, 180). На первый взгляд, непонятно, почему Ахматова считала, что у Блока «был брак» с Любовью Дмитриевной, а у Гумилева с ней не было, хотя и в обоих случаях и с обеих сторон имели место «измены»? Все дело в том, что для Блока его мистический брак с «Любой» оставался нерушимым, несмотря ни на какие «измены». Ахматова с горечью ощущала, что именно этого ей не дано. Но и Ахматова не могла войти в сюжет блоковской лирики, где действующими лицами были Снежная маска или Кармен, никогда не имевшие статуса Прекрасной Дамы. Л. К. Чуковская записала, как на ее вопрос, хороши ли посвященные ей стихи Асеева, получила следующий ответ: «— Я — виновница лучших стихов Асеева и худшей строки Блока: "Красный розан в волосах". Сказал бы: "с красной розой" — уж красивее, правда? А то этот ужасающий, безвкусный розан» (Чуковская, 3, 59). О бло-ковском мадригале, в котором Ахматова предстала с «красным розаном в волосах», ниже еще пойдет речь, а пока лишь замечу, что в этих словах звучит точное понимание, насколько она не соответствует стилистике посвященного ей стихотво рения. Однако в ахматовских стихах 1913 года есть одна явная попытка ввести свою лирическую героиню в пространство лирического сюжета Блока — стихотворение «Плотно сомкнуты губы сухие...», до сих пор не получившее сколько-нибудь удовлетворительного истолкования: Плотно сомкнуты губы сухие, Жарко пламя трех тысяч свечей. Так лежала княжна Евдокия На душистой сапфирной парче. И, согнувшись, бесслезно молилась Ей о слепеньком мальчике мать, И кликуша без голоса билась, Воздух силясь губами поймать. А пришедший из южного края Черноглазый, горбатый старик, Словно к двери небесного рая, К потемневшей ступеньке приник. В. М. Жирмунский убедительно предположил, что речь идет о великой княгине Евдокии, супруге Димитрия Донского, незадолго до своей смерти постригшейся под именем Евфросинии и впоследствии канонизированной Русской Православной Церковью (Жирмунский, 458) 23. Стихотворение свидетельствует о детальном знакомстве Ахматовой с житием св. Евфросинии, которую погребали при огромном стечении народа («жарко пламя трех тысяч свечей»). Плотно сомкнутые «губы сухие» напоминают о немоте, которая настигла великую московскую княгиню после явления ангела, предсказавшего ей кончину. Евдокия была не только женой Димитрия Донского, но и его духовной сподвижницей. Вместе с ним она молилась в Архангельском соборе перед выступлением русского войска из Москвы на Дон, а потом в одиночку — в течение всей битвы. У Спасских ворот она встречала войско своего мужа, вернувшегося с победой, и в память о Мамаевом побоище не только построила храм Рождества Богородицы в Московском Кремле, но и положила основание празднику победы на Куликовом поле. В 1395 году, когда Тамерлан вступил в пределы Руси и занял Елец, по совету Евдокии из Владимира была доставлена икона Пресвятой Богородицы. В день встречи иконы в Москве 26 августа Тамерлан неожиданно оставил Елец и ушел обратно в степь. По преданию, во сне он увидел небесное воинство со Светозарной Женой во главе и, проснувшись, отдал приказ об отступлении. Таким образом, «черноглазый, горбатый старик» приходит к героине ахматовского стихотворения «из южного края» не случайно. Именно на юге дважды была спасена Русь — один раз от войска Мамая великим князем Димитрием Донскими, другой раз — заступничеством Владимирской Божией Матери, перед образом которой молилась Евдокия. Старик припадает к смертному ложу великой княгини «словно к двери небесного рая», но точно так же просят помощи у нее мать слепенького мальчика и кликуша, ловящая губами воздух. Достаточно вспомнить о том, что, по житию, Евдокия неожиданно для себя получила дар исцеления в тот момент, когда ее попросил об этом нищий-слепец. Но если перед нами не историческая стилизация, а лирическое стихотворение, написанное по конкретному поводу, то не будет натяжкой предположить, что это попытка вступить в диалог с автором цикла «На поле Куликовом». О том, что этот цикл у Ахматовой был на слуху, говорит надпись Гумилева на своей фотографии, присланной с фронта в октябре 1914 года: «Анне Ахматовой. "Я не первый воин, не последний, Долго будет родина больна... Помяни ж за раннею обедней Мила друга, тихая жена!" А. Блок» (Лукницкий-2, 324). Разумеется, Гумилев надписал на своем фото строки, которые были близки не только ему, но и Ахматовой. Иными словами, «княжна Евдокия» в ахматовском стихотворении и есть та «тихая жена», которая связана с «милым другом» прочными духовными узами. Ахматова разыгрывает диалог с лирическим героем блоковского цикла, который просит помощи и благословения у некоего высшего женского начала, именуемого «Ты»: В темном поле были мы с Тобою, Разве знала Ты? <...> Слышал я Твой голос сердцем вещим В криках лебедей. «Она» подает ему помощь перед решающим сражением: И с туманом над Непрядвой спящей Прямо на меня Ты сошла, в одежде свет струящей, Не спугнув коня. Серебром волны блеснула другу На стальном мече, Освежила пыльную кольчугу На моем плече. Но в разгар битвы он чувствует роковую нехватку воли и духовную растерянность: Объятый тоскою могучей, Я рыщу на белом коне... Встречаются вольные тучи Во мглистой ночной вышине. Вздымаются светлые мысли В растерзанном сердце моем, И падают светлые мысли, Сожженные темным огнем... «Явись, мое дивное диво! Быть светлым меня научи!» Вздымается конская грива... За ветром взывают мечи... В ахматовском стихотворении к «княжне Евдокии» обращаются за помощью как к источнику высшей духовной силы, хотя сама она уже объята последней смертной немотой. В контексте блоковского цикла «На поле Куликовом» лирическая героиня Ахматовой выступает духовной помощницей тому, кто в момент решающего боя внезапно переживает безволие и растерянность. В. Н. Топоров справедливо отметил, что в «Поэме без героя» Ахматова «подстраивает» к схеме «Шагов командора» свою партию, свой голос 24. Но подобная «подстройка» началась уже в 1913 году и связана она была с циклом «На поле Куликовом», отзвуки которого будут отчетливо прослушиваться и в ее более поздних стихах. Однако об этом — в свое время. 3. «Я пришла к поэту в гости...» Через три дня после совместного с Ахматовой выступления на Бестужевских курсах (25 ноября 1913) Блок пишет стихотворение «Седое утро», окончательная редакция которого датируется 29 ноября. Как полагает Алла Марченко, отметившая это совпадение, некоторые детали «Седого утра», носят «ахматовское» происхождение 25 (в частности, «браслет», звякающий при прощанье с женщиной). В данном случае встреча с Ахматовой по непонятным нам причинам стимулировала Блока вернуться к стихотворным наброскам, сделанным в июле 1911 года, и доработать их до завершенного текста. Однако, «браслет» в этих набросках уже фигурировал в черновых [вариантах] и потому к Ахматовой он не имеет никакого отношения. Об истории этих набросков мы знаем сразу по двум блоковским письмам. Одно из них, от 3 июля 1911 года, адресовано В. Пясту: «Вчера я взял билет в Парголово и ехал на семичасовом поезде. Вдруг увидал афишу в Озерках: цыганский концерт. Почувствовал, что здесь — судьба <...> я остался в Озерках. И действительно: они пели бог знает что, совершенно разодрали сердце; а ночью в Петербурге под проливным дождем на платформе та цыганка, в которой, собственно, и было все дело, дала мне поцеловать руку — смуглую с длинными пальцами — всю в броне из колючих колец» (Блок, 8, 350). Другое, от 5 июля, — матери: «В субботу я поехал в Парголово, но не доехал; остался в Озерках на цыганском концерте, почувствовав, что здесь — судьба. И действительно, оказалось так. Цыганка, которая пела о множестве миров, потом говорила мне необыкновенные вещи, потом — под проливным дождем в сумерках ночи на платформе — сверкнула длинными пальцами в броне из острых колец <...>» (Блок, 8, 351). И, наконец, Блок зафиксировал этот эпизод в записной книжке (запись от 3 июля) (Блок, ЗК, 183). Общение с Ахматовой пробудило в Блоке воспоминания двухлетней давности, не получившие тогда, в 1911 году завершенного творческого воплощения. Но, кроме того, в ее облике было нечто такое, что вызвало в Блоке обращение к еще одному пласту памяти. 12 декабря, за три дня до того, как она пришла в блоковскую квартиру на Пряжке он пишет стихи, адресата которых вполне можно идентифицировать с Ахматовой. Речь идет о женщине, которая преследует лирического героя взглядами, но одновременно избегает встречаться с ним глазами: Ваш взгляд — его мне подстеречь... Но уклоняете вы взгляды... Да! Взглядом — вы боитесь сжечь Меж нами вставшие преграды! Когда же отойду под сень Колонны мраморной угрюмо И пожирающая дума Мне на лицо нагонит тень, Тогда — угрюмому скитальцу Вослед скользнет ваш беглый взгляд, Тревожно шелк зашевелят Трепещущие ваши пальцы. К ланитам хлынувшую кровь Не скроет море кружев душных, И я прочту в очах послушных Уже ненужную любовь. Тем же числом датированы еще два блоковских стихотворения, обращенных, судя по всему, к тому же адресату. В одном из них («Я вижу блеск, забытый мной...») возникает ситуация, явно нуждающаяся в комментарии: Я вижу блеск, забытый мной, Я различаю на мгновенье За скрипками — иное пенье, Тот голос низкий и грудной, Каким ответила подруга На первую любовь мою. Его доныне узнаю В те дни, когда бушует вьюга, Когда былое без следа Прошло, и лишь чужие страсти Напоминают иногда, Напоминают мне — о счастьи. Речь идет о чьем-то «голосе низком и грудном», напомнившем автору стихотворения «подругу», которая когда-то ответила взаимностью на его первую любовь. И хотя «былое без следа прошло», «чужая страсть» напоминает ему о собственных молодости и «счастьи». Подруга, о которой идет речь, легко вычитывается из цикла «Через двенадцать лет», работа над которым была начата Блоком в июне 1909-го в Бад Наугейме и продолжалась вплоть до 1914 года. Цикл был посвящен первой любви Блока Ксении Михайловне Садовской (1862 -1925), «давней и милой тени, от которой не осталось и связки писем» (Блок, 8, 349). Толчком для него послужил слух о ее смерти, оказавшийся впоследствии ложным. Вот что писала о К. М. Садовской тетка поэта М. А. Бекетова: «Это была высокая, статная, темноволосая дама с тонким профилем и великолепными синими глазами. Была она малороссиянка, и ее красота, щегольские туалеты и смелое, завлекательное кокетство сильно действовали на юношеское воображение. Она первая заговорила со скромным мальчиком, который не смел поднять на нее глаз, но сразу был охвачен любовью. <...> Первая любовь оставила неизгладимый след в душе поэта»26. Итак, в декабре 1913 года Блок видит чьи-то глаза и слышит чей-то голос, напоминающий ему о первой любви. Более того, он сталкивается с тем же самым типом красоты, который в юности вызвал в нем первую любовь: Твой южный голос томен. Стан Напоминает стан газели, А я пришел к тебе из стран, Где вечный снег и вой метели. Мне странен вальса легкий звон И душный облак над тобою. Ты для меня — прекрасный сон, Сквозящий пылью снеговою. И я боюсь тебя назвать По имени. Зачем мне имя? Дай мне тревожно созерцать Очами жадными моими Твой южный блеск, забытый мной, Напоминающий напрасно День улетевший, день прекрасный, Убитый ночью снеговой. Образ женщины, у которой «голос низкий и грудной», «южный голос», «южный блеск», «стаи газели», «послушные очи», но которая, однако, постоянно «уклоняет взгляды» — вот что объединяет все три блоковские стихотворения в единое целое. Вероятно, в эти дни решался (или уже был решен) вопрос о визите Ахматовой. Алла Марченко полагает, что «южная» внешность «г-жи Гумилевой» вряд ли могла импонировать Блоку: «<...>Если и сквозило в ней что-то не петербургское, южное, то опятьтаки в слишком уж простом, балаклавском варианте, что-то от прямых, высоких, длинноногих причерноморских гречанок, так трогательно похожих на византийских мадонн. Но этот тип, пленявший Куприна, "голландцу" Блоку был чужд и даже неприятен; как художнику ему нечего было с ним делать» 27. Здесь схвачено главное — Блока задел тип женской красоты, представший перед ним в облике Ахматовой. Все остальное («балаклавский вариант», «византийские мадонны», «голландец») оставим на совести автора эссе. Именно этот тип напомнил Блоку давно забытое, мертвое прошлое, на мгновенье воскрешенное памятью. Поэтому и любовь женщины в его стихах сравнивается с «прекрасным сном», с «улетевшим», «убитым пылью снеговой» днем и в итоге названа «ненужной». Позднее в апреле 1921 года в разговоре с Корнеем Чуковским Блок на вопрос собеседника о судьбе К. М. Садовской ответил: «Я надеюсь, что она уже умерла», — и тут же заговорил об Ахматовой: «Ее стихи никогда не трогали меня» 28. Нужно, конечно, сделать поправку на тяжелое психическое состояние Блока, которому осталось жить чуть больше трех месяцев, но в принципе запись в дневнике Чуковского точно передает суть его отношения к Ахматовой. Стоит обратить внимание еще на одно стихотворение Блока, которое он начал писать в день визита Ахматовой 15-го декабря, а закончил 18-го. Процитирую его с некоторыми сокращениями: Есть игра: осторожно войти, Чтоб вниманье людей усыпить; И глазами добычу найти; И за ней незаметно следить. Как бы ни был нечуток и груб Человек, за которым следят, Он почувствует пристальный взгляд Хоть в углах еле дрогнувших губ. А другой — точно сразу поймет: Вздрогнут плечи, рука у него; Обернется — и нет ничего; Между тем — беспокойство растет. <...> Есть дурной и хороший есть глаз, Только лучше б никто не следил: Слишком много есть в каждом из нас Неизвестных играющих сил... <...> А пока — в неизвестном живем И не ведаем сил мы своих, И, как дети, играя с огнем, Обжигаем себя и других... Здесь явно просятся в параллель ахматовские строки, написанные не позже ноября 1913 года: У меня есть улыбка одна: Так, движенье чуть видное губ. Для тебя я ее берегу – Ведь она мне любовью дана. Создается ощущение, что их-то и имел в виду Блок, когда писал о «пристальном взгляде», который заметен «в углах еле дрогнувших губ». Поскольку женщина избегает встреч глазами, то ее «невидимый взгляд» можно узнать лишь по движенью губ: у Ахматовой это — «движенье чуть видное губ», у Блока — «углы еле дрогнувших губ». Возможно, Блок обратил внимание на это стихотворение по публикации в № 8 «Гиперборея» (ноябрь 1913), но, может быть, Ахматова прочла ему эти стихи сама. Во всяком случае стихотворение «Есть игра: осторожно войти...» настолько выбивается из общего сюжета блоковской лирики, что его появление можно объяснить лишь неожиданным вторжением какого-то сильного психологического фактора. И все же это является лишь косвенными «уликами», для подтверждения которых нет доказательств, но и для опровержения — тоже. Иное дело прямой поэтический диалог Блока и Ахматовой, состоявшийся в декабре 1913 — январе 1914 годов и опубликованный, по его настоянию, в журнале В. Э. Мейерхольда «Любовь к трем апельсинам». В «Воспоминаниях о Блоке» обстоятельства возникновения этого диалога представлены следующими образом: «В одно из последних воскресений тринадцатого года я принесла Блоку его книги, чтобы он их надписал. На каждой он написал просто: "Ахматовой — Блок" <...>. А на третьем томе поэт написал посвященный мне мадригал "Красота страшна, вам скажут..."» (СС-2, 2, 186). В. М. Жирмунский комментировал эту ситуацию так: «О предстоящем приходе Ахматовой и ее просьбе надписать книги Блок, очевидно, был предупрежден поэтессой заранее. Свой «мадригал», как показывают черновики, опубликованные В. Н. Орловым, он писал накануне и не сразу нашел его форму»29. Однако В. А. Черных, уточнив, что Ахматова была у Блока не 16 декабря, а 15-го, сделал совершенно неоспоримый вывод о том, что стихи писались «не в ожидании визита Ахматовой, а после него, иод впечатлением беседы с ней» 30. Да и в ответном ахматовском стихотворении «Я пришла к поэту в гости...» сказано ясно и точно: «Но запомнится <i>беседа</i>...» (курсив мой. — В. М.). В «Воспоминаниях о Блоке» она привела лишь одно место из состоявшегося между ними разговора: «В тот единственный раз, когда я была у Блока, я между прочим упомянула, что поэт Бенедикт Лившиц жалуется на то, что он, Блок, одним своим существованием мешает ему писать стихи. Блок не засмеялся, а ответил вполне серьезно: "Я понимаю это. Мне мешает писать Лев Толстой"» (СС-2, 2, 186). Но ведь не о Бенедикте Лившице беседовали они с Блоком. Следовательно, о том, что ей тогда запомнилось, в ее «Воспоминаниях» просто не сказано. Вероятнее всего, Ахматова, никогда ничего не забывавшая просто так, «вынула» эту беседу из своей памяти. А молчать она умела так же хорошо, как и помнить. Позднее Блок говорил Корнею Чуковскому о случайности ее декабрьского визита: «Ахматову я знаю мало. Она зашла ко мне как-то в воскресение (см. об этом ее стихи), потому что гуляла в этих местах, потому что на ней была интересная шаль, та, в к-рой она позировала Альтману»31. Это было чисто джентльменским нежеланием компрометировать ее как женщину. Ахматова описала свой визит к Блоку совершенно иначе. Из ее «мемуара» выходило, что она пришла для того, чтобы получить надписи на его книгах. Блок, действительно, надписал ей книги, но сделал это после ее ухода не ранее следующего дня и, возможно, отнюдь не по ее инициативе, а по своей. Во всяком случае, Ахматова получила их только 5 или 6 января, а 6 или 7 отправила ему письмо: «Знаете, Александр Александрович, я только вчера получила Ваши книги. Вы спутали номер квартиры, и они пролежали все это время у кого-то, кто с ними расстался с большим трудом. А я скучала без Ваших стихов. Вы очень добрый, что надписали мне так много книг, а за стихи я Вам глубоко и навсегда благодарна. Я им ужасно радуюсь, а это удается мне реже всего в жизни. Посылаю Вам стихотворение, Вам написанное, и хочу для Вас радости. (Только не от него, конечно. Видите, я не умею писать, как хочу)» 32. Последняя фраза («я не умею писать, как хочу») — единственный отголосок той «беседы», которую Ахматова предпочла «забыть». В ответном письме от 18 января Блок извинялся: «Простите меня, что перепутал № квартиры, я боялся к Вам звонить и передал книги дворнику» 33. Поскольку из ответного письма Ахматовой выясняется, что она не ожидала получить от Блока «так много книг», Н. В. Королева предположила, что Блок прибавил «к принесенным ею еще какие-то свои» (СС-6, 1, 771). Однако по-прежнему неясно, принес Блок надписанные книги по просьбе Ахматовой или же по собственному желанию. Мы знаем, что она получила от Блока «Стихи о Прекрасной Даме», «Ночные часы», «Книгу вторую» и «Книгу третью» из «Собрания стихотворений». Мадригал он надписал на последней, а на остальных оставил инскрипты: «Анне Ахматовой. <Александр Блок> 1913»; «Анне Ахматовой. <Александр Блок>»; «Анне Ахматовой. Александр Блок 1913» 34. В связи с этим возникает много вопросов. Если Ахматова действительно принесла какие-то из этих книг для надписи, что помешало ему надписать их сразу же? Оставил ли он их у себя или она по какой-либо причине забыла о них? Когда он решился нанести Ахматовой ответный визит и почему «боялся звонить» и «передал книги дворнику»? Под мадригалом стоит дата 16 декабря 1913, но дата ли это написания стихотворения или дата инскрипта? Получила Ахматова в январе 1914 от Блока принесенные ею книги (с прибавлением по инициативе Блока каких-то иных) или они были для нее полной неожиданностью? Ответить на все эти вопросы невозможно, хотя есть косвенное подтверждение того, что Ахматова не ожидала получить блоковские книги в качестве подарка. П. Н. Лукницкий с ее слов простодушно зафиксировал: «А. Блок как-то пришел к АА и все книги сразу надписал» (Лукницкий-1, 30). Получается, что не Ахматова приходила к Блоку за книгами, а он пришел к ней, чтобы эти книги подарить. Похоже, версия о мотивах визита к Блоку, изложенная позднее в ее «мемуаре», в 1925 году еще не возникла. Что представляет собою суть стихотворения «Красота страшна, — Вам скажут...», кроме желания Блока «испанизировать» своего адресата? Сама Ахматова пыталась найти ее разгадку в сохранившихся черновых набросках блоковского «мадригала». Вот как вспоминает об этом Вяч. Вс. Иванов: «В 1960 г. вышел третий том сочинений Блока, из которого Ахматова узнала о некоторых вариантах и черновиках обращенного к ней стихотворения. В тот день у Ардовых она говорила только об этом, толкуя разночтения всегда ее занимавших строк: "Не страшна и не проста я...". Ей, видно, всегда хотелось понять, что стояло за тем бло-ковским стихотворением 1913 г. И спустя почти полвека каждая новая строка черновика снова помогала ей в любимом занятии — расшифровке того, что стоит за стихотворением. Она возвращалась и к каноническому его тексту, было видно, что она его хорошо знает» (Воспоминания, 482). Для себя Ахматова даже сделала выписку из черновиков Блока с пометой: «Первый набросок» 35. Из «Записных книжек» хорошо видно, что привлекло ее внимание в черновике: «<...> но так как я, кажется, обещала доказать кому-то, что Блок считал меня по меньшей мере ведьмой, напомню, что в его мадригале мне (ц<итата>), среди черновых набросков находится такая строчка: "Кругом твердят — <u>вы Демон</u>, вы красивы..." (СПБ, 1913, дек<абрь>), да и самое предположение, что воспеваемая дама "Не так проста, чтоб просто убивать...", — комплимент весьма сомнительный» (ЗК, 670). В другом месте «Записных книжек» она пометила: «Ср. с его (Блока. — В. М.) черновиком мадригала "Красота страшна...": "Кругом шумят — вы <u>демон</u>, вы красивы" и в дневнике: "Она меня уже волнует" (1911 г.)» (ЗК.661). Ахматова хорошо понимала, что если блоковское стихотворение является дежурным комплиментом, то весьма «сомнительным». В итоге она пришла к мысли, что Блок в данном случае сознательно отстранился от чего-то «демонического» в ней. Не случайно, цитируя блоковскую строчку, она оба раза подчеркнула слово «демон». В ответ на признание Л. К. Чуковской в непонимании этого стихотворения, Ахматова, ответив, что она его тоже не понимает, добавила: «Одно ясно, что оно написано вот так, — она сделала ладонями отстраняющее движение: "не тронь меня"» (Чуковская, 1, 218). Алла Марченко уверена в том, что резкое отстранение Блока от Ахматовой произошло в результате его отношения к «Четкам», как к «дамскому любовному роману», который совпадал «с тем типом отношений, какие упорно навязывала Блоку Наталья Николаевна Скворцова» 36 . Но Блок установил между собой и Ахматовой дистанцию в декабре 1913-январе 1914 года, то есть до получения в подарок «Четок», вышедших в марте 1914-го. Его, похоже, тревожило, что общение с Ахматовой сначала оживило память об июльской встрече с цыганкой в 1911 году, затем о К. М. Садовской. Причем это были воспоминания, ко торые в свое время оказались для него сильнейшим потрясением. Ахматова, таким образом, «демонически» воздействовала на внутренний мир Блока, а он подобных психологических вторжений не любил. Его мадригал был попыткой нейтрализовать пугающую сторону личности этой странной женщины. Но до мадригала Блок написал еще одно стихотворение, обращенное к Ахматовой «О нет, не расколдуешь сердца ты...», датированное 15 декабря 1913 года, то есть в день ее визита. Правда, В. Н. Орлов утверждал, что оно обращено к Л. Д. Бло но стоит согласиться с В. А. Черныхом, что это «никак не арг ментировано и не представляется убедительным» 37. Действительно, его начало представляет собою обращеш к женщине, облик которой плохо вяжется с Любовью Дмитр! евной Блок: О, нет! Не расколдуешь сердца ты Ни лестию, ни красотой, ни словом. Я буду для тебя чужим и новым, Все призрак, все мертвец, в лучах мечты. Женщина, упоенная «<i>красивыми</i> мечтами» (курсив Блока. - В. М), пытается «расколдовать» сердце лирического героя «л( стью» и «красотой», но не в состоянии достичь своей цели. О же, в свою очередь, пророчит ей, что в будущем она будет хоре нить его и даже украсит цветами его могилу, после чего состоится еще одна встреча — но только уже не с ним, а с его тенью: И тень моя пройдет перед тобою В девятый день и день сороковой – Неузнанной, <i>красивой</i>, неживою. Такой ведь ты искала? — Да, такой. Когда же грусть твою погасит время, Захочешь жить, сначала робко, ты Другими снами, сказками не теми... И ты <i>простой</i> возжаждешь красоты. (курсив Блока. — В. М.). Ее любовь к нему является «недугом», который она пре одолеет в своей будущей жизни с кем-то другим, возжажда; «простой красоты». Однако, жестоко разочаровавшись в свое» «новом друге», «знакомом» и «долгожданном», она снова вспом нит о том, кто когда-то предстал перед ней «мертвецом в луча: мечты»: Забудешь ты мою могилу, имя... И вдруг — очнешься: пусто; нет огня; И в этот час, под ласками чужими, Припомнишь ты и призовешь — меня! <...> Ты проклянешь, в мученьях невозможных, Всю жизнь за то, что некого любить! Но есть ответ в моих стихах тревожных: Их тайный жар тебе поможет жить. Новой встречей для нее окажется встреча не с ним самим, а с «тайным жаром» его стихов, то есть с тем, что было в «призраке» и «мертвеце» подлинно настоящим и живым. Мы не знаем, когда Блок написал эти стихи — до или после прихода Ахматовой. Возможно, они были заранее обдуманным ответом на ее визит. Во всяком случае, в них объяснялось, что любовь женщины к лирическому герою стихотворения является «ненужной», ибо он — «мертвец». И это не удивительно, ибо первая любовь воспринималась Блоком в связи с прошлым, которое «умерло», о чем говорят стихи из цикла, посвященного К. М. Садовской: В листьях матовых шурша, Шелестит еще душа, Но за бурей страстных лет Все — как призрак, все — как бред, Все, что было, все прошло, В прудовой туман ушло. И, следовательно, сам он, любивший ее когда-то, тоже «умер». Все эти мотивы логично смотрятся в контексте раздела «Страшный мир» (1909-1916) из третьего тома блоковской лирики, особенно в контексте циклов «Пляски смерти» и «Жизнь моего приятеля». Центральное место в них занимает образ мертвеца, утратившего душу, но притворяющегося «живым и страстным». «Сердце — крашеный мертвец» — эта формула была создана Блоком 30 декабря 1913 года, то есть две недели спустя после визита Ахматовой. В стихотворении «О, нет! Не расколдуешь сердца ты...» говорится о внутренней обреченности, о красоте, за которой скрываются опустошенность и смерть. И поскольку оно адресовано живой женщине, здесь отчетливо звучит предупреждение относительно обманчивой красоты «призрака» и «мертвеца». Эту мертвую красоту нужно сначала похоронить, чтобы добраться до «живого» в ней, то есть до стихов с их «тайным жаром», говорящим о неистребимой, не угасшей жажде жизни. Вся эта сложная смысловая гамма отразилась и в «мадригале», который Блок закончил на следующий день, 16-го декабря. Он начал с того, что так поразило его в молодой женщине, похожей на его первую любовницу, — с красоты. Но при этом он остро ощутил «странность» ее красоты: Знаю, многие люди твердить Вам должны, Что Вы странно красивы и странно нежны. - - - - - - -- - Кругом твердят: «Вы — демон, Вы — красивы»... Ахматова перевела это на свой язык: «Блок считал меня по меньшей мере ведьмой». У Блока «странная красота» Ахматовой оказывается «испанизированной» и потому роковой, «страшной»: «Красота страшна» — Вам скажут, Вы накинете лениво Шаль испанскую на плечи, Красный розан — в волосах. Ахматова объясняла это так: «У меня никогда не было испанской шали, в которой я там изображена, но в это время Блок бредил Кармен и испанизировал и меня. Я и красной розы, разумеется, никогда в волосах не носила. Не случайно это стихотворение написано испанской строфой романсеро» (СС-2, 2, 186). Она, конечно же, имела в виду Л. Д. Дельмас в роли Кармен, но, во-первых, Блок тогда еще не «бредил» ею, а, во-вторых, испанские ассоциации захватили его гораздо раньше. Летом 1913 года, путешествуя по Европе, он побывал в Испании, которая после Парижа произвела на него сильное впечатление. Подсознательно европейская жизнь напоминала ему о первой любовнице: «В поганых духах французских или испанских пошляков, допахивающих до моего окна, есть что-то от m-me Садовской все-таки». Лекарством от этой памяти для Блока оказалась встреча с незнакомой испанкой: «Испанка — Perla del Oceano уехала, кажется, оставив память своих глаз и зубов. Вчера вечером я взволновался, встретившись с нею» (Блок, ЗК, 192). О том же Блок писал домой: «Каждый завтрак и обед я смотрю на испанку, необыкновенную красавицу, которая живет с нами в отеле; мы называем ее Perla del Oceano»38. Испанский тип красоты был воспринят Блоком под знаком жизненности и страсти, и, как отмечают комментаторы цикла «Кармен», именно тогда «был создан первый набросок стихо творения, ставшего позднее вступлением к циклу ("Как океан меняет цвет...")» 39. Таким образом, «испанизация» облика адресата означала актуализацию еще одного пласта воспоминаний, и катализатором этого процесса снова стала Ахматова. Однако уже в следующей строфе ее «страшная красота» сменяется «простой», или, говоря иными словами, происходит отказ от любви-страсти в пользу трогательной материнской любви к «ребенку»: «Красота проста» — Вам скажут, Пестрой шалью неумело Вы укроете ребенка, Красный розан — на полу. Блок помнит, что у Ахматовой годовалый сын, и поэтому «шаль» во второй строфе выступает в совершенно иной функции, а «красный розан» брошен на пол как ненужный. Но в итоге облик героини стихотворения ускользает от заданных характеристик и ощущается как загадка. Третья и четвертая строфы утверждают ее в каком-то ином качестве, несоизмеримом ни со «страшной», «испанской», ни с «простой», «материнской» красотой: Но, рассеянно внимая Всем словам, кругом звучащим, Вы задумаетесь грустно И твердите про себя: «Не страшна и не проста я; Я не так страшна, чтоб просто Убивать; не так проста я, Чтоб не знать, как жизнь страшна». Блок убрал открыто заявленную тему «демона» в подтекст, сосредоточившись на мотивах «страшной» и «простой» красоты, но последнее выявляло в облике его адресата некую двойственность — демонизм и человечность одновременно. Эту двойственность Блок носил в себе самом, и не удивительно, что он признал в Ахматовой прежде всего поэта, трижды повторив одну и ту же надпись на подаренных книгах: «Анне Ахматовой — Александр Блок». Это резко отличалось от дарственной надписи, сделанной «А. А. Гумилевой». Для лирической героини Ахматовой Блок тоже, в первую очередь, был «красив»: «О, как ты красив, проклятый!». При этом вырвавшееся слово «проклятый» уже говорило о том, что в его облике ей тоже почудилось что-то неуловимо-опасное. Она, однако, быстро поняла его стремление установить между ними дистанцию. Возможно, отголоском этого понимания слышится фольклорная стилизация на тему не сложившихся отношений: Лучше б мне частушки задорно выкликать, А тебе на хриплой гармонике играть... На фоне начавшегося романа Блока с Л. А. Дельмас этот фольклорный смысловой ход с «частушками» и «гармоникой», до неузнаваемости преображающий облик лирической героини и ее адресата, был демонстрацией «русского» варианта в пику варианту «испанскому». Предпочтение, отданное Л. А. Дельмас, по-видимому, больно задело Ахматову. В ее «Записных книжках» не случайно трижды упоминается один и тот же эпизод: «В Акад<емии> худ<ожеств> в зиму 17-18 гг. (Дельмас)» (ЗК, 222); «На вечере в Акад<емии> худ<ожеств> (1918?). Я видела, как он целовался с Дельмас» (ЗК, 661); «В Ак<адемии> худ<ожеств> на вечере. Целовался с Дельмас. Я видела, как они целуются» (ЗК, 673). Мы не знаем, когда для Ахматовой стал очевиден его роман с Дельмас-Кармен. Можно только с уверенностью утверждать, что в ответном стихотворении Блоку, написанном 7 января 1914 года, речь шла о визите поэта к поэту, о чисто литературной, дружеской беседе «в доме сером и высоком у морских ворот Невы». И только строки о глазах, в которые лучше «вовсе не глядеть», выдавали подоплеку этой сдержанности. Блок ответил ей не сразу — только 18 января — предложением опубликовать их стихотворный диалог в журнальчике Мейерхольда «Любовь к трем апельсинам»: «Позвольте просить Вас (по поручению Мейерхольда) позволить поместить в первом номере этого журнала — Ваше стихотворение, посвященное мне, и мое, посвященное Вам. Гонорара никому не полагается»40. Это предложение окончательно вводило ситуацию в чисто литературное русло, снимало все осложняющие ее психологические аспекты и закрепляло исключительно литературный характер их отношений. Любопытно, какое место нашел Блок стихотворениям, связанным с Ахматовой, в третьем томе своей лирики. Три из них, написанные 12 декабря, он поместил в цикле «Арфы и скрипки», предваряющем цикл «Кармен». Стихотворение «Есть игра: осторожно войти...» оказалось в цикле «Страшный мир», а «О, нет не расколдуешь сердца ты...» — в цикле «Разные стихотворения». Мадригал «Анне Ахматовой» нашел свое место в разделе «Послания» этого же цикла, где ее имя встало в один ряд с Юрием Верховским, Валерием Брюсовым, Владимиром Бестужевым и Вячеславом Ивановым. Таким образом, «ахматовс-кая тема» в стихах Блока оказалась лишенной единого сквозного сюжета, как это было в случае с Н. Н. Волоховой или Л. А. Дельмас. К тому времени в творческом сознании Блока вызревала тема Кармен, которой идеально соответствовала Любовь Александровна Дельмас — исполнительница партии Кармен в театре Музыкальной драмы. Ахматова не могла не ощутить это как унизительную для себя «замену». В январе 1914 года Ахматова работала над составлением «Четок»; 24 или 25-го марта они была послана Блоку с дарственной надписью (Летопись-1, 70): «Александру Блоку < Четки > Анна Ахматова. "От тебя приходила ко мне тревога И уменье писать стихи." Весна 1914 г. Петербург»41. Удивительно, как много она ухитрилась здесь сказать. Во-первых, это был знак того, что ситуация введена в границы отношений двух поэтов — Александра Блока и Анны Ахматовой. Вовторых, речь шла о глубинном духовном родстве — общей «тревоге». И, наконец, обращение «ты» сигнализировало о том, что полагалось хранить в тайне и что в своих «Воспоминаниях о Блоке» Ахматова будет настойчиво подавать как ряд более или менее случайных, хотя и весьма примечательных эпизодов своей литературной биографии. Получив присланную ему книгу, Блок в записной книжке под 25 марта отметил: «"Четки" от А. Ахматовой». Но далее следовала запись о том, как он отдал Л. А. Дельмас адресованные ей стихи: «<i>Я отдал стихи через швейцара. В "Парсифале" она не была. Ночью свет за ее шторой</i>» (Блок, ЗК, 218; курсив Блока. — В. М.). От «Четок» Блок поспешил отделаться на следующий же день — письмом от 26 марта: «Многоуважаемая Анна Андреевна. Вчера я получил Вашу книгу, только разрезал ее и отнес моей матери. А в доме у нее — болезнь, и вообще тяжело; сегодня утром моя мать взяла книгу и читала не отрываясь: говорит, что не только хорошие стихи, а по-человечески, по-женски подлинно. Спасибо Вам. Преданный Вам Александр Блок. P. S. Оба раза, когда Вы звонили, меня действительно не было дома» (Блок, 8, 436-437). В пост-скриптуме своего письма Блок осторожно и корректно отводит от себя подозрение в том, что его могут просто не позвать на телефонные звонки Ахматовой. Эта предупреди тельность понятна только в том случае, если сам Блок опасался, что его очевидное желание ввести ситуацию в сферу светского и литературного общения может показаться слишком обидным и резким для адресата. Но главное заключалось в другом. Он переадресовывает присланную книгу матери и, внешне присоединяясь к ее восхищению, в сущности, уклонился от собственной оценки. Возможно, именно тогда же Блок и посвятил мать в подоплеку своих взаимоотношений с Ахматовой, что вызвало позже негодование и обиду последней. Тем не менее «Четки» он позже прочитал очень внимательно, о чем говорят его многочисленные пометы, впервые проанализированные В. М. Жирмунским42. Реконструировать на основе этих помет отношение Блока к стихам Ахматовой можно лишь с большой долей условности, но кое-что прочитывается достаточно однозначно. Прежде всего, он выделяет в лирике Ахматовой любовную тему и ее художественное решение. В разделе, включающем стихи из «Вечера», он отметил одним кружком стихотворения «И мальчик, что играет на волынке...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Дверь полуоткрыта...», «Песня последней встречи» и двумя кружками — «Любовь покоряет обманно.... ». В «Рыбаке» его внимание привлекли строки о любовном томлении «потерянной девочки»; в стихотворении «Туманом легким парк наполнился...» — о любви как «отравной тоске» 43. В самих «Четках» его совершенно равнодушными оставили стихи, в которых мы сегодня подозреваем наличие блоков-ских подтекстов: «Безвольно пощады просят...», «Покорно мне воображенье...», «В последний раз мы встретились тогда...», «Здравствуй! Легкий шелест слышишь...», «Стихи о Петербурге». Более того, он никак не отреагировал на стихотворение «Я пришла к поэту в гости...», имеющее посвящение «<i>Александру Блоку</i>». Но зато очень внимательно отнесся к стихам, в которых любовная тема осложнена мотивами вины, возмездия и наказания. Крестом отмечено «Все мы бражники здесь, блудницы...», «Голос памяти», «Углем наметил на левом боку...», кружком — «Умирая, томлюсь о бессмертьи...», «Ты письмо мое, милый, не комкай...». В других стихах отчеркнуты и отмечены кружками отдельные строки, содержащие аналогичные мотивы. Его внимание привлекли два стихотворения с одинаковым мотивом добровольного отказа от намечающейся любовной ситуации: «Не будем пить из одного стакана...» и «Я с тобой не буду пить вино...». Первое, решенное в психологическом ключе, отмечено крестом, второе, стилизованное под фольклор, — крестом и кружком. Возможно, это было обусловлено его отношениями с Ахматовой, какими они сложились к концу 1913-началу 1914 года, но это только предположение. Часть помет Блока фиксируют те особенности поэтики Ахматовой, которые носят следы некоторого влияния символизма: «Как будто темное сердце / Алым горит огнем», «Нет, я вижу стену только — и на ней / Отсветы небесных гаснущих огней», «И звенела, и пела отравно / Несказанная радость твоя», «И она как белое знамя. / И она как свет маяка». Но его, главным образом, привлекает умение Ахматовой выстраивать лирическое стихотворение на основе точных предметных деталей. Вот наиболее характерные примеры отмеченных им строк: «Ива на небе пустом распластала / Веер сквозной»; «Высоко в небе облако серело, / Как беличья распластанная шкурка»; «На стволе корявой ели / Муравьиное шоссе»; «Туфли на босу ногу надеть», «Смотреть, как гаснут полосы / В закатном мраке хвои»; «А глаза синей, чем лед»; «В луче луны летит большая птица»; «Твой профиль тонок и жесток»; «И в косах спутанных таится / Чуть слышный запах табака». Однако еще В. М. Жирмунский точно заметил, что в лирической манере Ахматовой Блока многое раздражало. Он отмечает подчеркиванием чисто «женские», с его точки зрения, интонации отдельных строк: «Знаешь, я читала.... », «Совсем взволнованно и тихо...». Ему кажутся манерными неточные рифмы — например, «свечей» — «парче», отчеркнув которые, он пишет на полях: «Не люблю». А напротив строк: «И вели голубому туману / Надо мною читать псалмы», — Блок раздраженно помечает: «Крайний модернизм, образцовый, можно сказать, "вся Москва" так писала». Степень этого раздражения станет еще более очевидной, если учесть, что Блок называет эту манеру «московской», то есть, в сущности, провинциально-декадентской, и глубоко чуждой Петербургу. По счастью, Ахматовой остались неизвестны эти пометы. В принципе его мнение о «Четках» было достаточно высоким, но оно перекрывалось раздражением, которое Блок предпочел скрыть от Ахматовой, никак не откликнувшись на присланную ему книгу. Однако позже, в письме по поводу присланной ему поэмы «У самого моря» (см. следующий раздел), это раздражение вдруг прорвалось сквозь внешне комплиментарную оценку: «Все это — несмотря на то, что я никогда не перейду через Ваши "<i>вовсе</i> не знала", "у <i>самого</i> моря", "<i>самый</i> нежный, <i>самый</i> кроткий" (в "Четках"), постоянные "<i>совсем</i>" (это вообще не Ваше, общеженское, всем женщинам этого не прощу). Тоже и "сюжет": не надо мертвого жениха, не надо кукол, не надо "экзотики", не надо уравнений с десятью неизвестными; надо еще жестче, неприглядней, больнее» (Блок, 8, 459). В данном случае Блок был неточен и несправедлив. Ни в «Вечере», ни в «Четках» не встречается выражение «<i>вовсе</i> не знала», а «совсем» у Ахматовой отнюдь не было «постоянным». Блок нашел и подчеркнул его только один раз в стихотворении «Цветов и неживых вещей...»: «А мальчик мне сказал, боясь, / Совсем взволнованно и тихо». Стоит также заметить, что строчка «Самый нежный, самый кроткий» в блоковском экземпляре «Четок» осталась не помеченной и, следовательно, она застряла в его памяти, как заноза. Помимо других причин, раздраженность Блока коренилась в его общем отношении к женскому творчеству. В октябре 1913 г. он выписал в записную книжку фразу из письма знакомой женщины: «Блок говорит, что женщине творчество в искусстве почти недоступно. Я думаю (несмотря на свое художество), что это — чуть не общее место» (Блок, ЗК, 198). В одном из январских стихотворений 1914 года («В последний раз мы встретились тогда...») Ахматова зафиксировала удивительно похожее высказывание, которое, возможно, принадлежало Блоку: Он говорил о лете и о том, Что быть поэтом женщине — нелепость. Если учесть, что время действия в этих стихах — осень («Была в Неве высокая вода, / И наводненья в городе боялись»), а летом 1913 года Блок путешествовал по Европе, то понятно, что ему было чем вспомнить лето. А так как это лето было связано с памятью о «Perla del Oceano», то женщина-поэт в этом контексте выглядела «нелепостью». К концу 1914 г. он испытывает раздражение от общения с женщинами и 12 декабря записывает: «Вечером, едва я надел телефонную трубку, меня истерзали: Л. А. Дельмас, Е. Ю. Кузьмина-Караваева и А. А. Ахматова» (Блок, ЗК, 250). Когда Ахматовой стала известна эта запись, она почувствовала себя задетой и сочла необходимым прокомментировать ее следующим образом: «Я позвонила. Ал<ександр> Ал<ександрович> со свойственной ему прямотой и манерой думать вслух спросил: "Вы, наверное, звоните, потому что Ариадна Владимировна Тыркова передала вам, что я сказал о вас". Умирая от любопытства, я поехала к А<риадне> В <ладимировне> на какой-то ее день и спросила, что сказал Блок. Но А<риадна> В <ладимировна> была неумолима. "Аничка, я никогда не говорю одним моим гостям, что о них сказали другие"» (ЗК, 744). О том, что сказал Блок по адресу Ахматовой, вспоминала позже Е. Ю. Кузьмина-Караваева: «На башне Блок бывал редко. Он там, как и всегда впрочем, много молчал. Помню, как первый раз читала стихи Анна Ахматова. Вячеслав Иванов предложил устроить суд над ее стихами. Он хотел, чтобы Блок был прокурором, а он, Иванов, адвокатом. Блок отказался. Тогда он предложил Блоку защищать ее, он же будет обвинять. Блок опять отказался. Тогда уж об одном, кратко выраженном мнении, стал он просить Блока. Блок покраснел — он удивительно умел краснеть от смущения — серьезно посмотрел вокруг и сказал: "Она пишет стихи как бы перед мужчиной, а надо писать как бы перед Богом"» (СС-6, 5, 555). Ахматова была твердо уверена, что мемуаристка все это «просто придумала» (ЗК, 80): «Мария-Мон<ахиня> (Лиза Кузьмина-Караваева) пишет в своих парижских мемуарах (193...), что Блок на Башне, после того как я прочла стихи (до этого он слышал меня в Ак<адемии> ст<иха> и на первом собр<ании> Цеха у Городецких), сказал: "Ахм<атова> пишет стихи так, как будто на нее смотрит мужчина, а надо писать так, как будто на поэта смотрит Бог". Кроме того, что подобное выступление на Башне было просто немыслимо, позволю себе...» (ЗК, 745). На этом запись обрывается, но место мы можем легко ее восстановить на основе свидетельства Д. Е. Максимова, которому Ахматовой заявила по поводу слов Блока, сказанных в ее адрес: «Он и не мог их произнести публично. Он был хорошо воспитан» 44. Д. Е. Максимов, проанализировав доступные ему источники, пришел к достаточно убедительному выводу о том, что «афоризм Блока об Ахматовой был произнесен в доме писательницы и журналистки А. В. Тырковой, конечно, в отсутствии Ахматовой»45. Говоря иными словами, Е. Ю. Кузьмина-Караваева ничего не «придумала», а лишь ошиблась относительно времени и места. Блок, по-видимому, пожалел о своей несдержанности, иначе бы не заговорил с Ахматовой по телефону про сказанную им фразу. Можно понять и запальчивое отрицание последней по поводу обидных, сильно задевших ее слов: поведение Блока выглядело не по-джентльменски. Но, тем не менее, Блок здесь остался верен своему убеждению в том, что «женщине творче ство в искусстве почти недоступно». Все это вместе взятое делает вполне правдоподобным мемуарное свидетельство Ю. Л. Сазоновой-Слонимской: «Помню, как Блок на вечере у Сологуба сказал мне полушепотом, когда кого-то из поэтов обвинили в подражании Ахматовой: "Подражать ей? Да у нее самой-то на донышке"»46. Вечер у Сологуба, на котором присутствовал Блок, состоялся 18 октября 1915 года (Блок, ЗК, 269). Это еще одно подтверждение возрастающего отчуждения Блока от автора «Четок». Только в этом контексте становится понятным тот презрительный, уничижительный тон, с которым, по свидетельству Корнея Чуковского, он однажды прокомментировал строчку из стихотворения Ахматовой «А ты теперь тяжелый и унылый...», (в данном случае не имеет значе ния, был ли Блок его адресатом): «— Твои нечисты ночи. Это, должно быть, опечатка. Должно быть, она хотела сказать: Твои нечисты ноги»47. В стихотворном автопортрете Ахматовой «На шее мелких четок ряд...» тема «небывшего свиданья», по-видимому, является трагическим отголоском декабрьского визита к Блоку: На шее мелких четок ряд, В широкой муфте руки прячу, Глаза рассеяно глядят И больше никогда не плачут. <...> А бледный рот слегка разжат, Неровно трудно дыханье, И на груди моей дрожат Цветы небывшего свиданья. Ахматова датировала его 1913 годом, то есть периодом «Четок», но не включила его ни в «Четки», ни в «Белую стаю». Оно вошло лишь в «Подорожник», что выдает намерение отсечь эти стихи как от «блоковской темы» в «Четках», так и от романа с Б. В. Анрепом в «Белой стае». Что эти стихи имеют отношение к коллизии «Четок», подтверждает не случайная деталь в облике лирической героини: «На шее мелких четок ряд». В самих «Четках» свиданье представлялось праздником каких-то ликующих мировых сил: Казалось мне, что туча с тучей Сшибется где-то в вышине И молнии огонь летучий И голос радости могучей, Как Ангелы, сойдут ко мне, - «Туча с тучей», действительно, «столкнулись», но столкновение не высекло ни радости, ни огня, зато породило резкую обиду и сознание непоправимой психологической катастрофы, что прорвалось в мотиве «черных ангелов» и «последнего суда» из цитированного выше стихотворения «Как ты можешь смотреть на Неву...». «Свидания» так же не состоялось, как и «романа с Блоком». 4. «От тебя приходила ко мне тревога...» В первый день 1914 года Ахматова пишет одно из наиболее загадочных стихотворений «Гость»: Все как раньше: в окна столовой Бьется мелкий метельный снег, И сама я не стала новой, А ко мне приходил человек. Я спросила: «Чего ты хочешь?» Он сказал: «Быть с тобой в аду». Я смеялась: «Ах, напророчишь Нам обоим, пожалуй, беду». Н. В. Королева комментирует его следующим образом: «Дата стихотворения (1 января 1914 г.) и его место в сб. "Четки" перед стихотворением "Я пришла к поэту в гости..." позволяют предположить, что оно связано с Блоком, независимо от того, имело ли место в реальной действительности такое свидание». И там же заметила, что внешность "человека" ("просветленнозлое лицо") напоминает описание лица Блока в мемуарах 3. Н. Гиппиус (СС-6, 1, 769-770). Если вспомнить, что канун визита к Блоку переживался как символическое совпадение с поворотом солнца «на прибыль дня» (В. И. Даль) 48, то столь же символичным окажется и это стихотворение, написанное на святочной неделе. Как известно, две недели святок насыщены «магическими обрядами, гаданиями, прогностическими приметами» и связаны с «комплексом представлений о приходе в первый день С<вяток> на землю с <i>того света</i> душ умерших и разгуле <i>нечистой силы</i> с Рождества до Крещения». В святочные дни были чрезвычайно важны мотивы «прихода» персонифицированного праздника (или заменяющих его мифологических персонажей), и его «выпроваживания» в последний день. <...> В связи с поверьями о приходе мифических гостей существовал обычай принимать на С<вятки> любого пришедшего в дом как особу священную и одаривать его обрядовой пищей, предназначенной для духов»49. Таким образом, можно видеть в этом стихотворении рассказанный сон о приходе святочного гостя (кстати, в нем не случайно упоминается «столовая» — рудиментарный мотив обрядовой трапезы). Гость приходит как будто бы с требованием любви: Но, поднявши руку сухую, Он слегка потрогал цветы: «Расскажи, как тебя целуют, Расскажи, как целуешь ты». В соответствии со святочным обычаем, хозяйка дома не может и не должна ему отказывать. Однако драматизм ситуации состоит в том, что гостю не нужно то, о чем он просит, а она, готовая исполнить его требование, ясно это осознает: И глаза, глядевшие тускло, Не сводил с моего кольца, Ни один не двинулся мускул Просветленно-злого лица. О, я знаю: его отрада – Напряженно и страстно знать, Что ему ничего не надо, Что мне не в чем ему отказать. В этом сне бессильна магическая сила обручального кольца-оберега, поскольку «гость» имеет над лирической героиней ту самую безраздельную власть, о которой в другом стихотворении Ахматовой сказано: Какую власть имеет человек, Который даже нежности не просит. Сон оказывается безлюбовным, не в последнюю очередь, в силу того, что пришелец, как подобает святочному гостю, мертв — у него «сухая рука». В параллель к ахматовскому стихотворению просятся стихи Блока, в которых он изобразил себя «мертвецом». По странному совпадению, четыре из восьми стихотворений блоковского цикла «Жизнь моего приятеля», где говорилось об утрате и гибели души, были написаны на той же святочной неделе — 30 декабря 1913 года. В «Госте» просматривается предвосхищение мотивов будущей «Поэмы без героя», которая начинается приходом святочных гостей, бесследно исчезающих утром: Завтра утро меня разбудит, И никто меня не осудит, И в лицо мне смеяться будет Заоконная синева. В этом же контексте становится понятным и январское четверостишие Ахматовой, записанное в «свиную книгу» все в те же святочные дни 1913-1914 года: Пустые белы святки. Мети, метель, мети. Пусть дороги гладки, Мне не к кому идти. В нем угадывается мотив святочного гадания на суженого, впервые прозвучавший в одном из стихотворений, датированных весной 1911 года: О нем гадала я в канун Крещенья, Я в январе была его подругой, который теперь трансформируется в гадание на пустоту. Точно так же к Автору «Поэмы без героя» вместо «непришедшего» живого жениха приходят мертвецы из «тринадцатого года», в числе которых оказывается Блок, названный «пришлецом». Начиная с 1914 года, воображением Ахматовой все больше и больше завладевала демоническая ипостась певца Прекрасной Дамы: Ты первый, ставший у источника С улыбкой мертвой и сухой. Как нас измучил взор пустой, Твой взор тяжелый — полунощника. Она восстановила эти строки по памяти в 1950-1960-е годы, а В. М. Жирмунский датировал их «между 1912 и 1914» (Жирмунский, 281). Датировку его следует сдвинуть к 1914 году, но скорее всего Ахматова позже всего лишь «записала» то, что отчетливо поняла в Блоке в 1914 году. Это — стихи не столько 1914 года, сколько «о 1914 годе». Блоковская тема в любовной лирике Ахматовой в итоге маркировалась мотивом любовникадемона, способного внушать любовь, но не способного быть ее живым носителем. Он становился опасным и страшным «гостем» мучительных снов ее лирической героини: Весь согнулся, и голос глуше, Белых рук движенья верней... Ах! Когда-нибудь он задушит, Задушит меня во сне. Вместе с тем демоническая природа «пришлеца» напоминала о его «горнем» происхождении и изначальной связи со «светом». Персонаж ахматовских стихов, которого можно идентифицировать с Блоком, выявлял двойную природу — светлую, «серафическую» и темную, «демоническую». Но ту же двойственность лирическая героиня Ахматовой ощущала и в себе самой. В этом контексте становится понятным загадочное стихотворение 1914 года, которое также не входило ни в одну из поэтических книг Ахматовой и также было «восстановлено» ею в начале 1960-х годов: За то, что я грех прославляла, Отступника жадно хваля, Я с неба ночного упала На эти сухие поля. И встала. И к дому чужому Пошла, притворяясь своей, И терпкую злую истому Принесла с июльских полей. И матерью стала ребенку, Женою тому, кто пел. Но гневно и хрипло вдогонку Мне горний ветер свистел. Здесь нетрудно угадать вариацию на сюжет пьесы Блока «Незнакомка». С неба на землю падает женщина-звезда, обреченная на перипетии земной любви и одновременно чуждая земным и пошлым представлениям людей, влюбляющимся в нее. Лирическая героиня ахматовского стихотворения, ощущая себя женой и матерью, то есть, говоря словами Блока, воплощением «простой красоты», не может забыть о своем «горнем», демоническом происхождении. Будучи сброшенной с «неба ночного» за любовь к «отступнику» и восславление «греха», она, в силу своей «горней» натуры, не вписывается в законы «дольнего» существования и наказана тем, что обречена на вечную непарность в земном бытии. Если стихи о «княжне Евдокии» были попыткой выстроить образ мистического брака с «равным» себе в светлом, «серафическом» варианте, то это стихотворение говорило о том же самом, но в варианте «демоническом», темном. Все это придавало «роману с Блоком» религиозную напряженность, которая пронизывает так называемый «киевский цикл», созданный в июле 1914 года. История его вкратце такова. В июне 1914 года Ахматова поехала к матери в Дарницу под Киевом. Ее одолевали тяжелые настроения, о чем она писала М. Л. Лозинскому 25 июня из Киева: «Лето у меня вышло тревожное: мечусь по разным городам, и везде страшно пусто и невыносимо»50. Но именно там, в Киеве, где ей было «пусто и невыносимо», были написаны стихи, пронизанные абсолютной слитностью любовного и религиозного чувства: И в Киевском храме Премудрости Бога, Припав к солее, я тебе поклялась, Что будет моею твоя дорога, Где бы она ни вилась. То слышали ангелы золотые И в белом гробу Ярослав. Как голуби, вьются слова простые И ныне у солнечных глав. И если слабею, мне снится икона И девять ступенек на ней. И в голосе грозном софийского звона Мне слышится голос тревоги твоей. Н. В. Королева, комментируя их, пишет, что «речь идет о встрече в июне 1914 г. в Киеве с Н. В. Недоброво и о клятве, данной ему», аргументируя это тем, что «на автографе, подаренном Ахматовой Лукницкому, проставлено посвящение Н. В. Недоброво» (СС-6, 1, 785). Однако в «Записных книжках» памятные строки об июне 1914 года сделаны в разделах, озаглавленных «О Блоке», «К заметке о Блоке» (ЗК, 671,672), и, следовательно, для самой Ахматовой существовали в очевидном «блоковском» контексте. Да и «голос тревоги» в звоне софийских колоколов, напоминает о надписи на экземпляре «Четок», подаренном Блоку в марте 1914 года: «От тебя приходила ко мне тревога». Тревога в звоне софийских колоколов могла исходить для Ахматовой только от того, с кем ее роднило общее «горнее» происхождение и о ком в том же «киевском цикле» она сказала: И со мной лишь ты, мне равный, Да любовь моя. Нет никаких оснований относить строки о «равном» к Н. В. Недоброво, тем более, что, по свидетельству П. Н. Лук-ницкого, Ахматова в 1926 году «посвящение (своей рукой) "Н. В. Н." стерла» (Лукницкий-2, 40). О впечатлениях, легших в основу этих стихов, Ахматова вспоминала так: «Нерушимая стена св<ятой> Софии и Мих<айловский> монастырь — ad periculum maris, т. е оплот борьбы с Диаволом — и хромой Ярослав в своем византийском гробу» (ЗК, 669); «В Киеве, кроме св<ятой> Софии, запомнился пышный летний ливень, когда ряд улиц превращается почти в водопады. Необычаен был Михайловский монастырь XI в. Одно из древнейших зданий в России. Поставленный над обрывом, пот<ому> что каждый обрыв — бездна и, следственно, обиталище дьявола, а храм св<ятого> Михаила Архангела, предводителя небесной рати, должен бороться с сатаной <...>. Кирилловский монастырь XII <в>. (Сош<ествие> св<ято-го> Духа... Богородица с сумасш<едшими> глазами)» (ЗК, 671); «Призрачный Киев. В Кирил<ловском> <монастыре> Богородица с сумасшедшими глазами. София вся сокровенная — фрески, мозаичный пол на лестнице. <...> Мои стихи о Софии. Клятва. Место, где дана клятва, этим самым — священно навсегда. <...> Я знала, что есть совсем другой Киев, но я не хотела его вспоминать, мне всегда был нужен этот, таким он для меня и остался» (ЗК, 672-673). Блок был тем, за кого она чувствовала необходимость молиться в Киевской Софии и кто заставил ее столь остро почувствовать символику обрыва, над которым возвышался древний Михайловский монастырь. Кстати, Димитрий Донской был похоронен в храме святого архангела Михаила, образ которого овдовевшая Евдокия заказала на могилу мужа. Не случайно запись о «храме св<ятого> Михаила Архангела, предводителя небесной рати», который «должен бороться с сатаной», в «Записных книжках» Ахматовой звучит столь взволнованно, как будто речь идет вовсе не о событии полувековой давности. Религиозная напряженность этого стихотворения, видимо, была настолько сильной, что Ахматова в самый последний момент исключила его из корпуса «Белой стаи». Вероятно, не последнюю роль здесь сыграло и то, что «Белая стая» создавалась под знаком любви к Б. В. Анрепу — человеку уравновешенному и лишенному каких бы то ни было духовных крайностей. «Икона и девять ступенек на ней», упомянутые в «киевском» стихотворении, — это икона Софии Премудрости Божией. Не задерживаясь на ошибке Ахматовой относительно количества ступенек (их семь, а не девять), обратимся к описанию Софии Киевской в известной книге о. Павла Флоренского «Столп и утверждение истины»: «На семи-ступенчатом амвоне поставлен семи-столпный киворий, под которым стоит Богоматерь. <...> (Богоматерь не-иокровенна; над головой Ее два Ангела держат корону; крест в руке Ее — латинский, позади Нее — колоннада и т. п.). <...> Христос изображен у Нее в лоне, причем правая рука Его "благословляет", а левая имеет державу. <...> София, — эта истинная Тварь или тварь во Истине, — является п р е д в а р и т е л ь н о как н а м е к на преображенный, одухотворенный мир, как незримое для других явление горнего в дольнем» 51. Вряд ли Ахматова была знакома с трактовкой Флоренского (который, по-видимому, не входил в круг ее чтения) хотя теоретически исключить это невоз можно (глава о Софии была опубликована в 1911 году в «Богословском вестнике», а «Столп и утверждение истины» вышел в самом начале 1914 года). Но в том, что она была прекрасно осведомлена о софиологических подтекстах блоковской поэзии, вряд ли можно сомневаться. Во всяком случае П. Н. Лукницкому она говорила, что «очень любит» «Стихи о Прекрасной Даме» (Лукницкий-2, 161). Блок был для нее наглядным примером драматического воплощения «горнего» в «дольнем» — «плоть, почти что ставшая духом», как будет сказано о нем в «Поэме без героя». «Киевский» цикл оказался связан еще с одним «блоков-ским» эпизодом в жизни Ахматовой, который она включила в «Воспоминания о Блоке»: «В начале июля поехала к себе домой, в Слепнево. Путь через Москву. <...> Сажусь в первый попавшийся почтовый поезд. Курю на открытой площадке. Где-то у какой-то пустой платформы паровоз тормозит — бросают мешок с письмами. Перед моим изумленным взором вырастает Блок. Я от неожиданности вскрикиваю: "Ал<ександр> Ал<ександрович>!"* Он оглядывается и, так как он вообще был мастером тактичных вопросов, спрашивает: "С кем вы едете?" Я успеваю ответить: "Одна". И еду дальше. Сегодня через 51 г<од>, открываю "Записную книжку" Блока, кот<орую> мне подарил В. М. Ж<ирмунский>, и под 9 июля 1914 читаю: "Мы с мамой ездили осматривать санаторию на Подсолнечной. — Меня бес дразнит. — Анна Ахматова в почтовом поезде"» (ЗК, 670). В окончательном варианте Ахматова описала эту сцену так: «Он оглядывается и, так как он был не только великим поэтом, но и мастером тактичных вопросов, спрашивает: "С кем вы едете?"» (СС-2, 2, 187). В обоих случаях вопрос Блока почему-то 2 Ср. в стихотворении «Ждала его напрасно много лет...»: «Мой голос оборвался и затих». назван «тактичным», но в чем проявился этот «такт», Ахматова оставила неразъясненным. В 1924 году П. Н. Лукницкий записал ее рассказ о встрече с Блоком следующим образом: «Блок спросил: "Вы одна едете?" (Блок очень удивил этим вопросом АА: "Блок меня всегда удивлял!"). Поезд стоял минуту, может быть, 2-3, и АА уехала дальше» (Лукницкий-1', 100). Чуть позже он уточнил свою запись: «Поезд остановился на маленькой станции. Вижу на платформе — Блок. Я очень удивилась... Потом оказалось, что это его станция — Подсолнечная... Я вышла из вагона... Он меня очень удивил... Блок всегда меня удивлял... Спросил — "Вы одна едете?". Поезд стоял минуты 3 — вот, значит, сколько мы поговорили» (Лукницкий-1, 104). По П. Н. Лукницкому, получается, что Ахматова вышла из вагона и даже успела о чем-то «поговорить» с Блоком, пока поезд стоял. А из ее «Записных книжек» и особенно «Воспоминаний о Блоке» следует, что она едва успела ответить, как поезд тронулся. Не стоит гадать, как было на самом деле, но заметно, что этот эпизод в окончательном виде был Ахматовой отредактирован. Л. К. Чуковской фраза о «тактичном вопросе» показалась ироничной, поскольку сам вопрос Блока она восприняла как «бестактнейший». При этом ей показалось, что в ахматовском «мемуаре» «все эти точные перечисления встреч и слов служат какому-то одному несомненному умолчанию» (Чуковская-3, 305). Под искусной имитацией исчерпывающей точности она почувствовала скрытую недоговоренность. По-видимому, для самой Ахматовой этот вопрос был понят как «тактичный» не сразу. Сначала она была тронута лишь вниманием к себе. В 1962 году она записала: «Блок на премьере театра марионеток на Англ<ийской> набережной (1916). Был очень любезен, чистил мне грушу и спросил: "С кем Вы теперь часто видитесь?" Я вспомнила: "С кем Вы едете?" (1914) — Подсолн<ечная>» (ЗК, 223). Но только в 1965 году, когда вышли «Записные книжки» Блока и она прочитала его запись об этой встрече (Блок, ЗК, 234), ей стала ясна тайная подоплека странного вопроса. Блок проявил высочайший мужской такт не только тем, что преодолел «бесовское» искушение действительно, но и тем, что не захотел компрометировать женщину знаками своего внимания в глазах возможного спутника. В одном из перечней своих встреч с Блоком Ахматова отметила: «1) Встреча в Подсолнечной (1914) перед войной 2) Отчего Рогачевское шоссе. 50-е годы» (ЗК, 222). Речь шла о строчках из стихотворения «Пора забыть верблюжий этот гам...»: И помнит Рогачевское шоссе Разбойный посвист молодого Блока. В. А. Черных поясняет их следующим образом: «<i>Рогачевское шоссе</i> проходит недалеко от Шахматова, бывшего имения семьи Блока в Подмосковье. Стих. Блока "Осенняя воля" помечено: "Июль 1905. Рогачевское шоссе"» (СС-2, 1, 434). Н. В. Королева дала несколько иной комментарий: «<i>Рогачевское шоссе</i> проходит недалеко от Шахматова, подмосковного имения семьи Блоков, подводя к станции Подсолнечная, где произошла памятная для Ахматовой встреча с А. Блоком» (СС-6, 5, 556). Оба эти комментария дополняют друг друга, позволяя увидеть стихи о «Рогачевском шоссе» как в контексте давней встречи с Блоком, так и в контексте его стихотворения «Осенняя воля» («Выхожу я в путь, открытый взорам...»), лирический герой которого предстает странником, идущим по просторам бродячей, тюремной, разбойной, пьяной Руси. Последнее, кстати, еще раз подтверждает, что фольклорные коннотации к образу Блока в стихах Ахматовой устойчивы и не случайны. Ахматова, естественно, не могла знать, что через год, летом 1915-го, на той же станции сойдет приехавшая к нему в Шахматово Любовь Александровна Дельмас 52. Но она хорошо понимала, что время разводит ее с Блоком. Однако, отдаляясь от него биографически, она шла к пониманию его внутреннего мира, который волновал ее не меньше, а больше. Автор «Стихов о Прекрасной Даме» и цикла «На поле Куликовом» был неизменной темой ее разговоров и размышлений вплоть до самых последних лет. 1. Лукницкий П. Н. Дневник 1928 года. ACUMIANA. 1928-1929 / Публ. И коммент. Т. М. Двинятиной // Лица. Биографический альманах / Редакторы-составители М. М. Павлова и А. В. Лавров. СПб. 2002. С. 358. 2. Переписка Блока с А. А. Ахматовой / Предисловие и публикация В. А. Черных // Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Книга 4. М., 1987. С. 572. 3. Черных В. А. Блоковская легенда вЧворчестве Анны Ахматовой // Серебряный век в России / Редколл.: Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров, Т. В. Цивьян. М., 1993. С. 292. 4. Топоров В. Н. Ахматова и Блок (к проблеме построения поэтического диалога: «блоковский» текст Ахматовой). Berkeley. 1981. С. 115. 5. Черных В. А. Блоковская легенда в творчестве Анны Ахматовой. С. 283. 6. Белый Андрей. О Блоке / Вступ. статья, составл., подг. текста и коммент. А. В. Лаврова. М., 1997. С. 58. 7. Белый Андрей. Начало века / Подг. текста и коммент А. В. Лаврова. М., 1990. С. 317. 8. Делъмас Л. А. «Мой голос для тебя...». Воспоминания // Аврора. 1971. № 1. С. 68. 9. Гончарова Н. «Фаты либелей» Анны Ахматовой. М.; СПб., 2000. С. 54, 128. 10. Топоров В. Я. Ахматова и Блок (к проблеме построения поэтического диалога: «блоковский» текст Ахматовой) // Топоров В. Н. Петербургский текст русской литературы. СПб., 2003. С. 374-375. 11. Ахматова Анна. Сочинения: В 2 т. / Сост. и подг. текста М. М. Кралина. М., 1996. При ссылке на это издание в скобках - Кралйн с указанием тома и страницы арабскими цифрами. 12. Тыркова-Вильяме А. Тени минувшего // Возрождение. Париж. 1955. № 41. С. 88. 13. Черных В. А. Блоковская легенда в творчестве Анны Ахматовой. С. 291. 14. Кралйн М. «Милый голос» «незабвенного друга» (Николай Недоброво и Анна Ахматова) // Николай Недоброво. Милый голос. Избранные произведения / Составление, примечания и послесловие Михаила Кралина. Томск. 2001. С. 241. 15. Жирмунский В. М. Анна Ахматова и Александр Блок. С. 354. 16. Сазонова-Слонимская Юлия. Н. В. Недоброво // Н. В. Недоброво. Милый голос. С. 19-20. 17. См. также: Кралйн Михаил. Анна Ахматова и Николай Недоброво // Михаил Кралйн. Победившее смерть слово. Статьи об Анне Ахматовой и воспоминания о ее современниках. Томск, 2000. С. 5-60. 18. Топоров В. Н. Ахматова и Блок (к проблеме построения поэтического диалога: «блоковский» текст Ахматовой). С. 382. 19. Чуковский К. Дневник 1901-1929 / Подг. текста и коммент. Е. Ц. Чуковской. М., 1991. С. 257-258. 20. Топоров В. Н. Ахматова и Блок (к проблеме построения поэтического диалога: «блоковский» текст Ахматовой). С. 391. 21. Переписка Блока с А. А. Ахматовой. С. 574. 22. Черных В. А. Блоковская легенда в творчестве Анны Ахматовой. С. 283. 23. Ахматова Анна. Стихотворения и поэмы / Составл., подг. текста и примеч. В. М. Жирмунского. [Библиотека поэта. Большая серия. Второе издание]. Л., 1976. С. 458. 24. Топоров В. Н. Ахматова и Блок (к проблеме построения поэтического диалога: «блоковский» текст Ахматовой). С. 391. 25. Марченко Алла. «С ней уходил я в море...». Анна Ахматова и Александр Блок: опыт расследования // Новый мир. 1998. № 9. С. 187. 26. Бекетова М. А. Воспоминания об Александре Блоке / Составл. В. П. Енишерлова и С. С. Лесневского. Вступ. статья С. С. Лесневского. Послесловие А. В. Лаврова. Примеч. Н. А. Богомолова. М., 1990. С. 47. 27. Марченко Алла. «С ней уходил я в море...». Анна Ахматова и Александр Блок: опыт расследования. С. 187. 28. Чуковский К. Дневник 1901-1929. С. 164. 29. Жирмунский В. М. Анна Ахматова и Александр Блок // Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. С. 326. 30. Переписка Блока с А. А. Ахматовой. С. 572. 31. Чуковский К. Дневник 1901-1929. С. 164. 32. Переписка Блока с А. А. Ахматовой. С. 576-577. 33. Там же. С. 577. 34. Дарственные надписи Блока на книгах и фотографиях / Материалы собраны Н. П. Ильиным и А. Е. Парнисом. Вступ. статья и публ. В. Я. Мордерер и А. Е. Парниса. Комментарии Ю. М. Гельперина, В. Я. Мордерер, А. Е. Парниса, Р. Д. Тименчика // Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Книга 3. М. 1982. С. 28-29. 35. ОР РНБ. Ф. 1073. №555. 36. Марченко Алла. «С ней уходил я в море...». Анна Ахматова и Александр Блок: опыт расследования. С. 191. 37. Переписка Блока с А. А. Ахматовой. С. 574-575. 38. Бекетова М. А. Воспоминания об Александре Блоке. С. 128. 39. Блок А. А. Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Том третий. Стихотворения. Книга третья (1907-1916). М., 1997. С. 870. 40. Переписка Блока с А. А. Ахматовой. С. 577. 41. Переписка Блока с А. А. Ахматовой. С. 573. В угловых скобках воспроизведено название книги на титульном листе, которое в ахматовском инскрипте стало частью надписи. 42. Жирмунский В. М. Анна Ахматова и Александр Блок. С. 328-331. 43. Пометы Блока даются по экземпляру «Четок» из библиотеки Блока, хранящемуся в Пушкинском Доме: шифр 94 5/11. 44. Максимов Д. Поэзия и проза Ал. Блока Л., 1981. С. 540. 45. Там же. 46. Сазонова-Слонимская Юлия. Николай Владимирович Недоброво. Опыт портрета // Николай Недоброво. Милый голос. С. 22. 47. Чуковский К. Дневник 1901-1929. С. 164. 48. Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. М., 1995 <Репринтное изд. 1880-1882 гг. >. С. 266. 49. Славянская мифология. Энциклопедический словарь / Научн. редакторы В. Я. Петрухин и др. М., 1995. С. 351-352. 50. Платонова -Лозинская И. Летом семнадцатого года... О дружбе А. Ахматовой и М. Лозинского // Литературное обозрение. 1989. № 5. С. 65. 51. Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах свящ. Павла Флоренского. М., 1914. С. 381-391. 52. Дельмас Л. А. «Мой голос для тебя...». Воспоминания. С. 69.