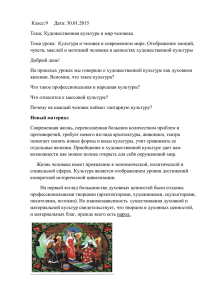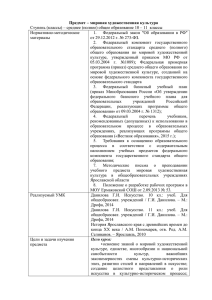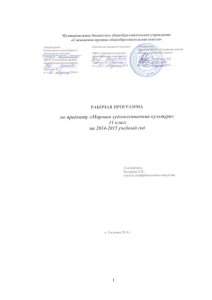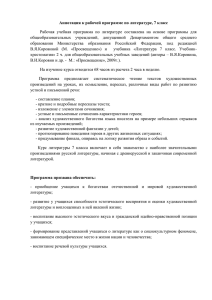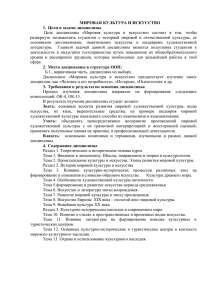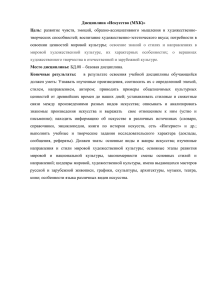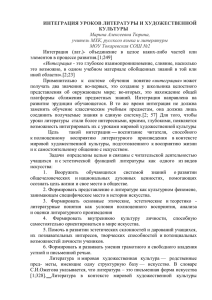Мережинская А. Ю. Русская литература ХХ века в обобщающих
advertisement
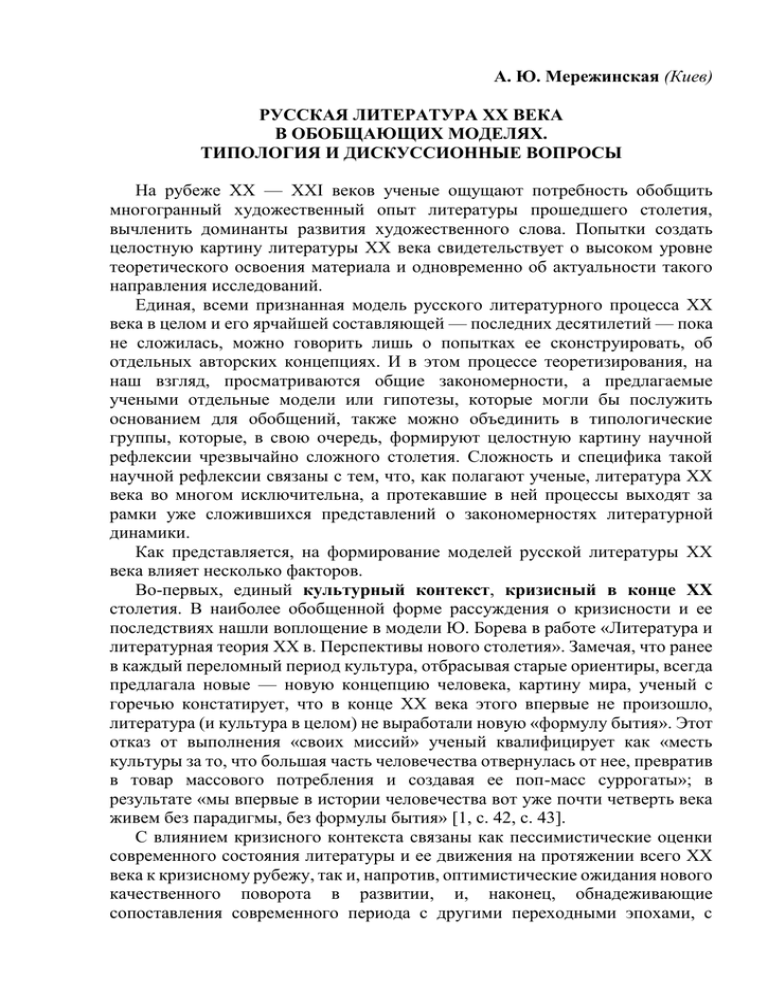
А. Ю. Мережинская (Киев) РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА В ОБОБЩАЮЩИХ МОДЕЛЯХ. ТИПОЛОГИЯ И ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ На рубеже ХХ — XXI веков ученые ощущают потребность обобщить многогранный художественный опыт литературы прошедшего столетия, вычленить доминанты развития художественного слова. Попытки создать целостную картину литературы ХХ века свидетельствует о высоком уровне теоретического освоения материала и одновременно об актуальности такого направления исследований. Единая, всеми признанная модель русского литературного процесса ХХ века в целом и его ярчайшей составляющей — последних десятилетий — пока не сложилась, можно говорить лишь о попытках ее сконструировать, об отдельных авторских концепциях. И в этом процессе теоретизирования, на наш взгляд, просматриваются общие закономерности, а предлагаемые учеными отдельные модели или гипотезы, которые могли бы послужить основанием для обобщений, также можно объединить в типологические группы, которые, в свою очередь, формируют целостную картину научной рефлексии чрезвычайно сложного столетия. Сложность и специфика такой научной рефлексии связаны с тем, что, как полагают ученые, литература ХХ века во многом исключительна, а протекавшие в ней процессы выходят за рамки уже сложившихся представлений о закономерностях литературной динамики. Как представляется, на формирование моделей русской литературы ХХ века влияет несколько факторов. Во-первых, единый культурный контекст, кризисный в конце ХХ столетия. В наиболее обобщенной форме рассуждения о кризисности и ее последствиях нашли воплощение в модели Ю. Борева в работе «Литература и литературная теория ХХ в. Перспективы нового столетия». Замечая, что ранее в каждый переломный период культура, отбрасывая старые ориентиры, всегда предлагала новые — новую концепцию человека, картину мира, ученый с горечью констатирует, что в конце ХХ века этого впервые не произошло, литература (и культура в целом) не выработали новую «формулу бытия». Этот отказ от выполнения «своих миссий» ученый квалифицирует как «месть культуры за то, что большая часть человечества отвернулась от нее, превратив в товар массового потребления и создавая ее поп-масс суррогаты»; в результате «мы впервые в истории человечества вот уже почти четверть века живем без парадигмы, без формулы бытия» [1, с. 42, с. 43]. С влиянием кризисного контекста связаны как пессимистические оценки современного состояния литературы и ее движения на протяжении всего ХХ века к кризисному рубежу, так и, напротив, оптимистические ожидания нового качественного поворота в развитии, и, наконец, обнадеживающие сопоставления современного периода с другими переходными эпохами, с былым успешным опытом преодоления кризисов. В этом отношении одинаково показательны как надежды на выход из модернистского и постмодернистского «лабиринта» (например, Т. Касаткина отмечает «тоску» современной литературы по утраченному в ХХ веке, «по действию вместо мечты, по жизни вместо приключения и «инициации», по настоящему времени и истинной вечности, а значит – по ответственности и свободе» [2, с. 134], так и достаточно оптимистичные прогнозы (А. Мережинская [3]), и кроме того, «усталость» ученых от самой идеи кризиса и «нигилистических» тенденций в литературоведении и критике, наконец, констатация появления новой эстетической и научной парадигмы (В. Бычков, Н. Маньковская, А. Мережинская [4; 5; 6; 7; 3]). Во-вторых, на формирование моделей русской литературы ХХ века повлияли некоторые научные теории, имеющие общефилософское значение (например, синергетические и постмодернистские представления о мире). Воздействие этих теорий ощутило не только литературоведение, но и другие области гуманитарного знания: культурология, социология, эстетика и др. То есть эту особенность можно отнести к культурному контексту всей эпохи. В-третьих, в новых моделях отразились традиция, «старый опыт», например, авторитетные научные концепции, предлагавшие интерпретацию литературной динамики, смены художественных систем (скажем, чередования риторических и антириторических эпох, маятникообразной смены стилей, существования общих тенденций «поверх» стилей и др.). Эти концепции обнаруживаются в изучаемых нами новых моделях как в достаточно традиционном, так и модифицированном виде. От них часто отталкиваются в поисках принципиально иного подхода к осмыслению сложнейшего художественного опыта ХХ века. И, наконец, в моделях находим традиционные архетипические структуры, присутствующие как в литературе, так и в ее научной рефлексии (например, борьбы противоположных начал, получающих авторские позитивные и негативные оценки, либо описания «смерти» литературы, подобной гибели старого космоса, наконец, возникновения новой гармонии после «хаоса» и др.). Попытаемся составить типологию моделей русской литературы ХХ века. Начнем с группы, специфика которой обусловлена отражением общефилософских представлений. В качестве наиболее репрезентативных проанализируем синергетические и постмодернистские модели русской литературы ХХ века. Модель синергетическая. Отметим достаточно последовательное стремление литературоведов и культурологов соотнести синергетические представления о мире с областью художественной, с динамикой культуры. Самой убедительной попыткой подобного соотнесения можно признать работы Ю. Лотмана, в которых изучаются процессы, протекающие внутри культуры как сложной самоорганизующейся системы (взаимодействие и «переворачивание» центра и периферии, активность границы, закономерности возникновения кризисов) [8]. Думается, что синергетические представления вошли в ряд новейших литературоведческих работ именно через посредство и интерпретацию трудов Ю. Лотмана. И хотя ученый непосредственно литературой ХХ века не занимался (как известно, его теоретические построения базируются на материале литературы и культуры XVIII — XIX веков), тем не менее, его концепция прикладывается исследователями к литературе ХХ века. В актуализации синергетических представлений наблюдается закономерность. Так, показательно обращение к ним тех филологов, которые исследуют переходные моменты в развитии литературы ХХ века. Это рубеж XIX-XX столетий с его полистилистикой и сменой художественных ориентиров, тесными типологическими связями с другими видами искусства (монография В. Силантьевой [9]), а также вторая половина ХХ века, особенно постмодернизм (монография М. Липовецкого [10]). Предпринималась даже попытка распространить синергетическую модель на всю русскую литературу ХХ века, рассмотреть ее как результат противоборства хаосогенных и гармонизирующих начал (учебник Н. Лейдермана и М. Липовецкого [11]), постепенного выстраивания «порядка» из «хаоса». Обращение филологов к философским проекциям синергетики имеет свою логику. Действительно, кризисные этапы развития литературы могут восприниматься как хаос, причем, что важно, временный, преодолимый, сменяемый «гармонией» вновь устанавливаемых системных связей. Кроме того, привлекает и близость некоторых моментов интерпретации мира в научном, синергетическом мышлении и художественном. А именно — центральное место категории «хаос» в модернизме начала века и постмодернизме второго рубежа столетия, кроме того, эта категория является центральной в научной, эстетической рефлексии всего ХХ века (например, в ориентирах постнеклассической эстетики, описанных в работах В. Бычкова, Н. Маньковской). В связи с этим абсолютно логичным представляется и тот факт, что большинство исследователей русского модернизма и постмодернизма, а также рубежного художественного мышления ссылаются на работы теоретиков синергетики Ильи Пригожина и Изабеллы Стингерс (монография и учебное пособие И. Скоропановой, статьи Н. Ильинской [12, с. 13] и др.), но при этом далеко не все склонны масштабно распространять на область литературы синергетические представления (вызревшие в междисциплинарной науке, но на базе не гуманитарных знаний, а в рамках физики, химии, математики, астрономии). Вопрос о том, насколько это вообще методически корректно и необходимо, пока не решен, тем более что и литературоведение, и эстетика имеют свой категориальный аппарат описания кризисных эпох, смены художественных систем, переходных состояний. Обратим внимание и на различную степень соответствия литературоведческих моделей синергетическим представлениям. Наиболее последовательно эти параллели проведены в компаративных исследованиях В. Силантьевой литературы и живописи рубежа ХIХ — ХХ веков. Исследовательница находит литературные соответствия физическим процессам, происходящим в сложных самоорганизующихся системах. То есть в терминах синергетики описываются кризисные потрясения художественной системы всей литературы и индивидуальной системы писателя (в данном случае как воплощение переходного мышления представлено творчество А. П. Чехова) и художников (Коровина, Левитана и др.). Более опосредованно синергетические представления использует в своих работах М. Липовецкий. Так, в монографии «Русский литературный постмодернизм» (1997) ученый применяет их не столько к изучению художественной системы, сколько к характеристике сдвигов в художественном и научном мышлении, в сложной рефлексии современности. А в более поздней работе — учебнике «Современная русская литература» (2001), написанном в соавторстве с Н. Лейдерманом, синергетическая модель предстает в сильно модифицированном и адаптированном к литературе виде. Но при этом ее использование соотносится с достаточно неожиданными выводами, касающимися авторской гипотезы о развитии русской литературы ХХ века в целом. Так, в едином процессе борьбы «хаоса» и «порядка» в русской литературе ХХ века появляются островки «гармонии» (в синергетической теории это «порядок из хаоса»). Например, к таким островкам авторы относят соцреализм, воплотивший стремление к «порядку» после усталости литературы от хаосогенных тенденций модернизма. Заметим, что подобные характеристики соцреализма резонируют с традиционными литературоведческими представлениями о нем как о стиле нормативном, модифицированном классицизме (А. Синявский), как о стиле риторическом (Е. Черноиваненко, В. Руднев), как о стиле с доминирующим аполлоническим началом. К этим квалификациям Н. Лейдерман и М. Липовецкий пытаются добавить новое измерение — общефилософские представления о самоорганизующихся сложных системах. Именно таковой видится ученым литература ХХ века. Синергетический подход и система представлений синергетики особенно привлекают ученых, анализирующих кризисные состояния литературы, механизмы качественных скачков, адаптации системы после изменений. Поскольку кризисные явления вообще были характерны для литературы ХХ века и присущи его второму рубежу, появление новых «синергетических» моделей и развитие самого подхода кажется закономерным. К подобным же масштабным общефилософским и общекультурологическим моделям можем отнести, помимо «синергетической», постмодернистскую, сложившуюся в отличие о первой на базе гуманитарных знаний. Влияние постмодернистских представлений на выявление учеными логики литературного процесса ХХ века обусловило, на наш взгляд, по крайней мере, две позиции исследователей. Первая: ХХ век, как и другие эпохи (например, эллинизм, барокко) рассматривается как время «усталости» литературы (позиция В. Велша, Д. Затонского [14] и др.), а раз так, то искусство слова этого периода вводится в общий типологический ряд литератур кризисных времен. В таком контексте оказываются возможными широкие и достаточно рискованные сближения и определения (например, «постмодернистом» видится Пушкин, Чехов, а также многие другие знаковые фигуры, обнаруживается неожиданная связь между классиками и современной эпатажной литературной молодежью; именно такой подход зафиксирован в монографии Б. Парамонова «Конец стиля» [15]). Вторая позиция все же выводит русскую литературу ХХ века из общей типологической цепи смены стабильных и кризисных эпох. Если вся предыдущая русская литература мыслится как смена и сосуществование великих стилей (романтизма, реализма и даже соцреализма), то к концу ХХ века, по мнению ученых, в литературе пропадают великие стили и общая стабильность (позиция Б. Парамонова), начинает торжествовать плюрализм, а сама русская литература мыслится как лишенное единства и целостности дискретное образование. Эта позиция оформляется по-разному. Например, А. Гольдштейн в своей монографии «Расставание с Нарциссом. Опыт поминальной риторики» [16] делает вывод об «окончании» русской литературы в том качестве, в котором она традиционно представлялась. Критика по этой же причине отказывается определять общие (в том числе и стилевые) особенности и объединяющие тенденции современной литературы. Отсюда традиционное для многих публикаций в «Новом литературном обозрении» заявление об отсутствии единых стилевых установок в современной поэзии, о ее «рассыпании» на «отдельные индивидуальные поэтики». Создается такая модель: распался великий стиль соцреализм и образовалась некая плюралистичная, демократичная множественность, которую невозможно обобщить, но можно описать отдельные ее фрагменты. Такая позиция связана с постмодернистским принципом децентрации и с еще одним явно устаревающим тезисом о постмодернизме как позитивном итоге и завершающей «демократической» фазе философского и литературного развития всей культуры с эпохи Нового времени. Заметим, позиция эта совершенно справедливо критиковалась М. Эпштейном, который увидел в такой «окончательности» новую властность и утопизм постмодернизма. Еще раз подчеркнем, постмодернистские по своему духу модели не ограничиваются рамками современной литературы, а имеют тенденцию пояснять весь литературный процесс ХХ века и даже распространяться на предшествующие эпохи. Например, вся русская литература трактуется как борьба авангардных по духу тенденций с «традиционализмом» (Б. Гройс [17]), либо вся литература прошедшего столетия преподносится как смена и перераспределение «власти», «идеального капитала» (М. Берг [18]), либо как нарастание тенденций к синтезу языков культуры, слиянию эстетических и неэстетических сфер (И. Скоропанова [19]) либо их тесному сосуществованию (Э. Шестакова [20]), наконец, как адаптация литературы к нарастающему «информационному шуму» динамичного столетия («информационная травма постмодерна», по определению М. Эпштейна [21]). Характерной и логичной особенностью таких моделей является также описание в терминах постмодернизма тех явлений, которые находятся в иной художественной плоскости. Например, квалификация соцреализма как авангардного, близкого к постмодернизму искусства (Б. Гройс, саморефлексия концептуалистов [22]). Такие модели, еще недавно воспринимавшиеся как новаторские, сейчас в связи с кризисом самой постмодернистской теории и обретением художественными и философскими текстами новых качеств, справедливо подвергаются критике. Возникают сомнения в перспективности подобных моделей, хотя их опыт, безусловно, будет учитываться в новой складывающейся теоретической парадигме. Вторую группу моделей составляют те, что основаны на непосредственно эстетических, теоретико-литературных принципах. Интегрирование их специфики и многообразия позволяет вычленить определенные доминанты, которые можно считать критериями типологии моделей. Первое. Ученые акцентируют либо уникальность литературы ХХ века, либо, напротив, ее соответствие общим процессам динамики и смены художественных систем. Оказывается возможным также синтез этих двух контрастных позиций, соединение в моделях «традиционности», «вписанности» в типологический ряд и принципиальной новизны, что, безусловно, создает специфическое качество. Второе. Анализ моделей показывает, что учеными акцентировалась оппозиция «поступательности», логики, «линейности» / прерывности, нелинейности развития литературы ХХ века. Приведем примеры. Достаточно часто как «разрыв» в естественном (то есть соответствующем западноевропейской модели) развитии русской литературы ХХ века трактовался соцреализм, понимаемый как результат внешнего идеологического вторжения в жизнь искусства, вследствие чего было прервано естественное развитие модернизма, «отменены» многие художественные открытия Серебряного века. Такая установка моделирует следующую картину русской литературы ХХ века. Определяются две вершины на его рубежах, разделенные качественным провалом. Либо иной вариант — возвращение по кругу, через некий пробел в развитии к урокам к не пройденным урокам (М. Липовецкий [23]). Или же еще одна интерпретация — преодоление застоя, «раскола» (по М. Голубкову [24]) и восхождение к новой вершине, равновеликой тем, которые остались в прошлом. Чаще всего эту новую вершину символизирует творчество А. Солженицына, которого признают единственным классиком русской литературы этой поры (учебник М. Голубкова, статьи П. Е. Спиваковского, монография Т. В. Клеофастовой и др.). Так, например, П. Е. Спиваковский отмечает закономерное внимание именно к творчеству Солженицына теоретиков литературы («Симптоматично в этом смысле обращение к творческому наследию А. И. Солженицына в «Теории литературы» И. Ф. Волкова, «Эстетике» Ю. Б. Борева, «Теории литературы» В. Е. Хализева, не случайно и то, что П. Николаев указывает на особую значимость произведений Солженицына с теоретико-литературной точки зрения» [25, с. 30]). Сам же ученый выстраивает свои иерархию русской классики ХХ века и, соответственно, модель русской литературы: это постепенное восхождения к вершине, которая возникает лишь к концу столетия. Данная модель строится на достаточно дискуссионной посылке: гении русской литературы начала и середины века (называются Шолохов, Булгаков, Платонов) не могли адекватно описать весь ХХ век, художественно его интерпретировать и подвести ему своеобразный итог. Эту миссию выполняют волею судеб писатели конца столетия: прежде всего Солженицын, но также и В. Распутин, Г. Вадимов, «деревенщики», то есть те художники слова, которые имели талант и возможность осмыслить действительность ХХ века в «целостности и развитии» [26, с. 61], а кроме того, соединить художественный опыт реалистической, модернистской и отчасти постмодернистской литератур, совместить художественное и документальное начала в новый тип полифонии, что, в результате и приводит к появлению нового художественного качества и расширяет «представления о художественности» в конце ХХ века. Однако «двухвершинные» и «одновершинные» модели не вытеснили более традиционную, в которой общая картина русской литературы ХХ века намечается точками-ориентирами, обозначающими творчество ряда новых классиков. В рамках такой модели «спады» не зафиксированы, поскольку каждый из периодов представлен крупными фигурами, вершинами, причем независимо от идеологической и стилевой принадлежности произведений писателей. Но зато в рамках такой модели внимание фиксируется на «поворотных» текстах, которые знаменуют возникновение новых циклов внутри литературы ХХ века, меняют динамику и векторы художественных поисков и, собственно, позволяют вычленить отдельные периоды в развитии литературы минувшего столетия. Эта модель сложилась в изысканиях М. Чудаковой (статьи «Без гнева и пристрастия», «Сквозь звезды к терниям», «Пастернак и Булгаков: Рубеж двух литературных циклов» [27]), а также традиционно используется в учебниках и учебных пособиях. Например, в «периодизации» М. Чудаковой таким «поворотным» текстом является «Один день Ивана Денисовича», явивший новую тематику, нового героя, автора, художественный язык. Другой исследователь — Л. Ф. Киселева в качестве текста, знаменующего поворот внутри литературы ХХ века от первой половины ко второй, рассматривает «Доктора Живаго» Б. Пастернака. Критерием становится появление нового чувства историзма и связанные с ним новые трактовки человека, изменения в поэтике. Роман рассматривается как «мост» или, по словам исследовательницы «переключатель» между классикой первой и второй половины века: являясь итоговым текстом в ряду произведений «большого исторического синтеза» (имеются в виду «Жизнь Клима Самгина» Горького, «Тихий Дон» Шолохова, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Последний из удэге» Фадеева), роман Пастернака одновременно воспринимается как очень современное и актуальное чтение на новом рубеже веков. По словам Л. Ф. Киселевой, «роман о событиях революции, написанный в середине века, читается как книга о дне сегодняшнем, второй русской революции в этом столетии и постперестроечной поре. Тупиковые ситуации судеб героев, замусоренная жизнь и природа, заблудившийся ход истории, маскарадность одних героев и резкая смена обликов других — все это создает впечатление, будто автор и вправду предугадал конечную судьбу описываемых явлений, поистине “уловил в далеком отголоске, что случилось на его веку”» [28, с. 264]. В качестве «поворотных» может быть представлены группа текстов, воплощающих как бы различные особенности процесса смены художественных систем, поливекторность поисков. Например, в учебнике Н. Лейдермана и М. Липовецкого в качестве циклообразующих квалифицируются три романа, созданных в 50-е годы, «Русский лес» Л. Леонова, «Доктор Живаго» Б. Пастернака, «Лолита» Набокова. Есть определенная логика в подобном композиционном сближении на страницах учебника столь непохожих произведений. Все они демонстрируют различные направления стилевого и жанрового поиска, возникшие хронологически одновременно. Это, во-первых, соединение традиций философского романа с соцреалистическим каноном и новыми тенденциями, что создавало возможность двойного прочтения «Русского леса» («двойной композиции», по Л. Леонову). Во-вторых, соединение модернистских и реалистических принципов письма в «Докторе Живаго». И, наконец, развитие новых, постмодернистских особенностей в «Лолите» Набокова. Все вместе создает некую стереоскопическую картину художественных поисков в переломный период развития русской литературы. Заметим, что важное теоретическое значение имеет сам факт признания новой классики. Это помогает, во-первых, преодолеть исследовательский нигилизм по отношению к литературе ХХ века (по словам В. В. Ванслова, у нас «сложилась своя классика, соизмеримая с классикой прошлых веков, которой мы вправе гордиться» [29, с. 68]. Во-вторых, признание новой классики позволяет определить особенности научной и художественной саморефлексии. В-третьих, это позволяет указать на возможные доминанты развития, характерные именно для литературы ХХ века. Показательным в этом плане является замечание А. Д. Михайлова: «Литература ХХ века очень скоро стала создавать свою классику. Причем такой классикой становились наиболее выдающиеся достижения модернизма, а не нового варианта классического реализма» [30, с. 50]. Выводы ученого относительно достижений модернизма базируются в основном на материале западноевропейских литератур, выявление же доминанты в русской литературе остается до сих пор проблематичным. Но показателен сам подход ученого: именно тексты, воспринимаемые как классика, служат основой для обнаружения векторности развития, доминант и определяют общую картину литературы ХХ века. Теоретическое значение имеет и вопрос о критериях отнесения тех или иных явлений к классике ХХ века, поскольку решение его затрагивает проблему традиций и новизны, центра и периферии, роли содержательной и формальной составляющих и др. Модель описания русской литературы по пиковым точкам — произведениям классиков и поворотным, «переключающим» текстам — давно апробирована и перспективна, не случайно она доминирует в учебниках и учебных пособиях. Однако эта модель не претендует на более широкие обобщения, на раскрытие механизмов функционирования литературы, смены художественных систем, хотя она и может стать основой для изысканий в данном направлении. Заметим, что в качестве точек-ориентиров общей картины литературы ХХ века учеными могут предлагаться не обязательно писатели-классики или вершинные тексты, а и такие произведения и знаковые фигуры, которые, с точки зрения исследователей, наиболее ярко воплощают определенные тенденции. Так, например, Т. А. Касаткина, изучая русскую литературу ХХ века как целостность, «организм», по ее словам, опирается на наиболее «репрезентативные» тексты, авторы которых «с чуткостью уловили и адекватно отразили происходящие изменения» [2, с. 87]. В качестве таковых избираются модернистские и постмодернистские произведения последних десятилетий. Они трактуются как воплощение спада либо тупика, лабиринта в развитии всей русской литературы ХХ века. Заметим, что эта модель контрастирует с описанными выше «двухвершинной» и поступательной. При этом в соответствии с установкой на поступательность развития литературы (а это, как упоминалось выше, является одной из опор при моделировании, как и контрастная ей «нелинейность», прерывистость) исследовательница объясняет причины спада и новые негативные качества современной литературы развитием до крайней степени уже существовавших в литературе Нового времени особенностей. В модели Касаткиной акцентируются такие: наличие оппозиций реализм / психологизм, реализм / идеализм; проявление либо отсутствие духовной вертикали; признание либо отрицание существования истины; оппозиция конкретного времени, истории и провозглашение множественности интерпретаций, нелинейности. Во всех оппозициях в конце ХХ века побеждает второе начало, что и образует непродуктивный перекос в развитии литературы и в понимании писателями современности и человека. В результате создается следующая «нелинейная» модель на основе анализа времени и пространства текстов последних десятилетий ХХ века. «Картинка, способная описать наше положение во времени», образна и остроумна: «В бочку укладывают шланг. Он ложится кольцами, на коротком отрезке создающими впечатление поступательного развития, на длинном – известную диалектическую модель развития по спирали. Это и есть время... Каждый отрезок шланга пущенной струей воды приходится без всякого даже намека на возможность возвратного или иного, кроме поступательного, движения. В какой-то момент спираль шланга заполнит ... пространство... Однако останется еще пустующая середина. Шланг продолжают засовывать, и он комкается внутри себя самого... неожиданно оказываясь вблизи самых произвольно взятых своих витков. Шланг прозрачен. Вода может наблюдать самые неожиданные стадии уже пройденного пути. Но вот бочка заполнена. Вода выплескивается из шланга... Время остановило свое течение... Однако вода, находясь в пространстве бочки, получила доступ к любой точке пройденного ею пути — хотя и лишь как к музейному экспонату... Может быть, роль прозрачных стенок шланга, у которых мы пучим глаза, как рыбы, давно уже выполняет та грань, которая разделяет «первичную» и «вторичную» реальность» [2, с. 123 — 124]. Выход из сложившейся ситуации видится исследовательнице в возвращении литературы к ориентирам, зафиксированным в первых частях оппозиций, то есть к реальности, реалистическим установкам, духовной вертикали, нравственным основам, а также в отказе от релятивизма и «нелинейных» представлений. Все это могло бы исправить наметившийся непродуктивный перекос. Заметим, что «нелинейная» модель — «картинка» современной литературы создана ученым, доказывающим последовательность развития художественного слова. Таким образом, подчеркнем еще раз, структурирующими ориентирами при создании моделей русской литературы ХХ века могут быть следующие: 1) акцентирование уникальности литературы этого периода либо, напротив, его 2) «вписанности» в общий механизм смены художественных систем, или же констатация 3) синтеза традиционности, типологической схожести с иными периодами и «новизны»; 4) акцентирование поступательности развития либо «нелинейности», разрывов; 5) обозначение векторности; 6) вычленение оппозиций, противоположностей, доминирование одной из которых или же противостояние контрастных черт обеспечивает либо «перекос» системы, либо же ее равновесие и обновление. Попытаемся описать модели по данным критериям, претендуя не столько на полноту охвата, сколько на выявление логики моделирования, типичных черт научной рефлексии. 1. Наиболее репрезентативную группу представляют модели, в которых ХХ век «вписывается» в типологический ряд других периодов развития литературы. Критерии определения такого ряда могут быть разными, но все новые модели опираются на классические теории динамики литературы. Наиболее высокий план обобщения — это ряд риторических и антириторических эпох. В соответствии с теорией А. В. Михайлова, риторическая эпоха простирается от конца «века Аристотеля» до рубежа XVIII — XIX веков и сменяется антириторической (периоды романтизма и реализма). В новейших моделях начало ХХ века вновь возвращается к риторической эпохе, и, по словам А. В. Михайлова, нет «никакого модернизма и гипермодернизма, а просто культура возвращается к некоторым своим традиционным основаниям» [31, с. 133 — 134]. Таким образом, указана и вектроность движения — по спирали с широким кругом, к модификации достаточно давнего опыта. К риторическим эпохам склонен относить литературу ХХ века и украинский ученый Е. Черноиваненко, но при этом ученый обращает внимание на специфику именно русской литературы, несовпадение фаз ее развития с западноевропейскими [32]. По отношению ко всей русской литературе такая квалификация еще нуждается в уточнении (заметим, А. В. Михайлов строит свою концепцию преимущественно на материале западноевропейских литератур, а Е. М. Черноиваненко подробно литературу ХХ века не анализирует). Собственно это и происходит в ряде работ, посвященных доказательству существования типологического сходства между литературами риторических эпох и русским художественным словом ХХ века. Это, прежде всего, работы Л. Сазоновой, которая доказывает соотносимость русского барокко и русского авангарда начала века по целому ряду принципов (мышления словом, «активного обращения со словом», моделирования поэтического языка, использования риторических конструкций, стремления к универсализму и постижению мира во всей полноте, создания всеобъемлющих картин, использования образов алфавита и пяти чувств, книги как макрокосма, развитие риторического приема соединения далековатых идей, принципов остроумия и др.). Исследовательница подчеркивает, что опирается на теорию Михайлова, квалифицируя ХХ век (по крайней мере, его рубеж и первые десятилетия) именно как риторическую эпоху [33, с. 26 — 52]. Заметим, что эта модель — вписывания литературы ХХ века в ряд риторических и антириторических эпох — активно расширяется. Так, украинский ученый И. Заярная дополняет эту картину исследованием принципов барокко в русском постмодернизме, то есть в направлении последних десятилетий ХХ века. [34]. А если учесть, что соцреализм (то есть официальная литература 1930 — 1980-х гг.) традиционно рассматривается исследователями в этом же ключе, то есть как возврат к риторической культуре (использование «готового слова», разработка жесткого и нормативного «фундаментального лексикона» (см. Е. Добренко [35, с. 36]), то вырисовывается достаточно полная модель ХХ века как риторической эпохи в русской литературе. Независимо от того, соотносят ли ученые свои изыскания с названной моделью, следует отметить возрастание пристального внимания к судьбе и трансформациям слова, в том числе и готового слова, экспериментам со словом в литературе ХХ века в работах исследователей [37, с. 38]. То есть подобный подход мыслится как перспективный, и результаты его реализации могут подкрепить названную модель, существенно расширить ее рамки. В целом можно отметить обозначившееся стремление ученых вписать литературу ХХ века в ряд крупнейших историко-культурных эпох, соотнести по ряду типологических схождений с давними, даже архаическими периодами. Это происходит в работах, не претендующих на создание обобщающей модели ХХ века, но зато отражающих некие единые тенденции научного поиска. Чаще всего внимание акцентируется на повышенной мифологичности литературы ХХ века, ее внимании к архетипическим основам. Но есть и иные акценты. 2. Ученые отмечают как бы «новый синкретизм» литературы ХХ века, вобравшей в себя некоторые особенности других, нехудожественных сфер гуманитарной мысли, размывшей границы между художественным и нехудожественным. Именно в таком ключе И. Скоропанова характеризует русский литературный постмодернизм. А эстетики Н. Маньковская и В. Бычков в таком направлении квалифицируют состояние научной мысли, когда стираются границы между научной и непосредственно художественной рефлексией (это явление получает обозначение «ПОСТ-адеквации» — «особого метода вербализации опыта медитативно-ассоциативного проникновения в художественные феномены и артефакты ХХ в., в объекты ПОСТ-культуры» [39]). Приведенные характеристики можно соотнести с тем состоянием культуры, когда литература еще не выделилась как автономный сегмент культуры, была слита с религией, философией, этикой в едином культурном поле. Добавим, что о возможности такого нового повторного слияния размышляли в свое время Андрей Белый и Василий Розанов и реализовывали эту установку в художественном творчестве. О возможности актуализации синкретизма на более поздних этапах развития культуры говорит С. Н. Бройтман, подчеркивая, что «древний синкретизм литературы родственен мифологии» (заметим, акцентированную мифоценричность литературы ХХ века отмечали многие исследователи). «И в более позднее время — в момент своего становления — каждая литература переживает состояние, типологически родственное тому, что мы называем синкретизмом. Почему, например, Пушкин — это «наше все» (Ап. Григорьев)? Очевидно потому, что он для русской литературы был тем началом, в котором в синкретическом виде заложены возможности ее будущего развития» [40, с. 18]. Не исключено, что и сейчас, на новом, кризисном витке развития, когда складывается новая культурная парадигма, литература возвратилась к опыту эпохи синкретизма (тем более, что мы видим из приведенных выше примеров, что это происходило в узловые для развития русской литературы эпохи — ее становления и перелома на рубеже XIX — XX веков). О происходящих сдвигах в области не только литературы, но и культуры в целом рассуждают сейчас многие. Так, В. Б. Земсков говорит о кризисе традиционных дифференцированных видов искусства и их замене гибридным художественно-философским дискурсом [41].Украинская исследовательница Э. Шестакова видит в современном состоянии культуры определенные последствия развития тенденций культуры Нового времени, среди них сосуществование и взаимодействие литературы и нехудожественных дискурсов, в том числе коммуникативных. Фиксируется ряд актуальных современной литературы «пограничных территорий», в которых взаимодействуют художественные и нехудожественные начала, а также различные языки культуры, переплетаются непосредственно эстетические функции и прагматически-утилитарные [20]. Все перечисленные особенности могут интерпретироваться нами как тенденции к «новому синкретизму», новому синтезу, тенденции, противоположные характерной для Нового времени дифференциации языков искусств и контрастные центробежным процессам и дискретности, которые постмодернистская теория провозглашает доминирующими в современном состоянии культуры. Таким образом, можно утверждать следующее. Идея «нового синкретизма», возникшая в исследованиях литературы ХХ в., отражает как недостаточную степень изученности самой литературы, так и специфику ее научной рефлексии (то есть стремление ученых к поиску типологических параллелей с удаленными крупными культурными эпохами, к итоговым крупным обобщениям) и, наконец, возникновение новой научной парадигмы и течений внутри ее рамок (ПОСТ-адеквация), которым еще предстоит доказать свою перспективность. 3. Тенденция вписывать литературу ХХ века в типологический ряд обширных историко-культурных эпох и представлять в связи с этим литературное развитие как движение по спирали проявляется и в других моделях, в частности, смены стабильных и переходных эпох (Л. Черная, А. Мережинская, О. Кривцун [41; 3; 42]). При этом в качестве переходных эпох мыслятся как рубежи ХХ столетия, так и оно все в целом. Разработаны и критерии определения переходных эпох (Хализев, Кривцун [44, с. 43]) и показано их несовпадение с более узкими критериями отдельных стилей (А. Мережинская). Переходные эпохи — это более конкретный, узкий по сравнению с риторическими / антириторическими типологический ряд. Ученые обнаруживают типологические параллели между ХХ веком и эпохами эллинизма, перехода от средневековья к Новому времени и др. 4. Еще более узкий ракурс обобщения — это создание моделей на основе стилевой динамики. В отношении литературы ХХ века наиболее ярко проявилось два подхода. Во-первых, «вписывание» всей литературы ХХ века или отдельных ее крупных периодов в модель маятникообразной смены стилей с доминированием либо «аполлонического» (по Ницше) начала («первичные» стили по Д. Лихачеву), либо «дионисийского» («вторичные» стили). Принципы конструирования такой модели традиционны, они разрабатывались в классических исследованиях Ницше, Курциуса, Чижевского, Лихачева. По такому образцу квалифицируется литература ХХ века в трудах И. Скоропановой, И. Заярной и других. Во-вторых, литература ХХ века описывается как результат противоборства двух «основных» стилей. В качестве таковых чаще всего называют реализм и модернизм. Так, В. Ванслов в качестве ярчайшей черты литературы ХХ в. называет «поляризацию тенденций модернизма и реализма, незнакомую прошлым векам» [29, с. 63]. При этом внутри каждого из этих направлений, по мысли ученого, также происходит дифференциация, а, кроме того, проявляются особенности «общенациональных» школ. Постмодернизм в такой модели может даже не называться, его, видимо, рассматривают как кризисную фазу модернизма. При этом может указываться победитель данного противостояния, например, модернизм (работы А. Д. Михайлова, Н. И. Ильинской и др.). Пример такой позиции: О. А. Овчаренко полагает, что определяющая особенность ХХ века — это стремление к обновлению художественной палитры. А оно связано именно с кризисом реализма, повлекшим на Западе возникновение «измов», а в русской литературе — ряда специфических инноваций (в виде отрицающей прошлый опыт «пролетарской литературы», затем соцреализма), а также характерного для всех литератур бурного экспериментирования (см.: [45,с. 51]. Часть ученых, напротив, полагают, что в процессе противоборства двух стилей одержал победу обновленный реализм, концентрирующий основные достижения литературы ХХ в., представляющий ее «лицо» (позиция авторов учебников по русской литературе ХХ. М. Голубкова, Минералова и др. [24, с. 46]). Так, например, П. Е. Спиваковский констатирует возрождение реализма, связанное с необходимостью отразить и осмыслить бурные исторические изменения и культурные сдвиги ХХ века (заметим, что эти же аргументы приводили сторонники постмодернизма, считающие именно его художественным языком эпохи адекватно отражающим специфику времени). По словам исследователя, «интеллектуальный подход к окружающей человека жизненной реальности дает в эту эпоху намного больше, чем раньше. Именно этим, а вовсе не любовью к литературной архаике объясняется тот факт, что наиболее крупные прозаики второй половины столетия тяготеют к реалистической художественной типизации: время предчувствований и предвестий прошло, наступила пора осмысления и понимания» [26, с. 61]. 5. Исследователи, безусловно, учитывают то, что модернизм и реализм в ХХ веке — явления многоликие, развивающиеся и меняющиеся, поэтому расширяют значение этих квалификаций или применяют их к синтезу явлений. Это отражается в моделях, построенных не по стилевому принципу, а фиксирующие явления более общие, «поверх» стилей (если воспользоваться определением Д. Лихачева), отражающие противоборство масштабных эстетических установок. Так, например, модель А. Д. Михайлова также строится на бинарной оппозиции. Но в качестве противоборствующих сторон фигурируют, во-первых, «неотрадиционализм» (который включает в себя «добрый старый реализм», но также и романтизм, традиции символизма, порой в их слиянии), во-вторых, «неомодернизм», возникший как развитие традиций модернизма в новых условиях [30, с. 49]. Фактически, как нам представляется, речь идет уже не столько о стилях или литературных направлениях, сколько о контрастных тенденциях к сохранению и воспроизведению опыта, с одной стороны, а с другой — к его отрицанию, эксперименту. Подобная модель, построенная на противоборстве контрастных начал, появилась и на материале русской литературы (Михайлов обобщал опыт западноевропейских), причем независимо от концепции А. Д. Михайлова, что уже показательно само по себе и может свидетельствовать об определенных тенденциях в изучении литературы ХХ века. Так, например, Б. Гройс в качестве двух системообразующих установок развития русской литературы называет «традиционалистскую» (ее представляют многие писатели: от Ахматовой до Солженицына) и «авангардистскую». Первая оценивается негативно, является, по мысли ученого, консервативной и отражает негативные стороны русской ментальности и культуры. Вторая же квалифицируется как позитивная, новаторская, ориентированная на западные общеевропейские образцы. Схожая концепция, но свободная от идеологических коннотаций и претенциозной критики ментальности, сложилась у В. Кожинова. Исследователь вычленяет не две, а три тенденции или установки — «классика», «модернизм», «авангардизм» и видит в их противоборстве особенности литературы ХХ века и необходимое условие жизни и обновления художественной системы. Сохранение художественной системы обеспечивается взаимодействием контрастных устремлений и их уравновешиванием. «Классика основана на стремлении непосредственно продолжать традиции литературы XIX в., от Пушкина до Чехова; модернизм преследует цель создать «новое», «современное» искусство, хотя и не порывающее с классикой; авангардизм — это в той или иной мере отрицание, отвержение классики, в значительной мере модернизма» [47, с. 9]. В работе ученого доказательством верности и эффективности модели должна стать демонстрация ее возможностей объяснить непонятные явления в литературе ХХ века, их систематизировать и показать взаимосвязь на всех уровнях. Например, на конкретном, узком уровне одного направления (так, в акмеизме проявляются все три тенденции: Ахматова стремится к «классике», Мандельштам воплощает модернистские тенденции, Нарбут — авангардистские). На более широком уровне обобщений модель, по мнению В. Кожинова, объясняет особенности отдельных периодов русской литературы ХХ века (например, смену «волн» авангардизма: Серебряный век, 1946-1953 годы, современность). И, наконец, наиболее широкий уровень обобщения особенности динамики всей русской литературы ХХ века: на протяжении всего столетия доминировало то одно, то другое «устремление». В качестве ориентиров приводится «Тихий Дон» — классика, «Мастер и Маргарита» — модернизм, «Котлован» — авангардизм, «хотя и умеренный» [47, с. 17]. К недостаткам модели следует отнести отсутствие характеристики модернистских устремлений (более подробно описаны контрастирующие «классика» и «авангардизм»), что превращает трехсоставную модель в двухсоставную, в традиционное противостояние тезиса и антитезиса. Важно, что две ведущие тенденции не мифологизируются автором, не предстают воплощениями традиционных (и архетипических) сил сохранения космоса и его разрушения. Напротив, несмотря на четко выраженную антипатию автора к авангардным экспериментам, ученый констатирует творческую и созидательную их функцию, рассматривает их как своего рода инструмент обновления. То есть, еще раз подчеркнем, В. Кожинов рассматривает русскую литературу ХХ века именно как сложную живую систему, которая выработала механизмы обновления и стабилизации. Именно этот ракурс сближает модель В. Кожинова с представлениями синергетики о самовосстанавливающихся саморегулируемых системах, а также с моделью семиосферы Ю. Лотмана, особенно с описанием ядра культуры, «центра», сохраняющего опыт и вечно «бунтующей» периферии. В этом видится не влияние (Кожинов на указанных авторов не ссылается), а общие особенности научной рефлексии литературы ХХ века на рубеже столетий. Возникает еще одна параллель — с размышлениями Д. С. Лихачева о недостаточности стилевого критерия, механизма смены стилей для характеристики сложного литературного процесса ХХ века, о необходимости поисков неких общих устремлений «поверх стилей» [48]. В. Кожинов в подобном же ключе выступает против модели литературы ХХ века как смены группировок, школ, течений («глядя из уже начавшегося нового столетия особенно ясна необходимость выдвижения на первый план более масштабных понятий, нежели понятия о течениях и группах» [47, с. 8]. Однако стилевая составляющая у Кожинова все же остается (модернистские и авангардистские устремления), но акцент делается на внутрисистемных механизмах обновления. Д. Лихачев представляет более широкие принципы – «прогрессивные линии» развития литературы, укрепляющиеся на всем протяжении ее развития и имеющие перспективы в будущем [48]. То есть модель Д. Лихачева выполняет еще и прогностическую функцию. Литературой ХХ века ученый не занимался, приложимость же модели к художественной словесности этого периода можно отрицать [3, с. 49]. Но следует признать типологическое сходство с ней других концепций ученых, сложившихся на рубеже XIX-XX веков, особенно тех концепций, в которых подчеркивается, с одной стороны, уникальность ХХ века, неприменимость к нему эффективных для описания предшествующих периодов моделей (например, маятникообразной смены стилей), а с другой, — наличие преемственности литературного развития и существования неких общих для всего века тенденций. Как нам представляется, обнаруживаются знаменательные совпадения и несовпадения с моделью Лихачева, что, может свидетельствовать не о влиянии мнения классика (его не цитируют), а о наличии общего вектора научного поиска, общих идей, «растворенных» в воздухе эпохи. Попробуем проинтегрировать предложенные литературоведами обобщения на материале моделей второго типа, — то есть фиксирующих уникальность литературы ХХ века. 1. В качестве ведущей особенности исследователи называют «ускоренное развитие по сравнению в предыдущими веками» [29, с. 63]. (Лихачев трактовал эту особенность как усиление динамики развития и смены стилей). Такую тенденцию отмечают В. Ванслов, Я. Н. Шередко. Причем Я. Н. Шередко фиксирует не только количественный показатель, то есть убыстрение, но и качественные сдвиги в самом процессе ускорения. «Скорость претерпела качественные изменения. Перестав быть величиной, характеризующей смену одного канона другим, она трансформировалась в показатель, описывающий обмен культурно значимой информацией между ними» [50, с. 51 — 54]. Отмечается как ускоренное развитие всей системы, так и нарастание динамичных процессов внутри ее. В частности, А. Михайлов говорит о «жанровой подвижности, постоянной смене одних жанров другими как ведущими» [30, с. 50]. 2. Второй наиболее часто вычленяемой особенностью литературы ХХ века является такая, которую можно обозначить как «расширение поля» литературы. Эта составляющая модели трактуется учеными по-разному. Во-первых, как синтез культур и литератур Запада и Востока (Я. Шередко [50]), во-вторых, как «включение» в мировой литературный процесс большого числа новых литератур (А. Д. Михайлов характеризует «волны» этого процесса: открытие литератур Северной Америки в первой половине века, латиноамериканских стран и Японии во второй половине, на рубеже веков прогнозируется включение в общий процесс художественной словесности Азии и Африки). В-третьих, открытие достижений «малых европейских литератур», которые выходят на уровень общемировых благодаря отдельным крупным фигурам (румын Элиаде, чех Кундера, серб Павич, поляк Милош и др.) [30]. В четвертых, развитие национальных литератур в бывшем Советском Союзе и нынешней России (В. Ванслов [29, с. 64]). Русская литература и другие сегменты расширившегося в ХХ веке поля литературы, безусловно, оказывают друг на друга влияние, характер которого еще предстоит изучить, как и качество нового возникшего синтеза «мировой литературы ХХ века» в целом. Названная особенность трактуется и в ином аспекте: выхода непосредственно художественной словесности за традиционные рамки, появление контактов с внехудожественными сферами, взаимное обогащение и стирание границ между различными (и в том числе принципиально новыми, например, интернетом) областями культуры. Подобное «распространение художественной культуры вширь» связано, по мнению В. Ванслова, как «с демократизацией общества и возрастанием общей культуры людей, так и с невиданным развитием средств массовой информации и всевозможных видов коммуникаций» [29, с. 64].Данный процесс сейчас начинает изучаться литературоведами и культурологами [51], а также самими писателями (вспомним, например, художественную интерпретацию влияния интернета, рекламы, средств массовой информации на сознание человека в прозе В. Пелевина, В. Тучкова, статьях М. Бутова). 3. С вышеназванной особенностью связана следующая. Это «перенасыщенность» культуры (и литературы) информацией, приводящая, в интерпретации ученых, к негативным последствиям (М. Эпштейн говорит об «информационной травме постмодерна»), так и к открытию новых перспектив развития (Я. Шередко). 4. Следующей чертой можно считать сложное взаимодействие разнонаправленных процессов синтеза и дифференциации, протекающих на границах литературы и различных языков культуры, а также внутри системы: элитарной и массовой литературы [29, с. 64], литературы художественной и документальной [30], художественной и научной [14]. При этом нельзя сказать, что литература «растворяется» в поле культуры и утрачивает свою специфику. Идут и обратные процессы дифференциации, связанные, в том числе и с осознанием литературой своей специфики. Так, О. А. Овчаренко, характеризуя литературу ХХ века, замечает: «Во всем мире появляется особая категория «поэтов для поэтов» (Хлебников, Г. Стайн, Дж. Джонс), создателей экспериментальной литературы, чьи достижения берутся на вооружение их более известными собратьями по перу» [45, с. 51]. Идет небывалый по интенсивности процесс саморефлексии литературы на протяжении всего ХХ века: от литературы модернизма (о чем писал М. Липовецкий) до метапрозы и самопародирования постмодернизма (А. Мережинская). Заметим, что исследователи по-разному оценивают его значение для литературы (позитивно М. Липовецкий, негативно — Т. Касаткина). Но нельзя не признать, что саморефлексия литературы связана с осознанием ею своей сущности и возможностей в новых изменившихся условиях, с признанием своей специфики и «нерастворенности» и открывшихся возможностей обновления. Под «дифференциацией» художественной жизни исследователи понимают и обилие «направлений, школ, стилей, индивидуальностей». По мнению В. Ванслова, ХХ век в этом отношении уникален: «В сравнении с этим художественное развитие в ХIХ в. более однородно» [29, с. 63]. Кроме того, нужно отметить характерное именно для русской литературы деление на ветви: литературу официальную, андеграунд (и промежуточные формы), художественную словесность метрополии и трех волн эмиграции. А в конце ХХ века этот процесс дифференциации, по мнению некоторых ученых, пошел еще интенсивнее. Литература поделилась на множество «автокефалий» по образному выражению М. Золотоносова [52]. И, тем не менее, это множество составило специфический синтез русской литературы ХХ века. Столь же сложные процессы синтеза и дифференциации протекают внутри отдельных литературных направлений. Примером могут служить отдельные «ветви» русского постмодернизма, создающие весьма сложную типологию, а также обилие групп писателей, творчество которых синтезирует черты различных традиций и разнонаправленный поиск. Подобная пестрота литературы и ее динамичное развитие требуют от ученых нахождения новых ракурсов исследования, которые бы позволили с позиций более высоких обобщений увидеть в хаотичном движении отдельных частиц — индивидуальных поэтик новую целостность, синтез, приведший к возникновению нового качества. 5. В тесной связи с названной особенностью находится следующая, которую можно обозначить как маркированность канона. Большинство исследователей говорит о нарушении канона и его отмене как характерной черте именно литературы ХХ века. «ХХ век, — по словам Я. Шередко, — исчерпал этот принцип через создание и разрушение «канонов». Начав с рекордного количества новых художественно-эстетических форм, опровергавших одна другую (в России яркие примеры тому — Серебряный век и 20-е годы с манифестами, авторы которых «сбрасывали с корабля современности» классиков и друг друга), ХХ век пришел к эклектике модернистских коллажей и признанию значения традиций и культурного контекста, что проявилось в интертекстуальности» [50, с. 52 — 53]. Именно такая трактовка характерна для большинства исследований постмодернизма и современной литературы (Б. Парамонов, А. Гольдштейн, И. Скоропанова), но не для всех. Так, например, Д. Затонский, исследуя «Имя розы», говорит не столько об отмене канона в постмодернизме, сколько об обыгрывании (в данном случае жанрового кода детектива). Действительно, постмодернистская игра с читателем, с его ожиданиями во многом связана с наличием у читателя представлений о жанровом, стилевом канонах. На этом строятся произведения русских концептуалистов, обыгрывающих соцреалистические тексты; «Сердца четырех» В. Сорокина обыгрывают канон приключенческого романа и др. При этом осмысливаются и обратные процессы. Ученые высказывают опасение, что сам постмодернизм в своей претензии на роль ведущего и завершающего стиля эпохи создает свой канон или, по словам М. Эпштейна, приобретает властность. Это подтверждается пародированием постмодернистского канона в текстах самих писателей (романы В. Пелевина, рассказы В. Тучкова и др. [53]). Русская литература ХХ века канон неоднократно создавала (например, соцреалистический, постмодернистский), но его же обыгрывала и разрушала, а массовая литература его «консервировала». Это говорит не столько об отмене канона, сколько о его маркированности. Об этом же свидетельствует обращение к риторическому готовому слову в русской поэзии рубежей ХХ века. Если отмену канона можно подвергнуть сомнению, то маркированность его очевидна, и логичным будет предположить особую роль данного явления в процессах обновления. Например, обыгрывание жанрового канона романа, самопародирование позволило роману в ХХ веке обновиться (что отмечал американский писатель и литературовед Джон Барт). Маркированность канона — его ниспровержение, обыгрывание, обновление — отражает процессы формирования новой художественной парадигмы. Среди особенностей литературы ХХ века вычленяются такие, которые соединяют содержательную и формальную стороны развития искусства слова. 6. Это формирование новых концепций человека и, соответственно, новых моделей героя. 7. А также возникновение новой картины мира и, соответственно использование особых приемов моделирования и стратегий модификации «старых» картин мира. Это пласт новаторских особенностей обусловлен особенностями самой реальности: небывалыми историческими и социальными потрясениями минувшего столетия, его научными открытиями, ставящими всякий раз заново вопрос о человеке и его «месте во вселенной», проблему судьбы культуры и развития цивилизации. По словам В. Ванслова, именно в ХХ веке «наше искусство сказало новое слово о Человеке и его месте в мире. Оно отразило неведомые ранее общественные коллизии и потрясения, раскрыло новые отношения индивида и масс, мироощущения и миропонимания современного человека, помогало ему преодолеть нравственные противоречия, ставить и решать проблемы его утверждения в мире. Искусство вписало свою особую страницу в историю гуманизма. Оно обновило и обогатило свой язык, художественные средства, выработало новую стилистику и приемы» [29, с. 66]. Новаторство обусловлено и внутренними имманентными законами развития литературы, ее художественного языка, включающего и особенности национальной специфики. Поэтому, в частности, русская и украинская литературы не восприняли некоторые особенности западного постмодернизма, а иные существенно адаптировали, а восточные литературы и вовсе отвергли чуждый их художественным традициям опыт, релятивистскую картину мира и «смерть субъекта». Отметим, что зафиксированная многими исследователями такая особенность литературы ХХ века, как появление новых моделей героя, находится в тесной связи с процессом укрепления личностного начала (по Д. Лихачеву), который захватывает все эпохи и относится к «прогрессивным линиям» развития литературы. Знаменательно, что литература ХХ века в целом и русская в частности дала много разнообразных и порой контрастных моделей героя, отражающих смену концепций человека. Только по двум параметрам проявленности / непрявленности, социализации / индивидуализации можно определить большое количество моделей, а ведь таких параметров несколько и круг их еще должен быть определен. Диапазон разнообразия моделей героя огромен. От полного растворения личности в коллективном социальном «мы» послереволюционной литературы («150 000 000» В. Маяковского, «Падение Даира» А. Малышкина, пролетарская поэзия) к утопическому идеалу «нового человека» соцреализма и противопоставленному ему «сокровенному» человеку (А. Платонов), а затем индивидуальному сознанию, замещающему реальность (модернистские произведения обоих рубежей века), «приватному пространству» личности, противопоставленной социуму (B. Бродский, диссидентская поэзия); к контрастной вышеназванной модели активной личности, «вписанной» «в обстоятельства исторической жизни страны и всего мира» («лирика социальных эмоций» второй половины ХХ века, по определению Т. Л. Рыбальченко [54]) и «экзистенциальному человеку» (поэзия и проза 60-90 – х, например, «Москва — Петушки» Вен. Ерофеева), народному характеру «деревенской» прозы, христианскому архетипу страстотерпца-борца в произведениях «лагерной темы», наконец, к ироническому изображению человека-носителя массового сознания в концептуализме (Д. А. Пригов, Т. Кибиров, Е. Попов) и «растворенному» сознанию, смерти субъекта в постмодернизме. В исследованиях литературоведов представлены противоположные точки зрения. Но все полагают, что в области художественного воплощения личности и реализации личностного начала в литературе ХХ века произошли кардинальные сдвиги. Приведем хотя бы две контрастные позиции. Так, В. Кожинов полагает, что модель человека-индивида (оформившаяся в XIV веке и развивавшаяся на протяжении столетий) в ХХ веке себя исчерпала. Вектор «переворота» «в поэтическом воплощении проблемы личности» [47, с. 105] наметился в первой трети века (творчество Н. Заболоцкого, А. Твардовского) и воплотился в отрицании избранности индивида, его отделенности и особости, в утверждении обыденности, неотделимости от массы. Последнее трактуется не как следствие нивелировки личности в условиях тоталитаризма, а как осознанное ограничение индивидуальности в целях общего дела, общих задач («по Гвардини это солидарность с самим делом и с соседями по работе... Это товарищество по грядущему человеческому делу и по грядущей человеческой опасности» [47, с. 105 — 117]). На диаметрально противоположных позициях стоит Т. Касаткина, полагающая, что «странности нового положения человека в мире» [2, с. 87] зафиксировали в художественной литературе ХХ века модернистские и постмодернистские тексты, отразившие гипертрофированное внимание к личности, замещение реальности личностным субъективным восприятием, повышенным психологизмом. Истоки явления видятся как в секуляризации литературы Нового времени, так и в развитии психологизма в словесности XIX века, наконец, в модернистских течениях рубежа веков и литературе «потока сознания». На материале прозы конца ХХ века (произведений А. Битова, В. Маканина, Саши Соколова, Вен. Ерофеева, Л. Петрушевской, В. Аксенова) демонстрируется гипертрофия личностного начала. По словам исследовательницы, «разрушительное воздействие психологизма на реальность объясняется уже описанной ситуацией Нарцисса. Психологизм — это и есть всматривание в себя без посредников, разрушительное самолюбование, когда отдельные черты приобретают самодовлеющую ценность и перестают служить созданию лика, облика, когда человеческая ценность возрастает неизмеримо — чтобы немедленно свергнуться в пропасть разложения, ибо отрицается ценность высшая, интегрирующая» [2, с. 98]. Доминирование подобной модели оказывается тесно связанным и с формированием специфического образа автора, изменением принципов повествования. «Лирический герой постепенно теряет дистанцию... и снимает маску, отделяющую его лицо от лица автора... Авторы начинают играть самих себя... Последняя грань, отделяющая Нарцисса от совпадения с самим собой и аннигиляции, последняя оставшаяся реальность — это сам процесс письма. За нее хочется ухватиться, поэтому очень часто процесс писания становится процессом, описания процессом писания» [2, с. 94]. Безусловно, между описанными исследователями контрастными моделями располагаются иные, отражающие другие мировоззренческие установки. Это и народные характеры «деревенской» прозы, и «маргинальные» герои реалистической литературы 70-80-х, наконец, героические характеры военной прозы; художественная концепция человека, выживающих в экстремальных условиях («лагерная» литература), «новый маргинал» эпохи социальных потрясений 90-х годов и, наконец, экзистенциальный герой, представленный во множестве ипостасей. Эти модели в совокупности не изучены, не установлена логика их взаимодействия и смены, не определены доминанты целостной картины художественного поиска. В связи с этим любые выводы о специфике решения проблемы человека в русской литературе ХХ века пока кажутся преждевременными. Но определен круг актуальных задач. Что же касается художественной картины мира, то и здесь литература ХХ века имеет яркие особенности, отличающие ее от художественной словесности предшествующих эпох. Ю. Борев полагает, что первейшей такой особенностью является отсутствие единой и целостной картины мира, наличие их множества. По словам ученого, если иные литературные эпохи определялись концепцией-парадигмой мира и личности, то в ХХ веке эта логика разрушается, «в этом отношении развитие литературы во второй половине XIX в. и в ХХ в. принципиально отличается от художественного процесса всех прежних эпох: отсутствует единое художественное направление, представляющее эпоху; разные направления литературы предлагают разные концепции личности и мира – возникает своеобразный художественно-концептуальный системный плюрализм» [1, с. 8]. Видимо, для вычленения общих черт во множестве художественных концепций потребуется нахождение новых точек отсчета и ракурсов изучения литературы ХХ века, что является актуальной теоретической задачей. 8. В тесной связи с содержательными преобразованиями находятся традиционные категории исторической поэтики — автор, герой, жанр, стиль. Исследователи констатируют определенные сдвиги в литературе ХХ века именно по этим параметрам. Например, отмечается повышенная жанровая динамика, размывание границ, переворачивание центра и периферии жанровой системы, взаимовлияние жанров художественной литературы и нехудожественной словесности, журналистики и др. Фиксируется также существенное изменение образа автора и структуры повествования. Речь идет, с одной стороны, о кризисе всезнающего автора (характерного для литературы XIX века), доминировании повествования, «основывающегося на чистом изображении как непосредственно состояния сознания персонажей» [55, с. 119], постмодернистской «смерти автора» и утверждении нелинейного письма. С другой же стороны, фиксируется прямо противоположный процесс «нарциссического» авторского самолюбования (Т. Касаткина). И в этом случае, как и во многих других, литература ХХ века демонстрирует поливекторность поисков. Итак, можно сделать вывод: многочисленные попытки ученых создать целостную картину русской литературы ХХ века пока не привели к однозначному позитивному итогу, но определен ряд существенных закономерностей развития художественного слова в данный период, предложено несколько систем координат, в которых видны и типологические связи литературы ХХ века с иными эпохами, и ее существенные отличия, а также ярко проявились особенности научной рефлексии данного явления. Определились актуальные направления изучения данного феномена и сформировались основы для интеграции результатов исследований в единую обобщающую модель. _________________________ 1. Борев Ю. Литература и литературная теория ХХ в. Перспективы нового столетия / Ю. Борев. // Теоретико-литературные итоги ХХ века. – Т. 1: Литературное произведение и художественный процесс. – М., 2003. 2. Касаткина Т. А. Пространство, время в русской литературе конца ХХ века / Т. А. Касаткина. // Теоретико-литературные итоги ХХ в. – Т. 2: Художественный текст и контекст культуры. – М., 2003. 3. Мережинская А. Ю. Художественная парадигма переходной культурной эпохи. Русская проза 80-90-х годов ХХ века / А. Ю. Мережинская. – Киев, 2001. 4. Бычков В. После «КорневиЩА». Пролегомены к постнеклассической эстетике / В. Бычков. // Эстетика на переломе культурных традиций. – М., 2002. 5. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура ХХ века / Под ред. В. В. Бычкова. – М.: «Рос. политич. энцикл.» (РОСПЭН), 2003. 6. Маньковская Н. Б. Что после постмодернизма? / Н. Б. Маньковская. // Кануны и рубежи. Типы пограничных эпох – типы пограничного сознания. – Материалы российскофранцузской конференции: В 2 ч. – М., 2002. – Ч.2. 7. Маньковская Н. Б. Саморефлексия неклассической эстетики / Н. Б. Маньковская. // Эстетика на переломе культурных традиций. – М., 2000. 8, Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек. Текст. Семиосфера. История / Ю. М. Лотман. – М., 1999. 9. Силантьева В. И. Художественное мышление переходного времени (литература и живопись) / В. И. Силантьева. – Одесса, 2000. 10. Липовецкий М. Русский литературный постмодернизм: Очерки исторической поэтики / М. Липовецкий. – Екатеринбург, 1997. 11. Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература: Новый учебник по литературе: В 3 кн. / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкий. – М., 2001. 12. Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература: Учебное пособие / И. С. Скоропанова. – М., 1999. 13. Ильинская Н. И. Поэтическое пространство новейшей русской поэзии: К вопросу о целостности процесса / Н. И. Ильинская. // Русская литература. Исследования: Сб. научн. трудов. – Вып. VII. – Киев, 2005. 14. Затонский Д. В. Модернизм и постмодернизм. Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств / Д.В. Затонский. – Харьков-М., 2000. 15. Парамонов Б. Конец стиля / Б. Парамонов. – СПб.-М., 1999. 16. Гольдштейн А. Расставание с Нарциссом: Опыты поминальной риторики / А. Гольдштейн. – М., 1997. 17. Гройс Б. Искусство утопии / Б. Гройс. – М., 2003. 18. Берг М. Литературократия: Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе / М. Берг. – М., 2000. 19. Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык / И. С. Скоропанова. – М., 2000. 20. Шестакова Э. Г. Теоретические аспекты соотношения текстов художественной литературы и массовой коммуникации: специфика эстетической реальности словесности нового времени / Э. Г. Шестакова. – Донецк, 2005. 21. Эпштейн М. Информационный взрыв и травма постмодерна / М. Эпштейн. // Звезда. 1999. № 11. 22. Словарь терминов Московской концептуальной школы. – М., 1999. 23. Липовецкий М. Голубое сало поколения, или Два мифа об одном кризисе / М. Липовецкий. // Знамя. – 1999. – №1. 24. Голубков М. Русская литература ХХ в. После раскола: Учеб. пособие для вузов / М. Голубков. – М., 2001. 25. Спиваковский П. Е. Теоретико-литературные аспекты творчества А. И. Солженицына / П. Е. Спиваковский. // Теоретико-литературные итоги ХХ века. – Т. 1. – М., 2003. 26. Спиваковский П. Е. Художественное освоение реальности в русской литературе XIX–XX вв. / П. Е. Спиваковский. // Там же. 27. Чудакова М. О. Пастернак и Булгаков: Рубеж двух литературных циклов / М. О. Чудакова. // Лит. обоз. 1991. № 5. 28. Киселева Л. Ф. Отечественная классика и историзм / Л. Ф. Киселева. // Теоретиколитературные итоги ХХ века. – Т. 2. – М., 2003. 29. Ванслов В. В. Художественный опыт России в ХХ веке / В. В. Вансалов. // Теоретико-литературные итоги ХХ века. – Т. 1. – М., 2003. 30. Михайлов А. Д. Особенности литературного процесса ХХ века / А. Д. Михайлов // Там же. 31. Михайлов А. Д. Музыка в истории культуры: Избранные статьи / А. Д. Михайлов. – М., 1998. 32. Черноиваненко Е. М. Литературный процесс в историко-культурном контексте / Е. М. Черноиваненко. – Одесса, 1997. 33. Сазонова Л. И. Барокко – авангард: типология принципов конструирования художественного мира / Л. И. Сазонова. // Теоретико-литературные итоги ХХ века. – Т. 2. – М., 2003. 34. Заярная И. С. Барокко и русская поэзия ХХ столетия: Типология и преемственность художественных форм / И. С. Заярная. – Киев, 2004. 35. Добренко Е. Формовка советского читателя. Социальные и теоретические предпосылки рецепции советской литературы / Е. Добренко. – СПб.., 1997. 36. Добренко Е. Формовка советского писателя. Социальные и эстетические истоки советской литературной культуры / Е. Добренко. – СПб., 1999. 37. Драгомирецкая Н. В. Проза 1920–1930-х годов: от эксперимента к классике. Слово как герой / Н. В. Драгомирецкая. // Теоретико-литературные итоги ХХ века. – Т. 2. – М., 2003. 38. Свенцицкая Э. М. Концепция слова и младшие символисты / Э. М. Свеницкая. – Донецк, 2005. 39. Бычков В. Пост-адеквация // Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура ХХ века / В. Бычков. – М., 2003. 40. Бройтман С. Н. Историческая поэтика / С. Н. Бройтман. // Теория литературы: В 2 т. / Под ред. Н. Д. Тамарченко. – Т. 2. – М., 2004. 41. Земсков В. Б. Одноглазый Янус. Пограничная эпоха – пограничное сознание / В. Б. Земсков. // Кануны и рубежи. Типы пограничных эпох – типы пограничного сознания. Материалы российско-французской конференции: В 2 ч. – М., 2002. – Ч. 1. 42. Черная Л. А. Русская культура переходного периода от средневековья к Новому времени. Философско-антропологический анализ русской культуры XVII – первой половины XVIII века / Л. А. Черная. – М., 1999. 43. Кривцун О. А. Эстетика / О. А. Кривцун. – М., 1998. 44. Хализев В. Е. Теория литературы / В. Е. Хализев. – М., 1999. 45. Овчаренко А. О. Литература ХХ века / А. О. Овчаренко. // Теоретиколитературные итоги ХХ века. – Т. 1. – М., 2003. 46. Минералов Ю. История русской литературы. 90-е годы ХХ века / Ю. Минералов. – М., 2002. 47. Кожинов В. В. Классицизм, модернизм, авангардизм в ХХ в. // Теоретиколитературные итоги ХХ века. Т. 2. / В. В. Кожинов. – М., 2003. 48. Лихачев Д. С. Прогрессивные линии развития в истории литературы / Д. С. Лихачев. // Лихачев Д. С. Историческая поэтика русской литературы. Смех как мировоззрение. – СПб., 1999. 49. Росовецкий С. К. Спадкоємні зв’язки національних словесних культур / С. К. Росовецкий. – К., 1997. 50. Шередко Я. Н. Законы художественного процесса / Я. Н. Шередко. // Теоретиколитературные итоги ХХ века. – Т. 1. – М., 2003. 51. Лебрав Ж.-Л. Гипертексты – Память– Письмо / Ж.-Л. Лебрав. // Генетическая критика во Франции: Антология. – М., 1999. 52. Золотоносов М. Отдыхающий фонтан: Маленькая монография о постсоциалистическом реализме / М. Золотоносов. // Октябрь. – 1991. – № 4. 53. Мережинская А. Ю. Ироническая саморефлексия постмодернизма в русских текстах рубежа XX–XXI столетий. Стратегии преодоления постмодернистских художественных принципов / А. Ю. Мережинская. // Мережинская А. Ю. Русский литературный постмодернизм. Художественная специфика. Динамика развития. Актуальные проблемы изучения. – Киев, 2004. 54. Поэзия ХХ века: Хрестоматия-практикум к курсу «История русской литературы ХХ века / Сост. Т. Л. Рыбальченко. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 2004. 55. Смирнова Н. Н. Развитие идеи коммуникативности в ХХ веке / Н. Н. Смирнова. // Теоретико-литературные итоги ХХ века. – Т. 1. – М., 2003.