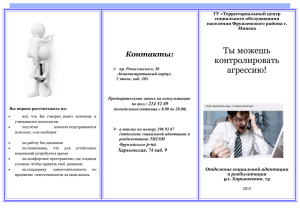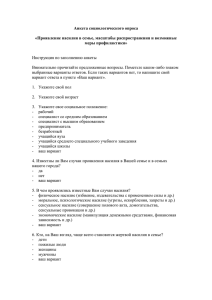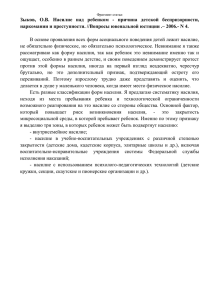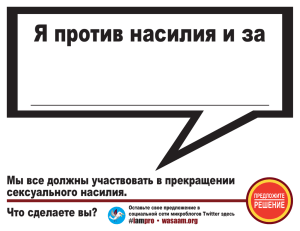МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М. В. ЛОМОНОСОВА ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
advertisement
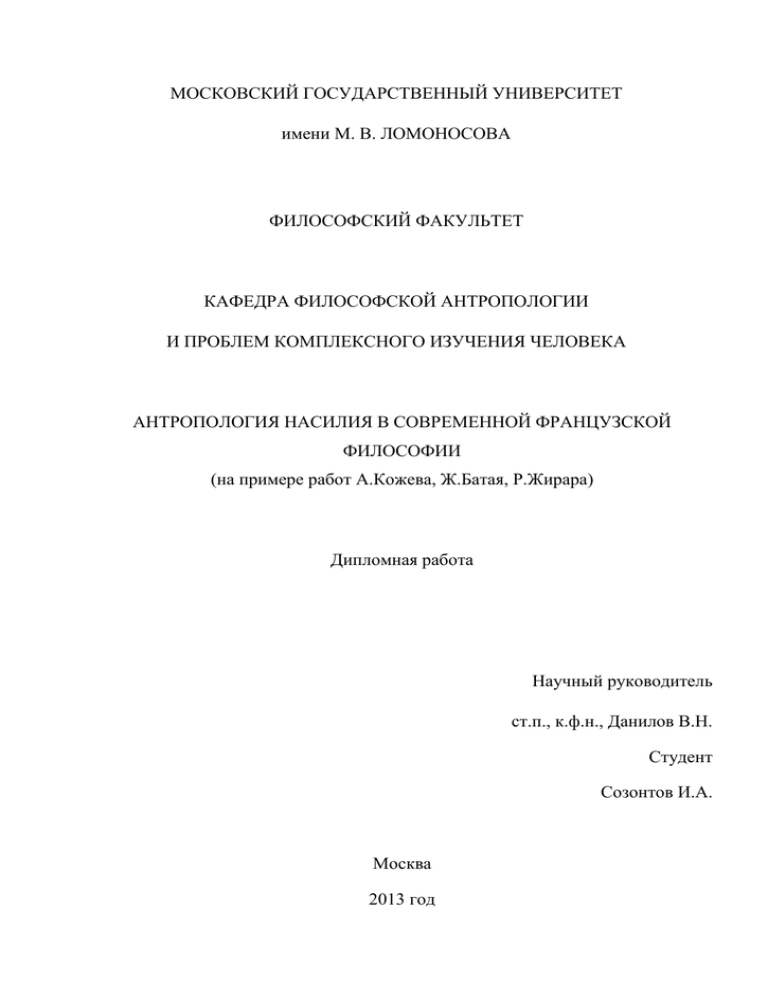
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М. В. ЛОМОНОСОВА ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ И ПРОБЛЕМ КОМПЛЕКСНОГО ИЗУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА АНТРОПОЛОГИЯ НАСИЛИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ ФИЛОСОФИИ (на примере работ А.Кожева, Ж.Батая, Р.Жирара) Дипломная работа Научный руководитель ст.п., к.ф.н., Данилов В.Н. Студент Созонтов И.А. Москва 2013 год Оглавление Введение. .............................................................................................................. 3 Антропология насилия А. Кожева ............................................................ 7 Желание. ......................................................................................................... 7 Признание. ..................................................................................................... 9 Раб.12 Насилие. ........................................................................................................ 15 Антропология насилия Ж.Батая .............................................................. 17 Суверенность............................................................................................... 17 Религия. ......................................................................................................... 20 Насилие. ........................................................................................................ 26 Антропология насилия Р. Жирара .......................................................... 27 Жертвоприношение и судебная система ........................................... 27 Жертвоприношение и религия .............................................................. 31 Насилие. ........................................................................................................ 34 Заключение. Насилие как элемент антропологической машины 36 Литература ......................................................................................................... 39 2 Введение Нельзя сказать, что тема насилия в истории философской мысли не получила должного внимания и никак не была концептуализирована. Так или иначе, мыслители разных эпох обращались к теме насилия, пытаясь разобраться в его роли для человека и человеческой истории. Академик А.А. Гусейнов в энциклопедической статье, посвященной данной проблеме 1 , систематизирует сформированные представления о феномене насилия и показывает, что история философии имеет несколько подходов в отношении разумности и допустимости насилия. Сторонники радикального отрицания насилия (Сократ, Франциск Ассизсский, Лев Толстой, Махатма Ганди) придерживались мнения, что «моральное оправдание насилия невозможно по определению». Апологеты насилия (Фридрих Ницше, Жорж Сорель и др.) рассматривали его «в качестве критерия справедливости, выражения красоты и мощи духа» 2 . Как замечает Гусейнов, сторонников радикального неприятия и тотальной апологетики насилия в истории философской мысли не так много. Более распространенной точкой зрения на проблему насилия является представление о том, что насилие может приниматься и быть оправданным, только при условии сохранения к нему негативного отношения: «основные усилия сторонников этой позиции сосредоточены на исследовании аргументов и соответствующих ситуаций (контекстов), в которых такое оправдание возможно и необходимо»3. В рамках данного направления Гусейнов выделяет несколько возможных способов оправдания насилия: Цит. по Гусейнов А.А. Насилие. // Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. М.:.2-е изд., испр. и допол. — М.: Мысль, 2010 http://iph.ras.ru/elib/2006.html 2 Там же 3 Там же. 1 3 1. «Насилие выступает как отказ от части во имя целого (Платон, Августин, Фома Аквинский и др.)»4. 2. Революционная идеология насилия. Насилие во имя лучшего будущего. 3. «Насилие является способом борьбы с насилием по формуле «Цель оправдывает средства» 5 (иезуиты, Джон Дьюи, Лев Троцкий и др.) 4. «Справедливость выступает в форме легитимного насилия (Г. Гроций, Т. Гоббс, И. Кант и др.)»6. Принцип талиона и смертная казнь. 5. «Насилие определяется как историческое деяние, необходимая форма восходящего развития общества (Гегель, Маркс и др.)»7 Однако систематизация, предложенная Гусейновым, на наш взгляд не полна. Ограничиваясь этическим горизонтом, вопросами оправдания насилия в социально-философской литературе из расчета была исключена философско-антропологическая перспектива проблемы насилия. В частности, трудно упаковать в подобный рубрикатор целую традицию рассмотрения насилия через призму антропосоциогенеза, отмеченую в частности такими именами как А. Кожев, Ж. Батай, Р. Жирар – эта линия концептуализации насилия станет предметом рассмотрения в нашей работе. Но кроме указанной крайне важной, на наш взгляд, линии философской антропологии насилия, в предложенную классификацию с трудом втискиваются концепции насилия З. Фрейда, Ж. Лакана, В. Беньямина, Х. Арендт, Дж. Агамбена, Дж. Батлер, С. Жижека и др., трудно найти место в этой классификации данным экспериментальной психологии, полученным в результате "Стэнфордского эксперимента". В своих работах они обращаются к проблеме встречи человека с порождаемым им же самим насилием и пытаются показать, что без этой встречи невозможно помыслить себе человека и те социальные формы, которые сейчас известны нам как первые проявления человеческого Там же. Там же. 6 Там же. 7 Там же. 4 5 4 общества, и как просвечивание собственно человеческого в человеке. Встреча с насилием вынуждает человека обращаться к способам его усмирения и подчинения, которыми, в конечном счете, оказываются активные социальные формы религиозной деятельности (культ, ритуал, жертвоприношение). Актуальность данного исследования объясняется тем, что, несмотря на общий интерес современных гуманитарных наук к изучению форм человеческой деятельности, проблема (и даже загадка) насилия до сих пор остается мало отраженной. Философская антропология как будто бы застывает в изумлении перед феноменом насилия. Как возможно насилие? Что оно означает? Как можно оставаться человеком перед лицом эскалации насилия? Где пролегает антропологический предел насилию? И. в конечном итоге, обязана ли человеческая природа насилию или нет? Эта зачарованность сценами насилия тем более удивительна, что в рамках европейского философского дискурса (который развертывался в текстах Кожева, Батая, Жирара и т.д.) изучение феномена насилия занимает прочное место на протяжении всего XX века. Предметом исследования данной работы станет развитие представления о насилии как о необходимом условии человеческого в дискурсе современной французской философии на примере работ А. Кожева, Ж. Батая, Р. Жирара. Целью исследования является попытка на примере работ вышеназванных авторов обосновать ключевые пункты, возникающие из представления о насилии как феномене человеческого: 1. Насилие является неотъемлемым условием становления человеком и производства общества. 2. Насилие является необходимым религиозных феноменов. 5 условием и основанием 3. Насилие как основа всякого религиозного чувства является необходимым условием выделения человека из животного мира. 6 Глава I. Антропология насилия А. Кожева Нет особой необходимости говорить о том, что «Введение в чтение Гегеля» Александра Кожева, по существу, представляют собой лекции (зачастую в форме комментированного перевода), посвященные гегелевской «Феноменологии духа». В конкретном случае, в случае затрагивания проблематики насилия и его антропологии, нас интересует Предисловие к работе Кожева, в котором он обращается к подразделу А главы IV «Феноменологии духа» - «Самостоятельность и несамостоятельность самосознания; господство и рабство». Именно в диалектике господства и рабства, господина и раба мы в данном исследовании можем явственно увидеть и сам момент насилия и его суть. Прежде чем непосредственно коснуться данной темы, необходимо в общих чертах рассмотреть ход рассуждений А. Кожева. Желание Всякий разговор об антропологии невозможен без указания на то «место», из которого мы получаем право отделить человеческое от животного. По Гегелю, мы можем указывать на истину достоверности себя самого в Самосознании, в сознании, полагающим себя само в качестве истины и обращенного к себе в качестве достоверности себя же 8 . В этом знании разделено, во-первых, знание о себе самом, во-вторых, знание о некотором принципиально «ином». Кожев комментирует данное суждение следующим образом: «Человек – это Самосознание. Он сознает себя, сознает, что он – человек, что в бытии человеком заключено его человеческое достоинство и что этим-то он и отличается от животного, которому выше простого Самоощущения не подняться. Человек осознает себя в тот миг, когда - «впервые» - говорит «Я»»9. Но где и в каких формах 8 9 Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. М ,1959. с.93. Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб.:2003, с.9. 7 возможно запечатление этого «Я»? Кожев замечает, что «Я» занимается созерцанием, оно поглощено созерцательным объектом. Человек «отрывается» от созерцания лишь в момент появления Желания: «Именно желание (осознанное) какого-то сущего учреждает это сущее в качестве Я и раскрывает его в качестве такового, побуждая сказать «Я»»10. Желание раскрывает эту незримую диспозицию, наделяет нас правом и возможностью указать на возникшее противостояние, на появившегося субъекта и объекта Желания, на «Я» и какое-то «НЕ-Я». Таким образом, Самосознание, имеющее своим предметом свое «чистое я», «достоверно знает себя само только благодаря снятию того другого, которое проявляется для него как самостоятельная жизнь; оно есть вожделение»11. Таким образом, бытие человеком с необходимостью предполагает в своем основании момент Желания. Но, как замечает Кожев, само по себе желание еще не разграничивает человеческого от животного. Природа желания по отношению к своему объекту деструктивна. Направленное на него, оно может получить удовлетворение лишь в разрушении своего объекта: «Я Желания – это пустота, наполняемая положительным реальным содержанием только посредством отрицающего действия, которое удовлетворяет желание, разрушая, преобразуя, ассимилируя желаемое «Не-Я»»12. Но что в Желании отличает человека от животного? Для того чтобы из «инобытия», из бытия животным, появился человек, появилось Самосознание, необходимо желание совершенно иной природы, желание, направленное не на вещь, а на что-то не-наличное, неданное в непосредственном опыте. В ситуации, когда субъект противопоставлен объекту, кроме «вещи» и желание ничего нет. Значит, заключает Кожев, «предметом человеческого Желания должно быть другое Желание. Для того, чтобы Желание стало человеческим, прежде Там же, с.11. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. М.: 1959 с.97. 12 Батай Ж. Проклятая часть: Сакральная социология. М., 2006, с.13. 10 11 8 всего нужно, чтобы Желаний было много… условием, при котором из Самоощущения может родиться Самосознание, а внутри животности возникнуть человечность, будет множественный характер животной реальности. Стало быть, человек может появиться на земле только в стаде»13. Стадность и множественность особей становится предпосылкой для осуществления ситуации, когда желание одной особи начинают совпадать с желаниями другой. Она начинает желать желания других. Здесь и пролегает разница между человеческим и животным: человечно желать того, чего желают другие и потому что они это желают, «человеческая история – это история желаемых Желаний»14. Разделение человеческого и животного Кожев свойственных видит животной в готовности жизни в пользу отказаться желаний от желаний, человеческих. Подтверждением реальности такого отказа служит готовность умереть ради осуществления человеческого Желания: «человек «удостоверяет» свою человечность только тогда, когда рискует своей (животной) жизнью ради удовлетворения своего человеческого Желания. Только посредством риска сотворяется и раскрывается как таковая человечность; только благодаря риску она «удостоверяется», т.е. обнаруживается, доказывается, верифицируется и подтверждается как что-то, по существу отличное от животности, от реальности природной... говорить о «происхождении Самосознания – значит неминуемо вести речь о рисковать жизнью (ради какой-то не-жизненной цели)»15. Признание Мы выяснили, что иметь человеческие Желания по Кожеву – это желать Желания других. Чем, в таком случае, оборачивается желание Желаний Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003, с.14. Там же. 15 Там же, с.15 13 14 9 других? Желая желание другого, Я, тем самым, требую от него признать, что я имею право желать его желание, что я являюсь «Я», я самодостаточен, ведь мое желание его Желания в конечном счете подкреплено моей готовностью расстаться с жизнью во имя этого. Как заключает Кожев, «без этой борьбы не на жизнь, а на смерть, которую ведут из чисто престижных соображений, человек на земле так никогда бы и не появился» 16 . Таким образом, разговор о человеке, о разделении человеческого и животного с необходимостью предполагает две вещи – Желание и Признание. Если в Желании человеческая реальность зарождается, то подтверждается она в бесконечной борьбе за Признание. Поскольку признания в таком случае жаждет каждый, возжелавший желание другого, то это столкновение желаний Желаний не может не обернуться борьбой между желающими сторонами. Борьба за Признание, доведенная до своего логического завершения – смерти одного или обоих соперников, не достигает первоначальной цели – нельзя «ни стать, ни раскрыть себя человеком» 17. Другими словами, в условиях смерти одного из противников добиться признания невозможно точно также, как если бы погибли оба. Для существования Признания необходимо одновременное существование обоих желаний, желаний победившей и побежденной стороны. Только в этом случае, возжелав желание другое и победив, победитель обретает признание со стороны побежденного. В его гибели же никакого признания нет. Таким образом, победивший в схватке за Признание, но убивший своего противника, лишает себя возможности очеловечиться через признание. Акт насилия во имя признания созидает человеческую реальность только в случае сохранения жизни обоих соперников. Но как такое возможно? 16 17 Там же, с.16. Там же. 10 Так происходит потому, пишет Кожев, что в борьбе за признания соперники зачастую ведут себя по-разному. Один из них в ходе борьбы непременно уступит, не отважится рисковать своей жизнью, претендуя на Желание другого (конечно, так может и не произойти, тогда непризнанными погибнут оба). Таким образом, уступивший отказывается от собственного признания в пользу признания другого. «Так вот, такое «признание» означает признание другого своим Господином, а также признание и объявление себя Рабом Господина»18. В исходе борьбы двух соперников за признание, в акте очеловечения, всегда рождается Господин и Раб. Человек, таким образом, не может быть «просто» человеком, он всегда разнесен по одну из сторон данной диспозиции, подтверждает свое бытие в противостоянии; разговор о Самосознании всегда превращается в разговор о диалектике Рабства и Господства. «Господин есть сознание, сущее для себя, но уже не одно лишь понятие сознания, а сущее для себя сознание, которое опосредствовано с собой другим сознанием, а именно таким, к сущности которого относится то, что оно синтезировано с самостоятельным бытием или с вещностью вообще. Господин соотносится с обоими этими моментами: с некоторой вещью как таковой - с предметом вожделения, и с сознанием, для которого вещность есть существенное»19. Бытие Господина – бытие для себя. Бытие же Раба – это бытие вещи, на которое он согласился в акте признания Господина. С одной стороны, между Господином и Рабом устанавливается определенная зависимость: именно признание последнего наделяет первого особым статусом. С другой стороны, самостоятельное бытие Господина господином довлеет над Рабом. Раб принимает на себя установку Раба. Здесь же кроится и великая трагедия Господина: с одной стороны, он добился того, чего желал – добился Признания себя самодостаточным, присвоил право Желания 18 19 Там же, с.17 Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. М., 1959, с.103. 11 другого. А с другой стороны, низвергнув соперника до состояния Раба, определив его в мир «вещей», Господин получил признание от «вещи», что, по большому счету, сводит на нет все его «усилия». Его Признание утратило всякий смысл. Если все вышесказанное справедливо, то мы пребываем в ситуации, в которой истинная достоверность себя самого, обретенная в Самосознании, даруется не Господину, зависящему от «вещи», но Рабу, тому, кто был вынужден стать таковым через отказ от притязаний и рабство. Бытие Господином, основанное на утверждении своего Желания в акте насилия, является обратным тому, что оно утверждало. Бытие же Раба имеет некую потенцию к обретению целостности и «вочеловеченности» в «снятии» рабского положения: «Если праздное Господство – это тупик, то работающее Рабство, напротив, есть источник всякого человеческого, общественного и исторического прогресса. История – это история трудящегося Раба. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на отношения Господина и Раба не с точки зрения Господина, но с точки зрения Раба» 20 . И если бытие Господином представляет своего рода «тупик», то Раб проходит несколько стадий в своем развитии. Раб Первое, весьма условное, состояние раба – бытие Раба рабом (в аристотелевском смысле раба как говорящего орудия). Господин является сущностью для Раба, имеющее полное Признание последним. Раб слит со своим рабским «я», он служит Господину, которого боится, всецело отчуждая ему плоды своего труда. На этом этапе в существовании Раба главным и существенным моментом можно выделить страх смерти. Раб уже Вступал в поединок с Господином и чуть было не поплатился за это жизнью. Но одновременно с этим «страх смерти заставляет человека 20 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003, с.29. 12 осознать собственную действительность, всю важность для него простого факта собственного существования; только насмерть испугавшись, он способен понять, что жизнь – дело нешуточное. Но тут еще нет осознания своей самостоятельности… своего человеческого достоинства»21. Следующей ступенью в развитии состояния Раба является Раб «стоик». На этом этапе исторического развития духа, выражаясь словами Гегеля, Самосознание [Раба] становится «для себя в-себе-сущей стихией», но это лишь общая сущность, не имеющая ничего общего с «предметной сущностью, в развитии и движении ее многообразного бытия» 22 . Это определенный этап «свободы самосознания», на котором в качестве истины самосознание полагает чистую мысль, отрицая всякое наличное. В терминах Господства и Рабства можно попробовать это выразить как попытку «самопризнания» Рабом самого себя - некоторая абстрактная, в определенном смысле солипсичная свобода, остающаяся внутри. Раб пытается уверить себя в собственной свободе, объясняя ее собственным знанием о ней: «Реальные обстоятельства жизни при этом в расчет не берутся: не имеет значения, кто ты – римский император или раб, богач или бедняк, болен или здоров, – хватит с тебя идеи свободы»23 Скептицизм или скептическое сознание «есть реализация того, чего стоицизм есть только понятие, и действительный опыт того, что такое свобода мысли; она есть в себе негативное и должна проявить себя таким именно образом. С рефлексией самосознания в простую мысль о себе самом, вопреки этой рефлексии, из бесконечности на деле выпало самостоятельное наличное бытие или постоянная определенность» 24 . Скептицизм выносит на первый план то, что скрывалось внутри стоицизма, определенный деятельный аспект. Возникает момент сомнения в собственных внутренних установках самосознания; скептическое Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003, с.32. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. М., 1959, с. 107. 23 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003, с.228-229. 24 Там же, с.109. 21 22 13 самосознание не может укрепиться в своей достоверности, потому что не может обнаружить ничего постоянного в этой достоверности себя. Другими словами, сознание сталкивается с самим собой и познает собственную противоречивость, противоречивость внутренней свободы и внешнего детерминированного рабства. Момент скептицизма призван утвердить сознание как сознание в своей противоречивости. Но возможно ли оставаться на такой позиции? По замечанию Кожева, скептик не интересует Гегеля, так как невозможно жить в бессмысленности бытия Мира25 . Гегеля интересует продолжающий жить Нигилист. Раб осознает противоречие, но не хочет вступать в борьбу с Господином. Следующим этапом является сознание, осознавшее себя как противоречивое – Несчастное сознание [Христианское]. Раб пытается найти оправдание своему существованию в ее неизбежности. Свобода и Признание есть и они одинаково доступны для Раба. Только вот находятся они за пределами этого мира. Фигура Бога снимает необходимость борьбы с Господином за освобождение и признание в силу того, что перед Ним [Богом] Раб и Господин равны. Но отношения Господина и Раба не снимается. Оно лишь уходит на другой план: с появлением Абсолютного Господина в лице Бога. Соответственно, в развитии сознания Раба происходит определенный «круг», выводящий фигуру Господина за рамки наличного, превращающий его власть и требование признания в тотальные формы. Преодоление данного этапа возможно на стадии превращения Раба в Гражданина. «Быть Господином – значит сражаться, рисковать жизнью». Однажды наступает ситуация, когда Гражданам нет нужды воевать (труд наемников). «Граждане, которые не воюют – не Господа. Они принимают идеологию своих рабов – сначала Стоицизм, потом Скептицизм и, наконец, Христианство. Мы, таким образом, получили ответ на 25 Там же, с. 230. 14 поставленный вопрос: Господа приняли идеологию своих Рабов» 26 . Господа сделались Рабами, оппозиция оказалась снятой. Насилие В связи со всем вышеперечисленным остается не до конца проясненным вопрос о роли насилия в становлении и развитии Человека. Не будет преувеличением сказать, что рассуждения Кожева предполагают насилие в качестве основного двигательного момента проявления человеческого. Ясно, что момент признания несет в себе обязательность насилия: в его акте рождаются Господин и Раб: «…Он может знать, что он – Господин, только заставляя Раба признать себя таковым»27. Актом насилия творится появление человеческого. Более того, память о случившемся [насилии] остается с Рабом, который начинает жить, испытывая страх смерти. Но именно этот страх смерти, страх перед насилием, приводит в итоге к развитию сознания Раба и, в конечно счете, снятия оппозиции: «если бы не это чувство власти, не страх и ужас перед Господином, человеку никогда не стать Рабом и, значит, не достичь конечного совершенства»28. Так, на примере диалектики Господина и Раба рождается представление о «насильственном» (пусть и опосредованно) рождении сознания (вслед за представлениями, которые были развернуты в текстах «Эротика. Смерть. Табу» Бородая Ю.М29. и «Записки из подполья» Ф.М. Достоевского). Господин выступает катализатором этого процесса: «Мало испугаться и даже понять, что боишься смерти – нужно жить этим страхом… Человек, не испытавший страха смерти, не знает, что наличный Мир природы враждебен ему…преобразование Мира предполагает «негацию», не-приятие наличного Мира в целом. И источником такого Там же, с.239 Там же, с.28 28 Там же, с.32 29 Бородай Ю.М. Эротика. Смерть. Табу. Трагедия человеческого сознания. М., 1996. 26 27 15 абсолютного отрицания может быть только абсолютный страх…перед тем, кто этим Миром правит. Перед его Господином»30. 30 Там же, с.37-38 16 Глава II. Антропология насилия Ж. Батая Проблема диалектической оппозиции Господина и Раба далее развивается Ж. Батаем. Данной проблематике, если не считать общности ее смыслового ядра, которая воспроизводится в общем батаевском дискурсе, посвящен раздел «Суверенность» в книге "Проклятая часть: Сакральная социология"31. Проследить преемственность дискурса в данном случае не представляется затруднительным. Известно, что в 30-е годы XX века Ж. Батай был активным участником семинаров А. Кожева, (результатом которых и стало написанное «Введение в чтение Гегеля» последнего). Таким образом, в своих теоретических построениях Батай, так или иначе, задействует разработанную Гегелем и получившую развитие в комментариях Кожева модель диалектики Господства и Рабства. Суверенность Как пишет Батай, «суверенность, о которой я пишу, имеет мало общего с суверенитетом государств, определяемым в международном праве. В общем и целом речь идет о том, что в человеческой жизни противоположно рабству или подчинению. Ранее суверенностью обладали те, кто под именем вождя, фараона, короля, царя царей играл ведущую роль в формировании того человека, с которым мы себя идентифицируем, - современного человека»32 . Кроме того, к вождям, фараонам и царям в качестве обладателей суверенности Батай приписывает и духовенство и, кроме того, различного рода божества, «одним из которых является верховный бог»33. Батай Ж. Проклятая часть: Сакральная социология. М.. 2006. Там же, с 313. 33 Там же. 31 32 17 В описании моментов суверенности Батай остается в рамках теории Кожева: «отличительной чертой суверенности является потребление богатств в противоположность труду и рабству, которые производят, но не потребляют их. Суверен потребляет, но не трудится, в то время как антиподы суверенности: рабы, неимущие люди – трудятся, и ограничиваются потреблением лишь необходимых продуктов, без которых они не смогли бы ни жить, ни трудиться»34. Другими словами, суверен не встраивается в модель отношений с реальностью, связанной с пользой. Польза – это то, что появляется в процессе труда раба и присваивается сувереном, момент суверенности для раба не наступает, потому что, в терминах Батая, ему не «открываются неограниченные возможности жизни… [раб] работает, чтобы есть, а ест, чтобы работать»35. Следуя заложенной Гегелем традиции обращения к вопросу господства и рабства, Батай признает, что раб в своей эффективной деятельности, направленной на продуцирование пользы, представляет собой лишь определенный эквивалент орудия производства, не разделяется с миром вещей. Раб есть вещь, деятельность которой направлена на будущность, на то, что оно произведет. Основываясь на данных посылках, Батай развивает идею Кожева (и Гегеля). Он разводит вочеловечение суверена и вочеловечение раба. Батай замечает, что бытие раба – это бытие в тревоги. Из отношения длительности, которое закладывает в бытии раба как бытия вещи, он делает предположение, что страх смерти, спроецированный на будущность, погружает раба в состояние тревоги: «постольку, поскольку мы существа подчиненные, принимающие свою вещественную подчиненность, мы и умираем по-человечески. Ибо умирать почеловечески, в тревоге, значит иметь такое представление о смерти, которое вытекает из разделения себя на настоящее и будущее состояние; 34 35 Там же, с.314 Там же. 18 умирать по-человечески – это значит безрассудно мыслить будущего человека, который единственно и важен для нас, как не-сущего»36. Суверену отказывается в праве умирания по-человечески. Настоящее суверена не подчиняется тревогой о будущности. Суверен однажды уже переступил через страх смерти, что и возвысило его над рабом. «Суверенный человек живет и умирает как зверь. Но тем не менее это человек» 37 . Суверен предпочитает престиж личному выживанию, соперничество ставит выше желанию жить. Суверен, что важно для Батая, в акте удостоверения своей человечности переступает через запрет на убийство. Это является существенным моментов в бытии суверена – он должен быть в силах нарушать запреты; эта ситуация, в условиях, когда функционирует запрет на убийство, вызывает суверена на проверку смертельным риском. В таком случае, если мир суверена – это мир, где он всякий раз проверяет себя на возможность переступить запрет, мир раба, мир практики – это мир, в котором запрет функционирует (так, например, на эту же ситуацию ссылается Бородай, говоря о строжайшем запрете на сексуальные проявления в среде предгоминидов, и следующем из этого происхождении первичных религиозно-культурных форм сознания, целесообразной деятельности, на первых порах по преимуществу ритуально-магической в архаичных человеческих общностях 38 ). Представление о смерти, погружающее раба в тревогу, недопустима для мира суверенности, для сакрального мира. По словам Батая, «архаический человек без конца задает себе вопрос о суверенности, главный вопрос, который имел суверенную важность в его глазах» 39 . И это не случайно: суверенность для первобытного человека разворачивается не иначе как в двух формах: суверенности военной и Там же, с.330 Там же. 38 См. Бородай Ю.М. Эротика. Смерть. Табу. Трагедия человеческого сознания. М., 1996. 39 Батай Ж. Проклятая часть: Сакральная социология. М., 2006, с.334. 36 37 19 суверенности религиозной, что для Батая сливается в единую форму суверенности, так как не существует фундаментального различия между религиозным и военным. Военное насилие, власть, основанная на нем, религиозны: «подчеркну религиозный характер всякой царской власти и внутренне суверенных характер всех религиозных форм… суверенные институты прошлого существовали объективно. Король, окруженный короновавшим его духовенством, являлся по мере возможного отражением той общей суверенности, что заключали в себе сокровенные движения толпы40». Религия В рассуждении Батая о суверенности можно выделить несколько принципиальных моментами для являются дальнейшего рассуждения темы запрета труда, и моментов. страха Этими смерти. В диалектическом разведении Господства и Рабства в акте взаимного насилия, вынуждающего одного из соперников отступить и признать в себе Раба, обречь себя на признание другого Господином – в этом, по Батаю, находит свое зарождение и развертывается осознание собственной смертности, дающее толчок осознанию собственной эротической природы. История человечества – история бытия в тревоге. Из этой тревоги осознания собственной смертности Батай выводит один из наиболее значимых постулатов человеческого – пограничное, основанное на ощущении смертности понятие Эротизма. Именно в страхе смерти заключается фундаментальное отличие Эротизма от сексуальных инстинктов животных. Эротизм не есть инстинкт продолжения рода. Он представляет собой конкретное желание – желание удовольствия. Цель получение удовольствия разворачивается Батаем в «экономических терминах»: также, как результатом длительного труда, направленного 40 Там же, 339-340 20 производство объектов и благ, в определенной степени является накопление «богатств», а за накоплением неминуемо следует трата, так и сексуальность человека, доведенная до пика окружающими его запретами, преследует одну цель – поиск наслаждения, трату: «целью сексуальной деятельности не могло быть рождение потомства, ее целью было немедленное удовольствие… целью была сила, мощь удовольствия… эротизм есть сознательное искание сладострастия». 41 Таким образом, в силу познания эротизма, человек отделяется от животного мира, по мере того, как «эротизм начал заменять его слепой животный инстинкт на желанную игру, расчетливый поиск наслаждения»42. Эротизм и религия, по Батаю, тесно связаны. Эти моменты как бы сущностно определяют друг друга. Эротизм, обосновывая собой разрыв между человеческим и животным, определяет сакральное в диспозиции наличности, подручного труда и игры: религии, искусства. Эротизм подчеркивает несовпадение полезности трудовой деятельности со всем, что находится за пределами профанного мира – с «чудесным», с «невозможностью, которая вдруг становится действительностью» 43 . Эротизм превращает природное в нечто сакральное, наделяет окружающий человека мир статусом запрета, указывает на запрещенность вещи: «Мы привыкли отождествлять религию с законом, мы привыкли отождествлять ее с разумом, но если придерживаться того, что лежит в основе всей совокупности религии, мы должны отвергнуть этот принцип… в основе своей религия разрушительна; она отвращает от соблюдения законов. Религия требует по меньшей мере чрезмерности, она требует трансгрессии святого, святотатства, жертвы, она требует праздника, вершиной которого является экстаз»44. Религия не может отказаться от эротизма: «выбросив Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. СПб., 1994, с.282. Там же, с.283 43 Батай Ж. Проклятая часть: Сакральная социология. М., 2006, с. 324. 44 Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. СПб., 1994, с. 297. 41 42 21 эротизм из религии, люди свели религию к утилитарной морали… Эротизм, утратив свой священный характер, стал отвратителен…»45 Требование религии «чрезмерности» нашло свое воплощение в обрядовой и ритуальной деятельности, которой Батай уделяет ключевое внимание. Человек – существо религиозное и эротическое. В этих порядках человек находит свой разрыв от животного мира, полагает себя как отрицание мира природы. Религия есть требование увеличения разрыва – труд уже не является необходимым условием такого разграничения; в своей основе религиозные практики преследуют цель уничтожение наличного, обнаружение в этом уничтожении сакрального. Одним из ярких моментов такого обнаружения является жертвоприношение: «Люди приносят в жертву первины урожая или же скотину, чтобы изъять растение и животное, а одновременно и земледельца и скотовода из мира вещей»46. Принципом жертвоприношения является разрушение. Оно может быть частичным, а может нести и всеобъемлющий характер, но в обряде жертвоприношения разрушение не погружает объект в ничто. Жертвоприношение направлено на разрушение реальных связей объекта с наличным, чтобы представить его в мир сокровенно-имманентный: «Жрецу требуется жертвоприношение, чтобы отделить себя от мира вещей, а жертва не могла бы быть от него отделена, если бы это уже заранее не произошло со жрецом…жертвоприношение по сути своей отворачивается прочь от реальных отношений» 47 . Между тем, конечно, необходимо оговориться, что жертву необязательно предавать смерти, но, законы сакрального предполагают функционирование мифических порядков таким образом, что они утверждаются сильнее и крепче с тем, чем сильнее отрицается реальные порядки мира. Смерть представляет 45 Там же, с. 298 46 Батай Ж. Проклятая часть: Сакральная социология. М., 2006, с. 68. 47 Там же, 69 22 собой в определенной степени разоблачение реальности, является парадоксальным утверждением жизни в ее витальном значении. В VII главе «Феноменологии духа» Гегель утверждает, что истинная сущность человека обнаруживается в момент жертвоприношения. Батай развивает эту мысль, пытаясь обнаружить путь к человеческой сущности через истину жертвоприношения. Жертвенный акт вызывает у индивида тревогу и удовольствие. Тревога возникает вследствие близости смерти, отождествления индивидом себя с жертвой; индивид страшится смерти, потому что та разрушает порядок вещей, в который он с необходимостью строен. Сокровенность обнаруживает ярость насилия и разрушения, в сакральном прорывается «расточительное кипение жизни, которое порядок вещей, чтобы продлить свое существование, заключает в оковы и которое, будучи скованно, превращается в разгул, иными словами, в насилие. Оно беспрестанно грозит прорвать дамбы, противопоставив производственной деятельности стремительно-заразительный процесс истребления, испепеления богатств ради чистой славы. Сакральное может быть уподоблено именно пламени, поглощающему, уничтожающему дрова… Жертвоприношение зажигательно как солнце, медленно умирающее в своем расточительном сиянии, чей блеск невыносим для наших глаз. Божественный мир заразителен, и его заразительность опасна»48. Человеку в своей природе присущ праздничный импульс. И выходом своей силы он обязан насилию жертвоприношения. Жертвоприношение в себе является элементом праздника, праздника торжества человеческой натуры, торжества насилия. Притягательность жертвоприношения во многом объясняется чувству наслаждения. Тревога и волнения, ощущаемые в близости смерти, чувство священного ужаса рождают момент чувственного удовольствия. Осознание и трепет грядущего события, предвкушение удовольствия – эти моменты принципиально 48 Там же, с. 73. 23 важны для Батая. Трансгрессивность такого рода «праздничных» практик является основанием всякой религиозности. Зрелище жертвоприношения обнаруживает религиозность человека в связи с моментом открытия человека самому себе в момент встречи со смертью другого 49 . Жертвоприношение иллюстрирует отчаянный поиск человека собственной подлинной суверенности. Но практика жертвоприношения не единственная, в которой, по Батаю, доступно обнаружение планов насилия. Жертвоприношение – это возможность группы культивировать приемлемые формы насилия «внутри» себя. Как, что общеизвестно, сложилось исторически, насилие, направленное внутри общества, уступает вненаправленному насилию. Во внутреннем плане насилия «одна лишь религия обеспечивает истребление собственной субстанции тех, кого она воодушевляет. Воинское действие уничтожает чужих людей или же чужие богатства. Правда, оно может осуществляться и индивидуально, внутри группы, но сложившаяся группа может осуществлять его вовне, и вот тогда-то оно начинает демонстрировать свои последствия»50. Здесь представления Батая о смертельных боях не расходится с теорией игровой формы существования антропологического существа Й. Хейзинги. По Батаю, в резне, грабежах, и других формах внешней агрессии противник не рассматривается как вещь. Война в раскрывающемся насилии утверждает становящуюся сущность индивида, возвышает его до индивидуальности воина: «Война представляет собой смелый прорыв вперед, но и самый грубый из всех: чтобы быть равнодушным к тому, что воин переоценивает, и бахвалиться тем, что считал себя ни за что, для этого нужно столько же наивности и глупости, 49 50 Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. СПб., 1994, сс.: 266-267. Батай Ж. Проклятая часть: Сакральная социология. М., 2006, с. 76. 24 сколько и силы» редукция 51 . Итогом воинственной деятельности оказывается человеческого начала к уровню вещи: закономерным результатом походов оказывается превращение в рабство себе подобных. То религиозное чувство, с которым воин отправляется в поход, оказывается всего лишь формой без содержания: в конечном развертывании последнего находит свое подтверждение реальный порядок пользы, а не имманентность сакрального. Исходом рабства становится жертвоприношение раба. «Вообще говоря, человеческим жертвоприношением знаменуется высший момент противоборства, где реальному порядку и длительности противостоит безмерный размах насилия. Это радикальное опровержение примата пользы. Одновременно это высшая степень разгула внутринаправленного насилия. Общество, где свирепствуют такого рода жертвоприношения, утверждает своей принципиальный отказ от неравенства двух видов насилия. Кто разнузданно обращает разрушительные силы вовне, тот не может скупиться и в отношении своих собственных запасов». Жертвоприношение раба становится первой ступенькой в череде возможного уничтожения богатств: «на высшей стадии своей интенсивности истребление богатств требует приносить в жертву не только полезное богатство народа, но и сам этот народ. По крайней мере, тех его членов, которые обозначают его собой и которые в данном случае обречены в жертву благодаря исключительной близости к сакральному миру» 52 . Логическим завершением примата «истребительных оргий» Батай видит примат военного порядка, вывод насилия вовне. 51 52 Там же, с.77 Там же, с.78 25 Насилие Таким образом, насилие предполагается Батаем как необходимая предпосылка появления и проявления человеческого, ключевым моментом которого является эротизм и религиозность. Насилие выступает внутренним смыслом последних; насилие рождается в диспозиции суверена и раба и переносится во внутренний опыт сопровождения и переживания религиозного чувства. Ритуализированный религиозный мир, основанный на практиках жертвоприношения, сохраняет и раскрывает в себе насилие в качестве внутреннего смысла антропологического; преодоление религиозности с вынесением насилия вовне только подчеркивает его историческую необходимость. В общем и целом представления Ж. Батая о насилии может быть выражено следующей цитатой: «…человека переполняло чувство "насилия", знание о смерти дало ему некоторую сдержанность, которой были лишены его предки: «Поистине чувство смущения по отношению к сексуальному акту напоминает, хотя бы в одном смысле, чувство смущения по отношению к смерти и мертвым. В обоих случаях «насилие» переполняет нас странным образом: в обоих случаях то, что происходит, кажется странным, сторонним по отношению к принятому порядку вещей, которому и противится в обоих случаях это насилие»53 53 Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. СПб., 1994, с. 277. 26 Глава III. Антропология насилия Р. Жирара В работах «Насилие и священное»54 (1972) и «Козел отпущения»55 (1986) Рене Жирар трактует насилие как сугубо антропологический феномен. Целиком и полностью разделяя основные теоретические ходы КожеваБатая, он делает шаг в сторону диалектического противостояния Господина и Раба, акцентируя внимание на его конкретных социокультурных проявлениях: институте жертвоприношения и системе табу. Жирар замечает, что на современной стадии развития общества средний человек смутно представляет себе реальные функции, которые должно нести в себе жертвоприношение и религия. Это происходит по той причине, что сейчас мы не можем ощутить, заметить непосредственную угрозу насилия. Эта проблема для нас неочевидна: «Наше непонимание образует закрытую систему. Ничто не может ее опровергнуть. Мы не нуждаемся в религии для разрешения проблемы, само существование которой от нас скрыто. Поэтому религия кажется нам лишенной всякого смысла. У нас эта проблема решена, поэтому мы ее не замечаем; а раз мы ее не замечаем, то не можем понять, что раньше ее решением была религия. Загадка, какую составляют для нас первобытные общества, безусловно, связана с этим непониманием»56. Жертвоприношение и судебная система В начале исследования Рене Жирар предпринимает исторический и историографический экскурс с целью определить исходные точки своего рассуждения. Одной из таких точек оказывается утверждение о том, что Жирар Р. Насилие и священное. М., 2000. Жирар Р. Козел отпущения. М., 2010. 56 Жирар Р. Насилие и священное. М., , 2000, с.28. 54 55 27 жертвоприношение присуще всем обществам на том этапе исторического развития, когда судебной системы еще не существует: «многочисленные этнографы сходятся в том, что в первобытных обществах нет судебной системы. В «Преступлении и обычае в диком обществе» Малиновский приходит к следующим выводам: «В первобытных сообществах понятие уголовного права еще более непостижимо, чем понятие права гражданского: идея справедливости в нашем понимании там практически неприменима»57. Жертвоприношение в таких обществах заменяет собою судебную власть. Существенная роль этого института заключается в том, чтобы прекратить круг мести, возникающий в ситуации вражды сообществ. Другими словами, жертвоприношение регулирует кровную месть ибо внутренний смысл оной таит в себе огромную опасность: когда ее механизм запускается, остановить его невероятно сложно: «Отчего кровная месть, везде, где она свирепствует, представляет невыносимую опасность? Когда кровь пролита, то единственной приемлемой местью будет пролитие крови виновника. Между действием, которое месть карает, и самой местью нет четких различий. Месть считает себя карой, а всякая кара требует новых кар. Но и само преступление, которое месть карает, почти никогда не сознает себя первым: оно считает себя местью за более раннее преступление»58. Первобытное общество снимает «порочный круг» мести жертвоприношением: кто-то или что-то терпит насилие над собой вместо провинившегося (так в греческой традиции это объясняется представлением о том, что «Подвергать насилию того, кто насилие совершил - значит заражаться его насилием» 59 ). Безусловно, институт жертвоприношения не может соревноваться в эффективности с развитой Там же, с. 25 Там же, с. 23 59 Там же, с. 37 57 58 28 системой правосудия. Мы не можем употреблять термины правосудие, справедливость, правомерность, законность применительно к жертвенным практикам, но мы обязаны признать, что подобные ритуальные практики предлагали, пусть и кажущееся в настоящее время непонятным или спорным, решение безопасности и сохранности коллектива. Если современный человек не замечает непосредственной угрозы насилия, то это происходит по той простой причине, что в большинстве случаев регулятором выступает система правосудия. Для члена первобытного сообщества, живущего в иных политических, социальных и экономических реалиях, принципы кровной мести и lex talionis актуальны и ежедневны. В его условиях институт жертвоприношения как – если можно так выразиться – «регулятор» мести и ее конечного воплощения [насилия] является первым ответом и реакцией общества на продуцируемое им или иным обществом, насилие. Институт жертвоприношения «предлагает» такой механизм, при котором насилие осуществляемое в ответ на первоначальное насилие, оказалось бы насилием «без риска мести» 60 . Как замечает Жирар, здесь речь идет о том, чтобы «придумать и совершить такое насилие, которое бы по отношению к предыдущим насилиям не стало всего лишь очередным звеном в цепи, ведущим от предыдущих звеньев к последующим; требуется найти радикально иное насилие, насилие поистине решающее и окончательное, которое бы раз и навсегда с насилием покончило»61. Судебная власть и институт жертвоприношения выполняют одну функцию: прерывают порочность и замкнутость круга насилия. Разница заключается лишь в том, что первобытное общество вынуждено идти на «уловки», потому что в ответе насилием на насилие, как следствием на причину, запускается бесконечный круг мести, ведущий к истреблению сообщества: в случае ритуальных практик «за жертву не мстят, потому что 60 61 Там же, с. 21. Там же, с. 38. 29 она не «та»»62; в случае судебной системы «насилие поражает именно «ту» жертву, но с настолько сокрушительными силой и авторитетом, что всякий ответ становится невозможен»63. С развитием политических отношений и судебной системы роль жертвенных практик отходит на второй план, а затем и вовсе вытесняются судебными запретами (как пример, распространение практики вергельда в германских варварских правдах или виры на Руси, заменяющей принцип кровной мести денежной компенсацией): «Еще одно указание на функции жертвоприношения можно усмотреть в том факте, что оно приходит в упадок там, где устанавливается судебная система, в частности в Греции и в Риме. Исчезает причина его существования. Разумеется, оно может сохраняться еще очень долго, но уже в виде практически пустой формы; обычно в этом виде мы его и застаем, отчего и укрепляемся в мысли, что у религиозных институтов нет никакой реальной функции»64. Но первобытное общество, не имеющее системы правосудия, беззащитно перед «эскалацией насилия»65. Ответ на вопрос о губительном и вседовлеющем характере насилия, по Жирару, для первобытного человека лежит в плоскости религии: «религия в широком смысле, несомненно, совпадает с той темнотой, которая в конце концов окутывает все средства, используемые человеком против собственного насилия, — как исправительные, так и профилактические, с тем мраком, который покрывает судебную систему, когда она приходит на смену жертвоприношению. Этот мрак есть трансцендентность священного, законного, легального насилия, в отличие от имманентности насилия греховного и незаконного»66. Там же, с. 31. Там же. 64 Там же, с. 14. 65 Там же, с. 41. 66 Там же, с. 33. 62 63 30 Жертвоприношение и религия В самом начале «Козла отпущения» Р. Жирар делает, принципиальное заявление: «…в коллективном насилии нужно признать машину по изготовлению мифов, которая в нашем универсуме хотя и не прекратила функционировать окончательно, но — по причинам, которые мы вскоре обнаружим, — функционирует все хуже и хуже… Для западной и новой истории характерен упадок мифологических форм, которые выживают лишь в виде гонительских феноменов»67. Упадок мифологических форм, хоть и представляет собой весьма интересную тему, предметом данного исследования не является, в то время как вопрос коллективного мифотворчества имеет непосредственное отношение к нашему рассуждению. Выше было показано, что институт жертвоприношения играет значимую роль в обществах, где по каким-либо причинам (историческим и другим) не развита судебная власть. Жертвоприношение прерывает круг насилия, не дает ему развиться. В ритуале акцент смещается на объект идеального или реального происхождения, который не может быть отомщен. Жирар замечает 68 , что жертвоприношение выхолащивает насилие, но это выхолащивание имеет временную форму: насилие бесконечно и не может прекратиться. Этот пункт проходит через все его рассуждение. Насилие представляет собой определенную заданность, с которой встречается человеческое сообщество. Принесение жертвы есть, возможно, одно из самых первых решений проблемы. Жизнь человеческой группы неустойчива. Поэтому-то отношения между людьми регламентировано Жирар Р. Козел отпущения. СПб., 2010, с. 88. Жирар Р. Насилие и священное. М., 2000, с. 27. 67 68 31 традицией, следование которой объясняется катастрофичностью возможных последствий. В первобытном обществе религия стремится подавить, погасить насилие: «Религиозное и моральное поведение стремится обеспечить ненасилие непосредственным образом в повседневной жизни и — часто — опосредованным образом в жизни ритуальной, через парадоксальное посредничество насилия…. С другой стороны, нельзя забывать, что жертвоприношение, чтобы сохранить эффективность, должно совершаться в духе pietans [благочестия (лат.)], характерном для всех аспектов религиозной жизни» 69 . Роль первобытной религии заключается в том, чтобы перенаправить внутреннее насилие, оформить его допустимым образом. В жертвоприношении все неслучайно: от выбора способа убийства до определения жертвы. Жертва может быть одушевленной и неодушевленной, животной или человеческой (между которым, по мысли Жирара, нет принципиальной разницы 70 ). Чем сильнее кризис, которое переживает общество, тем ценнее жертва. Причиной этого является тот факт, что принесение жертвы, как было сказано выше, представляет собой способ «обмана» насилия. Для того, чтобы обеспечить «качественный» обман, необходимо соблюсти все условия. В конечном счете, обман играет двойную функцию: во время жертвоприношения «обманывается» не только насилие, но и сами участники культа: они не осознают и не должны осознавать ту роль, которую он играет. Жертва устраняет общий знаменатель, который собирает вокруг себя всех членов общества – внутреннее насилие. Приносимая жертва пытается искупить все негативные моменты, возникающие между членами сообщества: зависть, вражду, соперничество, ссоры, разногласия и ненависть. 69 70 Там же, с. 29. Там же, с. 18. 32 По этому поводу Жирар замечает: «Если подойти к жертвоприношению с этой - самой главной - стороны, этим царским путем насилия, который перед нами открывается, то быстро замечаешь, что оно (жертвоприношение) действительно связано со всеми аспектами человеческой жизни и даже с материальным благополучием. Когда пропадает согласие между людьми, то хотя и солнце светит, и дождь идет, как обычно, но поля обрабатываются хуже, а это отражается на урожаях»71. Таким образом, жертвоприношение необходимо включается в религиозную и моральную жизнь общества, образуя механизм его саморегуляции. Как пишет Жирар, «в мифо-ритуальных религиях нет ничего, что бы не вытекало логически из механизма козла отпущения, работающего в более интенсивном режиме, нежели в истории» 72 . Насилие вынуждает человека к борьбе за сохранение общественной целостности, к разработке формы, которая позволила бы ему взять под свой контроль стихийные проявления человеческой социальности. И в этом порядке насилие организует религиозные практики человека: «Священное — это все, что господствует над человеком, и тем надежнее, чем больше сам человек надеется над этим господствовать. То есть в том числе, хотя и во вторую очередь, это поражающие население бури, лесные пожары, эпидемии. Но прежде всего, хотя и в более скрытом виде, это насилие самих людей, насилие, выведенное за пределы человека и потому слитое со всеми прочими силами, грозящими человеку извне. Подлинное сердце и тайную душу священного составляет насилие»73. 71 Там же, с. 15 Жирар Р. «Козел отпущения». // Перевод с французского Г. Дашевского; Предисловие А. Эткинда. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010 – с. 95 72 73 Жирар Р. «Насилие и священное». // Перевод с французского Г. Дашевского. М.: Новое литературное обозрение, 2000 – с. 42 33 Насилие Через анализ практики жертвоприношения Жирар разворачивает концепцию понимания насилия как неизбежного феномена присутствия антропологического. Сталкиваясь с реальностью «тотального насилия», человеческое общество с необходимостью должно было найти способ сохранения собственного существования. Средство социального равновесия и благополучия было найдено, но, как ни странно, ответ также был дан в терминах насилия, на сей раз ритуального. Ритуальное насилие, случайный выбор и ритуальное умерщвление невинной жертвы, «козла отпущения» лежит в основе нормального функционирования первобытного жертвоприношения истинный общества. момент Жирар священного: видит в акте «Религиозными следует называть все феномены, связанные с воспоминанием, поминанием и продолжением единодушия, всегда, в конечном счете, построенного на убийстве жертвы отпущения»74. В своей работе он приходит в столкновение со взглядами авторов, рассмотренными в предыдущих разделах работы: «Человеческое общество начинается не со страха «раба» перед «господином», но с религии… религия есть не что иное, как жертва отпущения, учреждающая единство группы одновременно и против и вокруг этой жертвы»75 . Выстраивая свою концепцию вокруг «жертвы отпущения», института жертвоприношения, замечая, что обращение к религиозным формам, берущим начало в институте жертвоприношения, открыло возможность к построению человеческого общества, Жирар упускает из виду, что в сущностном плане его мысль не противоречит модели Гегеля, развитой Кожевым. Он лишь подтверждает тот внутренний посыл, на котором зиждется эта модель: появление антропологического как насилия par excellence. 74 75 Там же, с. 385 Там же, с. 175 34 и проявление 35 Заключение. Насилие как элемент антропологической машины В результате рассмотрения основных идей вышеперечисленных авторов, касающихся темы насилия, кажется ненапрасной попытка выстроить некоторое целостное представление о развитии идеи насилия в рамках разговора об антропологическом присутствии. А. Кожев, встраивая свое рассуждение о диалектике Господина и Раба, отталкиваясь от темы Желания, разрабатывает идею необходимости насилия для появления человека из животного в склейке отношения Раба и Господина. Ж. Батай развивает идею Кожева о роли насилия в диспозиции господства и рабства, перенося ее на внутренние переживания этой установки. Пережитое насилие, выдвинутое в план внутреннего опыта, становится той почвой, из которой произрастает всякая религиозность, позволяющая нам разграничить антропологическое и животное, указать на первые формы проявления человеческого. Заключения Батая позволяют Р. Жирару выстроить свое представление о жертвоприношении, результатом которого оказывается заключение о том, что Человек начинается с религии. Что автоматически трансформирует эту установку в следующую – человек начинается с насилия. Таким образом, концептуальное ядро вышеперечисленных исследований образует самостоятельная мысль, уводящая исследователя от перечисленных [во Введении] возможных способов понимания допустимости насилия. Насилие снимает с себя ограничения моральнонравственного характера и заявляет о себе как об основном способе человеческого бытия на ранних стадиях своего развития. Безусловно, в своем историческом развитии человечество (речь идет о тех социальных общностях, которые миновали первобытную стадию 36 развития) в конце концов обнаружило способы ограничения собственного насилия, перенаправив его во все более окультуренные формы проявления. Но если речь идет о том переживании насилия и о том чувстве, которое рождало насилие в религиозном опыте человека на первоначальных этапах своего развития, то кажется невозможным не прибегнуть к творчеству П.А. Флоренского, который неоднократно обращался к теме обряда и культа. В работе «Философия культа», рассуждая о культе Иерусалимского Храма как культе Истинного Бога, Флоренский призывает читателя проникнуться формой культа, попытаться представить, каким было религиозное чувство человека, присутствующего в справлении культа. В данном случае не представляется возможным обойтись без обильного цитирования, но это кажется оправданной мерой: «Храм Соломонов занимал площадь в 400 локтей длины, 200 ширины. Жертвенник всесожжения: 20 локтей длины и ширины и 10 - высоты… Итак, жертвенник 30x15 локтей=22х11 аршин! Вечный огонь горел на нем: это был не очаг, а целый π о ж а р, в который непрестанно подкидывался материал горючий. Представьте себе треск, свист, шипение огня на таком жертвеннике. Представьте себе почти циклон, образующийся над храмом. По преданию, он никогда не гас от дождя. Но это было необходимо: что же тут удивляться, — ведь тут сжигали целых быков, не говоря о множестве козлов, баранов и т. д. Вообразите, какой стоял запах гари, сала… Количество жертв: по Иосифу Флавию, было на Пасху заклано 265500 агнцев; по Талмуду, Ирод Агриппа, чтобы подсчитать число поклонников, велел отделять почку - их оказалось 600000. При освящении Соломонова храма было заклано 22000 быков и 120000 овец. Порою священники ходили по щиколотку в крови - весь огромный двор был залит кровью. Вообразите, запах крови, тука, фимиама - слышно было в Хевроне - дыма трубные звуки - от 21 до 48 во время жертвы всесожжения - пение бесчисленных хоров, конечно, блеяния, крики и стоны животных, вопреки 37 стараниям их привести к молчанию. Со слабыми нервами сюда нечего было идти»76. Этот отрывок помогает лучше понять мысль о родстве религии и насилия, увидеть в религии корень насилия и показать, что насилие было причиной, внутренним смыслом и религиозных практик человека. 76 Флоренский П. Философия культа. М. 2004, сс.: 42-45. 38 воплощаемой формой первых Литература 1. Батай Ж. Проклятая часть: Сакральная социология. М., 2006. 2. Батай Ж. Теория религии. Литература и Зло. Минск, 2000. 3. Батай Ж. Внутренний опыт. СПб., 1997. 4. Батай Ж. Слезы Эроса. / Танатография эроса. Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. СПб., 1994 5. Батай Ж. Гегель, смерть и жертвоприношение. / Танатография эроса. Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. СПб., 1994. 6. Бланшо М. Опыт-предел. / Танатография эроса. Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. СПб., 1994. 7. Бородай Ю. Эротика. Смерть. Табу. Трагедия человеческого сознания. М., 1996. 8. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. М., 1959. 9. Деррида Ж. От экономии ограниченной к экономии всеобщей. Гегельянство без утайки / Деррида Ж. Письмо и различие. М., 2000. 10.Достоевский Ф. Записки из подполья. Разные издания. 11.Жирар Р. Козел отпущения. СПб., 2010. 12.Жирар Р. Критика из подполья. М., 2012. 13.Жирар Р. Насилие и священное. М., 2000. 14.Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003. 15.Кострова Е. Теория священного в работе Р. Жирара «Насилие и священное». // Религиоведческие исследования, №3/4, 2012. 16.Коллеж социологии. СПб:, 2004. 17.Тимофеева О. Введение в эротическую философию Жоржа Батая. М., 2010. 18.Фокин С. Философ-вне-себя. Жорж Батай. СПб., 2002. 19.Энгельгардт М.А. Прогресс как эволюция жестокости // Белорусская энциклопедия, 2006. 39 20.Флоренский П.А. Философия культа. М., 2004. 40