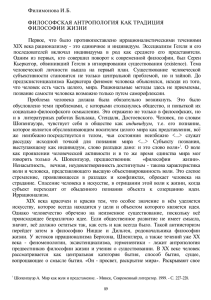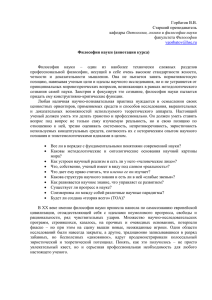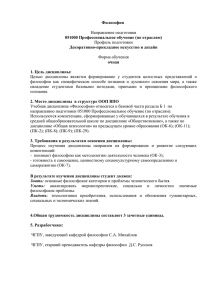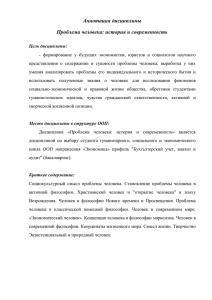Document 4338186
advertisement
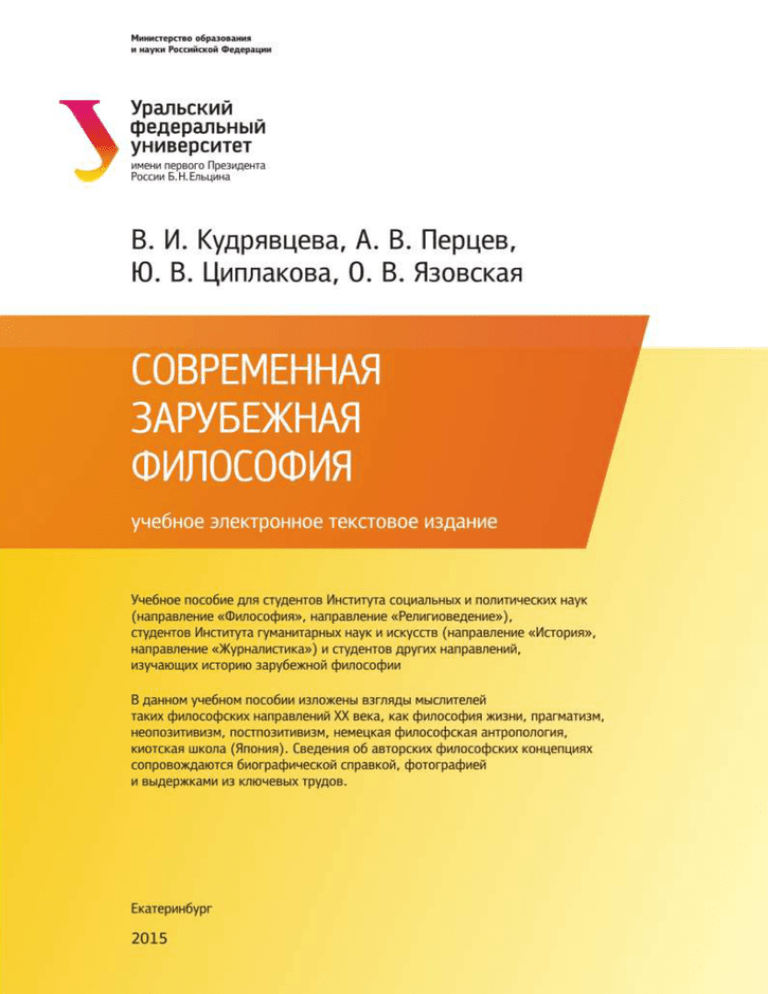
Содержание:
Введение ............................................................................................................ 3
«Философия жизни» как течение в философии XIX– ХХ веков ........... 5
Артур Шопенгауэр ...................................................................................... 10
Фридрих Ницше ............................................................................................ 33
Вильгельм Дильтей ...................................................................................... 56
Освальд Шпенглер........................................................................................ 65
Анри Бергсон ................................................................................................. 86
Петер Слотердайк .................................................................................... 112
Философия прагматизма ........................................................................... 122
Чарльз Сандерс Пирс ................................................................................. 124
Уильям Джеймс.......................................................................................... 135
Джон Дьюи ................................................................................................. 144
Ричард Маккей Рорти ............................................................................... 161
Неопозитивизм и постпозитивизм ........................................................... 177
Мориц Шлик ............................................................................................... 181
Рудольф Карнап ......................................................................................... 183
Карл Раймунд Поппер ................................................................................ 191
Имре Лакатос ............................................................................................ 197
Пол Фейерабенд ......................................................................................... 207
Философская антропология в Германии ............................................... 216
Макс Шелер ................................................................................................ 217
Гельмут Плеснер ........................................................................................ 236
Арнольд Гелен ............................................................................................. 274
Японская философия в ХХ веке............................................................... 288
Нисида Китаро .......................................................................................... 294
Судзуки Дайсэцу Тэйтаро ......................................................................... 300
2
Введение
Предлагаемый электронный ресурс предназначен для изучения курсов
истории философии и современной зарубежной философии для студентов
Института социальных и политических наук УрФУ (направление «Философия»,
направление «Религиоведение»), Института гуманитарных наук и искусств
(направление «История», направление «Журналистика»), и студентов других
направлений, изучающих историю зарубежной философии.
Изложение тем в электронном образовательном ресурсе конспективно.
Это позволяет студентам сориентироваться, приступая к самостоятельной
работе над первоисточниками. Даны основные биографические сведения о
мыслителях – более подробно там, где биография дает ключ к пониманию
учения философа о человеке. Выделены основные тезисы его учения, которые
могут использоваться как основные пункты при построении доклада на
семинарском занятии, письменной работы по теме или для ответа на экзамене.
Выбраны необходимые фрагменты философских текстов для практического
использования
материала,
который
сопровождаются
иллюстрациями
(портретами мыслителей и вопросами для повторения.
В отличие от уже существующих ныне учебных пособий по современной
западной философии, в данном электронном образовательном ресурсе
наличествуют принципиально новые разработки некоторых тем. Так, впервые
представлена современная японская философия, в частности – философия
киотской школы и неокиотской школы. Ее характеристика дана на основе
переводов,
самостоятельно
О. В. Язовской;
в
научный
выполненных
оборот
и
одним
в
из
авторов
ЭОРа
–
учебный
процесс
вовлечен
принципиально новый материал. Знание японской философии крайне важно
для студентов, обучающихся по профилю «Социолингвистика» и по
направлению «Востоковедение», а также студентов, изучающих японский язык.
Наконец, новизна ЭОРа состоит в том, что в нем предлагается новое
понимание «философии жизни»: кроме традиционно причисляемых к этому
3
течению учений А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, В. Дильтея, О. Шпенглера, на
рассмотрение предлагается концепция немецкого философа П. Слотердайка.
Также в разделе «Прагматизм» дополнительно рассматривается философия Р.
Рорти,
что
позволяет
наиболее
полно
воспринимать
прагматической философии с учетом современных тенденций.
4
комплекс
идей
«Философия жизни» как течение в философии XIX– ХХ веков
Историками философии было замечено, что в европейской философии от
века к веку изменялись главные понятия. В XVIII веке таким было понятие
«разум», в XIX веке – понятие «развитие», в ХХ веке – понятие «жизнь».
Объяснить это можно следующим образом. В XVIII веке главной проблемой в
Европе был переход от традиционного общества с феодалами во главе к
индустриальному обществу с рыночной экономикой, в котором главную роль
будут играть буржуа. Поэтому буржуазные порядки преподносились как более
разумные – в сравнении с феодальными. Требование «разума» выражало
призыв отказаться от традиционных сословных привилегий, при которых все
преимущества имели потомки знатных родов, а людям предприимчивым и
разумным,
«эффективным
менеджерам»
никакого
ходу
не
давалось.
«Разумный» строй – это строй буржуазно- демократический, создающий всем
равные стартовые возможности, а после этого в честном соревновании должен
победить самый разумный и деловитый. Таким образом, лозунг «разума» был
лозунгом
романтического,
идеализированного
капитализма
(под
ним
проходили и по сей день проходят буржуазные революции).
С утверждением в XIX веке в развитых государствах Европы
буржуазного индустриального общества с рыночной экономикой уже не
требовалось смены общественного строя на более «разумный». Теперь
следовало развивать то новое, что возникло. В это время главным героем
общества был изобретатель и инженер. Была распространена надежда на то, что
бурное развитие промышленности создаст такие богатства, которых хватит на
всех – и не будет больше нищеты, имущественного неравенства, войн и
революций. Эта идея технократической утопией, которую лучше всех выразил
Сен-Симон: мир должен превратиться в единую фабрику, которой будут
управлять инженеры и менеджеры; новейшие технологии позволят решить все
социальные проблемы; тяжелый труд возьмут на себя машины, а человек
займется
творческим,
изобретательским
5
трудом.
Таким
образом,
под
«развитием» в философии понимался научно-технический прогресс, который
считался средством достижения всеобщего счастья.
Идея «жизни» выходит на первый план в ХХ веке, когда иллюзии
относительно того, что техника сможет решить все социальные проблемы,
остались позади. В XIX веке техника рассматривалась как абсолютное благо,
которое способно принести человечество только пользу и прогресс. Но
оказалось, что «индустриальное общество», во-первых, разоряет массы
крестьян и ремесленников: рынок требует максимального уменьшения
издержек производства, вводятся машины, на содержание которых нужно
меньше средств, чем на содержание живых работников. К тому же машинное
производство быстрее и обеспечивает в большинстве случаев лучшее качество,
чем ремесленное.
Во-вторых, развивающаяся индустрия стала губить природу, а условия
жизни нищих рабочих-пролетариях в городах были существенно хуже, чем
условия жизни ремесленников и крестьян (эсеры в России боролись против
капитализма именно потому, что раньше каждый крестьянин, как бы беден он
ни был, жил в своем доме, а не в рабочей казарме или ночлежке). Это привело к
обострению социальных противоречий.
В-третьих,
быстро
развивающаяся
промышленность
быстро
израсходовала внутренние сырьевые ресурсы – и начались войны за ресурсы,
существующие в остальном мире, что привело, в конце концов, к мировым
войнам. Уже в ходе первой мировой войны человечество вдруг с удивлением
обнаружило, что машина – вовсе не безропотный слуга человека. Машина
может использоваться для массового уничтожения людей. В начале ХХ века
это показало применение пулеметов. Это в корне изменило характер войны.
Наглядный пример тому – атака каппелевцев в фильме братьев Васильевых
«Чапаев»: цвет царского офицерства, наступавший колоннами, в полный рост,
уничтожается одной девушкой-пулеметчицей в течение нескольких минут. Это
полностью изменяет этику и социальный смысл войны. Теперь это – не честное
состязание благородных воинов в мастерстве владения оружием. Техник с
6
машиной легко расправляется с рыцарством прошлых времен (нечто подобное
показано в книге Марка Твена «Янки из Коннектикута при дворе короля
Артура», где рыцари в железных доспехах легко уничтожались при помощи
электрического тока и артиллерии). Поскольку же техник и даже рабочий
отныне лучше владеет машиной
уничтожения,
чем
ее
изобретатель
и
инженер, то победу в войнах одерживают первые. (Примечательны реплики
чапаевских бойцов из простонародья – глядя на наступающие офицерские
полки, они говорят: «Красиво идут – Интеллигенция».
Понятие «жизнь» в философии, таким образом, выражает представление
о новых социальных порядках и новых международных отношениях в
развившемся индустриальном обществе. «Жизнь» можно представить себе в
виде джинна, выпущенного из бутылки и начавшего своевольничать. Он может
приносить пользу человеку, который сумеет приспособиться к переменчивым
повадкам этого джинна, а может и погубить его. Промышленность, которая
создавалась для того, чтобы служить человеку и обеспечивать его, выходит из
повиновения – и начинает диктовать людям собственную волю. Она затевает
войны – ради сырья и источников энергии, которые выступают для нее
«пищей». Она борется за территории, богатые сырьем и ресурсами, включая
человеческие – и это напоминает борьбу за жизненное пространство в
растительном и животном мире. Вернее, впрочем, будет сказать, что Ч. Дарвин
перенес на природу представление о конкурентной борьбе, которая ярко
проявилась в период «дикого» капитализма. Поэтому его представление об
эволюции так напоминает борьбу мелких, неспециализированных фирм,
которая наблюдалась в России 90-х годов ХХ века: они одновременно
занимались ремонтом квартир, предоставлением услуг няни, а также
образованием, организуя филиалы университетов. Так что выживал тот, кто мог
жить в нескольких средах. Но с появлением монополий и транснациональных
компаний представление о «жизни» изменяется: теперь она все чаще начинает
выступать как мощная, всепроникающая единая сила.
7
Таким образом, «философия жизни» учит, что миром правит неразумная,
сама себя возбуждающая и сама себя уничтожающая сила; она проявляет себя
во всех живых организмах, выступая причиной борьбы за выживание; не
являются исключением и люди. Все индивиды, все социальные группы, все
государства, приверженцы всех религий ведут между собой напряженную,
непрерывную борьбу, которая никогда не закончится. Разум не может
остановить этой борьбы. Напротив, он создает иллюзии, которые возбуждают
человека и заставляют его напрягать все силы. Все идеологии иллюзорны, ни
одна не соответствует истине, но побеждает та, которая завладеет умами
большего количества людей. Далее представители «философии жизни» делали
из этих общих положений выводы – в зависимости от собственных жизненных
установок и принципов. Одни предлагали убить в себе бесконечно
возрастающие потребности и желания, прибегая к аскетизму (А. Шопенгауэр);
другие призывали напрячь все силы и с энтузиазмом включиться в эту борьбу,
чтобы обрести мощь – и продолжить эволюцию созданием нового вида,
который последует за человеком (Ф. Ницше). Третьи пытались понять, исходя
из концепции «жизни», весь ход человеческой истории (Дильтей, Шпенглер).
Своеобразную
разновидность
французской
«философии
жизни»
создал
А.Бергсон, который стал любимым философом Шарля де Голля, видного
политика консервативного толка, который вначале возглавил борьбу французов
против гитлеризма, а затем стремился возродить Францию как сильную
европейскую державу: стал основателем и Президентом Пятой республики
(1959–1969).
Было бы неверно связывать «философию жизни» только с особенностями
промышленного и социального развития в ХХ веке. Ведь ее родоначальники в
Европе – А. Шопенгауэр и Ф. Ницше – жили задолго до катаклизмов мирового
масштаба. Больше того, они не скрывали, что многие идеи свои заимствовали
из древней индийской философии, которая возникла в середине первого
тысячелетия до нашей эры. Вернее было бы сказать так. Философия всегда
создается философом, в первую очередь, для собственного пользования – для
8
объяснения себе собственной жизни и оправдания ее, то есть для изображения
себя достойным уважения человеком. (В этом состоит фундаментальная
потребность человека). Создавая свои учения, А. Шопенгауэр и Ф. Ницше
прежде всего руководствовались личными мотивами, хотя, разумеется, они не
мыслили себя в отрыве от происходящего вокруг и пережитого ими. И лишь
затем, когда их настроения, их видение мира стало присуще большим массам
людей, а в их произведениях эти люди нашли прекрасное выражение того, чего
они не могли внятно выразить сами, «философия жизни» обрела в ХХ веке
широчайшее распространение. (Примечательно, что А. Шопенгауэр стал
популярен только в конце жизни – до этого его книги просто не продавались, а
Ф. Ницше так и не дожил до популярности). В числе современных мыслителей,
творчество которых связано с философией жизни, наиболее яркой персоной
является П. Слотердайк. Его историко-философская концепция цинизма
показывает наиболее уязвимые точки современной культуры и общества.
9
Артур Шопенгауэр
(1788–1860)
URL:http://enciclopedia.us.es/images/archive/3/3a/20130308105643!Arthur
_Schopenhauer_%281876%29.jpg
Артур
Шопенгауэр
считается
основателем
европейской «философии жизни». Он считал себя
настолько великим, что не стеснялся признаться в
заимствованиях – величайшим из философов он считал
И. Канта, бюст которого поставил в своем кабинете, но –
рядом с бронзовой статуэткой Будды. Многое А.
Шопенгауэр заимствовал и из «Упанишад», так что не
будет преувеличением считать его философию немецким
переложением и развитием древнеиндийской философии
в духе ХХ века. (Впрочем, у него был предшественник в
этом деле – известный ему лично, по встречам в доме
матери, И.В. Гете тоже увлекался идеями индийцев). Наконец, важную роль в
создании философии А. Шопенгауэра сыграла его многолетняя вражда с Г.
Гегелем. Дать полное опровержение его рационалистической системы А.
Шопенгауэр считал делом чести.
Жизнь мыслителя
Ключ к пониманию философии Шопенгауэра – осознание того, что это
была философия разочаровавшегося либерала, впавшего в крайний пессимизм
относительно современного положения дел.
Несколько поколений в семье Шопенгауэров занимались торговлей.
Генрих Флорис Шопенгауэр, отец будущего философа, унаследовав большую
часть состояния своего отца и деда, успешно занимался торговлей. Однако
положение дел в экономике и в политике он оценивал отнюдь не как прогресс –
наоборот, как деградацию и упадок.
10
Город Данциг, где вел свои дела Г.Ф. Шопенгауэр (и где родился Артур
Шопенгауэр) когда-то был членом Ганзейского союза городов (Ганзы). Если
говорить
современным
языком,
то
это
была
могущественная
транснациональная торговая компания. Предприимчивые немцы скопировали
конструкции ладей викингов – и стали перевозить на этих маневренных
беспалубных суденышках товары по Балтийскому и Северному морям.
Объединившись в Ганзейский союз, они на протяжении четырех веков
развивали чисто буржуазное, капиталистическое предприятие на территориях,
где господствовали ранне-феодальные порядки.
Ганзейские купцы сильно опередили время. Их буржуазное предприятие
развивалось быстро и свободно, потому что государства с их жадной
бюрократией, требующей отступного, еще были очень слабы. Члены
Ганзейского союза совместно боролись с пиратами, а также с грабежом
феодальных владык, которые стремились посягнуть на купеческое имущество,
и с цеховыми ограничениями на производство и торговлю, которое
устанавливали феодальные города. Ганзейские купцы торговали всем и везде,
устраивая ярмарки, которых население северной Европы ждало целый год, копя
деньги. Спонсируя феодальных владык, купцы покупали таким образом
свободы и привилегии.
С 1227 года Любек – портовый город, через который проходили все
корабли, следующие из Балтийского моря в Северное, получил от германского
императора право называться имперским городом, то есть статус вольного
города, который имел право вести торговлю без ограничений. Тот город стал
«столицей» Ганзы.
За Ганзой не стояло ни государство, ни церковь. Это была чисто
купеческая организация. В 1367 году Ганзейский союз объединял 80 городов.
(В период наивысшего его расцвета их было 170). Торговый союз Ганза имел
свои представительства, а иногда и собственные причалы и склады в 170
городах – в Лондоне, Брюгге¸ Венеции, Пскове, Великом Новгороде.
Купеческий союз, выступивший отдаленным предшественником Общего Рынка
11
в Европе, а затем и Евросоюза, с успехом боролся путем введения санкций
против национальных государств, имел свой парламент (ганзентаг) – до 1669
года. Иногда флот Ганзы вступал в прямые военные действия с теми, кто
пытался ограничить ее торговые привилегии: в 1370 года Ганза взяла верх над
королем Дании и заняла ее приморские крепости, в 1388 блокировала Брюгге.
Конец этого «преждевременного» торгового капитализма наступил, когда
развились и усилились государства, на территории которых находились
ганзейские города. Все происходило по той же схеме, которая привела на Руси
к ликвидации прав и свобод торгового Великого Новгорода: в 1478 году Иван
III ликвидировал здесь Ганзейскую слободу вместе со всеми привилегиями и
вольностями этого города, подчинив его феодальной Москве.
Вольный город Данциг сопротивлялся феодализму дольше и успешнее.
Он входил в состав Ганзейского Союза с 12 по 16 век. Но в 1569 году
произошло объединение Польши и Литвы в Речь Посполитую, а в 1577 году
обретший силу польский король Стефан Баторий потребовал от Данцига
подчинения и осадил город, поскольку городские власти не признали
выбранного короля. Итогом осады стал компромисс – власть короля Данцигом
была признана, он выплатил огромную контрибуцию, а взамен получил
большие привилегии – решал свои вопросы не через Генеральный Сейм, а
обращаясь напрямую к королю. Фактически Данциг оставался вольным
городом-государством. Под его властью находилась немалая территория, 3
города поменьше, 252 деревни и 62 хутора.
Остатки вольностей Данцига были ликвидированы в 1793 году, когда
Артуру Шопенгауэру было 5 лет. Произошел второй раздел Польши (между
Пруссией и Россией – суперфеодальными государствами). Данциг отошел к
Пруссии. Когда в 1793 году Данциг подвергся блокаде со стороны королевских
прусских войск¸ Генрих Флорис Шопенгауэр в одночасье продал свой бизнес –
естественно, с большими убытками. Но дело было в принципе: потомок гордых
ганзейцев, он не собирался ни дня сотрудничать с дубинноголовой феодальной
12
бюрократией. За несколько часов до вступления в город пруссаков семейство
Шопенгауэров выехало из Данцига в Гамбург.
Есть и другие свидетельства того, что А.Шопенгауэр воспитывался в духе
романтического либерализма. Его отец считал высоким идеалом английскую
конституцию. Он мечтал, чтобы его сын был гражданином Англии и убеждал
жену рожать в этой стране. Лишь страх молодой женщины, что английские
медики не поймут ее криков и жалоб на чужом языке и не смогут оказать ей
экстренную помощь, заставили отказаться от этой идеи. Имя Артур было
выбрано для сына так, чтобы оно одинаково звучало на всех языках (в отличие,
скажем, от имени Пауль – Пол, Павел, Пабло и т.п.) По настоянию отца Артур
был в 9-летнем возрасте отправлен на учебу во Францию, после чего говорил на
французском лучше, чем на немецком. Подростком он обучался на протяжении
полутора лет в Уимблдоне, около Лондона. Получив прекрасное торговое
образование, юноша был воспитан как сторонник демократии и гражданин
мира, который он хотел бы видеть устроенным в соответствии с принципами
английской конституции.
Однако жизнь в немецких землях развивалась отнюдь не в этом
направлении.
Наоборот,
все
достижения
Ганзы
были
ликвидированы
усилившимися феодальными государствами. Демократия была отменена.
Всякая хозяйственная жизнь подпала под тотальный государственный
контроль. Такой регресс – явное движение вспять – не могло не подтолкнуть
Шопенгауэра к выводу, что мир устроен неразумно. В нем нет даже прогресса
ко всей большей и большей разумности, как утверждал его оппонент Гегель.
Феодальные державы разрушили Ганзу, сами потерпев на этом существенные
убытки. Разве это – не доказательство того, что миром управляет не разум, а
какая-то бессмысленная, склонная к самопожиранию сила, которая уничтожает
то, что было создано ей?
Впечатление бессмысленности происходящего в немецких землях
усугубилось
личными
проблемами
А,
Шопенгауэра,
которые
были
унаследованы им от отца. Тот страдал приступами буйного гнева, который
13
совершенно парализовал его рассудок. Находясь под влиянием чувств, он
совершал такие поступки, которые вредили ему самому – причем он понимал
их неприемленность уже в момент совершения, но ничего не мог с собой
поделать. Им словно бы владело бессознательное начало, которое совершенно
подчиняло его ум. Погиб отец А. Шопенгауэра при странных обстоятельствах –
он выпал из окна чердака в глубокий канал и утонул. Поскольку дело
происходило отнюдь не в Венеции, а в Гамбурге, просто выпасть из окна в
канал было затруднительно, не приложив какого-то самостоятельного усилия
по изменению естественной траектории. Стали распространяться слухи, что это
было самоубийство. (Тем более, что склонность к суициду обнаруживали и
некоторые предки философа по отцовской линии). Сам А. Шопенгауэр в
припадке гнева сбросил с лестницы соседку по квартире, швею Каролину
Маркет, после чего платил ей пожизненную пенсию (женщина была швеей и
утратила трудоспособность, сломав руку). Сам он описывал в своих
произведениях потрясающее состояние гнева, когда человек как будто бы
находится в полной власти стихии, в море во время шторма, в утлом челноке.
Он восхищается силой волны, которая несет его, он чувствует себя частью
могучего океана, от которого его отделяет только несколько сантиметров
дерева – дно лодки. Он понимает умом всю опасность своего положения – но,
тем не менее, испытывает восторг (ср. «чую, с гибельным восторгом пропадаю»
В.С. Высоцкого). Ощущение в себе такой могущественной силы, которая не
поддается контролю разума, вполне могло подвигнуть А. Шопенгаура к выводу
о существовании Мировой Воли, которая правит всем живым (и всеми
людьми). Стало быть, А. Шопенгауэр со своими наследственными приступами
бешенства получал, таким образом, философское оправдание.
Биограф А. Шопенгауэра Куно Фишер подчеркивает, что такую
гневливость философ мог не только унаследовать от отца, но и перенять от
других родственников – например, от деда по матери, ратсгера Трозингера.
Весьма примечательно, что такое буйство на немецком языке описывается как
«необузданная воля» – именно так и характеризуется это качество у К.Фишера.
14
Если у человека русского «воля» ассоциируется с беспредельной свободой, то у
немцев «воля» есть, прежде всего, энергия. К.Фишер пишет:
«Одну общую черту имел Генрих Флорис со своим тестем: пылкую
необузданную волю. Рассказывают, что ратсгер Трозингер совершал иногда
такие порывы неукротимой вспыльчивости, что все бежали от него в ужасе.» [1,
16]
Именно такая «пылкая необузданная воля», которую описал у отца и деда
философа К. Фишер, была присуща, по мнению А. Шопенгауэра, всему
живому. Как Мировая Воля, она воплощалась во всех живых существах и
заставляла их конкурировать между собой, ведя ожесточенную борьбу за
существование. Одновременно, однако, этот философский тезис служил А.
Шопенгауэру и оправданием некоторых его параноидальных переживаний.
Параноик, как известно, бессознательно приписывает собственную агрессию
окружающим: тот, кто втайне готов атаковать всех, полагает, что другие
непрерывно готовят нападение на него. Так что тезис о том, что необузданная
воля живет во всех, оказывается и выражением, и оправданием собственной
паранойи.
Это
сделало
А.
Шопенгауэра
мизантропом
–
человеконенавистником. Ему принадлежит известный афоризм: «Чем больше я
узнаю людей, тем больше люблю собак».
Биограф А. Шопенгауэра писал о его мизантропии: «Он видел себя
окруженным со всех сторон подстерегающими его опасностями; серьезнейшую
опасность видел он в людях; отсюда его непреодолимая боязнь людей,
служившая
постоянным
источником
страха,
враждебности
к
людям,
подозрительности и недоверчивости, и чувства эти не только не ослабли со
временем, но, напротив, вследствие живости его фантазии разрослись
безгранично». [1, 22]
Занявшись философией, А.Шопенгауэр остался мизантропом: он всех
критиковал и высмеивал, вступал в конфликты. С Г.В. Гегелем он
конфликтовал всю жизнь – вплоть до смерти того от холеры. Шопенгауэр в
каждом семестре назначал свои лекции на те часы, в которые Гегель читал свой
15
курс. Так он надеялся победить врага, лишая его слушателей. Остальных
профессоров Шопенгауэр уподоблял скорпиону. Тот спасается от опасности,
закапываясь в песок. Но если поместить его в колбу без песка, и ночью
поднести к нему свет, то скорпион инстинктивно начинает закапываться в
отсутствующий песок, чтобы спастись от этого света. Поскольку спастись не
удается,
скорпион
убивает
себя,
жаля
в
голову
ядовитым
жалом,
расположенным на кончике хвоста. Шопенгауэр полагал, что его философия
точно так же заставит покончить университетских профессоров закончить
жизнь самоубийством от сознания своего бессилия.
Мать
Шопенгауэра,
известная
писательница,
советовала
ему
перемениться, объясняя его хронический конфликт спецификой его характера.
Однако Шопенгауэр чувствовал, что не в силах справиться со своим буйным и
неуживчивым нравом. Ему оставалось одно – представить свое видение мира
единственно возможным для человека великого. Так было создано учение о
Мировой Воле.
Учение А. Шопенгауэра о Воле
Волю у А.Шопенгауэра можно представить себе, если выражаться
современным языком, как некую Космическую Энергию. Соединяясь с
неживой материей, она подчиняет ее себе и формирует из нее живые
организмы. Мировая Воля – как А. Шопенгауэр представил ее в главном своем
произведении «Мир как воля и представление» – это великое и всеобъемлющее
начало, которое правит всем миром, воплощаясь в нем и творя его.
Представление о Воле явно было создано в противовес Гегелю: тот считал
силой, которая творит весь мир – природу и человеческую общественную
жизнь в истории – Мировой Разум. Следуя диалектической логике, этот Разум
шаг за шагом вносит в природу и в историю разумную гармонию, в которой
свобода сочетается с порядком.
А. Шопенгауэр высмеивает эти гегелевские рассуждения, полагая, что
утверждать нечто подобное может только наивный глупец-оптимист либо
16
злонамеренный обманщик. Ведь нельзя не видеть, что никакой разумности нет
ни в природе, ни в человеческой истории. В природе сталкиваются небесные
тела, на земле происходят губительные катаклизмы, даже элементарное трение
есть проявление борьбы неживых тел, их стремления сокрушить друг друга.
Мир химии, где проявляют себя «валентности», «активности металлов» и т.п. –
это постоянный мир борьбы. В сфере живого существа
рождаются
миллиардами, но и гибнут все без исключения, чтобы смениться другими.
Какой же разумный творец допустит, чтобы все плоды его творчества
регулярно уничтожали друг друга? А ведь биологи подтвердят, что живое
может питаться только живым.
Непрерывная жестокая борьба – повсюду не только в природе, но и в
человеческой истории. Едва наметившуюся здесь разумную гармонию взрывает
дикая сила, несущая с собой социальные катаклизмы. Все без исключения
кровавые исторические трагедии, все катастрофы и катаклизмы – это Воля в
действии. Она непрерывно противоречит сама себе, пожирает сама себя, мучает
сама
себя.
Разные
“части”
Мировой
Воли
воплощаются
в
виде
противоборствующих природных и социальных сил, и эти разные ее
воплощения насмерть сражаются друг с другом, объективируясь во вселенской
борьбе всего со всем.
Таким образом, мир состоит из Воли и представлений. Единственно
реальна только Воля, а все вещи и предметы, все существа мира – лишь ее
воплощения.
Нам
только
кажется,
что
они
существуют
объективно,
подчиняются какой-то логике, следуют каким-то законам. На самом деле – это
иллюзии, которыми Воля дразнит и распаляет себя, чтобы «быть в тонусе».
Возьмем, к примеру, чтобы нам было понятнее, гражданскую войну в России.
Неверно было бы искать объективные причины, по которым она произошла,
выяснять, чем было детерминировано появление красных и белых. Гражданская
война, как ответил бы на этот вопрос А. Шопенгауэр, есть всего лишь одна из
пьес, которую создала и срежиссировала Мировая Воля, чтобы развлечь себя и
потренироваться в роли драматурга и режиссера. Она создала иллюзии «белого
17
дела» и «красного дела», чтобы этими иллюзиями возбудить и расколоть народ,
побудив его вести междоусобную войну. Точно так же, для собственного
развлечения, Мировая Воля ставит спектакли под названием «революция»,
«восстание», «бунт», «резня». А. Шопенгауэр говорил, что достаточно
вспомнить только одну Варфоломеевскую ночь, чтобы отвергнуть гегелевскую
идею о том, что на Западе история обретает все большую разумность.
(Л.Толстой ненавидел пьесы У. Шекспира, считая их писаниями какого-то
дикаря, потому что в них нет ни малейшего смысла – тем лучше они выражают
Мировую Волю).
Точно так же и в природе все небесные тела, все физические частицы, все
химические элементы, все растения, животные, люди – это лишь ее
представления – воплощения Мировой Воли, которые она создает, чтобы
распалять себя. Задача этих творений Воли возбуждение энергии в самой Воле.
Ее можно сравнить с композитором или с поэтом, которые создают свои
произведения, чтобы вдохновлять себя на новые и новые творческие свершения
и, таким образом, наращивать свой собственный потенциал. Воля создает
смертельных врагов, противоборствующих в природе и в обществе единственно
затем, чтобы поддерживать себя «в тонусе», распалять стремление к
противоборству в себе самой.
Не стоит полагать, что, говоря о такой всеохватывающей борьбе, А.
Шопенгауэр – полный пессимист и меланхолик.
А. Шопенгауэру как высокому интеллектуалу, считавшему себя
гениальным, Воля просто не может казаться абсолютно бессмысленной. Он все
же видит в проявлениях Мировой Воли высший жизненный смысл. Он – в том,
что Воля, порождая вселенскую борьбу всего со всем, способствует честному
состязанию, в ходе которого побеждают сильнейшие – и Воля приходит к все
более высоким формам своей объективации – так же, как гегелевский Разум.
Воплощения Воли в неживой природе – это низшие ступени ее
объективации, потому что здесь совершенно отсутствует индивидуальность.
18
Человек же являет наивысшую и наисложнейшую ступень объективации
воли, поскольку каждый человеческий индивид уникален. Кроме того, человеку
присуща избирательность полового влечения: «Далее, как на феномен такого
собственного индивидуального характера, отличающего человека от всех
животных, следует смотреть и на то, что у животных половое влечение ищет
себе удовлетворения без заметного выбора, между тем как у человека этот
выбор – притом независимо от всякой рефлексии, инстинктивно – доходит до
такой степени, что обращается в могучую страсть.» [2, 124]
Аскетизм и самоубийство как пути избавления от власти Воли
Катарсис, который вызывает у человека искусства – это временное
состояние. Вскоре после посещения театра человек возвращается к рутинной
борьбе за существование, он опять оказывается во власти желаний. Воля
возвращается, хотя художник и выплескивает ее из себя на бумагу, на холст.
Вот художник испытывает сомнения по поводу только что созданного им
произведения искусства – это значит, что Воля уже вернулась и терзает его
изнутри. Поэтому искусство позволяет лишь на время избавиться от власти
Воли. А радикально покончить с властью Воли в себе можно, только
планомерно и непрерывно убивая в себе желания, впадая в аскетизм и, наконец,
убивая в себе само желание жить.
Постепенное и планомерное избавление от привычных желаний
называется резигнацией. Говоря проще, каждый человек должен с утра ставить
перед собой вопрос: от какого желания я смогу избавиться сегодня? Не выкурю
сигарету? Не выпью кофе? Не буду есть на ночь? Все это – шаги к свободе,
потому что каждое желание – это выражение зависимости. Зависимость от
желаний уподобляет человека рабу. «…Каждое исполненное желание,
отвоеванное у мира, все таки подобно милостыне, которая на сегодня
сокращает жизнь нищего для того, чтобы он завтра снова голодал. Напротив,
19
резигнация подобна родовому поместью: оно освобождает владельца от всяких
забот навсегда». [3, 507]
Именно в требовании ухода от активной жизни, в требовании
невовлеченности в общество, в требовании независимости от властей и
общественного мнения, от царства гнета и лжи, где человек несчастлив, где
бедность калечит людей, равно как и богатство опустошает богачей, и
содержится идея знаменитой шопенгауэровской резигнации.
По Шопенгауэру в этом заключается выход: «…Самое великое, самое
важное и знаменательное явление, какое может только представить мир, – это
не всемирный завоеватель, а победитель мира, т.е. не что иное, как тихая и
незаметная жизнь человека, осененная таким познанием, вследствие которого
он подавляет и отвергает все собой наполняющую, во всем живущую и
стремящуюся волю к жизни, ту волю, чья свобода проявляется только здесь в
нем одном, обращая его поступки в совершенную противоположность
обычным». [3, 507]
Анализируя этот вопрос, Шопенгауэр обращается к древним индийским
мифам, много цитирует Будду, приводит большое количество положений
христианства. Уйти от жизни нелегко. Шопенгауэр говорит о людях, которые
пытаются уйти от тесной Воли и, стремясь освободиться от мирской суеты и
привлекательности жизни, не выдерживают и не исполняют свои намерения.
Он просто преклоняется перед людьми, которые в состоянии выполнить
намеченное. Главным образом, он называет монахов, анахоретов (схимников).
Не случайно в кабинете у Шопенгауэра видное место занимала
позолоченная статуэтка Будды.
Литература
1. Фишер К. Артур Шопенгауэр. СПб.: Издательство «Лань», 1999.
2. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Шопенгауэр А. Собр.
Соч. В 6-ти т. М.: ТЕРРА–Книжный клуб; Республика, 1999– 2001. Т.1
3. Шопенгауэр А. Избранные произведения в 2-х т. М; 1998. Т 2.
20
Кейс № 1. Понятие «Воля» в философии Шопенгауэра
Прочитайте отрывок текста А. Шопенгауэра и ответьте на следующие
вопросы:
1. Каково основное свойство воли? Как оно соотносится с человеком?
2. Как понимается счастье, удовлетворение и страдание?
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. О МИРЕ КАК ВОЛЕ
Второе размышление: Утверждение и отрицание воли к жизни при
достигнутом самопознании
§ 55
Воля как таковая свободна: это следует уже из того, что она, согласно
нашему взгляду, есть вещь в себе, опора всякого явления. Последнее же, как мы
знаем, всецело подчинено закону основания в его четырех формах; и так как мы
знаем, что необходимость вполне тождественна со следствием из данного
основания, что это – понятия равнозначные, то все, что относится к явлению, т.
е. служит объектом для познающего в качестве индивида субъекта, есть, с
одной стороны, основание, а с другой – следствие, и в этом последнем качестве
оно всецело и необходимо определено и потому ни в каком отношении не
может быть иным, чем оно есть. Таким образом, все содержание природы, вся
совокупность ее явлений совершенно необходимы, и необходимость каждой
части, каждого явления, каждого события можно всякий раз показать воочию,
потому что всегда есть и может быть найдено основание, от которого они
зависят в качестве следствия. Это не терпит никакого исключения: это следует
из неограниченной власти закона основания. Но с другой стороны, тот же
самый мир во всех своих явлениях представляет для нас объектность воли,
которая, будучи сама не явлением, представлением или объектом, но вещью в
себе, не подчиняется и закону основания, форме всякого объекта, и,
следовательно, не определяется как следствие основанием, не подвластна
необходимости, т. е. свободна. Таким образом, понятие свободы, собственно
21
говоря, отрицательно, потому что его содержание есть только отрицание
необходимости, т. е. соответствующего закону основания отношения следствия
к его основанию.
Здесь явственнее всего лежит перед нами та общая точка этой великой
антитезы – совмещение свободы с необходимостью, о которой в последнее
время говорили часто, но, насколько мне известно, никогда не говорили ясно и
дельно. Всякая вещь как явление, как объект, безусловно необходима; но в себе
эта вещь есть воля, а воля совершенно и во веки веков свободна. Явление,
объект необходимо и неизменно определены в цепи оснований и следствий,
которая не может прерываться. Но бытие вообще этого объекта и род его
бытия, т. е. идея, которая в нем раскрывается, или, другими словами, его
характер – это непосредственно есть явление воли. В силу свободы этой воли
он, таким образом, мог бы вообще не существовать или же изначально и по
существу быть совершенно иным, причем и вся цепь, звеном которой он
служит, но которая сама есть явление той же воли, была бы тогда совершенно
иной; но если этот объект дан налицо, он вступил уже в ряд оснований и
следствий, необходимо определен в нем и не может поэтому ни стать иным, т.
е. измениться, ни выйти из ряда, т. е. исчезнуть. Человек, как и всякая другая
часть природы, есть объектность воли; поэтому все сказанное относится и к
нему. Как всякая вещь в природе имеет свои силы и свойства, которые
определенно реагируют на определенное воздействие и составляют ее характер,
так и он имеет свой характер, из которого мотивы необходимо вызывают его
поступки. В самом качестве этих поступков выражается его эмпирический
характер, а в последнем, в свою очередь, – его умопостигаемый характер, воля
в себе, детерминированным проявлением которой он служит. Но человек – это
совершеннейшее явление воли, которое, чтобы существовать (как это показано
во второй книге), должно быть озарено такой высокой степенью познания, что
для последнего стало возможно даже вполне адекватное воспроизведение
сущности мира, под формой представления, чем и является восприятие идей,
чистое зеркало мира, как мы это видели в третьей книге. В человеке, таким
22
образом, воля может достигнуть своего полного самосознания, ясного и
исчерпывающего знания своей собственной сущности, как она отражается в
целом мире. Если такая степень познания дана в действительности, то как мы
видели в предыдущей книге, она порождает искусство. В конце всего нашего
рассуждения окажется, однако, что с помощью этого же познания,
направленного волей на самое себя, возможно уничтожение или самоотрицание
воли в ее совершеннейшем проявлении, так что свобода, которая как
свойственная только вещи в себе вообще никогда не может обнаруживаться в
явлении, выступает в таком случае и в последнем. Она уничтожает лежащую в
основе явления сущность (в то время как само это явление продолжает еще
пребывать во времени), создает противоречие явления с самим собою и именно
этим вызывает феномены святости и самоотрицания. Однако все сказанное
может стать вполне ясным лишь в конце этой книги.
Пока же мы указываем здесь в общих чертах на то, что человек
отличается от всех других явлений воли тем, что свобода, т. е. независимость от
закона основания, которая свойственна только воле как вещи в себе и
противоречит явлению, у человека может, однако, выступать и в явлении, но
тогда она необходимо составляет противоречие явления с самим собою. В этом
смысле, конечно, не только воля в себе, но даже и человек может быть назван
свободным и потому выделен из ряда всех других существ. Но как это следует
понимать, покажет только все дальнейшее изложение, пока же мы должны
оставить данный вопрос в стороне. Ибо прежде всего необходимо предостеречь
от заблуждения, будто поступки отдельного, определенного человека не
подчинены необходимости, другими словами, будто сила мотива менее
надежна, чем сила причины или вывод заключения из посылок. Свобода воли
как вещи в себе (если только, повторяю, оставить в стороне указанный выше
совершенно
исключительный
случай)
никогда
не
распространяется
непосредственно на явление воли, – даже там, где оно достигает высшей
ступени очевидности; следовательно, она не распространяется на разумное
животное с индивидуальным характером, т. е. на личность. Последняя никогда
23
не свободна, хотя и служит проявлением свободной воли, ибо она представляет
собой уже детерминированное проявление свободного желания этой воли; и
хотя это проявление, облекаясь в форму всякого объекта – закон основания,
развивает единство этой воли во множество поступков, но это множество,
ввиду вневременного единства желания в себе, обнаруживает закономерность
силы природы. Но так как именно свободное желание есть то, что сказывается в
личности и во всем ее жизненном складе, относясь к нему как понятие к
определению, то и каждый отдельный поступок личности должен быть
приписан свободной воле, и в качестве такового он непосредственно заявляет
себя сознанию. Поэтому, как я уже говорил во второй книге, всякий a priori (т.
е. здесь – в силу естественного чувства) считает себя свободным также и в
отдельных поступках, иными славами, мы думаем, будто в каждом данном
случае возможен любой поступок, и лишь a posteriori, на опыте и из
размышления над опытом мы узнаем, что наши поступки совершенно
необходимо вытекают из сопоставления характера с мотивами. Этим и
объясняется, почему самый необразованный человек, следуя своему чувству,
страстно защищает полную свободу отдельных поступков, между тем как
великие мыслители всех веков и даже более глубокие из вероучений отрицали
ее. Но кто уяснил себе, что вся сущность человека есть воля и что сам он –
только явление этой воли (а такое явление имеет закон основания своей
необходимой, уже из одного субъекта познаваемой формой, которая в этом
случае выступает в виде закона мотивации), для того сомнение в неизбежности
поступка при данном характере и предлежащем мотиве будет равносильно
сомнению в равенстве трех углов треугольника двум прямым.
Необходимость отдельного поступка удовлетворительно показал Пристли
в своей «Doctrine of philosophical necessity»; но существование этой
необходимости наряду со свободой воли в себе, т. е. вне явления, впервые
доказал Кант {«Критика чистого разума», 1-е издание, стр. 532–558; 5-е
издание, стр. 560–586; и «Критика практического разума», 4-е издание, стр.
169–179; издание Розенкранца, стр. 224-231.} (заслуга которого здесь особенно
24
велика), установив различие между умопостигаемым и эмпирическим
характером; это различие я вполне и безусловно принимаю, потому что
умопостигаемый характер – это воля как вещь в себе, поскольку она
проявляется в определенном индивиде, в определенной степени, эмпирический
же характер – само это проявление, как оно выражается в поведении (если
иметь в виду время) и даже в строении тела (если иметь в виду пространство).
Чтобы
уяснить
взаимоотношение
обоих
характеров,
лучше
всего
воспользоваться той формулировкой, которую я уже употребил в своем
вступительном трактате, а именно – умопостигаемый характер каждого
человека следует рассматривать как вневременный, а поэтому неделимый и
неизменный акт воли, проявление которого, развитое и развернутое во времени,
пространстве и всех формах закона основания, есть эмпирический характер, как
он, согласно опыту, обнаруживается во всем поведении и жизненном складе
данного человека. Как все дерево представляет собой только бесконечно
повторенное проявление одного и того же стремления, которое проще всего
выражается в волокне и, усложняясь, повторяется в виде листа, побега, ветви,
ствола и может быть легко в них узнано, так все поступки человека
представляют собой только бесконечно повторяемое, в своей форме несколько
меняющееся выражение его умопостигаемого характера, и вытекающая из
суммы этих поступков индукция составляет его эмпирический характер.
Впрочем, я не стану здесь перерабатывать и повторять мастерское изложение
Канта, а предполагаю его известным.
В 1840 году я обстоятельно и подробно разработал важный вопрос о
свободе воли в своем получившем премию сочинении о ней и раскрыл причину
той иллюзии, в силу которой полагают, будто в самосознании, в качестве факта
его, можно найти эмпирически данную абсолютную свободу воли, т. е. liberum
arbitrium indifferentiae [свободное, ничем не обусловленное решение воли]: как
раз на этом пункте и была, вполне осмысленно, сосредоточена конкурсная тема.
Отсылая читателя к этому произведению, а также к § 10 изданной вместе с ним,
под общим заглавием «Две основные проблемы этики», конкурсной работы об
25
основе морали, я опускаю теперь предложенное в первом издании еще не
полное доказательство необходимости волевых актов, а вместо этого
постараюсь объяснить названную иллюзию в кратком рассуждении, которое
имеет своей предпосылкой 19 главу нашего II тома и поэтому не могло быть
приведено в упомянутой конкурсной работе.
Помимо того, что воля как истинная вещь в себе есть нечто
действительно изначальное и независимое и в самосознании ее акты (здесь хотя
уже и детерминированные) должны сопровождаться чувством изначальности и
самостоятельности, – помимо этого иллюзия эмпирической свободы воли
(вместо трансцендентальной, которую только и следует признавать за ней), т. е.
свободы отдельных поступков, возникает из показанного в 19-ой главе II тома,
особенно под No 3, обособленного и подчиненного положения интеллекта по
отношению к воле. Ведь интеллект узнает решения воли только a posteriori и
эмпирически, поэтому, когда ему предстоит выбор, у него нет данных о том,
какое решение примет воля. Ибо умопостигаемый характер, в силу которого
при данных мотивах возможно только одно решение и потому решение
необходимое, не познается интеллектом, а постепенно, своими отдельными
актами, ему становится известен лишь эмпирический характер. Вот почему
познающему сознанию (интеллекту) кажется, будто в каждом данном случае
для воли одинаково возможны два противоположных решения. Но это то же
самое, как если бы относительно шеста, стоящего отвесно, но потерявшего
равновесие и зашатавшегося, сказать: «Он может упасть на правую сторону или
на левую», – ведь это может иметь лишь субъективное значение и собственно
выражает только: «по отношению к известным нам данным», потому что
объективно сторона падения уже необходимо определилась, как только шест
зашатался. Так и решение собственной воли остается индетерминированным
лишь для ее зрителя, собственно интеллекта, т. е. только относительно и
субъективно, а именно для субъекта познания; взятое же само по себе и
объективно, решение при каждом выборе уже детерминировано и необходимо.
Но только эта детерминация входит в сознание лишь через посредство
26
совершающегося решения. Мы получаем даже эмпирическое подтверждение
этого, – когда нам предстоит какой-нибудь трудный и важный выбор, но только
при условии, которое еще не явилось, а лишь ожидается, так что мы до тех пор
ничего не можем делать и должны оставаться пассивными. Вот тогда мы и
обдумываем, на что нам следует решиться при наступлении тех условий,
которые позволят нам свободное действие и выбор. Обыкновенно в пользу
одного решения говорят дальновидные разумные соображения, а в пользу
другого – непосредственная склонность. Пока мы поневоле остаемся
пассивными кажется, что сторона разума берет перевес; но мы заранее
предвидим как сильно будет тянуть к себе другая сторона, когда представите
случай к действию. До тех же пор мы усердно стараемся холодным
обсуждением pro и contra полностью высветить мотивы обеих сторон чтобы
каждый из них мог воздействовать на волю всей своей силой, когда придет
решительный момент, и чтобы какая-нибудь ошибка интеллекта не склонила
волю принять иное решение, нежели то, какое она выбрала бы, если бы все
воздействовало на нее равномерно. Но это ясное расчленение мотивов обеих
сторон – все, что может сделать интеллект при выборе. А действительного
решения он выжидает столь же пассивно и с таким же напряженным
любопытством, как и решения чужой воли. Поэтому с его точки зрения оба
решения должны казаться ему одинаково возможными, и в этом и заключается
иллюзия эмпирической свободы воли. В сферу интеллекта решение вступает
совершенно эмпирически, как окончательный исход дела; но возникло оно всетаки из внутренних свойств, из умопостигаемого характера индивидуальной
воли, в ее конфликте с данными мотивами, и возникло поэтому с полной
необходимостью. Интеллект может при этом лишь ярко и всесторонне
высветить особенности мотивов, но он не в силах определить самую волю, ибо
она совершенно недоступна для него и даже, как мы видели, непостижима.
Если бы человек при одинаковых обстоятельствах однажды мог
поступить так, а другой раз – иначе, то сама его воля должна была бы между
тем измениться и потому лежать во времени, ибо только в нем и возможно
27
изменение; но в таком случае или воля должна была бы представлять собой
только явление, или время должно было бы составлять определение вещи в
себе. Поэтому спор о свободе отдельного поступка, о liberum arbitrium
indifferentiae, вращается, собственно говоря, вокруг вопроса о том, лежит ли
воля во времени или нет. Если она в качестве вещи в себе, как это неизбежно
вытекает из учения Канта и из всего моего рассуждения, лежит вне времени и
всех форм закона основания, то не только индивид должен в одинаковых
условиях всегда поступать одинаково и не только всякое злое дело его является
надежной порукой за множество других, которые он должен совершить и от
которых не может уклониться, но и мы были бы в состоянии, как говорит
Кант, при наличности эмпирического характера и мотивов, вычислять будущее
поведение человека, как солнечное и лунное затмение. Как последовательна
природа, так последователен и характер: в соответствии с ним должен
совершаться всякий отдельный поступок, подобно тому как всякий феномен
соответствует закону природы; мотивы в первом случае и причина в последнем
– это лишь случайные причины, как показано во второй книге. Воля,
проявлением которой служит все бытие и жизнь человека, не может отрекаться
от себя в отдельных случаях, и чего хочет человек вообще, того он всегда будет
хотеть и в частности.
§ 56
Эта свобода, это всемогущество, обнаружением и отпечатком которых
служит весь видимый мир, их проявление, последовательно развивающееся
согласно тем законам, какие влечет за собой форма познания, – эта свобода
может обнаруживаться еще и иначе, притом там, где перед ней в ее
совершеннейшем проявлении раскрывается вполне адекватное познание ее
собственной сущности. Это происходит двояким образом. Или здесь, на
вершине мысли и самосознания, она хочет того же, чего хотела слепо и не зная
себя, – ив таком случае познание как в отдельных случаях, так и в целом
навсегда остается для нее мотивом; или же, наоборот, это познание становится
28
для нее квиетивом20, который укрощает и упраздняет всякое желание. В этом и
заключается уже описанное выше в общих чертах утверждение или отрицание
воли к жизни: будучи по отношению к деятельности индивида общим, а не
отдельным проявлением воли, оно не мешает развитию характера и тем не
модифицирует его, не находит оно себе выражения и в отдельных поступках;
но выявляя с возрастающей силой все предыдущее поведение человека, или же,
наоборот, упраздняя его, оно жизненно выражает тот принцип, который теперь
при свете познания свободно избрала воля.
Более ясное развитие всех этих мыслей, составляющее главную тему этой
последней книги, уже несколько облегчено и подготовлено для нас нашими
эпизодическими размышлениями о свободе, необходимости и характере. Но
оно сделается для нас еще легче, когда, отложив в сторону последние
рассуждения, мы обратим свое внимание прежде всего на самую жизнь,
желание или нежелание которой составляет великий вопрос, – и притом
сделаем это так, что постараемся узнать вообще, что, собственно, дает самой
воле (которая ведь повсюду составляет сокровенную сущность этой жизни) ее
утверждение, как и насколько оно ее удовлетворяет, да и может ли вообще ее
удовлетворять. Короче говоря, мы выясним себе, что в общих и существенных
чертах следует рассматривать как состояние воли в этом собственном ее мире,
который во всех отношениях ей принадлежит.
Прежде всего я хотел бы напомнить здесь рассуждение, которым я
закончил вторую книгу, – по поводу поставленного там вопроса о цели воли;
вместо ответа на него мы увидели воочию, как воля на всех ступенях своего
проявления, от низшей и до самой высокой, совершенно чужда конечной цели
и находится в постоянном стремлении, каковое и есть ее единственная
сущность, ибо оно не завершается никакой достигнутой целью, не знает
окончательного удовлетворения и может быть задержано только внешним
препятствием, само же по себе уходит в бесконечность. Мы видели это на
самом простом из всех явлений природы – тяжести: она не перестает
стремиться и влечется к непротяженному центру, достижение которого было
29
бы гибелью для нее и для материи, – не перестает, хотя бы вся вселенная
сжалась в один ком. Мы видим это на других простых явлениях природы:
твердое стремится, расплавляясь или растворяясь, к жидкому состоянию, в
котором только и освобождаются его химические силы: оцепенелость – это
плен, в котором их держит холод. Жидкое стремится к состоянию пара, в
которое оно тотчас же и переходит, как только освобождается от всякого
давления. Нет ни одного тела без сродства, т. е. без стремления, или без страсти
и жажды, как сказал бы Якоб Беме. Электричество распространяет свое
внутреннее самораздвоение на бесконечность, хотя масса земного шара и
поглощает
его
представляет
самораздвоения
действие.
собою
и
Гальванизм,
бесцельно
примирения.
и
пока
существует
непрерывно
Такое
же
столб,
также
возобновляемый
непрестанное,
никогда
акт
не
удовлетворяемое стремление представляет жизнь растения, это беспрерывное
движение через восходящий ряд форм, пока конечный пункт, семя, не станет
опять начальным пунктом, и так повторяется до бесконечности: нигде нет цели,
нигде нет конечного удовлетворения, нигде нет отдыха. Вспомним в то же
время из второй книги, что разнообразные силы природы и органические
формы оспаривают одна у другой ту материю, в которой они хотят проявиться,
ибо все в мире обладает лишь тем, что отторгнуто у другого; и так
поддерживается вечная борьба на жизнь и смерть, и именно из нее главным
образом проистекает
то
противодействие, вследствие
которого
общее
стремление, эта сокровенная сущность каждой вещи, наталкивается на
препятствие, тщетно пытается потеснить его, но не может изменить своей
природы и томится, пока данное явление не гибнет, и тогда другие жадно
захватывают его место и его материю.
Это стремление, составляющее ядро и в себе каждой вещи, мы давно уже
признали в качестве того, что в нас, где оно раскрывается яснее всего, при свете
полного сознания, носит имя воли. Задержку от препятствия, возникающего
между ней и ее временной целью, мы называем страданием, а достижение цели
– удовлетворением, благополучием, счастьем. Эти имена мы можем перенести
30
и на упомянутые раньше явления бессознательного мира, более слабые по
степени, но тождественные по существу. Мы видим их тогда постоянно
страдающими и лишенными прочного счастья. Ибо всякое стремление вытекает
из нужды, из неудовлетворенности своим состоянием, и, следовательно, пока
его не удовлетворят, оно есть страдание; но ни одно удовлетворение не
продолжительно, напротив, оно всегда служит только исходной точкой для
нового
стремления.
Мы
видим,
как
стремление
повсюду
окружено
многообразными преградами, видим его в постоянной борьбе, т. е. оно всегда
является нам как страдание: нет конечной цели стремления – нет,
следовательно, меры и цели страдания.
Но то, что мы в бессознательной природе открываем только обостренным
вниманием и напряжением, отчетливо выступает перед нами в познающей
природе, в жизни животного мира, чье постоянное страдание легко показать. Не
останавливаясь на этой промежуточной ступени, обратимся туда, где при
полном свете познания все принимает самый отчетливый вид, – обратимся к
жизни человека. Ибо по мере того, как совершенствуется проявление воли,
становится все более очевидным и страдание. В растении еще нет
чувствительности, следовательно, нет и боли; известная, очень слабая степень
страдания присуща низшим животным, инфузориям и лучеобразным; даже у
насекомых способность ощущения и страдания еще ограничена, и только с
совершенной нервной системой позвоночных она достигает высокой степени и
все возрастает по мере развития интеллигенции.
Таким образом, в той степени, в какой усиливается отчетливость
познания и возвышается сознание, возрастает и мука, и своей высшей степени
она достигает в человеке, и здесь опять-таки она тем сильнее, чем яснее познает
человек, чем он интеллигентнее: тот, в ком живет гений, страдает больше всех.
Именно в этом смысле, т. е. в смысле силы познания вообще, а не просто
абстрактного знания, я понимаю и привожу здесь знаменитое изречение
Когелета: «И кто умножает познания, умножает скорбь». Это точное
соответствие между степенью сознания и степенью страдания прекрасно
31
показал в наглядном и ясном образе Тишбейн, этот философский живописец,
или живописующий философ; Верхняя половина его рисунка изображает
женщин, у которых уводят детей: в разных группах и позах они по-разному
выражают глубокую материнскую скорбь, ужас, отчаяние; а нижняя половина в
такой же точно группировке и расположении представляет овец, у которых
отнимают ягнят, так что у каждой человеческой головы, и человеческой позы
на верхней половине листа есть полная аналогия внизу среди животных, и сразу
видно, как боль, возможная в глухом животном сознании, соотносится с
великой мукой, ставшей возможной лишь в силу ясности сознания и
отчетливости познания.
Поэтому
внутреннюю
и
сущностную
судьбу
воли
мы
будем
рассматривать в человеческом бытии. Каждый сумеет легко распознать то же
самое в жизни животных, только выраженное слабее и в различных степенях, и
ему достаточно будет примера страдающего животного царства, чтобы
убедиться, насколько всякая жизнь по существу есть страдание.
Извлечение из: Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М., 1992 //
[Электронный ресурс] URL: http://az.lib.ru/s/shopengauer_a/text_0040.shtml (дата
обращения 16.09.2015)
32
Фридрих Ницше
(1844– 1900)
URL: http://nizshe.ru/foto/fotog/fotog.html
Жизнь Ф. Ницше
Родился Фридрих Ницше 15 октября
1844 года в прусской Саксонии, в Реккене
близ Лютцена, в старинной пасторской
протестантской семье. Как это совместить
с той ожесточенной борьбой против
религиозной морали и церкви, которую он
вел
на
протяжении
интересный
предлагает
жизни?
вариант
К.
объяснения
Ясперс,
основателей
Очень
один
из
экзистенциализма,
считавший Ницше своим наставником в
философии. Он считает, что борьба против церкви объясняется именно...
глубочайшей религиозностью Ницше с детства. Христианские идеалы для него
были столь высоки, что их реализация в действительности его не
удовлетворяла.
Подлинным
Ницше
считал
только
первоначальное
христианство — мощное и величественное учение, способное подвигнуть на
борьбу целые народы, заставлявшее мобилизовать их жизненные силы. И
наоборот:
христианство
современное
Ницше
презирал
как
религию
обанкротившуюся, утратившую мужественный дух, проповедующую смирение,
с которым ранний христианин не прожил бы и дня, а также уклонение от
великой жизненной борьбы. Еще один интересный момент: Ницше, считая
аристократию цветом нации и воспевая ее в философии, не раз заявлял, что
прадед его был польским дворянином, хотя подтверждений тому не
приводилось.
Отец будущего философа, Людвиг Ницше, умер, когда тому было пять
лет. Семья вынуждена была переехать в Наумбург, где Фридрих получил
33
первоначальное образование. Затем, с четырнадцати до двадцати лет, он учился
в знаменитой Пфортской школе, а по окончании поступил в Боннский
университет. Здесь он проучился год на теологическом факультете, затем
перешел на философский факультет и занялся филологией. Стоит напомнить
читателю, что это слово в европейских университетах имело значение,
несколько отличающееся от привычного нам сегодня, в греческом языке, где
оно родилось, оно обозначало изучение духовной жизни народа. Во времена
Возрождения так стали называть изучение античной классической духовной
культуры. А с XVIII века филологией в Европе называется совокупность
знаний о духовной жизни разных культурных народов, комплекс паук,
начинающихся с познания языка как древнейшего памятника культуры, затем
переходящих к продуктам мышления, запечатленного языком,— к мифам,
песням, литературным произведениям, к искусству и общественной жизни.
Иными словами, это целая совокупность лингвистических, исторических и
философских дисциплин. Ницше занимался филологией классической, т. е.
изучением языка и культуры античного мира.
Проучившись год у профессора Ричля, Ницше последовал за ним в
университет г. Лейпцига. Способности студента были необычайны. Зимой
1868—1869 года, даже не закончив курса. Ницше был рекомендован Ритшлем
на преподавательскую должность в университет г. Базеля. а Лейпцигский
университет без всякого испытаний и диссертации предоставил ему степень
доктора. С 1869 по 1879 год, на протяжении десяти лет, Ницше жил в
Швейцарии и был профессором Базельского университета.
Жизнь его, в общем, не была богата приключениями и яркими
событиями. Самым значительным из них стало участие во франко-прусской
войне 1870–1871 годов. Он ушел на войну добровольцем из профессоров — и
стал санитаром, поскольку подданный Швейцарии не имел нрава сражаться с
оружием в руках. Однако его участие в войне продолжалось всего несколько
недель и закончилось весьма печально. Он серьезно заболел — сказались
последствия травмы, полученной еще раньше, когда он год служил в конной
34
артиллерии. Он проболел почти год и, казалось, совершенно поправился. Но
болезнь возвращалась и мучила его на протяжении всей жизни. Один из
известных медиков, Мебиус, полагал, что состояние Ницше усугубило
неправильное лечение и чрезмерное употребление хлорала – Ницше жестоко
терзали сильные головные боли и спазмы желудка. Боль сопровождала его так
непрерывно и неотвязно, что он прозвал ее «любимой собакой». Каждый день
жизни требовал мужества.
Болезнь наложила существенный отпечаток не только на ход его жизни,
но и на некоторые черты его философии. Состояние здоровья заставило Ницше
в 1879 году оставить преподавание. С этого дня каждая минута, когда болезнь
отступала, была посвящена философии и искусству — Ницше был не только
философом, но и поэтом, а также композитором. Быть может, только человек,
вынужденный ежедневно бороться с болезнью и болью, мог напасать столь
мощный гимн физическому здоровью, силе и красоте человека.
Кажется, и стиль Ницше сформировался тоже не без влияния его болезни.
Зрение его резко ухудшалось. Он не видел дальше трех шагов и не мог долго
смотреть на белый лист бумаги. Отчасти это, а отчасти восхищение манерой
письма Ларошфуко заставило его писать кратко, афористично. Здоровье просто
не позволяло проводить часы за письменным столом. Но нет худа без добра,
решил Ницше и превратил свой недостаток в достоинство, подводя солидную
базу из области филологии. Он сослался на древних греков, полагавших, что
человек мыслит не одной головой, а всем телом. Поэтому хорошие мысли
приходят лишь в тот момент, когда тело испытывает значительные физические
нагрузки, работает на пределе. (Так же думал и наставник Ницше, Шопенгауэр,
который специально стал горновосходителем и признавался, что caмыe лучшие
и величественные идеи посещают его на покоренных им горных вершинах.)
Такая афористичная философия предполагала и особого читателя — как
раз такого, который соответствовал ницшеанскому идеалу человека. Своим
читателем Ницше хотел видеть не «книжного червя», не любителя витать в
облаках, сбегающего от жизненной борьбы в область книжных фантазий, не
35
ученого педанта или схоласта, привыкшего к толстым фолиантам и
отождествляющего с ними науку. Его читатель — это человек дела, созидатель
и борец, которому некогда читать долго. Но краткий афоризм, прочитанный им
в минуту отдыха. сможет повысить в нем жизненную анергию. Так, в книге
«Утренняя
заря»
Ницше
прямо
написал:
«Такая
книжка,
как
эта,
предназначается не для того, чтобы ее прочитывать от доски до доски или
читать вслух, но чтобы ее можно было раскрыть на любом месте во время
прогулки или путешествия».
Конец жизни, с 1883 по 1888 год, Ницше прожил в Италия – в Ницце, в
Венеции, в Турине. Весной 1888 года он почувствовал себя так хорошо, что
подумал, будто болезнь оставила его совсем, вернулся на родину, в Германию,
и прожил этот год в Наумбурге, в Тюрингии, а затем в Лейпциге. Но уже в
начале следующего года страдания возобновились. В первые дни 1889 года
Ницше сошел с ума. Он прожил с помутненным рассудком еще одиннадцать
лет до мая 1890 года в лечебнице профессора Бисвангера в Йене, потом у
матери в Наумбурге, а после ее смерти в 1897 году до самой кончины своей 25
августа 1900 года — в Ваймаре, на попечении своей сестры, с которой был
очень дружен с детства. Именно в это последнее десятилетие XIX века
началось триумфальное шествие ницшеанства по всему миру. Но Ницше уже не
суждено было узнать об этом.
В 1880 году он писал: «Все мое существование — ужасная ноша; я уже
давно бы ее сбросил, если бы не производил — и именно в этом состоянии
страданий
и
почтя
абсолютного
отрицания
—
интересных
проб
и
экспериментов в духовно-нравственной области. Это наслаждение жаждой
познания уносит меня на высоты, где я становлюсь выше всякого рода мук и
отчаяний. В общем, я счастливее, чем когда-либо в моей жизни».
Современники не раз подчеркивали, что Ницше не стоит путать с
«лирическим героем» его философских сочинений. Он вообще любил
подразнить читателя, запутать его, оставив в неведении относительно того, что
же он действительно думает. Сам Ницше не раз называл себя циником, шутом,
36
и в книгах своих порой развлекался тем, что чуть ли не па одной и той же
странице принимался защищать противоположные точки зрения, опровергая
сам себя. Один из современных западногерманских философов, Петер
Слотердайк, воспринявший многие идеи Ницше, высказал в этой связи такое
замечание: у книги, в сравнении с беседой, есть существенный недостаток —
нельзя видеть выражение лица автора, с которым он пишет ту или иную фразу.
Мы можем быть уверенными, однако, что очень и очень многие страницы
Ницше писал с ироничной и плутовской улыбкой, что он был не чужд пародии,
самопародии, розыгрыша.
Каков же он был на самом деле, в жизни? Вот свидетельство
современника, профессора Алоиза Риля: «Смелый, страстный мыслитель,
подымавшийся
в
мечте
о
сверхчеловеческим
будущем
людей
над
общепринятой моралью, был в частной жизни необыкновенно любезен, мягок и
сострадателен к другим; строг до жестокости он был только к себе самому — и
горд и мужествен, когда надо было переносить или преодолевать свои
страдания. В обращении с идеями он был непреклонен и беспощаден до самых
крайних пределов, в обращении с людьми он мог и умел проявлять только
мягкую осторожность и бережность. У него была безупречная манера
держаться — без тени натянутости или пафоса. Наперекор бурному,
повышенному тону его писаний речь его была тихая и ровная. Во внешних
приемах и обращении он любил выдержку, ровность и благородное чувство
меры, сохраняя сам всегда безукоризненную вежливость и неизменную
приветливость. Все знавшие его поддавались обаянию его личности и
превозносили благородство его характера. Кто знает его только по боевым
словам его сочинений, приобретшим популярность, тому нелегко будет узнать
его в портрете, рисуемом с натуры его друзьями. И все же нет противоречия
между человеком и писателем — можно сказать даже, что только изучение его
личности может вполне объяснить его учение и что жизнь его дает единственно
правильный комментарий к нему».
37
По свидетельствам сестры философа, Ферстер-Ницше, он относился с
глубокой симпатией к России, очень любил русскую литературу, восхищался
Пушкиным, Лермонтовым, а в особенности — Достоевским, чьи «Записки из
мертвого дома» прочел на французском языке. Симпатия к русскому народу
возникла у Ницше с детства. Когда весь мир следил за ходом Крымской войны,
десятилетний Фридрих вместе с сестрой соорудил крепость и играл оборону
Севастополя. Мужество и благородство, доблесть и честь воина он уже тогда
считал высшими человеческими ценностями. Когда пришло известие о взятии
врагами Малахова кургана, Ницше и его сестра бурно разрыдались прямо за
обеденным столом. С годами симпатии Ницше еще более возросли. Он
неоднократно называл русский народ носителем и выразителем высших идей,
говорил, что в нем таятся огромные, еще не проявившиеся и не использованные
духовные силы, но когда эти силы прорвутся на свет, русский народ «удивит
весь мир чем-то новым, глубоким и сильным».
Прочитав «Казаков» Л. Н. Толстого, Ницше необычайно заинтересовался
уникальным феноменом казачества в России. По-видимому, принципы жизни
этого вольного русского воинства были очень близки идеалам его философии.
Философия как жизнеутверждающая наука
Чего же добивался Ницше, создавая свою философию? Во время
изучения филологии, Ницше погрузился в историю античного мира, по
сравнению с которым показался очень серым, однообразным и скучным
современный мир. Там — герои и подвиги, здесь — людская масса, в которой
первые похожи на последних. Такое впечатление, что в первом случае перед
нами общество, полное жизненной энергии, а во втором — такое, из которого
жизнь ушла. Как и когда свершился этот переход? Чем определяется
количество и качество жизни в обществе? Вот главные вопросы, которые
Ницше поставил перед собой в своем раннем произведении — «Происхождение
трагедии из духа музыки» (1872).
38
В жизни античной Греции героический период сменяется торжеством
посредственности. Дело, по мнению Ницше, заключается в том, что изменяется
дух общества, а дух этот лучше всего схвачен и выражен в искусстве. Подвигам
и великим деяниям героев соответствует великое искусство трагедии,
выражавшей
непосредственно
полноту
жизни.
Это
было
незапрограммированное искусство, оно порождалось к жизни экстазом –
озарением всех участников хора. Хор грезил наяву, и перед ним проносились
величественные картины борьбы Диониса с врагами, гибели его и возрождения.
Почему великое искусство уступило место мелкому, мещанскому?
Потому, отвечает Ницше, что в обществе распространился сократовский дух,
вытеснивший дух дионисовский. Дионис — это священный экстаз, Сократ —
это холодный разум. Дионисовскнй дух — это инстинктивный порыв, великий
подвиг героя. Сократовский дух — это размышления без поступка,
превратившиеся в самоцель. Дионисовский дух — это жизнь, жизненная
энергия. Когда она уходит, ее место занимает мертвенно холодный разум.
Сделав такой вывод, Ницше начинает размышлять, при каких условиях в
современном ему обществе может воспрянуть героический дионисовский дух.
Его черты он, как ему показалось вначале, обнаружил в музыке Р. Вагнера и в
философии А. Шопенгауэра. С Р. Вагнером Ф. Ницше познакомился еще в годы
учебы, а став профессором в Базеле, стал другом дома Вагнеров, живших тогда
недалеко от Люперна. Что же касается философии Шопенгауэра, то он
штудировал ее одновременно с филологией. Шопенгауэр поистине стал его
духовным отцом. Но картина, нарисованная А. Шопенгауэром, оказалась
достаточно мрачной. Миром движет слепая Воля, терзающая сама себя. Разум
своими иллюзиями только распаляет ее.
Предвидеть будущее невозможно. Человек должен чувствовать себя как в
карете, лошади которой понесли. Поэтому главный вопрос Шопенгауэра — как
смирить этих лошадей, как обуздать волю? Избавиться от нее можно двояко.
Путь первый – творчество. В творческом экстазе художник обретает странное
душевное спокойствие: терзающая его воля выплескивается вовне. Лучше всего
39
это удается сделать композитору, ибо музыка, содержащая рационалистических
компонентов, является наиболее чистым выражением волн. (Именно так
понимал свою музыку Р. Вагнер!) Но стоит прекратить творить, стоит пройти
творческому экстазу, как воля возвращается и опять начинает терзать человека.
порождая в нем недовольство собой и своей жизнью, а в первую очередь,
результатом творчества.
Путь второй — аскетизм, умерщвление плоти, смирение воли в себе,
буддистская невовлеченность в мировую борьбу за удовлетворение своих
желаний и сострадание всем живым существам, в эту борьбу вовлеченным. И
лишь в медитации может открыться тогда, что это Мировая Воля борется с
самою собой, что надо прекратить эту борьбу и обрести, наконец, покой, впадая
в нирвану.
Вот этот-то вывод Шопенгауэра, воспринятый им из буддизма, Ницше не
принял. Надо не убивать Жизнь в себе, не уничтожить и смирять в себе Волю,
и, наоборот, дать ей развернуться в полную силу. Народ, сумевший сделать
это, победит в великом историческом состязании. Человек, сумевший этого
достигнуть, сделает честь своему народу.
При всех исторических обстоятельствах — война не война, разруха не
разруха, деспотия не деспотия — люди не прекратят делать своих вечных
жизненных дел: любить и рожать детей, ставить их на ноги и кормить,
добывать пищу семье, утверждаться в своем деле и стремиться превзойти себе
подобных.
Ницше называет этот жизненный поток «волей к мощи». (Перевод «воля
к власти» неудачен, ибо антропоморфен; власть бывает только у людей, а воля
к мощи проявляется, как мы помним, и у животных, и у растений, и в неживой
природе.)
Назначение философии в том, чтобы поддерживать человека, народ в
жизненной борьбе. Философия не может оцениваться с точки зрения
истинности или ложности. Имеет значение только то, насколько она способна
воодушевить и поднять на жизненную борьбу.
40
Победившие в жизненной борьбе не нуждаются в равенстве. Его требуют
побежденные, оказавшиеся внизу, чтобы скинуть тех, кто находится наверху.
Но стоит уронить их, как проповедники равенства немедленно забывают о нем,
пытаясь
возвыситься
над
обществом.
Ницше
разбирает
каждую
из
христианских добродетелей, включая призывы к всепрощению, к любви и
братству и приходит к выводу, что мораль — это средство подчинить человека
интересам рода и, тем самым, заставить работать и на себя.
По его мнению, аристократия всегда была «властью достойнейших»,
«властью лучших», что, собственно и означает термин «аристократия» в
переводе. Князь был лучшим воином своего племени и сражался в первых
рядах во время войны; он воспитывал соответствующим образом своих детей
— в духе благородства и самоотверженности. Воины повиновались такому
аристократу с восторгом, ибо чувствовали в нем право повелевать. завоеванное
несколькими поколениями славных предков и им самим.
Переоценка ценностей
Что делать теперь, во времена, когда толпа выбирает подобных ей и
меняет их, как перчатки? Ницще отвечает: «Переоценить ценности».
Восходит это выражение к древнегреческой традиции. Надписи на
монетах стирались, и на них выбивали новые. Это и называлось «перечеканкой
монеты», а затем стало означать переоценку ценностей, имеющих хождение в
обществе, пересмотр устоявшихся представлений. Но вот вопрос: а его
собственная философия — не очередной ли это миф? Не ждет ли его самого в
будущем цинический анекдот?
Нет, не ждет — полагает Ницше. Цинизм страшен только тому, кто
противопоставляет идеалы жизни, к которой анекдот и возвращает их. Я же
создам вечную идеологию, сказав: «Цель жизни – сама жизнь!» Цель жизни –
это подъем жизни на новую высоту. Эволюция дошла до человека. Будет ли она
продолжаться? Человек полагает, что нет, что он — абсолютная вершина, и
зафиксировал это лестное для себя положение даже в Священном Писании, Но
41
давайте послушаем, о чем пищит комар. Если бы мы понимали его голос, мы
услышали бы: «Я — вершина жизни на земле, Я — самое совершенное
творение. Я использую глупого человека так же, как он использует корову!» И
любое животное полагает так, и это как раз та его биологическая философия,
которая помогает ему жить и бороться за существование. Вывод: Эволюция не
должна остановиться на человеке.
Учение о Сверх-человеке
Должен возникнуть следующий, более высокий вид жизни, который, как
сказано в книге Ф. Ницше «Так говорил Заратустра», будет отстоять от
человека так же далеко, как человек отстоит от обезьяны. Что мы испытываем,
когда в зоопарке видим обезьяну, а нам говорят, что предок наш выглядел
примерно так же? Стыд. Нас разбирает смех. Так же будет глядеть на нас, на
всю нашу суету человек будущего, «сверхчеловек», представитель качественно
нового биологического вида!
Надо только создать в обществе ту атмосферу борьбы за выживание, в
которой только и возникают новые виды, а для этого безжалостно отбросить
все призывы к уравниловке, к социальному миру. Если это осуществится,
слабые будут паразитировать на сильных, и развитие остановится.
И еще одно. Эволюция должна идти дальше не по Дарвину, поскольку
тот воплотил в своем учении мещанский, капиталистический идеал. В кризисе
перепроизводства выживает тот, кто быстрее предложит новый товар. В
природе, по Дарвину, выживает тоже не самый сильный, не самый
благородный, а самый юркий, способный пересидеть в щели. Надо сделать так,
чтобы в жизненной борьбе побеждали самые сильные и благородные. Как в
спорте. Здесь не место сделкам и нечестным соглашениям. Вчерашний чемпион
может завтра стать аутсайдером, если не приложит снова всех усилий. Пусть
каждое утро всякий заново доказывает свое право быть наверху. Пусть будет
благороден в борьбе. И пусть его рука, протянутая другому, будет означать, как
42
у рыцарей: «Я уважаю тебя именно за то, что завтра мне придется е тобою
сразиться».
Кейс № 2. Проблема морали в философии Ницше
Прочитайте отрывок текста Ф.Ницше и ответьте на следующие вопросы:
1. Как понимается и оценивается мораль?
2. Что означают понятия «хорошее» и «плохое»?
3. Каково происхождение представлений человека о совести?
РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВОЕ.
«ДОБРО И ЗЛО», «ХОРОШЕЕ И ПЛОХОЕ»
Итак, всяческое уважение добрым духам, царящим в этих историках
морали! Но достоверно, к сожалению, и то, что им недостает как раз
исторического духа, что они покинуты как раз всеми добрыми духами истории!
Все они без исключения, как это и свойственно староколенным философам,
мыслят неисторически по существу; в этом нет никакого сомнения.
Халтурность их генеалогии морали проявляется сразу же там, где речь идет о
внесении
ясности
в
происхождение
понятия
и
суждения
«хорошо».
«Первоначально, – так постановляют они, – неэгоистические поступки
расхваливались и назывались хорошими со стороны тех, кто пожинал их плоды,
стало быть, тех, кому они были полезны; позднее источник этой похвалы был
предан забвению, и неэгоистические поступки, просто потому, что их по
обыкновению превозносили всегда как хорошие, стали и восприниматься
таковыми – как если бы они и сами по себе были чем-то хорошим». Сразу
видно: это первое выведение содержит уже все типичные черты идиосинкразии
английских психологов – мы имеем «полезность», «забвение», «обыкновение»
и под конец «заблуждение», все это в качестве подкладки для той расценки
ценностей, каковой до сих пор гордился высший человек как своего рода
преимуществом человека вообще. Эта гордость должна быть унижена, эта
расценка – обесценена: достигнуто ли это?.. Ну так вот, прежде всего для меня
43
очевидно, что самый очаг возникновения понятия «хорошо» ищется и
устанавливается этой теорией на ложном месте: суждение «хорошо» берет свое
начало не от тех, кому причиняется «добро»! То были, скорее, сами «добрые»,
т.
е.
знатные,
могущественные,
высокопоставленные
и
возвышенно
настроенные, кто воспринимал и оценивал себя и свои деяния как хорошие, как
нечто
первосортное,
в
противоположность
всему
низкому,
низменно
настроенному, пошлому и плебейскому. Из этого пафоса дистанции они
впервые заняли себе право творить ценности, выбивать наименования
ценностей: что им было за дело до пользы! Точка зрения полезности как раз в
максимальной степени чужда и несоизмерима с таким горячим источником
высших суждений ценности, учреждающих и определяющих табель о рангах:
именно здесь температура чувства подскочила до прямого контраста к тому
низкому
градусу
тепла,
который
предполагает
всякая
расчетливая
смышленость, всякая смета полезности – и не в смысле разовости, не на одни
час – в порядке исключения, а надолго. Пафос знатности и дистанции, как
сказано, длительное и доминирующее общее и коренное чувство высшего
господствующего рода в отношении низшего рода, «низа» – таково начало
противоположности между «хорошим» и «плохим». (Право господ давать
имена заходит столь далеко, что позволительно было бы рассматривать само
начало языка как проявление власти господствующих натур; они говорят: «это
есть то-то и то-то», они опечатывают звуком всякую вещь и событие и тем
самым как бы завладевают ими.) Из этого начала явствует, что слово «хорошо»
вовсе не необходимым образом заранее связуется с «неэгоистическими»
поступками, как это значится в суеверии названных генеалогов морали. Скорее,
это случается лишь при упадке аристократических суждений ценности, когда
противоположность «эгоистического» и «неэгоистического» все больше и
больше навязывается человеческой совести – с нею вместе, если пользоваться
моим языком, берет слово (и словоблудие) стадный инстинкт. Но и тогда еще
долгое время названный инстинкт не обретает такого господства, при котором
моральная расценка ценностей буквально застревает и вязнет в этой
44
противоположности (как то имеет место, например, в современной Европе:
предрассудок,
согласно
которому
«моральный»,
«неэгоистический»,
«desinteresse» суть равноценные понятия, царит нынче уже с силой «навязчивой
идеи» и душевного расстройства).
Во-вторых,
однако,
–
совершенно
отвлекаясь
от
исторической
несостоятельности этой гипотезы о происхождении оценки «хорошо», заметим:
она
страдает
внутренней
психологической
бессмыслицей.
Полезность
неэгоистического поступка должна быть источником его превознесения, и
источник этот должен был быть забыт – как же возможно подобное забвение?
Следует ли отсюда, что полезность таких поступков однажды прекратилась?
Действительно как раз обратное: эта полезность, скорее, во все времена была
повседневным
опытом,
стало
быть,
чем-то
непрерывно
и
наново
подчеркиваемым; следовательно, не исчезнуть должна была она из сознания, не
погрузиться в забвение, но все отчетливее вдавливаться в сознание. Насколько
разумнее та противоположная теория (это, впрочем, не делает ее более
истинной), которая, например, защищается Гербертом Спенсером: он, в
сущности,
приравнивает
понятие
«хороший»
к
понятию
«полезный»,
«целесообразный», так что в суждениях «хорошо» и «плохо» человечество
суммировало-де и санкционировало как раз свой незабытый и незабываемый
опыт о полезно-целесообразном и вредно-нецелесообразном. Хорошо, согласно
этой теории, то, что с давних пор оказывалось полезным: тем самым полезное
может претендовать на значимость «в высшей степени ценного», «ценного
самого по себе». И этот путь объяснения, как сказано, ложен, но, по крайней
мере, само объяснение разумно и психологически состоятельно.
Ориентиром, выводящим на правильный путь, стал мне вопрос, что,
собственно, означают в этимологическом отношении обозначения «хорошего»
в различных языках: я обнаружил тут, что все они отсылают к одинаковому
преобразованию понятия – что «знатный», «благородный» в сословном смысле
всюду выступают основным понятием, из которого необходимым образом
развивается «хороший» в смысле «душевно знатного», «благородного»,
45
«душевно породистого», «душевно привилегированного»: развитие, всегда
идущее параллельно с тем другим, где «пошлое», «плебейское», «низменное» в
конце концов переходит в понятие «плохое». Красноречивейшим примером
последнего служит само немецкое слово schlecht (плохой), тождественное с
schlicht (простой) – сравни schlechtweg (запросто), schlechterdings (простонапросто) – и обозначавшее поначалу простого человека, простолюдина,
покуда без какого-либо подозрительно косящегося смысла, всего лишь как
противоположность знатному. Приблизительно ко времени Тридцатилетней
войны, стало быть, довольно поздно, смысл этот смещается в нынешний
расхожий. Относительно генеалогии морали это кажется мне существенным
усмотрением; его столь позднее открытие объясняется тормозящим влиянием,
которое демократический предрассудок оказывает в современном мире на все
вопросы, касающиеся происхождения. И это простирается вплоть до
объективнейшей, на внешний взгляд, области естествознания и физиологии,
что здесь может быть только отмечено. Но какие бесчинства способен учинить
этот предрассудок, разнузданный до ненависти, особенно в сфере морали и
истории, показывает пресловутый случай Бокля; плебейство современного
духа, несущее на себе печать английского происхождения, снова прорвалось на
родной почве, запальчивое, как вулкан, извергающий грязь, с пересоленным,
назойливым, пошлым красноречием, присущим до сих пор всем вулканам.
Восстание рабов в морали начинается с того, что ressentiment сам
становится творческим и порождает ценности: ressentiment таких существ,
которые не способны к действительной реакции, реакции, выразившейся бы в
поступке, и которые вознаграждают себя воображаемой местью. В то время как
всякая
преимущественная
мораль
произрастает
из
торжествующего
самоутверждения, мораль рабов с самого начала говорит Нет «внешнему»,
«иному», «несобственному»: это Нет и оказывается ее творческим деянием.
Этот поворот оценивающего взгляда – это необходимое обращение вовне,
вместо обращения к самому себе – как раз и принадлежит к ressentiment: мораль
рабов
всегда
нуждается
для
своего
46
возникновения
прежде
всего
в
противостоящем и внешнем мире, нуждается, говоря физиологическим языком,
во внешних раздражениях, чтобы вообще действовать, – ее акция в корне
является реакцией. Обратное явление имеет место при аристократическом
способе оценки: последний действует и произрастает спонтанно, он ищет своей
противоположности лишь для того, чтобы с большей благодарностью, с
большим ликованием утверждать самое себя, – его негативное понятие
«низкий», «пошлый», «плохой» есть лишь последовый блеклый контрастный
образ по отношению к его положительному, насквозь пропитанному жизнью и
страстью основному понятию: «мы преимущественные, мы добрые, мы
прекрасные, мы счастливые!» Если аристократический способ оценки
ошибается и грешит против реальности, то только в той сфере, которая
недостаточно ему известна и знакомства с которой он чопорно чурается: при
известных обстоятельствах он недооценивает презираемую им сферу, сферу
простолюдина, простонародья; с другой стороны, пусть обратят внимание на
то, что во всяком случае аффект презрения, взгляда свысока, высокомерного
взгляда – допустив, что он фальсифицирует образ презираемого, – далеко
уступает той фальшивке, которою – разумеется, in effigie – грешит в отношении
своего противника вытесненная ненависть, месть бессильного. На деле к
презрению примешивается слишком много нерадивости, слишком много
легкомыслия, слишком много глазения по сторонам и нетерпения, даже
слишком много радостного самочувствия, чтобы оно было в состоянии
преобразить свой объект в настоящую карикатуру и в пугало. Не следует
пропускать мимо ушей те почти благожелательные nuances, которые, например,
греческая знать влагает во все слова, каковыми она выделяет себя на фоне
простонародья; как сюда постоянно примешивается и прислащивается
сожаление,
тактичность,
терпимость,
пока
наконец
почти
все слова,
подходящие простолюдину, не оборачиваются выражениями «несчастного»,
«прискорбного», и как, с другой стороны, «плохой», «низкий», «несчастный»
никогда не переставали звучать для греческого уха в одной тональности, в
одном тембре, в коем преобладал оттенок «несчастного»: таково наследство
47
древнего, более благородного, аристократического способа оценки, который не
изменяет самому себе даже в презрении. «Высокородные» чувствовали себя как
раз «счастливыми»; им не приходилось искусственно конструировать свое
счастье лицезрением собственных врагов, внушать себе при случае это и лгать
самим себе (как это по обыкновению делают все люди ressentiment); они умели
в равной степени, будучи цельными, преисполненными силы, стало быть,
неотвратимо активными людьми, не отделять деятельности от счастья
деятельное существование необходимым образом включается у них в счастье
все это в решительной противоположности к «счастью» на ступени бессильных,
угнетенных, гноящихся ядовитыми и враждебными чувствами людей, у
которых оно выступает, в сущности, как наркоз, усыпление, покой, согласие,
«шабаш», передышка души и потягивание конечностей, короче, пассивно. В то
время как благородный человек полон доверия и открытости по отношению к
себе, человек ressentiment лишен всякой откровенности, наивности, честности и
прямоты к самому себе. Его душа косит, ум его любит укрытия, лазейки и
задние двери; все скрытое привлекает его как его мир, его безопасность, его
услада; он знает толк в молчании, злопамятстве, ожидании, в сиюминутном
самоумалении и самоуничижении. Раса таких людей ressentiment в конце
концов неизбежно окажется умнее, нежели какая-либо знатная раса; она и умто будет почитать в совершенно иной мере, именно, как первостепенное
условие существования, тогда как ум у благородных людей слегка отдает
тонким привкусом роскоши и рафинированности – как раз здесь он и отступает
на
задний
план,
освобождая
место
для
полной
уверенности
в
функционировании бессознательно управляющих инстинктов или даже для
известного безрассудства, храбро пускающегося во все нелегкие – на опасность
ли, на врага ли; или для той мечтательной внезапности гнева, любви,
благоговения, благодарности и мести, по которой во все времена узнавались
благородные души. Сам ressentiment благородного человека, коль скоро он
овладевает им, осуществляется и исчерпывается в немедленной реакции; оттого
он не отравляет; с другой стороны, его, как правило, и вовсе не бывает там, где
48
он неизбежен у всех слабых и немощных. Неумение долгое время всерьез
относиться к своим врагам, к своим злоключениям, даже к своим злодеяниям –
таков признак крепких и цельных натур, в которых преизбыточествует
пластическая, воспроизводящая, исцеляющая и стимулирующая забывчивость
сила (хорошим примером этому в современном мире является Мирабо, который
был начисто лишен памяти на оскорбления и подлости в свой адрес и который
лишь оттого не мог прощать, что – забывал). Такой человек одним рывком
стряхивает с себя множество гадов, которые окапываются у других; только
здесь и возможна, допустив, что это вообще возможно на земле, – настоящая
«любовь к врагам своим». Как много уважения к своим врагам несет в себе
благородный
человек!
– а такое уважение и оказывается уже мостом к любви... Он даже требует себе
своего врага, в качестве собственного знака отличия; он и не выносит иного
врага, кроме такого, в котором нечего презирать и есть очень много что
уважать! Представьте же теперь себе «врага», каким измышляет его человек
ressentiment, – и именно к этому сведется его деяние, его творчество: он
измышляет «злого врага», «злого» как раз в качестве основного понятия,
исходя из которого и как послеобраз и антипод которого он выдумывает и
«доброго» – самого себя!..
– Но вернемся назад: проблема другого источника «добра», добра, как его
измыслил
себе
человек
ressentiment,
требует
подведения
итогов.
– Что ягнята питают злобу к крупным хищным птицам, это не кажется
странным; но отсюда вовсе не следует ставить в упрек крупным хищным
птицам, что они хватают маленьких ягнят. И если ягнята говорят между собой:
«Эти хищные птицы злы; и тот, кто меньше всего является хищной птицей, кто,
напротив, является их противоположностью, ягненком, – разве не должен он
быть добрым?» – то на такое воздвижение идеала нечего и возразить, разве что
сами хищные птицы взглянут на это слегка насмешливым взором и скажут
себе, быть может: «Мы вовсе не питаем злобы к ним, этим добрым ягнятам, мы
их любим даже: что может быть вкуснее нежного ягненка».
49
– Требовать от силы, чтобы она не проявляла себя как сила, чтобы она не
была желанием возобладания, желанием усмирения, желанием господства,
жаждою врагов, сопротивлений и триумфов, столь же бессмысленно, как
требовать от слабости, чтобы она проявляла себя как сила. Некий квантум силы
является таким же квантумом порыва, воли, действования – более того, он и
есть не что иное, как само это побуждение, желание, действование, и лишь
вследствие
заблуждений
языкового
разума),
обольщения
которое
(и
по
окаменевших
недоразумению
в
нем
коренных
понимает
всякое
действование как нечто обусловленное действующим, «субъектом», может это
представляться иначе. Совершенно так же, как народ отделяет молнию от ее
сверкания и принимает последнее за акцию, за действие некоего субъекта,
именуемого молнией, так же и народная мораль отделяет силу от проявлений
силы, как если бы за сильным наличествовал некий индифферентный субстрат,
который был бы волен проявлять либо не проявлять силу. Но такого субстрата
нет; не существует никакого «бытия», скрытого за поступком, действованием,
становлением; «деятель» просто присочинен к действию – действие есть все.
По сути, народ удваивает действие, вынуждая молнию сверкать: это действиедействие; одно и то же свершение он полагает один раз как причину и затем
еще один раз как ее действие. Естествоиспытатели поступают не лучше, когда
они говорят: «сила двигает, сила причиняет» и тому подобное, – вся наша
наука, несмотря на ее расчетливость, ее свободу от аффекта, оказывается еще
обольщенной языком и не избавилась от подсунутых ей ублюдков, «субъектов»
(таким ублюдком является, к примеру, атом, равным образом кантовская «вещь
в себе»); что же удивительного в том, если вытесненные, скрыто тлеющие
аффекты мести и ненависти используют для себя эту веру и не поддерживают, в
сущности, ни одной веры с большим рвением, чем веру в то, что сильный волен
быть слабым, а хищная птица – ягненком; ведь тем самым они занимают себе
право вменять в вину хищной птице то, что она – хищная птица... Когда
угнетенные, растоптанные, подвергшиеся насилию увещевают себя из
мстительной хитрости бессилия: «будем иными, чем злые, именно, добрыми! А
50
добр всякий, кто не совершает насилия, кто не оскорбляет никого, кто не
нападает, кто не воздает злом за зло, кто препоручает месть Богу, кто подобно
нам держится в тени, кто уклоняется от всего злого, и вообще немногого
требует от жизни, подобно нам, терпеливым, смиренным, праведным», – то
холодному и непредубежденному слуху это звучит, по сути, не иначе как: «мы,
слабые, слабы, и нечего тут; хорошо, если мы не делаем ничего такого, для чего
мы недостаточно сильны»; но эта въедливая констатация, эта смышленость
самого низшего ранга, присущая даже насекомым (которые в случае большой
опасности прикидываются дохлыми, чтобы избежать «слишком многих»
действий), вырядилась, благодаря указанной фабрикации фальшивых монет и
самоодурачиванию
бессилия,
в
роскошь
самоотверженной,
умолкшей,
выжидающей добродетели, точно слабость самого слабого – т. е. сама его
сущность, его деятельность, вся его единственная неизбежная, нераздельная
действительность – представляла бы собою некую добровольную повинность,
нечто поволенное, предпочтенное, некое деяние, некую заслугу. Этот сорт
людей из инстинкта самосохранения, самоутверждения нуждается в вере в
индифферентного факультативного «субъекта», в котором по обыкновению
освящается всякая ложь. Субъект (или, говоря популярнее, душа), должно быть,
оттого и был доселе лучшим догматом веры на земле, что он давал
большинству смертных, слабым и угнетенным всякого рода, возможность
утонченного самообмана – толковать саму слабость как свободу, а
превратности ее существования – как заслугу.
РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОЕ
«ВИНА», «НЕЧИСТАЯ СОВЕСТЬ» И ВСЕ, ЧТО СРОДНИ ИМ
Выдрессировать животное, смеющее обещать, – не есть ли это как раз та
парадоксальная задача, которую поставила себе природа относительно
человека? не есть ли это собственно проблема человека?.. Что проблема эта до
некоторой степени решена, наверняка покажется тем удивительнее тому, кто
вдоволь
умеет
отдавать
должное
51
противодействующей
силе,
силе
забывчивости. Забывчивость не является простой vis inertiae, как полагают
верхогляды; скорее, она есть активная, в строжайшем смысле позитивная
сдерживающая
переживаемое,
способность,
которой
испытываемое,
следует
приписать
воспринимаемое
нами
то,
в
что
все
состоянии
переваривания (позволительно было бы назвать это «душевным сварением»)
столь же мало доходит до сознания, как и весь тысячекратный процесс, в
котором разыгрывается наше телесное питание, так называемое «органическое
сварение». Закрывать временами двери и окна сознания; оставаться в стороне
от шума и борьбы, которую ведут между собою служебные органы нашего
подземного мира; немного тишины, немного tabula rasa сознания, чтобы опять
очистить место для нового, прежде всего для более благородных функций и
функционеров, для управления, предвидения, предопределения (ибо организм
наш устроен олигархически), – такова польза активной, как сказано,
забывчивости, как бы некой привратницы, охранительницы душевного порядка,
покоя, этикета, из чего тотчас же можно взять в толк, что без забывчивости и
вовсе не существовало бы никакого счастья, веселости, надежды, гордости,
никакого настоящего. Человек, в котором этот сдерживающий аппарат
повреждается и выходит из строя, схож (и не только схож) с диспептиком – он
ни с чем не может «справиться»... Именно это по необходимости забывчивое
животное, в котором забвение представляет силу, форму могучего здоровья,
взрастило в себе противоположную способность, память, с помощью которой
забывчивость в некоторых случаях упраздняется – в тех именно случаях, где
речь идет об обещании: стало быть, никоим образом не просто пассивное
неумение отделаться от вцарапанного однажды впечатления, не просто
несварение данного однажды ручательства, с которым нельзя уже справиться,
но
активное
нежелание
отделаться,
непрерывное
воление
однажды
неволенного, настоящую память воли, так что между изначальным «я хочу», «я
сделаю» и собственным разряжением воли, ее актом спокойно может быть
вставлен целый мир новых и чуждых вещей, обстоятельств, даже волевых
актов, без того чтобы эта длинная цепь воли лопнула. Что, однако, все это
52
предполагает? То именно, насколько должен был человек, дабы в такой мере
распоряжаться
будущим,
научиться
сперва
отделять
необходимое
от
случайного, развить каузальное мышление, видеть и предупреждать далекое
как настоящее, с уверенностью устанавливать, что есть цель и что средство к
ней, уметь вообще считать и подсчитывать – насколько должен был сам
человек стать для этого прежде всего исчислимым, регулярным, необходимым,
даже в собственном своем представлении, чтобы смочь наконец, как это делает
обещающий, ручаться за себя как за будущность!
Именно это и есть длинная история происхождения ответственности.
Задача выдрессировать животное, смеющее обещать, заключает в себе, как мы
уже поняли, в качестве условия и подготовки ближайшую задачу сделать
человека до известной степени необходимым, однообразным, равным среди
равных, регулярным и, следовательно, исчислимым. Чудовищная работа над
тем, что было названо мною «нравственностью нравов» (ср. «Утренняя заря» I
1019 сл.), действительная работа человека над самим собою в течение
длительного
отрезка
существования
рода
человеческого,
вся
его
доисторическая работа обретает здесь свой смысл, свое великое оправдание,
какой бы избыток черствости, тирании, тупости и идиотизма ни заключался в
ней: с помощью нравственности нравов и социальной смирительной рубашки
человек был действительно сделан исчислимым.
Здесь мне не избежать уже того, чтобы не начертать в первом,
предварительном, наброске мою собственную гипотезу о происхождении
«нечистой совести»: ее не легко довести до слуха, и с ней надобно не только
возиться мыслями, но и бодрствовать и спать. Я считаю нечистую совесть
глубоким заболеванием, до которого человеку пришлось опуститься под
давлением наиболее коренного из всех изменений, выпавших на его долю, –
изменения, случившегося с ним в момент, когда он окончательно осознал на
себе ошейник общества и мира. Не иначе, как это пришлось водяным
животным, когда они были вынуждены стать наземными животными либо
погибнуть, случилось то же и с этими счастливо приспособленными к зарослям,
53
войне, бродяжничеству, авантюре полузверям – одним махом все их инстинкты
были обесценены и «сняты с петель». Отныне им приходилось ходить на ногах
и «нести самих себя» там, где прежде их несла вода: ужасное бремя легло на
них.
Они
чувствовали
себя
неловко
при
простейших
естественных
отправлениях; в этот новый незнаемый мир они вступали уже без старых своих
вожатых, надежно наводящих инстинктов-регуляторов, – они были сведены к
мышлению,
умозаключению,
исчислению,
комбинированию
причин
и
следствий, эти несчастные, – были сведены к своему «сознанию», к наиболее
жалкому и промахивающемуся органу своему! Я думаю, что никогда на земле
не было такого чувства убожества, такого освинцованного недомогания, – и
при всем том те старые инстинкты не сразу перестали предъявлять свои
требования! Лишь с трудом и изредка выпадала возможность угодить им:
главным образом им приходилось искать себе новых и как бы уже подземных
удовлетворений. Все инстинкты, не разряжающиеся вовне, обращаются
вовнутрь – это и называю я уходом-в-себя человека: так именно начинает в
человеке расти то, что позднее назовут его «душою». Весь внутренний мир,
поначалу столь тонкий, что, как бы зажатый меж двух шкур, разошелся и
распоролся вглубь, вширь и ввысь в той мере, в какой сдерживалась разрядка
человека вовне. Те грозные бастионы, которыми государственная организация
оборонялась от старых инстинктов свободы, – к этим бастионам прежде всего
относятся наказания – привели к тому, что все названные инстинкты дикого
свободного бродяжного человека обернулись вспять, против самого человека.
Вражда, жестокость, радость преследования, нападения, перемены, разрушения
– все это повернутое на обладателя самих инстинктов: таково происхождение
«нечистой совести». Человек, который, за отсутствием внешних врагов и
препятствий, втиснутый в гнетущую тесноту и регулярность обычая,
нетерпеливо терзал, преследовал, грыз, изнурял, истязал самого себя, этот
бьющийся до крови о решетки своей клетки зверь, которого хотят «приручить»,
этот лишенец и изводящий себя ностальгик по пустыне, сподобившийся
сколотить из самого себя авантюру и застенок, некое подобие ненадежной и
54
опасной целины, – этот дурень, этот тоскующий и безутешный пленник стал
изобретателем «нечистой совести». Но с этого и началось величайшее и
тревожнейшее заболевание, от которого человечество не оправилось и по сей
день,
страдание
человека
человеком,
самим
собою,
как
следствие
насильственного отпарывания от животного прошлого, как бы некоего прыжка
и падения в новую обстановку и условия существования, объявления войны
старым инстинктам, на которых зиждились доныне его сила, радость и
внушаемый им страх.
Извлечение из: Ф. Ницше. К генеалогии морали // [Электронный ресурс]
http://fanread.ru/book/5408110/?page=7 (дата обращения 16.09.2015)
55
Вильгельм Дильтей
(19.01.1833 – 1.10.1911)
URL: http://www.preba.net/wpfoto/dil.jpg
Родился
в
г.
Бибрих-на-Рейне.
Сын
пастора реформатской церкви. В духе традиций
семьи Дильтей готовился стать протестантским
священником.
Изучал
Гейдельбергском,
затем
теологию
в
в
Берлинском
университете; там же обратился к изучению
философии.
Получил
степень
доктора
в
Берлинском университете в 1864, а два года
спустя
стал
профессором
философии
Базельского университета. В дальнейшем был
профессором университетов Киля (1868) и Бреслау (1871), а также Берлинского
университета, где преподавал с 1882. В Бреслау у Дильтея завязывается дружьа
с Паулем Йорком фон Вартенбургом (граф Йорк), который интересовался
философией: они постоянно переписывались.
Философские воззрения Д., формировались под влиянием, с одной
стороны, немецкого идеализма и романтизма (внимание к миру субъекта и
интерес к культуре и истории), с другой — англо-французского позитивизма
(Дж. С. Милль, О. Конт; антиметафизическая установка и метод психологизма
как анализ непосредственных данных сознания). Влияние на Д. оказало также
неокантианство баденской школы (противопоставление естественнонаучного и
культурно-исторического познания).
Основные произведения. «Описательная психология», «Введение в науки
о духе», «Построение исторического мира в науках о духе», «Жизнь
Шлейермахера».
Дильтей считает, что вся предшествующая философия шла по
неправильному пути, потому что изучала природу, внешний мир. Как
56
следствие, она была абстрактной, слишком отвлеченной от реальной практики,
проблем, которые важны для человека. Нужно перестать заниматься
метафизикой, бросить изучать природу, а приблизиться к жизни. Изучать,
жизнь, а не природу – первое требование Дильтея.
Жизнь объемлет все, она больше чем человек, она больше чем
человечество. Но философа интересует именно человеческая жизнь, жизнь,
понятая в «антропологическом аспекте». Биологический витализм – не
единственный аспект человеческой жизни.
Жизнь
сочетает
интеллектуальное. Интеллект
витальное
является
(стихийно-биологическое
частью
жизни.
Нельзя
и)
изучать
интеллектуальное (сознание, разум) отдельно от жизни, – получится
метафизика. Человек – не только познающее существо, он живое существо,
жизнь тут главнее, интеллект только одна сторона. Разум связан с жизненной
интуицией, помогает ей, его нельзя отделять от нее. Жизнь связана не с
внешним миром, но с внутренним опытом человека. Изучая жизнь, мы изучаем
внутренний опыт, а не обстоятельства внешней жизни. Следовательно, изучать
жизнь – значит изучать внутреннее, а не внешнее. Душу, а не тело, психику, а
не природу. В душе человека нет постоянных и неизменных априорных форм,
как думал Кант. Наш духовный опыт постоянно меняется, развивается. А это
значит, что изучать жизнь, значит изучать историю. Стремясь к пониманию
изучаемых событий, историк сам оказывается погруженным в историю. Способ
его работы, следовательно, не может быть объяснен через абстрактный и
вневременной разум, занимающий центральное место в философиях Декарта и
Канта, но требует более конкретного философского основания – целостного
контекста жизни, определяющего существование человека.
Философия не есть абстрактная система, она изучает внутренний мир
человека. Между философией и реальной практикой нет пропасти, философия
есть «выражение» жизни. Она представляет форму «мировоззрения» живущего.
Философы не должны изучать знание ради знания. Знание неотделимо от
жизни, поэтому нужно изучать философскую систему в связи с мировоззрением
57
и жизнью. Ближе всего к такому пониманию философии подошли Марк
Аврелий, Монтень, Ницше, Толстой.
Дильтей выделял три типа мировоззрения. Религиозное, поэтическое и
метафизическое (философское) – а) натурализм (человек определен природой);
б) субъективный идеализм; в) объективный идеализм (высшая форма
мировоззрения т.к. индивид поднимается до осознания своей связи с
божественным всеединством вещей).
Все науки разделить на два вида: 1) о природе; 2) о духе. У них
кардинально
различные
методы
и
задачи.
Первые
изучают
мертвое,
неизменное, статичное методом объяснения, вторые – живое, развивающееся,
методом описания.
Поэтому в противовес господствующим в XIX веке попыткам научно
оформить гуманитарные науки, применить к ним методы естественных
дисциплин, Дильтей пытается выявить особый характер научности, присущий
«наукам о духе».
Важной темой, связанной с философией для Дильтея является
психология. Дильтей утверждает, что в отличие от обычной, анализирующей,
объясняющей
психологии
необходимо
создать
новую,
описательную
психологию, которая не будет описывать духовно-жизненные процессы исходя
из физиологии. По Дильтею, наоборот, все внешнее, должно быть представлено
исходя из специфики внутреннего опыта. От анализа и объяснения
причинности внешних фактов Дильтей переходит к описанию и анализу
переживаний, т.е. это субъективная психология.
Переживание (Erlebnis) – одно из главных понятий психологии и
философии Дильтея. Это любое событие внутренней жизни, которое
напоминает интенцию в феноменологии. Переживание возникает от чувства
препятствия жизни, оно стремится весь опыт свести к целому, обобщить.
Каждое переживание имеет свое содержание. Само содержание переживания
является его частью. Переживание сопровождается психическим действием:
вопрошание,
полагание,
предположение,
58
утверждение,
наслаждение,
одобрение, удовольствие (и противоположности), а также желание, страсть,
воление – основные модификации психического действия. Переживая
душевное бытие, субъект отождествляется с ним. В переживании мы стремимся
сохранить уникальное в потоке жизни. Переживание не может удержаться
внутри психики, оно выражается в символах. Выражение (Ausdurk) можно
схватить в Понимании (Verstehen), объяснить. В этом и есть цель описательной
психологии. Важную роль в понимании играет объективный дух – это
многообразные
формы,
в
которых
общность,
существующая
между
индивидами объективировалась в чувственном мире. Сюда относится стиль
жизни, формы общения, целевые обычаи, право, государство, религия,
искусство, наука, философия.
Дильтей один из первых осознал всю сложность и разноплановость
процесса понимания. Он поставил основные герменевтические проблемы,
показал, что понимание связано не только с личным опытом, но с опытом
группы. Поэтому один человек может понять другого. Мы можем понять
другие народы и людей других исторических эпох.
Кейс № 3. Понятие жизни в философии Дильтея
Прочитайте отрывок текста В. Дильтея и ответьте на следующие
вопросы:
1.
Что представляет собой жизнь, ее основные характеристики?
2.
Как связаны переживание и понимание?
III. КАТЕГОРИИ ЖИЗНИ
Жизнь
Всмотримся в человеческий мир. В нем мы встречаем поэтов.
Человеческий мир и является предметом их поэзии. В мире происходят
события, которые поэт изображает. Миру принадлежат те черты, которые
позволяют ему наделять значительностью определенные события. Итак, я
считаю, что великая тайна поэта, созидающего поверх жизни новую
59
реальность, которая, потрясая нашу душу подобно самой жизни, расширяет и
возвышает ее, может быть разгадана лишь тогда, когда будет осмыслена
сопряженность человеческого мира и его наиболее характерных черт с поэзией.
Ведь только так и может возникнуть теория, превращающая историю поэзии в
историческую науку.
Жизнь – это взаимосвязь определяемых условиями внешнего мира
взаимодействий между личностями, постигаемая в своей независимости от
изменений места и времени. Я использую выражение жизнь в науках о духе
лишь применительно к человеческому миру; тем самым уже определена
область применения этого слова и исключается его неверное истолкование.
Жизнь заключается во взаимодействии живых существ. Ведь психофизический
процесс, который, согласно нашему пониманию, имеет начало и конец во
времени, для внешнего наблюдателя есть нечто само себе идентичное
благодаря тяжести наблюдаемых тел, в которых этот процесс протекает; но
вместе с тем этот психофизический процесс отличает тот удивительный факт,
что в сознании каждая его часть связана с другими частями посредством
определенным образом характеризующегося переживания континуальности,
взаимосвязи
и
тожести
этого
подвижного
процесса.
Выражение
«взаимодействие» в науках о духе характеризует отнюдь не отношение,
фиксируемое мыслью в природе как одна из сторон причинности; фиксируемая
в природе причинность всегда предполагает, что causa aequat effectunfi.
Напротив, само это выражение обозначает переживание; оно, в свою очередь,
может быть представлено как отношение импульса и сопротивления, давления,
осознавания требований, радости за других и т. д. Импульс также обозначает
здесь не силу спонтанности, причинности, принятую в объяснительных
психологических теориях, а лишь определенное переживаемое положение дел,
каким-то образом укорененное в живых существах, согласно которому мы
можем испытывать на опыте интенцию к осуществлению движений,
направленных на достижение какого-то внешнего результата. Так и возникают
60
переживания, которые вообще-то выражаются во взаимодействии различных
лиц.
Итак, жизнь – это взаимосвязь, в которой находятся эти взаимодействия
при определенных условиях взаимосвязи объектов природы, подчиняющихся
закону причинности и охватывающих также и область психических процессов,
присущих живым телам. Жизнь всегда и везде определена пространственно и
во времени – как бы локализована в пространственно-временной организации
процессов, присущих живым существам. Если же фиксировать то, что всегда и
везде присутствует в человеческом мире и что как таковое делает возможным
определенное в пространстве и времени событие, однако не путем
абстрагирования от него, а с помощью созерцания, ведущего от этого целого с
неизменно и постоянно присущими ему свойствами к тем свойствам, которые
различаются во времени и пространстве, тогда возникнет понятие жизни,
которое составляет фундамент всех отдельных формообразований и систем,
основание нашего переживания, понимания, выражения и сравнительного
рассмотрения их.
В этой жизни нас изумляет ее всеобщее свойство, испытываемое нами
только в ней, а не в природе и не в объектах природы, которые мы называем
живыми или органическими живыми существами.
Жизнь самым тесным образом связана с наполненностью временем. Ее
целостный характер, присущие ей процессы распада и то, что одновременно
образует взаимосвязь и единство (самость), – все это определено временем.
Жизнь существует во времени как отношение частей к целому, то есть
как некая взаимосвязь.
Таким же образом повторно пережитое дано в понимании, Жизнь и
повторно пережитое обладают специфическим отношением частей к целому.
Это отношение значения частей для целого. Наиболее явно это отношение
представлено в воспоминании. В любом жизненном отношении – будь то
отношение целостности нашей жизни к самой себе и к другой целостности –
вновь обнаруживается, что части имеют значение для всего целого. Я смотрю
61
на ландшафт и постигаю его. Прежде всего надо исключить предположение,
что это отношение является лишь интеллектуальным, а не жизненным. Поэтому
нельзя назвать «образом» переживание момента, присутствующее в жизненном
отношении к ландшафту. Я называю это впечатлением. По сути дела, мне даны
лишь такого рода впечатления. Нет какой-то самости, изолированной от них,
как нет и того, впечатлением чего они являются. Это последнее я лишь
конструирую задним числом.
Принцип переживания: все, что наличествует для нас, как таковое дано
лишь в настоящем. Даже если переживание относится к прошлому, оно
наличествует для нас только как переживание в настоящем. Отношение к
принципу сознания: принцип переживания является более общим (и полным).
Ведь он охватывает и то, что действительным не является.
Следующий признак: переживание – это качественное бытие =
реальность, которая не может быть определена путем осознавания, но
простирается до неразличимых глубин, которыми мы обладаем (NB: можно ли
сказать: обладаем?). Переживание внешнего бытия или внешнего мира
существует для меня таким же образом, как и то, что мною непонято, но лишь
доступно. (Я говорю: мое переживание охватывает собой и то, что незаметно, и
я могу его разъяснить.)
Факт: из того, что охватывается моим созерцанием (это слово взято в
самом широком смысле), какая-то часть выделяется своей значительностью,
ставится в центр внимания, апперцепируется, а затем отличается от
неапперцепированных духовных процессов. Это и есть то, что мы называем
«я», причем оно существует в двояком отношении – как «я есмь» и как «я
обладаю».
Следующее доказательство: переживание одновременно содержит в
качестве реальности структурную взаимосвязь жизни; пространственновременная локализация, исходящая из настоящего и далее; а в ней –
структурная взаимосвязь, в соответствии с которой продолжает оказывать
воздействие заключенное в ней целеполагание.
62
Если вспомнить о переживаниях, то своим способом воздействия на
настоящее они отличаются (своей динамикой) от переживаний, полностью
отошедших в прошлое. В первом случае вновь возникает чувство как таковое, в
другом – представление о чувствах и т. д., и с настоящего момента существует
лишь чувство, вызванное представлениями о чувствах.
Переживание и акт переживания неотделимы друг от друга; это два
способа выражения одного и того же.
От переживания следует отличать суждения, данные в апперцепции: я
испытываю скорбь, когда вижу умирающего человека или слышу сообщение о
чьей-то смерти. В них содержится двоякая направленность высказываний,
которые служат выражением данной реальности.
Длительность, схватываемая в понимании
В интроспекции, направленной на собственное переживание, невозможно
постичь устремляющееся вперед течение психической жизни; ведь любая
фиксация останавливает это течение и наделяет то, что зафиксировано,
некоторой длительностью. Но и здесь отношение переживания, выражения и
понимания делает возможным решение. Мы постигаем выражение деяния и
переживаем в соответствии с этим выражением.
Движение времени вперед все больше оставляет позади прошедшее и
устремлено в будущее. Серьезная проблема заключается в том, являются ли
психические процессы просто протеканием чего-то... или же они суть
деятельность, и решение этой проблемы может быть найдено, если мы сумеем
отыскать способ выражения этого течения там, где его направление получает
выражение в самом постигаемом. Но для этого недостаточно течения времени и
психического суммирования прошлого. Я должен изыскать такой способ
выражения, который мог бы протекать во времени и вместе с тем не нарушался
бы со стороны чего-то внешнего. Такова инструментальная музыка. Каким бы
образом она ни возникала, в ходе ее создания творец прослеживает ее
взаимосвязь во времени, переходя от одного образа к другому. Здесь
наличествует направление, деяние, устремленное к реализации, продвижение
63
психической деятельности, обусловленность прошлым и, тем не менее,
сохранение
в
себе
различных
возможностей,
экспликация,
которая
одновременно и есть творчество.
Извлечения из книги: Дильтей В. Собрание сочинений: В 6 т. Под ред.
A. B. Михайлова и Н. С. Плотникова. Т. 3. Построение исторического мира в
науках о духе / Пер. с нем. под ред. В. А. Куренного. – М.: Три квадрата, 2004.
С.10– 413. [Электронный ресурс] // URL: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/
s00/z0000741/st009.shtml (дата обращения: 16.09.2015)
64
Освальд Шпенглер
(1880–1936)
URL: http://www.corbisimages.com/stock-photo/rights-managed/BE074013/portrait-of-oswald-spengler
Этого
немецкого
мыслителя
считают
представителем «философии жизни» как течения,
потому что он тоже пытался сводить социальное к
биологическому
человеческих
–
доказывал,
обществ
что
подобна
жизнь
жизни
биологических организмов (в них есть рождение,
расцвет, увядание и смерть). Правда, человеческие
общества О. Шпенглер любил сравнивать не с
животными, а с растениями – с цветами, растущими
на поляне. Нельзя сравнивать цветы, выясняя,
какой из них прогрессивнее. Каждый из них уникален. У каждого из цветов –
свое биологическое время: он в свое время всходит, в свое время распускается
и увядает, и даже в течении дня в свое время раскрывает и закрывает свои
лепестки.
Таким образом, О. Шпенглер протестовал против позитивистских
представлений об истории как едином процессе, при котором есть только одна
«беговая дорожка», по которой бегут, соревнуясь, все страны мира – вот только
одни вырвались вперед и задают темп, а другие отстали и вынуждены догонять.
О. Шпенглер не мог принять такую теорию уже потому, что он был
патриотом Германии, а Германия в промышленном развитии перед первой
мировой войной отставала от Англии и от США. Он не мог признать свою
страну отстающей, второсортной, проигрывающей. Самую знаменитую свою
книгу – «Закат Европы» – О. Шпенглер начал писать во время первой мировой
войны, в 1918 году, а закончил уже после поражения Германии, когда в
немецком обществе царили уныние и пессимизм. Отсюда и представления о
том, что Западный мир закатывается. (Второй том «Заката Европы» был
65
опубликован в 1922 году.).
Хотя О. Шпенглер и проводил биологизаторские аналогии, сравнивая
человеческие культуры с живыми организмами, он не был биологом. Он изучал
математику и естественные науки в университетах Галле, Мюнхена и Берлина,
а докторскую диссертацию защитил в 1904 году по теме «Метафизическая
основная
идея
философии
профессиональным
Гераклита».
историком,
Как
получившим
видим,
он
«правильное»
не
был
и
историческое
образование. Он был историком-самоучкой, который создал собственную
модель человеческой истории (профессиональные историки до сих пор
подвергают ее критике и указывают, что она не соответствует многим
историческим фактам).
Но огромная эрудиция О. Шпенглера бесспорна. Он приобрел ее, работая
в 1908–1911 году преподавателем гимназии в Гамбурге, где вел разные
предметы – естествознание, математику, немецкий язык и историю, и, готовясь
к урокам, много читал. Разные предметы заставляли его сопоставлять факты и
проводить параллели между различными областями знания и жизни. Затем О.
Шпенглер оставил школу и стал работать редактором – он вел отдел
«Культура» в разных газетах. Это тоже расширяло его кругозор. Закончилось
дело тем, что он вообще удалился от дел и стал свободным писателем, чтобы
всецело посвятить себя созданию своей фундаментальнейшей книги «Закат
Европы».
После публикации ее первого тома, получившего широкую известность,
О. Шпенглер получил в 1919 приглашение стать профессором университета г.
Геттингена, но отклонил его, заявив, что отдаст все свое время и силы
написанию второго тома.
По своим убеждениям О. Шпенглер был ярым монархистом. Он считал,
что демократы и коммунисты погубили Германию, разрушили немецкое
государство и привели страну к поражению в первой мировой войне. Поначалу
О. Шпенглер выразил поддержку национал-социализму, который он считал
патриотическим движением, хотя и охарактеризовал сразу же в частной беседе
66
А. Гитлера как «тупицу» (он встречался с вождем национал-социалистов один
раз, на оперном фестивале в Байройте). Затем он все больше и больше
разочаровывался в нацизме и отвергал предложения нацистов сотрудничать с
ними, участвуя в их пропагандистских мероприятиях. За это О. Шпенглера
подвергли критике нацисты в своих газетах. С 1933 года его имя было
запрещено упоминать на радио. Когда в 1936 году О.Шпенглер умер в
Мюнхене, ходили упорные слухи, что его убили нацисты. Однако причина
смерти была естественной – отказало сердце.
Замысел «Заката Европы»: история, полезная для немцев
О. Шпенглер руководствовался мыслью, которую изложил в своей
ранней работе «О пользе и вреде истории для жизни» Фридрих Ницше: история
народа может будить в нем жизненную энергию, вдохновлять на подвиги, но
может и угнетать его, лишать желания жить. Весь вопрос в том, как эта история
будет написана. Если писать ее так, что в ее зеркале народ предстанет
хроническим неудачником, аутсайдером, не совершившим ничего, кроме
злодеяний, то такая история будет парализовывать его жизненные силы. (Не
случайно такую историю народа прилежно сочиняют его враги, надеясь так
подорвать его боевой дух). Но если историю написать так, что народ
предстанет в ней победительным, сильным и мужественным, она будет
способствовать его жизни в будущем.
Ф. Ницше полагал, что история не может быть «чистой наукой», которая
с академической отстраненностью хладнокровно взирает со стороны на деяния
всех народов, пытаясь «равнодушно внимать добру и злу» и сохранять
объективность по отношению ко всем. История должна не наставлять свой
народ, выступая в качестве ментора, а служить ему, участвовать в его жизни,
сообщать ему жизненную энергию. «Историческое образование может
считаться целительным и обеспечивающим будущее, только когда оно
сопровождается
новым
могучим
жизненным
течением,
например,
нарождающейся культурой, т.е. когда оно находится во власти и в
67
распоряжении какой-нибудь высшей силы, а не владеет и распоряжается
самостоятельно. История, поскольку она сама состоит на службе жизни,
подчинена неисторической власти и потому не может и не должна стать, ввиду
такого своего подчиненного положения, чистой наукой вроде, например
математики. Вопрос же, в какой степени жизнь вообще нуждается в услугах
истории, есть один из важнейших вопросов, связанных с заботой о здоровье
человека, народа и культуры. Ибо при некотором избытке истории жизнь
разрушается и вырождается, а вслед за нею вырождается под конец и сама
история».
К началу ХХ века в истории возобладал позитивистский подход к
написанию истории. Его поклонники придерживались взглядов, прямо
противоположных тем, которые излагал Ф. Ницше. Они полагали, что история
должна лишиться «идеологического» характера, то есть она не должна служить
жизни какого-то народа, всячески восславляя его достижения и укрепляя его
боевой дух. Под видом объективности историки-позитивисты призывали:
давайте говорить только о фактах, приводить цифры, прежде всего – данные,
характеризующие экономические успехи, количество открытий в области
точных наук, показатели выплавки металлов, добычи угля и т.п. То есть
историк должен опираться строго на объективные, выражаемые в числах,
верифицируемые (то есть проверяемые на опыте) данные. Если они выше у
какой-то страны, то она, естественно, должна быть объективно признана
лидером и образцом для подражания.
Такой бухгалтерский подход к написанию истории, который на рубеже
XIX и XX веков уже подавался как единственно правильный и единственно
приемлемый, единственно научный, в идеологическом плане «играл» на
промышленно развитые державы, всячески возвеличивая их. Предполагалось,
что страна с более развитой экономикой и более высокими научнотехническими показателями одерживает победу над всеми остальными и
должна доминировать в мире. История неоднократно доказывала, что это – не
так. Достаточно вспомнить, например, историю борьбы Великого Новгорода и
68
Москвы, историю Наполеона, который, возглавляя страну с не самой развитой
экономикой, покорил половину мира.
Но вопрос о том, какую роль играет промышленность и экономика, наука
и техника в обеспечении конкурентоспособности страны на мировой арене,
стоял перед О. Шпенглером вовсе не как вопрос абстрактно-теоретический.
Книга его «Закат Европы» начала создаваться накануне первой мировой войны
и вышла в разгар ее. Следовательно, О. Шпенглер решал не только научную, но
и идеологическую, даже пропагандистскую задачу. Она состояла в том, чтобы
сломать те представления об истории, которые обеспечивают духовное
превосходство противников Германии – высокоразвитых в экономическом
плане Великобритании и США. Германия превратилась в единое государствонацию только в 1871 году, и к концу 19 века сильно отставала от «развитых»
стран в экономике, науке и технике. Но следовало ли на этом основании
считать ее страной «отстающей»? Следовало ли полагать, что она обречена на
поражение в войне с «передовыми» англо-саксонскими державами? Если бы О.
Шпенглер думал так, он не написал бы в 1915 году меморандум «К кайзеру
Вильгельму», в котором назвал начало первой мировой войны «величайшим
днем в мировой истории».
Множественность своеобразных культур в истории
Поставить под сомнение лидерство США и Великобритании на мировой
арене можно только тогда, когда их экономическое и научно-техническое
превосходство будет истолковано не как их преимущество над Германией, а как
свидетельство их упадка, увядания, начинающегося разложения. Для этого
история не должна представляться как непрерывный прогресс, как прямая
линия, уходящая вверх. Здесь необходимо представление о цикличности
развития, при котором за расцветом следует увядание и смерть. Сравним два
растения. Одно уже достигло полного расцвета, другое только взошло. Можно
ли сказать, что первое превосходит второе? Возможно, но только в каком-то
отношении и временно. Не можем же мы сказать, что взрослый мужчина во
69
всем превосходит юношу. Еще непонятно, кто победит в спортивном
состязании – двадцатилетний или сорокалетний... А ведь спорт – это
символическое изображение войны... Вот если бы мужчина никогда не
старился, а жил вечно, все более и более наращивая свое превосходство, он
лидировал бы всегда. Но за восходом неизбежно следует закат, и за
восходящим развитием жизни следует ее нисходящее развитие.
О.Шпенглер доказал, что за восходом культуры следует ее закат, очень
простым методом – методом аналогии, очень популярным в математике. Он
окинул взглядом всю историю человечества – и обнаружил в ней восемь типов
культур, семь из которых прошли полный цикл развития – от рождения до
увядания и смерти («заката»). Это – античная «аполлоническая» культура,
арабская культура, египетская культура, вавилонская культура, индийская
культура, китайская культура, культура майя. На сегодняшний день, по мнению
О. Шпенглера, на планете сохранилась только одна культура – «фаустовская»,
западно-европейско-американская (к ней О. Шпенглер относит и культуру
современной Японии). Так что И.И. Маханьков, который выполнил в 2010 году
новый перевод основного труда О. Шпенглера, выпустил его под более точным
названием: не «Закат Европы», а «Закат Западного мира».
Книга О. Шпенглера вовсе не предвещает скорый конец света – говоря о
закате Запада, он подразумевает эпоху «охватывающую несколько столетий
всемирно-историческую эпоху, в начале которой мы теперь находимся». Закат
Запада только начался, налицо лишь первые его признаки, и заметить их
можно, только зная, как начинали закатываться великие культуры прошлого.
Но прежде чем мы скажем об этих признаках «заката», в ходе которого
культура превращается в цивилизацию, в культуру формализованную,
стандартизованную и омертвевшую, надо будет ответить на вопрос – а почему
культур было несколько? Почему нельзя рассматривать человеческую историю
как единый процесс – как движение по одной и той же дистанции, по которой
«бегут» все страны и некоторые из них выбиваются в разное время в «лидеры»,
а потом уступают эти позиции другим?
70
И. Кант предложил совершенно новое представление о пространстве и
времени.
Он
заявил,
что
это
специфические
способности
человека,
позволяющие ему упорядочивать данные опыта, получая после этого предметы,
составляющие мир. Пространство – это априорная форма чувственности, то
есть нечто вроде компьютерной программы, установленной в человеке, чтобы
он складывал, например, зеленое, сладкое, хрустящее, сочное, мягкое и т.д. в
один предмет – в яблоко. Программа «пространство» складывает так все
человеческие ощущения в предметы и составляет из них человеческий мир – в
самом мире никаких предметов объективно не существует. (Во всяком случае,
мы об этом не знаем и знать не можем). Точно так же априорная программа
«время» складывает разрозненные внутренние переживания и ощущения в
единое человеческое Я.
О. Шпенглер добавил к этому кантовскому представлению, что такие
внутренние программы – «пространство» и «время» – у представителей разных
культур различны. И, следовательно, разные культуры складывают себе с их
помощью разные миры.
Например, индийская культура имеет свою «душу», в которой царит
уникальное
представление
о
времени,
которое
совершенно
шокирует
европейца. Индийцы полагают, что они живут в эпоху богини Кали, которая
продлится 450 000 лет. Поэтому индийцам совершенно чужд историзм в
европейском его понимании. Полмиллиона лет – это для индийца одна и та же
эпоха. Именно потому индийцы называют свои космические спутники именами
древних божеств, а средневековые персонажи присутствуют в их современных
фильмах, наряду с новейшими техническими достижениями. Жизнь одного
человека – приблизительно 70 лет – это всего лишь миг в сравнении с эпохой.
Поэтому литературные памятники не датируются, а имена их авторов в памяти
не хранятся. («Веды» – т.е. «знания» объединяют произведения множества
безвестных
авторов,
созданные
на
протяжении
нескольких
веков).
Индивидуализм как стиль и образ жизни индийцам неведом.
В культуре античной, «аполлонической» господствует представление об
71
ограниченном, замкнутом пространстве, свойственное греческой «душе». Греки
плавали только по береговым ориентирам, в открытом океане они чувствовали
себя неуютно. (В «Божественной комедии» Данте описывает рассказ Одиссея,
который встречается ему во время странствий по загробному миру: тот говорит,
что решился на отчаянный поступок – и вышел за Геркулесовы столбы в
открытый океан, но есть прошел Гибралтарский пролив; там его встретило
чужое, враждебное море, и вскоре буря, насланная богами, утопила его
корабль). Иное дело – люди «фаустовской», западной культуры, которые имеют
душу, устремленную в бесконечность. Соответственно, эти культуры создают
разную математику – при всех математических познаниях греки никогда не
создали бы теорию бесконечных. Бесконечность в западной культуре – это
перспектива в живописи и готика в архитектуре (перспектива, устремленная в
небо, к Богу). Ничего подобного греческая культура не знает – здесь
господствуют завершенные формы.
Таким образом, культуры не могут быть сопоставлены между собой.
Нельзя определить, какая из них более или менее прогрессивна. Они не
соревнуются – они играют собственные игры.
Но при всех различиях культур у них есть две стадии развития –
восходящая, соответствующая молодости, и нисходящая, соответствующая
зрелости и увяданию.
Культура и цивилизация
Пока
культура
молода,
она
способна
проявлять
гибкость,
импровизировать, принимать нестандартные решения. Она напоминает зеленый
росток, который способен пробить асфальт, развивая такую силу давления на
единицу площади, которую не может развить ни один созданный человеком
пресс. Она напоминает зеленый побег, который может демонстрировать
невероятную гибкость. В области политики это означает, что главная роль
принадлежит людям, способным принимать нестандартные решения, управлять
«в ручном режиме», импровизировать. В области образования и культуры это
72
означает, что доминирующая роль принадлежит созидателям и творцам,
которые презирают стандарты и предписанные им образцы. Однако по мере
«взросления» культуры она все больше и больше оказывается во власти
рутины. То, что ранее было решением, найденным в ходе свободной
импровизации, теперь превращается в предписание инструкции. Творчески
найденные
политические
решения
становятся
прецедентом,
который
механически повторяется. Место пророка и поэта занимает «работник
культуры», который выпускает стандартизированную «продукцию».
Такой переход от импровизирующей молодой «культуры» к застывающей
в рутинных формах «цивилизации» есть признак заката Западного мира, начало
его старения. Естественно, преимуществом здесь будет обладать тот народ,
который менее всего продвинулся по этому пути, больше сохранил дух
молодости и творчества, меньше сковал себя инструкциями, стандартами и
предписаниями законов.
Таким
образом,
передовая
роль
сегодня
должна
принадлежать
«молодым» представителям Западной культуры, которые лишь недавно вышли
на мировую арену. К их числу как раз и принадлежит Германия, у которой,
следовательно, есть все шансы на победу над «старыми» державами – вроде
Великобритании и США. Таково было главное настроение, которое выразилось
в первом томе «Заката Западного мира». Второй том был написан уже после
поражения Германии в первой мировой войне. В нем преобладает настроение
исторического пессимизма, убежденность в том, что западная культура все
более формализуется и деградирует, а ведущая роль все больше переходит от
творческих умов к тупым исполнителям.
Кейс № 1. Культура и цивилизация в философии Шпенглера
Прочитайте отрывок текста О. Шпенглера и ответьте на следующие
вопросы:
1. В чем заключается критика традиционной схемы исторического
развития?
73
2. Каковы основные черты цивилизации и ее значение в истории?
Схема «Древний мир – Средние века – Новое время» передана нам
церковью и есть создание гностики, т.е. семитского, в особенности сироиудейского мирочувствования в эпоху римской империи. Внутри тех узких
границ, которые являются предпосылкой этой концепции, она имела,
несомненно, свои основания. Ни индийская, ни даже египетская история не
попадают
в
круг
ее наблюдений. Название «всемирная история» в устах этих мыслителей
обозначает единичное, в высшей степени драматическое событие, сценой для
которого послужила страна между Элладой и Персией. Здесь получает свое
выражение строго дуалистическое мироощущение восточного человека, но не
под углом зрения полярности, как противопоставление души и тела, как в
современной ему метафизике, а под углом зрения периодичности, как
катастрофа, как поворотный пункт двух эпох между сотворением мира и его
концом,
причем
оставлялись
совершенно
вне
внимания
явления,
не
фиксированные, с одной стороны, античной литературой, с другой – Библией. В
этой картине мира в образе «Древнего мира» и «Нового времени» выступает
вполне очевидное в то время противоположение языческого и христианского,
античного и восточного, статуи и догмы, природы и духа, формулируемое в
плоскости времени как процесс преодоления одного другим. Исторический
переход приобретает религиозные признаки искупления. Конечно, это –
построенный на узких и скорее провинциальных взглядах, но логический и
законченный в себе аспект, однако вполне связанный с определенной
местностью и определенным типом человека и неспособный ни к какому
естественному расширению. Только путем дополнительного прибавления
третьей эпохи – нашего «Нового времени» – уже на западноевропейской почве
в эту картину проникли элементы движения. Восточное противоположение
было покоящейся, замкнутой, пребывающей в равновесии антитезой, с
однократным божественным действием посредине. Этот стерилизированный
74
фрагмент истории, воспринятый и усвоенный человеком нового типа,
неожиданно получил развитие и продолжение в виде линии, прячем никто не
сознавал причудливости такой перемены; линия эта тянулась от Гомера или
Адама – возможности в настоящее время обогатились индо-германцами,
каменным веком и человеком-обезьяной – через Иерусалим, Рим, Флоренцию и
Париж, в ту или другую сторону в зависимости от личного вкуса историка,
мыслителя или художника, с неограниченной свободой интерпретировавших
эту тройственную картину. Итак, к двум дополняющим друг друга понятиям,
язычества и христианства, воспринятым во временной последовательности как
исторические эпохи, прибавлено некоторое завершающее третье, «Новое
время», которое, со своей стороны, странным образом не допускает
дальнейшего
многократному
применения
того
«растяжению»
же
после
приема
и,
крестовых
будучи
походов,
подвергнуто
оказалось
неспособным к дальнейшему удлинению. Оставалось невысказанное ясно
убеждение, что здесь, по ту сторону Древнего мира и Средних веков,
начинается что-то заключительное, третье царство, заключавшее в себе в
некотором роде исполнение, высшую точку или цель, честь открытия которой
всякий, начиная со схоластиков до теперешних социалистов, приписывал
исключительно себе. Это было столь же удобное, как и лестное для его авторов
проникновение в ход вещей. С полной наивностью здесь были смешаны дух
Запада со смыслом вселенной. В дальнейшем ошибка мысли была превращена
в метафизическую добродетель трудами мыслителей, которые приняли эту
consensu omnium освященную схему и, не подвергая ее серьезной критике,
сделали базисом философии, возложив авторство своего «плана мироздания»
на Бога. Мистическая троица эпох сама по себе представлялась в высшей
степени привлекательной для метафизического вкуса. Гердер называл историю
воспитанием человеческого рода, Кант – развитием понятия свободы, Гегель –
самораскрытием мирового духа, другие еще как-нибудь иначе. Но способность
создавать исторические построения подобного рода в настоящее время
истощилась.
75
Идея третьего царства была уже знакома аббату Иоахиму де Флорис (ум.
в 1202 г.), связавшему три эпохи с символами Бога Отца, Сына и Святого Духа.
Лессинг, неоднократно называвший свое время наследием античности,
заимствовал эту идею для своего «Воспитания человеческого рода» (со
ступенями детства, юности и возмужалости) из учения мистиков XIV столетия,
а Ибсен, основательно развивающий ту же мысль в драме «Император и
Галилеянин»,
в
которой
непосредственно
вторгается
гностическое
мировоззрение в образе волшебника Максима, ни на шаг не ушел дальше в
своей известной стокгольмской речи 1887 г. Связывать со своей личностью
некоторую заключительную ступень является, очевидно, потребностью
западноевропейского самоощущения.
Но
совершенно
недопустима
подобная
манера
трактования
всемирной истории, когда каждый предоставляет полную волю своему
политическому, религиозному или социальному убеждению и придает трем
фазам, к которым никто не смеет прикоснуться, направление, непосредственно
приводящее к местонахождению самого автора; при этом за абсолютное мерило
принимают зрелость разума, гуманность, счастье большинства, экономическое
развитие, просвещение, свободу народов, подчинение природы, научное
мировоззрение и тому подобное и оценивают таким образом тысячелетия,
доказывая, что они не поняли или не сумели достигнуть нужного, между тем
как в действительности они стремились к чему-то другому, чем мы. «В жизни
дело идет о жизни, а не о каком-либо результате ее», – это выражение Гете
следовало бы противопоставить всем безумным попыткам разгадать тайну
исторической формы при помощи программы. Ту же картину рисуют историки
каждого искусства и науки а также политической экономии и философии. Нам
изображают историю живописи от египтян (или от пещерного человека) до
импрессионизма,
музыки
–
от
слепого
певца
Гомера
до
Байрейта,
общественного устройства – от жителей свайных построек до социализма, в
форме линейного восхождения с какой-нибудь постоянной, неизменной
тенденцией; при этом совершенно упускают из внимания возможность того,
76
что искусства имеют определенно отмеченную жизненную длительность, что
они привязаны к определенной стране и определенному человеческому типу в
качестве его выражения, что таким образом все эти всеобщие истории не что
иное, как внешнее и механическое соединение нескольких отдельных явлений,
отдельных искусств, не имеющих между собой ничего общего, кроме имени и
некоторых ремесленных технических приемов. Этот взгляд на вещи не лишен
комической
стороны.
Во
всех других областях живой природы мы допускаем право выводить из каждого
отдельного явления тот образ, который лежит в основе его существования, будь
ли то путем опыта, или интуитивного восприятия внутренней сути. Мы знаем,
что жизненные явления животного и растения позволяют делать аналогичные
заключения по отношению к родственным видам, что во всем живущем царит
таинственный порядок, не имеющий ничего общего с законом, причинностью и
числом, и извлекаем из этого морфологические выводы. Только в вопросах,
касающихся самого человека, мы без всякого дальнейшего исследования
принимаем
когда-то
давно
установленную
историческую
форму
его
существования и к этой предвзятой теме подгоняем подходящие и не
подходящие факты. Если факты не подходят – тем хуже для них. Мы говорим о
них с презрением, как, например, про историю Китая, или даже не удостаиваем
их взгляда, как, например, носителей культуры Майя. Они якобы «ничем не
участвовали в построении всемирной истории», – выражение в высшей степени
забавное.
О каждом отдельном организме мы знаем, что темп, образ и
продолжительность его жизни, или каждого отдельного проявления жизни,
является чем-то определенным. Никто не будет ожидать от тысячелетнего дуба,
что именно теперь должно начаться его подлинное развитие. Никто не ожидает
от гусеницы, с каждым днем растущей на его глазах, что этот рост может
продолжиться еще несколько лет. Каждый в этом случае с полной
уверенностью чувствует определенную границу, и это чувство является не чем
иным, как чувством органической формы. Но по отношению к высшему
77
человечеству в смысле будущего царит безграничный тривиальной оптимизм.
Здесь замолкает голос всякого психологического и физиологического опыта, и
каждый отыскивает в случайном настоящем «возможности» особенно
выдающегося линейнообразного «дальнейшего развития» только потому, что
он их желает. Здесь находят место для безграничных возможностей – но
никогда для естественного конца – и из условий каждого отдельного момента
выводят в высшей степени наивно построенное продолжение.
Но у «человечества» нет никакой цели, никакой идеи, никакого плана, так
же как нет цели у вида бабочек или орхидей. «Человечество» – пустое слово.
Стоит только исключить этот фантом из круга проблем исторических форм, и
на его месте перед нашими глазами обнаружится неожиданное богатство
настоящих форм. Тут необычайное обилие, глубина и разнообразие жизни,
скрытые до сих пор фразой, сухой схемой или личными «идеалами». Вместо
монотонной картины линейнообразной всемирной истории, держаться за
которую
можно
только
закрывая
глаза
на
подавляющее
количество
противоречащих ей фактов, я вижу феномен множества мощных культур, с
первобытной силой вырастающих из недр породившей их страны, к которой
они строго привязаны на всем протяжении своего существования, и каждая из
них налагает на свой материал – человечество – свою собственную форму и у
каждой своя собственная идея, собственные страсти, собственная жизнь,
желания и чувствования и, наконец, собственная смерть. Вот краски, свет,
движение, каких не открывал еще ни один умственный глаз. Есть
расцветающие и стареющие культуры, народы, языки, истины, боги, страны,
как есть молодые и старые дубы и пинии, цветы, ветки и листья, но нет
стареющего человечества. У каждой культуры есть свои собственные
возможности, выражения, возникающие, зреющие, вянущие и никогда вновь не
повторяющиеся. Есть многочисленные, в самой своей сути друг от друга
отличные, пластики, живописи, математики, физики, каждая с ограниченной
жизненной длительностью, каждая замкнутая в себе, подобно тому как у
каждого вида растений есть свои собственные цветы и плоды, свой
78
собственный тип роста и смерти. Культуры эти, живые существа высшего
порядка, вырастают со своей возвышенной бесцельностью, подобно цветам в
поле. Подобно растениям и животным, они принадлежат к живой природе Гете,
а не к мировой природе Ньютона. Во всемирной истории я вижу картину
вечного образования и изменения, чудесного становления и умирания
органических форм. А присяжный историк видит в ней подобие какого-то
ленточного червя, неутомимо наращивающего эпоху за эпохой.
Что
такое
цивилизация,
понимаемая
как
логическое
следствие,
завершение и исход культуры?
Потому что у каждой культуры своя собственная цивилизация. В первый
раз эти два слова, обозначавшие до сих пор смутное этическое различие
личного характера, рассматриваются здесь в периодическом смысле, как
выражение строгой и необходимой органической последовательности фактов.
Цивилизация есть неизбежная судьба культуры. Здесь мы достигаем того
пункта, с которого становятся разрешимыми последние и труднейшие вопросы
исторической морфологии. Цивилизация
– это те самые крайние и
искусственные состояния, осуществить которые способен высший вид людей.
Они – завершение, они следуют как ставшее за становлением, как смерть за
жизнью, как неподвижность за развитием, как умственная старость и
окаменевший мировой город за деревней и задушевным детством, являемым
над дорикой и готикой. Они – неизбежный конец, и тем не менее с внутренней
необходимостью к ним всегда приходили.
Таким только образом мы поймем римлян, как наследников эллинов.
Таким только образом на позднюю античность проливается свет, освещающий
все ее глубочайшие тайны. Какое же другое значение может иметь то
обстоятельство – спор против которого есть пустое словопрение, – что римляне
были варварами, варварами, не предшествовавшими расцвету, а следовавшими
за ним. Бездушные, чуждые философии и искусства, наделенные животными
инстинктами, доходящими до полной грубости, ценящие одни материальные
успехи, они стоят между эллинской культурой и пустотой. Их воображение,
79
направленное только на практическое – у них существовало сакральное право,
регулировавшее отношения между богами и людьми, словно между частными
лицами, но у них не было даже и следа мифа – представляет собою такое
душевное качество, которое совершенно не наблюдается в Афинах. Перед нами
греческая душа и римский интеллект. Так отличается культура от цивилизации.
И так обстоит дело не в одной только античности. Все снова и снова появляется
этот тип – сильных духом, но совершенно неметафизических людей. В их руках
находится духовная и материальная участь каждой поздней эпохи. Они были
осуществителями
вавилонского,
египетского,
индийского,
китайского,
римского империализма. В такие периоды буддизм, стоицизм, социализм
созревают до степени окончательных мировоззрений, способных еще раз
захватить и преобразовать угасающее человечество во всей его сущности.
Чистая
цивилизация,
как
исторический
процесс,
представляет
собой
постепенную разработку (уступами, как в копях) ставших неорганическими и
отмерших форм.
Переход от культуры к цивилизации протекает в античности в IV
столетии, на Западе в XIX. С этого момента ареной больших духовных
решений становится не «вся страна», как это было во время орфического
движения и реформации, когда, собственно, каждая деревня играла свою роль,
а три или четыре мировых города, которые всосали в себя все содержание
истории и по отношению к которым вся остальная страна культуры нисходит
на положение провинции, имеющей своим исключительным назначением
питать эти мировые города остатками своего высшего человеческого
материала. Мировой город и провинция – этими основными понятиями всякой
цивилизации открывается совершенно новая проблема формы истории,
которую мы сейчас переживаем, не имея вместе с тем никакого представления
о значении этой проблемы. Вместо мира – город, одна точка, в которой
сосредоточивается вся жизнь обширных стран, в то время как все остальное
увядает; вместо богатого формами, сросшегося с землей народа – новый
кочевник, паразит, житель большого города, человек абсолютно лишенный
80
традиций, растворяющийся в бесформенной массе, человек фактов, без
религии, интеллигентный, бесплодный, исполненный глубокого отвращения к
крестьянству (и к его высшей форме – провинциальному дворянству),
следовательно, огромный шаг к неорганическому, к концу, – что значит все
это? Франция и Англия уже сделали этот шаг. Германия готовится его сделать.
Вслед за Сиракузами, Афинами, Александрией следует Рим. Вслед за
Мадридом, Парижем, Лондоном следует Берлин. Стать провинциями – такова
судьба целых стран, которые не входят в круг излучения этих городов, как
некогда это было с Критом и Македонией, а теперь – со Скандинавским
севером. Раньше борьба из-за идеального выражения эпохи велась на почве
мировых проблем, метафизического, культового или догматического характера,
велась между почвенным духом крестьянства (дворянство и духовенство) и
«светским» патрицианским духом старинных маленьких знаменитых городов
ранней дорической и готической эпохи. Такова была борьба из-за дионисовой
религии – например, при тиране Клисфене Сикионском, – из-за реформации в
немецких имперских городах и в войнах гугенотов. Однако, как в конце концов
города победили деревню – настоящее городское сознание встречается уже у
Парменида и у Декарта, – так равным образом теперь их побеждает мировой
город. Таков естественный процесс поздней эпохи: ионики и барокко. В наши
дни, как и в дни эллинизма, на пороге которого стоит основание
искусственного, следовательно лишенного связи со страной большого города
Александрии, эти города культуры – Флоренция, Нюренберг, Саламанка,
Брюгге, Прага – сделались провинциальными городами, оказывающими
безнадежное сопротивление духу мировых городов. Мировой город – это
означает космополитизм, вместо «отечества», холодный практический ум
вместо благоговения к преданию и укладу, научная иррелигиозность в качестве
окаменелых остатков прежней религии сердца, «общество» вместо государства,
естественные права вместо приобретенных. Деньги в качестве неорганического
абстрактного фактора, лишенного связи с сущностью плодородной земли, с
ценностями первоначального уклада жизни, – вот в чем преимущество римлян
81
перед греками. Начиная с этого момента благородное мировоззрение
становится также вопросом денег. В противоположность греческому стоицизму
Хризиппа, позднеримский стоицизм Катона и Сенеки предпосылает в качестве
необходимого условия имущественную обеспеченность, а социально-этическое
умонастроение XX века, в отличие от XVIII века, доступно только миллионеру,
если проводить его на деле, а не довольствоваться профессиональной,
приносящей доход агитацией. В мировом городе нет народа, а есть масса.
Присущее ей непонимание традиций, борьба с которыми есть борьба против
культуры, против знати, церкви, привелигий, династий, преданий в искусстве,
границ познаваемого в науке, ее превосходящая крестьянский ум острая и
холодная рассудочность, ее натурализм совершенно нового склада, идущий
гораздо
дальше
назад,
чем
Руссо
и
Сократ,
и
непосредственно
соприкасающийся в половых и социальных вопросах с первобытными
человеческими инстинктами и условиями жизни, то «panem et circenses»,
которое в наши дни опять оживает под личиной борьбы за заработную плату и
спортивных состязаний, – все это признаки новой по отношению к
окончательно завершенной культуре и к провинции, поздней и лишенной
будущего, однако неизбежной формы человеческого существования.
На все эти явления необходимо смотреть не глазами партийного
человека, идеолога, современного моралиста, не из закоулка какой-нибудь
«точки зрения», но с вневременной высоты, устремив взор на тысячелетия мира
исторических форм, – если действительно хочешь понять великий кризис
современности.
Я считаю символами первостепенного значения то, что в Риме, где около
60 года до Р. X. триумвир Красе был первым спекулянтом по недвижимому
имуществу, римский народ, чье имя красовалось на всех надписях, перед кем
трепетали далекие галеты, греки, парфяне, сирийцы, ютился в невообразимой
нищете по мелким наемным квартирам многоэтажных домов, в мрачных
предместьях, и относился совершенно равнодушно или с каким-то спортивным
интересом к успехам военных завоеваний; что многие знатные роды из
82
старинной аристократии, потомки победителей кельтов, самнитов и Ганнибала,
принуждены были оставить свои родовые дома и переселиться в убогие
наемные квартиры, так как не принимали участия в дикой спекуляции; что
вдоль Via Appia высились вызывающие еще и теперь удивление надгробные
памятники финансовым тузом Рима, а тела покойников из народа вместе с
трупами животных и отбросами огромного города бросались в отвратительную
общую могилу, пока, наконец, при Августе, чтобы избежать заразы, не
засыпали этого места, где впоследствии Меценат устроил свои знаменитые
сады; что в опустевших Афинах, живших доходами с приезжих и
пожертвованиями богатых иностранцев (вроде иудейского царя Ирода),
невежественная приезжая толпа слишком быстро разбогатевших римлян зевала
на произведения перикловой эпохи, которые она так же мало понимала, как
теперешние
американские
посетители
Сикстинской
капеллы
гений
Микеланджело, в тех Афинах, откуда предварительно были вывезены или
проданы по бешеным ценам все удобопереносимые предметы и взамен их
высились колоссальные и претенциозные римские постройки рядом с
глубокими и скромными творениями древнего времени. Для того, кто научился
видеть, в этих вещах, которые историку надлежит не хвалить и не порицать, а
морфологически оценивать, непосредственно вскрывается идея эпохи.
Вопрос и тогда, как теперь, заключается не в том, германского ли вы
происхождения или романского, грек вы или римлянин, а в том, кто вы по
воспитанию, житель мирового города или провинциал. В этом лежит самое
существенное. В этом перед нами новый, в своем роде совершенный взгляд на
жизнь, представляющий собою выражение нового стиля жизни. Совершается
очень показательная и совершенно одинаковая во всех известных до сего
времени случаях метаморфоза. Одной из важнейших причин, почему в
хаотической картине исторической внешности не была усмотрена истинная
структура истории, было неумение отделить взаимно друг от друга
проникающие
комплексы
форм
культурного
83
и
цивилизованного
существования. Критика современности стоит здесь перед одной из своих
труднейших задач.
В дальнейшем изложении мы увидим, что, начиная с этого момента, все
важные конфликты мировоззрений, политики, искусства, знаний, чувства
отмечены знаком этого антагонизма. Что такое политика цивилизации
завтрашнего дня в противоположность политике культуры вчерашнего дня? В
античности риторика, на Западе журнализм, притом же находящийся на службе
того абстрактного начала, в котором выражается сила цивилизации, а именно –
денег. Дух денег незаметно проникает во все формы существования народов,
однако нередко при этом ничуть их не изменяя и не разрушая. Римский
государственный механизм за промежуток времени от Сципиона Африканского
Старшего до Августа оставался в гораздо большей степени стационарным, чем
это обычно принято считать. Однако уже во времена Гракхов, как и в наши дни,
большие политические партии, прежние двигатели отныне устаревших форм
политической жизни, играют только видимую роль центров решающих
действий. В действительности для Forum Romanum совершенно безразлично,
как говорят, решают и выбирают на форуме в Помпее, а в ближайшем будущем
у
нас
три
или
четыре
мировых
газеты
будут
направлять
мнения
провинциальных газет и через их посредство «волю народа». Все решается
небольшим количеством людей выдающегося ума, чьи имена может быть даже
и не принадлежат к наиболее известным, а огромная масса политиков второго
ранга, риторов и трибунов, депутатов и журналистов, представителей
провинциальных горизонтов, только поддерживает в низших слоях общества
иллюзию самоопределения народа. А искусство? А философия? Идеалы
платоновского и кантовского времени имели в виду высшее человечество;
идеалы эллинизма и современности, в особенности же социализм, генетически
родственный ему дарвинизм с его столь противными духу Гете формулами
борьбы за существование и полового подбора, родственный этим последним
учениям женский вопрос и проблема брака у Ибсена, Стриндберга и Шоу,
импрессионистические наклонности анархической чувственности, весь букет
84
современных стремлений, приманок и скорбей, чьим выражением является
лирика Бодлера и музыка Вагнера, – все это не для мироощущения
деревенского или вообще естественного человека, но исключительно для
живущего мозгом обитателя большого города. Чем меньше город, тем
бессмысленнее для него занятие этого рода живописью и музыкой. К области
культуры принадлежит гимнастика, турнир, к области цивилизации – спорт. В
этом же заключается различие между греческой палестрой и римским цирком.
Перед лицом высококомпетентной публики знатоков и покупателей само
искусство становится спортом – таково значение l'art pour l'art , – будь то
преодоление абсурдных масс инструментальных тонов или гармонических
трудностей, будь то «подход» к проблеме красок. Появляется новая философия
фактов, которая с улыбкой смотрит на метафизически-спекулятивную мысль,
новая литература, становящаяся необходимой потребностью для интеллекта,
вкусов и нервов городских жителей, а для провинциалов чем-то непонятным и
ненавистным. Ни александрийская поэзия, ни живопись plein air'a ни с какой
стороны не могут заинтересовать «народ». Переход от одной школы к другой и
тогда, как и теперь, ознаменовываются целым рядом встречающихся только в
такую
эпоху
скандалов.
Возмущение
афинян
против
Еврипида
или
революционной манеры в живописи, например против Аполлодора, в наши дни
повторяется в виде отрицательного отношения к Вагнеру, Мане, Ибсену и
Ницше.
Извлечения из книги: Шпенглер О. Закат Европы. В 2-х тт. Т.1.
[Электронный
ресурс]
//
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Speng_2/
обращения: 16.09.2015)
85
URL:
index.php
(дата
Анри Бергсон
(1859–1941)
URL: http://www.corbisimages.com/stock-photo/rights-managed/W1133/writer-henrilouis-bergson
Учение французского мыслителя Анри
Бергсона принято называть не «философией
жизни», потому что о последней обычно
говорят как о «немецкой философии жизни».
А, между тем, по содержанию концепция
А.Бергсона максимально близка к ней. Однако
в литературе философию А.Бергсона чаще
всего называют интуитивизмом, потому что
он
считает
интуицию главным способом
постижения жизни.
Анри Бергсон был профессором Колледж де Франс (1900–1914); членом
Французской. Академии. В 1927 году был удостоен Нобелевской премии по
литературе (1927). Его учение было реализацией замысла «позитивной
метафизики» – соединения позитивистского знания точных фактов с глубокими
философскими обобщениями и рассуждениями о смысле, которые чужды
позитивизму.
Как возможна биология?
(Длительность – возможность постижения жизни)
А. Бергсон начинает свое учение, в сущности, исходя из методологии,
которая разработана И. Кантом. Этот немецкий философ ставил вопрос о том,
возможна ли та или иная наука именно как наука, а не как бесплодное
умствование. По его мнению, возможность науки зависит от того, есть ли у
человека такая познавательная способность, которая позволит ее создать.
(Сегодня, в компьютерные времена, мы бы сказали – заложена ли в человека
такая программа, которая позволяет обрабатывать соответствующие факты и
постигать их смысл). Сам И. Кант нашел в человеке, во-первых, способности,
86
позволяющие создать научную математику (априорные формы чувственности,
пространство и время), а, во-вторых, рассудок с его категориями («часть»,
«целое», «причина», «следствие» и т.д.), который дает возможность создать
научное естествознание. В свою очередь, он пришел к выводу, что разум,
который призван рассуждать о Боге, душе, мире в целом и свободе, впадает в
неразрешимые противоречия – антиномии, а потому невозможны как науки
философия, теология и психология в их нынешнем виде.
Теперь А. Бергсон ставит вопрос о возможности биологии как науки. На
какой способности человека она может основываться? И есть ли такая
способность? Казалось бы, биологию следует поставить в ряд естественных
наук – наряду с физикой. Но физика – это наука о неживом. Можно ли
постигать живое так, как это делает физика? С помощью рассудка, который
оперирует категориями? Вот, к примеру, категории «часть» и «целое».
Применимы ли они в биологии? Ведь часть, отделенная от организма,
нежизнеспособна – организм может жить только как целое. (Мы говорим здесь
не о возможностях хирургии, а о естественной жизни в природе). Может ли
рассудок вообще постичь живое с помощью анализа и синтеза? Возможна ли
чисто рассудочная биология?
В работе «Материя и память» (1906) А. Бергсон рассмотрел «природу»
интеллекта – и пришел к выводу, что он представляет собой не средство
познания вещей объективного мира, а приспособление на службе жизни,
позволяющее человеку изготавливать орудия труда – инструменты для его
деятельности.
Но инструменты человек всегда делал только из неживого. Это легко
объяснить – живое изменчиво, недостаточно твердо, потому что в значительной
степени состоит из воды. Именно потому никто не делает топорища из сырого
дерева,
даже
удочку
изготавливают,
предварительно
высушив
ветку.
Невозможно работать молотком, который регулярно изменяет свою форму.
Неживое лишено всех этих недостатков.
87
Именно потому наш рассудок привык работать с неживым. Действие его
однообразно. Он вначале расчленяет это неживое, а потом соединяет
необходимые ему детали. К примеру, что нужно, чтобы изготовит каменный
топор? Вначале нужно произвести разделение (выполнить анализ): отколоть от
камня кусок и отделить от сухого дерева будущую рукоятку. Затем их надо
связать между собой (произвести синтез). Именно таким образом только и
может работать наш интеллект: вначале разделение (анализ), затем соединение
(синтез). На что бы ни обращал внимание наш интеллект, он привычно
действует таким образом.
Но можно ли так постичь живое? Поставив перед собой такую задачу,
интеллект первым делом пытается расчленить живое, а потом связать. Не
случайно ученые – биологи изготовляют всякого рода срезы, препараты.
Бабочек изучают, предварительно засушив их. А наилучшим местом для
изучения человеческого тела студентами – медиками является морг. «Понять»
по-русски значит «поймать», «обездвижить»; по-немецки смысл точно таков же
– «verstehen» значит – «остановить», «лишить движения». Таким образом,
интеллект лучше всего изучает жизнь по мертвому, недвижному материалу.
Лучше всего узнать обо всей жизни дерева можно, спилив его: годовые
кольца прекрасно расскажут его историю. Беда лишь в том, что дерево после
этого перестанет жить. Использование методов, которыми пользуется физика,
химия, другие науки, в биологии ведет к смерти организма. Представим себе,
несколько утрируя, написание диссертации на тему «Питание зяблика». Первое,
что приходит на ум человеку, который получил такую тему – убить зяблика и
посмотреть, что у него есть в желудке. Ведь не можем же мы летать вместе с
зябликом и наблюдать, чем он питается? Однако одним зябликом ограничиться
нельзя: вдруг это какой-то аномальный зяблик. Здесь нужен точный метод,
основанный на математической статистике. Надо убить 10 000 зябликов,
проанализировать содержимое их желудков и составить кривую, которая будет
отражать , чем и с какой частотой зяблики питались, когда они жили в этих
местах.
88
Да, использование рассудка в биологии мертвит, но интеллект не может
ничего с собой поделать – ведь он был создан эволюцией для работы с
неживым. Но при познании живого эти методы не подходят. Мы не можем
вначале провести анализ, а потом синтез, вначале расчленить, а затем
соединить, потому что расчлененное перестает жить. Человечество упорно
пытается опровергнуть это, всячески совершенствуясь в искусстве пересадки
органов. Но, как известно каждому, в этом деле возникает масса проблем,
связанных с отторжением и т.п.
Следовательно, основанная на только интеллекте биология невозможна
как наука. Интеллект – слишком плохая способность для создания науки
биологии.
Но, может быть, в человеке есть какая-то иная способность, которая
позволит ему постичь жизнь?
Древние индийцы начали рисовать на лбу у просветленных людей третий
глаз: в отличие от двух других он смотрит не на окружающий мир, а внутрь
человека. А. Бергсон предлагает поступить так же – заглянуть внутрь себя,
чтобы внутренним взором постичь жизнь собственного организма. Если мы
отрешимся
от
окружающей
нас
действительности
и
перейдем
к
самонаблюдению, то обнаружим, что внутри нас течет жизнь. В этом нет
ничего удивительного, поскольку каждый из нас представляет собой живой
организм. Однако в обычном состоянии все внимание этого организма
направлено на внешний мир (а в наши технические времена это – мир
неживого). Человек цивилизованного общества начинает устремлять взор»
внутрь собственного организма лишь тогда, когда у него начинается серьезное
заболевание. Так, больной желудком способен следить «внутренним взором» за
движением пищи по всему пищеварительному тракту. Больной мерцательной
аритмией способен постоянно контролировать свой пульс и слышать, какой
удар пропускает у него сердце.
Но индийские йоги учатся «слышать» свой организм в здоровом
состоянии, надеясь таким образом выйти через постижение собственного
89
организма к постижению всей мировой жизни. Нечто подобное предлагает
сделать европейскому человеку и А. Бергсон. Ту жизнь, которая течет внутри
нас, он называет длительностью. Эта длительность есть воплощение в каждом
из нас единой общемировой жизни, которую Бергсон называет жизненным
порывом.
Этот жизненный порыв очень похож на Мировую Волю
Шопенгауэра. Он воплощается во всех живых организмах, какие только есть –
и человек лишь один из таких организмов.
Следовательно, лучший способ постижения жизни – прочувствовать ее в
себе самом как живом организме. Мы будем усматривать ее непосредственно,
что называется – вслушиваясь в себя. Нам не помогут здесь ни рациональные
размышления, ни наблюдения. Такое непосредственное постижение путем
«вчувствования» А. Бергсон называет интуицией. А когда мы научимся
постигать жизнь в себе, то мы сможем постигать ее и в окружающем мире: это
будет новая биология. Только так – постигнув для начала жизнь в себе – мы
поймем, что она собой представляет вообще и каким образом происходит
биологическая эволюция на земле.
В языке цивилизованного человека нет точных слов, которые могли бы
описать, что представляет собой этот «внутренний взор», посредством которого
постигается жизнь внутри нас. Это объясняется тем, что люди крайне редко
заглядывают «внутрь себя», «прислушиваясь» к собственному организму. Но
все же попытаемся сделать это, вслед за А. Бергсоном.
Итак, течение жизни в нас он называет длительностью. (Описанию
длительности посвящена работа «Непосредственные данные сознания» (1889)).
Эту «длительность» можно было бы определить как биологическое время –
отличное от времени механического, которое видит в человеке и Кант как
априорную форму чувственности.
Что мы подразумеваем под временем вообще? Последовательность
одинаковых, однообразных интервалов, следующих друг за другом – их
символизирует падение песчинок в песочных часах или движение секундной
стрелки, перескакивающей с одного деления на другое. Это – время
90
физическое. Физик по умолчанию предполагает, что один электрон в любом
месте вселенной идентичен любому другому электрону в любом другом месте.
Точно так же падение одной песчинки в песочных часах идентично падению
любой другой, равно как и идентичны движения секундной стрелки. То есть
механическое время в физике – это прерывность, единообразие, чисто
количественное измерение, отсутствие качественных различий.
Прямая противоположность ему – «живое», биологическое время,
текущее внутри нас. Это – непрерывный процесс переходов из одного качества
в другое, причем так, что между различными состояниями нет никаких границ
– они как бы перетекают друг в друга. Попытайтесь восстановить, что
происходит в вас, например, с момента пробуждения утром. Ощущение света
(вам на глаза из окна упал солнечный луч) вдруг сменяется мыслью о
предстоящей сегодня приятной встрече, затем без всякой логики приходит
чувство голода. После этого вы ощущаете зуд в плече, которое вчера укусило
какое-то насекомое, затем приходит гениальная мысль из области науки. Все
эти мысли – чувства – ощущения не являются отдельными состояниями – так,
что можно было бы написать дневник внутренней жизни типа такого: «С 9.00
до 9.01 – испытывал ощущение света. С 9.01 до 9.02 испытывал радость от
предстоящей встречи. С 9.02 до 9.03 чесал раззудевшееся плечо». На самом
деле все эти жизненные состояния перетекают друг в друга плавно¸ в виде
«потока сознания». (Поль Элюар пытался передать это в своих стихах).
Разделение таких состояний получается только тогда, когда мы пытаемся
анализировать при помощи интеллекта процесс своих внутренних переживаний
– и этот интеллект, по обыкновению своему, расчленяет этот поток на
интервалы. Но на самом деле, никакого расчленения здесь нет и быть не может.
И мысль здесь плавно перетекает в ощущения, а ощущения – в чувство,
эмоцию. Еще вернее было бы сказать, что все они перемешаны в одном потоке
длительности, и лишь после этого мы, направив на этот поток свой интеллект,
выбираем целенаправленно что-то одно, отделяя его от всего прочего. Если мы
выбираем только мысль, отбрасывая эмоции, чувства, то у нас получается
91
наука. Если выбираем только чувства, оставляя в стороне телесные ощущения и
теоретические размышления, у нас получается лирика. Если выбираем только
телесные ощущения, у нас выходит рассказ у врача при сборе анамнеза. Но
изначально в нас течет этот единый, непрерывный гераклитовский поток
жизни, в который нельзя войти дважды – именно потому Гераклит и говорит,
что нельзя не только войти дважды в одну реку, но и нельзя застать никого
смертного в одном состоянии дважды.
Слово «длительность» означает именно непрерывность перетекания
физиологического в интеллектуальное, а интеллектуального – в лирическое (вы
уже видите, насколько искусственны подобные разделения). На самом деле
изменения в нашей внутренней жизни настолько непостижимы для разума, что
он не может усмотреть в них никакой причинно-следственной связи. Как,
спрашивается, ощущение света может повлечь за собой радость от предстоящей
встречи, а эта радость может повлечь за собой ощущение зуда в плече? По всей
видимости, здесь нет той причинно-следственной связи, которую привыкла
искать физика. Однако мы не можем сказать, что длительность − это абсолютно
случайная, хаотичная смена эмоций, чувств, мыслей и ощущений. Все же
длительность индивидуальна в каждом из нас, людей. Таким образом, мы
приходим к понятию творчества применительно к биологии.
Поясним это на примере с художником. Истинный художник никогда не
знает, что именно он нарисует в конечном итоге. Нет, он, конечно,
приблизительно знает, что он будет рисовать и, сообразно этому, выбирает
холст нужных размеров, краски, кисти. Но лишь бездарность скрупулезно
следует изначальному плану и технологии. Подлинного художника постигает
вдохновение, в порыве которого он чувствует, что его несет куда-то неведомая
сила, заведомо более могущественная, чем его собственное я. Эта сила сильнее
его, именно она и определяет, что будет, в конце концов, нарисовано на
картине (какая получится музыкальная пьеса, какая выйдет поэма, скульптура и
т.п.).
92
Точно так же и мы не можем, ложась спать, «заказать» себе сон или,
проснувшись, не можем заставить себя непременно испытать определенное
чувство либо пережить какую-то эмоцию. В нас действует какое-то жизненное
«вдохновение», которое творчески создает тот жизненный поток переживаний,
мыслей, чувств, который течет внутри нас и называется длительностью.
Наблюдая за этим потоком в себе, мы начинаем понимать, какова вся Жизнь
вообще, которая проявляется в нас таким образом. Это Всемирная Жизнь,
частью которой мы являемся, называется у Бергсона жизненным порывом. И
мы можем сказать, что длительность, это жизненный порыв в миниатюре, но в
каждой длительности воплощен весь жизненный порыв – точно так же, как в
каждой капле морской воды присутствует мировой океан. Наблюдая за
длительностью в себе, мы интуитивно постигли, каковы черты Всемирной
Жизни. Она не любит однообразия. Она творчески создает свое будущее
состояние, т.е. не повинуется никаким законам вроде физических, никаким
причинно-следственным связям, непрерывно импровизирует, творит внезапное
и неожиданное. Ненавидя всяческую мертвечину в ее однообразии, жизненный
порыв пытается преобразовать ее, включив в жизненные процессы, вовлечь ее в
биение жизни.
Чтобы понять это, стоит вспомнить одно из выражений Ницше: «Живое –
это только вид мертвого». Этот типичный парадокс представляет собой
выворачивание наизнанку менее непривычной мысли: «Мертвое – это только
вид живого». Действительно, мертвое когда-то жило и лишь затем
превратилось в мертвое. Но, ведь мертвое тоже превращается в живое! Мы
используем для своих жизненных целей остатки мертвой жизни, уголь и нефть,
в первую очередь. Кроме того, мы, люди, вовлекаем в жизненные процессы
даже то, что никогда не было живым – например, строим дома из камня,
создаем синтетические материалы для изготовления одежды, плавим сталь и
делаем из нее технику для своего передвижения и т.п. Некогда К. Маркс
называл технику «неорганическим телом человека, выражая ту же самую
мысль. С этой точки зрения вся человеческая цивилизация – это гигантское
93
разросшееся человеческое тело, которое было создано человеком из остатков
прежней жизни и неживых материалов. Жизнь втягивает в свою орбиту все
большее и большее количество неживого, организуя это неживое по своим
жизненным законам – по законам организма.
Творческая эволюция
Теперь, когда человек – «новый биолог» – научился постигать жизнь в
себе самом, можно перейти к созданию общей теории биологической
эволюции.
Она изложена Бергсоном в работе «Творческая эволюция» (1907).
Длительность (durèe), постигнутая интуитивно в себе, теперь как бы
проецируется на весь мир и превращается в жизненный порыв (elan vital) –
Жизнь как космическое начало, творящее все живые существа.
В книге «Творческая эволюция» Анри Бергсон подверг критике
дарвинизм, который господствовал в современной ему биологии. Главный его
аргумент состоял в следующем. По Дарвину, в жизни биологических видов
происходят случайные изменения, которые затем закрепляются благодаря
наследственности. Неудачные изменения приводят к вымиранию, удачные
изменения позволяют восторжествовать над сородичами, победить в борьбе за
выживание, подняться на новый уровень эволюционного развития. Таким
образом, жизнь развивается «вслепую», методом проб и ошибок. Случайные
изменения исключают любой план. Но тогда было бы невозможно объяснить
принципиальное сходство различных видов жизни на земле. К примеру, это
симметрия в устройстве тела и другие признаки. Даже человеку, далекому от
биологии, бросается в глаза сходство в устройстве тела между человеком,
лягушкой и, например, собакой. Если бы виды возникали благодаря
хаотическому, неупорядоченному движению, такого параллелизма не было бы.
Представим себе, что ночью по ровному полю идут два человека, которым ни
94
зги не видно. Каждый из них поворачивает в любом месте, куда ему вздумается
– вправо, влево, назад. Какова вероятность, что они пройдут все поле
параллельно друг другу?
Пытаясь найти ответ на этот вопрос, современные Бергсону биологи даже
пришли к мысли, что в развитии жизни на земле существует какой-то высший
план. Эволюция происходит не хаотично, а идет какой-то заранее определенной
цели, что и может объяснять сходство между видами и пр. Их оппоненты
смеялись над такой телеологией, заявляя, что, согласно подобной логике трава
возникла для того, чтобы ее ела корова.
Бергсон считает, что обе концепции эволюции – и механическая,
описывающая
хаотические
случайные
изменения,
и
телеологическая,
предполагающая исходную цель эволюции, не могут считаться истинными.
Таким образом, начиная с постижения жизни в человеке, мы приходим к
постижению картины всего разворачивания жизни в мире. Эволюция на земле
начинается с того, что жизненный порыв – некая космическая жизненная
энергия – натыкается на мертвую материю. От нелюбви к мертвому этот
мировой жизненный порыв пытается превратить это мертвое в живое.
Естественно, что получается у него это лишь в той мере, в какой позволяет
материал. Различие свойств веществ и элементов не позволяет Жизненному
Порыву реализовать все свои планы точно так же, как разный материал – глина,
мрамор, металл заставляет скульптора менять свои творческие замыслы.
Растения
возникают
тогда,
когда
на
пути
жизненного
порыва
оказываются такие вещества, из которых ему удается построить только
громоздкие, негибкие структуры – например, из целлюлозы. Существо, которое
состоит из таких клеток, не может активно двигаться. Ему приходиться
проводить свою жизнь на месте. В таком случае жизненный порыв дает для
таких существ орган, обеспечивающий им относительную свободу –
хлорофилл, который обеспечивает возможность получать и накапливать
энергию от постоянного источника – Солнца. Лишь благодаря такой
способности растение может обрести относительную независимость от
95
окружающей среды – пережить кратковременную засуху, перезимовать и т. п.
Но такая независимость весьма мала.
На втором направлении действие Жизненного порыва встречает меньшее
сопротивление. Ему удается создать животных, состоящих из значительно
более гибкой материи. Такие существа могут более или менее активно
передвигаться и активно искать себе пищу – растительную или животную. Это
движение управляется инстинктами, которые выступают у животного «органом
свободы».
Что такое инстинкт, можно понять, если рассмотреть ряд примеров и
вдуматься в них. Так, известно, что пчела всегда жалит в область носа. Это
объясняется тем, что в природе ее главный враг – медведь, нос которого, вопервых, не покрыт шерстью, а во-вторых именно здесь сходится большое число
нервных окончаний. Но откуда, спрашивается, об этом знает пчела? Получить
такое знание на опыте она не может, поскольку способна ужалить только раз.
Другой пример. Паук должен обездвижить муху, попавшую в его сеть,
иначе она будет порвана. Но убивать муху нельзя, поскольку тогда она
протухнет. Поэтому паук поражает муху точно в нервный центр, результатом
чего оказывается паралич (точно так же рыбак, который не желает вынимать
сеть из-за единственной щуки, которая запуталась в ней, просто ломает ей
позвоночник, оставляя парализованной).
Любой
биолог
может
описать
как
бы
«запрограммированные»,
необыкновенно сложные порой инстинктивные действия живых организмов,
обладающих врожденным знанием о тех существах, которые поставляют им
пищу.
Таким
образом,
инстинкт
может
быть
уподоблен
программе,
установленной на компьютер. Она позволяет производить сложнейшие
действия, но не срабатывает в нестандартных ситуациях, приводя к организм к
гибели.
И только человек имеет способность к интеллектуальной интуиции,
которая позволяет ему жить во всех средах – и на земле, и на воде, и под водой,
и в воздухе, и в пустыне, и в тундре, и в лесу. Интеллектуальная интуиция – это
96
соединение инстинктов с умением проводить аналогии, которое обеспечивает
интеллект.
Человек – это третье направление развитие жизненного порыва, на
котором он может окончательно порвать зависимость от неживой материи,
обеспечить – благодаря творчеству человека – выживание во всех средах,
непредопределенность человека на какую-то объективно обусловленную
жизнь.
Закрытое и открытое общество
Теория эволюции находит свое продолжение и завершение в труде
Бергсона «Два источника морали и религии» (1932). Если в природе жизненный
порыв, утверждая повсеместно творчество, преодолевает свою определенность
неживой природой, то в обществе он наталкивается на застывшие формы,
которые ничем не отличаются от косных массивов в неживой материи. То, что
мы сегодня называем традиционным обществом, А. Бергсон именует
«закрытым обществом», где царит многовековой застой – здесь господствуют
статические мораль и религия, которые подчинены сохранению рода в
неизменности. Теперь, когда косность неживой природы прорвана, остается
прорвать только косность человеческого общества, превратить «закрытое»
общество в «открытое». Это происходит благодаря усилиям героев, пророков и
поэтов, которые учреждают «динамическую» мораль и религию. Такие люди
наделены не просто интеллектом, но интеллектуальной интуицией в особо
сильно выраженной форме – они понимают жизнь не только умом, но и
сердцем.
Так
политика
консерватизма
–
мощная
воля,
дополненная
интеллектом, поставленным ей на службу – оказывается вершиной эволюции
человечества.
Не случайно Анри Бергсон был любимым мыслителем Шарля де Голля.
97
Кейс № 1. Понятие творческой эволюции
Прочитайте отрывок текста А. Бергсона и ответьте на следующие
вопросы:
1. Как понимается длительность и ее связь с эволюцией?
2. Что представляют собой инстинкт, интеллект и интуиция?
3. Какова роль сознания и человека в эволюции?
Из всего того, что существует, нам наиболее достоверно и лучше всего
известно, безусловно, наше собственное существование, ибо понятия, которые
мы имеем о других предметах, можно считать внешними и поверхностными,
тогда как самих себя мы постигаем изнутри и глубоко. Что же мы таким
образом познаем? Каков точный смысл слова «существовать» в этом
исключительном случае? Напомним кратко выводы предшествующей работы.
Прежде всего я сознаю, что перехожу от состояния к состоянию. Мне
холодно или жарко, я весел или печален, я смотрю на то, что меня окружает,
или думаю о другом. Ощущения, чувства, желания, представления – вот
модификации, составляющие части нашего существования и поочередно его
окрашивающие. Итак, я постоянно изменяюсь. Но это еще не все.
Происходящее изменение гораздо глубже, чем казалось вначале.
В самом деле, о каждом из своих состояний я говорю как о чем-то
цельном. Я говорю, что я меняюсь, но это изменение, на мой взгляд, есть
переход от одного состояния к тому, что следует за ним; само же состояние,
взятое отдельно, представляется мне неизменным в течение того времени, когда
оно существует. А между тем легчайшее усилие внимания открыло бы мне, что
нет ни аффекта, ни представления, ни желания, которые не менялись бы
ежеминутно; если бы состояние души перестало изменяться, то длительность
прекратила бы свое течение.
Возьмем самое прочное из внутренних состояний – зрительное
восприятие внешнего неподвижного предмета. Пусть предмет остается тем же
самым, а я смотрю на него с одной и той же стороны, под тем же углом, в один
98
и тот же день: все равно то, что я вижу сейчас, будет отличаться от того, что я
видел только что, хотя бы уже тем, что оно стало на мгновение старше. Здесь
присутствует моя память, которая и толкает что-то из прошлого в настоящее.
Мое состояние души, продвигаясь по дороге времени, постоянно набухает
длительностью, которую оно подбирает: оно как бы лепит из самого себя
снежный ком. С тем большим основанием это можно сказать о более глубоких
внутренних состояниях, об ощущениях, аффектах, желаниях и т. д., не
относящихся к устойчивому внешнему предмету, как в случае простого
зрительного восприятия. Но нам удобнее не обращать внимания на это
непрерывное изменение; мы замечаем его лишь тогда, когда оно увеличится
настолько, что придаст телу новое положение и направит внимание по новому
пути. Именно в этот момент мы обнаруживаем, что состояние изменилось,
изменение происходит непрерывно и само состояние является уже изменением.
Вселенная длится. Чем глубже мы постигнем природу времени, тем яснее
поймем, что длительность есть изобретение, создание форм, беспрерывная
разработка абсолютно нового. Системы, разграниченные наукой, длятся лишь
потому, что они неразрывно связаны с остальною Вселенной. Правда, в самой
Вселенной, как мы увидим дальше, нужно различать два противоположных
действия – «нисхождение» и «восхождение». Первое только развертывает
заготовленный свиток. Оно могло бы, в принципе, совершиться почти
мгновенно, как это бывает с распрямляющейся пружиной. Но второе,
соответствующее внутренней работе созревания и творчества, длится потому,
что в этом и состоит его сущность, и оно налагает свой ритм на первое,
неотделимое от него.
Если инстинкт является по преимуществу способностью использовать
естественное, организованное орудие, он должен содержать врожденное знание
(правда, потенциальное или бессознательное) и этого орудия, и предмета, к
которому орудие прилагается. Таким образом, инстинкт есть врожденное
знание вещи. Интеллект же – способность фабриковать неорганизованные, то
есть искусственные орудия. Если здесь природа отказывается снабжать живое
99
существо орудием, которое бы ему служило, то лишь для того, чтобы живое
существо
могло
разнообразить
свою
фабрикацию
в
соответствии
с
обстоятельствами. Главной функцией интеллекта будет поэтому поиск средств
выхода из затруднений при любых обстоятельствах. Он будет искать то, что
может лучше всего ему служить, то есть лучше всего впишется в предложенные
рамки. Он имеет дело главным образом с отношениями между данной
ситуацией и средствами ее использования. Врожденной в нем, следовательно,
будет тенденция устанавливать отношения, а она предполагает естественное
знание некоторых очень общих отношений – ткани, из которой деятельность,
присущая любому интеллекту, выкроит более частные отношения. Таким
образом, там, где деятельность направлена на фабрикацию, познание по
необходимости касается отношений. Но это совершенно формальное познание
интеллекта имеет неисчислимые преимущества перед материальным познанием
инстинкта. Именно потому, что форма пуста, ее можно наполнять поочередно
бесконечным числом вещей, даже теми, которые ничему не служат. Таким
образом, формальное познание не ограничивается только тем, что полезно
практически, хотя оно и появилось на свет в виду практической полезности. В
разумном существе заложено то, благодаря чему оно может превзойти самого
себя.
Рассматривая интеллектуальные способности, можно заметить, что
интеллект чувствует себя привольно, что он вполне у себя дома только тогда,
когда он имеет дело с неорганизованной материей, в частности, с твердыми
телами. В чем же состоит самое общее свойство неорганизованной материи?
Она протяженна, она представляет нам предметы внешними относительно друг
друга, а в этих предметах – одни части внешними относительно других частей.
Конечно, нам полезно, в виду наших последующих действий, рассматривать
каждый предмет как делимый на произвольные части, и каждую часть вновь
считать делимой сообразно с нашей фантазией, и т. д. до бесконечности. Но для
действия, совершающегося в данный момент, нам прежде всего необходимо
считать реальный предмет, с которым мы имеем дело, или реальные элементы,
100
на которые мы его разложили, временно не надлежащими изменению, и
обращаться с каждым из них как с единством. Возможность делить материю до
тех пределов и таким способом, как это нам нравится, мы подразумеваем,
говоря о непрерывной связи материальной протяженности; но эта непрерывная
связь, как видно, сводится для нас к тому, что материя позволяет нам выбирать
способ прерывания этой связи: в сущности, этот способ и кажется нам
действительно реальным, он и привлекает наше внимание, ибо именно к нему и
применяется наше актуальное действие. Таким образом, прерывность может
быть мыслимой и, действительно, сама по себе является предметом мысли, мы
представляем ее себе посредством положительного акта нашего интеллекта,
тогда как интеллектуальное представление непрерывности является скорее
представлением отрицательным, будучи, по сути, только отказом нашего
интеллекта считать какую бы то ни было данную систему деления единственно
возможной. Интеллект ясно представляет себе только прерывное.
В действительности человек – существо, живущее в обществе. Если верно
то, что человеческий интеллект стремится к фабрикации, то нужно добавить,
что для этого – и для остального – он объединяется с другими интеллектами.
Но трудно представить общество, члены которого не общались бы друг с
другом с помощью знаков. Сообщества насекомых, без сомнения, имеют язык,
и этот язык должен быть приспособлен, как и язык человека, к нуждам
совместной жизни. Благодаря ему становится возможным общее действие. Но
эти потребности в общем действии вовсе не одинаковы в муравейнике и в
человеческом обществе. В сообществах насекомых существует полиморфизм,
разделение труда там естественно, и каждый индивид всей своей структурой
неразрывно связан с выполняемой им функцией. Во всяком случае, эти
сообщества основаны на инстинкте, а следовательно, на известных действиях
или фабрикациях, более или менее связанных с формой органов. Таким
образом, если, к примеру, у муравьев есть язык, то число знаков, составляющих
этот язык, должно быть определенным, и раз вид уже сформировался, то
каждый из знаков остается неизменно связанным с известным предметом или
101
действием. Знак неотделим от вещи, которую он обозначает. Напротив, в
человеческом обществе фабрикация и действие изменчивы по форме, и, кроме
того, каждый индивид должен выучить свою роль, не будучи предназначен к
ней своей структурой. Необходим поэтому такой язык, который позволял бы в
любой момент переходить от того, что известно, к тому, что неизвестно. Нужен
такой язык, чтобы знаки его, число которых не может быть бесконечным, могли
прилагаться к бесконечности вещей. Эта способность знака переноситься с
одного предмета на другой характерна для человеческого языка. Ее можно
наблюдать у ребенка с того дня, когда он начинает говорить. Он тотчас же
естественным образом расширяет смысл усваиваемых им слов, пользуясь
совершенно случайным сближением или самой отдаленной аналогией, чтобы
отделить и перенести в иное место знак, который при нем связали с какимнибудь предметом. «Любое может обозначать любое» – таков скрытый
принцип
детского
языка.
Эту
тенденцию
ошибочно
смешивали
со
способностью к обобщению. Животные тоже обобщают, и знак, будь он даже
инстинктивным, всегда в большей или меньшей степени представляет род.
Знаки
человеческого
языка
характеризуются
не
обобщенностью,
но
подвижностью. Знак инстинкта есть знак приросший, знак интеллекта –
подвижный.
Итак, все элементарные силы интеллекта направлены на то, чтобы
преобразовать материю в орудие действия, то есть в орган, в этимологическом
смысле этого слова. Не довольствуясь лишь созданием организмов, жизнь
пожелала дать им, в виде дополнения, саму неорганическую материю,
превращаемую благодаря мастерству живого существа в бесконечный орган.
Такова задача, которую жизнь прежде всего задает интеллекту. Вот почему он
неизменно ведет себя так, словно он был зачарован созерцанием инертной
материи. Интеллект – это жизнь, смотрящая во вне, становящаяся внешней
относительно
самой
себя,
перенимающая
в
принципе,
приемы
неорганизованной природы, чтобы наделе управлять ими. Отсюда изумление
интеллекта, когда он обращается к живому и оказывается лицом к лицу с
102
организацией. Как бы он тогда ни принимался за дело, он всегда превращает
организованное в неорганизованное, ибо, не нарушая своего естественного
направления, не обращаясь против самого себя, он не может мыслить истинную
непрерывность, реальную подвижность, взаимопроникновение – словом,
творческую эволюцию, которая и есть жизнь.
Инстинкт – это симпатия. Если бы эта симпатия могла расширить свой
предмет и размышлять о самой .себе, она дала бы нам ключ к жизненным
явлениям, подобно тому, как интеллект – развитый и исправленный – вводит
нас в материю. Ибо – нелишне будет повторить это – интеллект и инстинкт
обращены в две противоположные стороны: первый к инертной материи,
второй – к жизни. Интеллект при посредстве науки – своего творения – будет
открывать нам все полнее и полнее тайны физических явлений; что касается
жизни, то он дает нам лишь ее перевод в терминах инерции, впрочем, и не
претендуя набольшее. Он вращается вокруг нее, делая извне как можно больше
снимков того предмета, который он притягивает к себе, вместо того, чтобы
самому входить в него. Внутрь же самой жизни нас могла бы ввести интуиция –
то есть инстинкт, ставший бескорыстным, осознающим самого себя, способным
размышлять о своем предмете и расширять его бесконечно.
Таким образом, вся жизнь в целом, животная и растительная, предстает, в
сущности, усилием, направленным на то, чтобы накопить энергию и затем
пустить ее по гибким, извилистым каналам, на конце которых она должна
выполнить самые разнообразные работы. Этого и хотел добиться сразу
жизненный порыв, проходя через материю. И он, без сомнения, достиг бы
этого, если бы его сила была неограниченной или если бы он мог получить
какую-то помощь извне. Но порыв конечен и дан раз и навсегда. Он не может
преодолеть всех препятствий. Сообщенное им движение то отклоняется, то
разделяется, всегда встречает противодействие, и эволюция органического
мира есть не более чем развертывание этой борьбы. Первым великим
разделением, которое должно было произойти, было деление на два царства,
растительное и животное, которые, таким образом, дополняют друг друга, хотя
103
между ними и нет согласия. Не для животного растение накапливает энергию, а
для собственного потребления; но расходование им энергии не столь прерывно,
концентрированно и, следовательно, не столь эффективно, как того требовал
первичный порыв жизни, направленный главным образом к свободным актам:
один и тот же организм не мог выдержать с равной силой одновременно двух
ролей: постепенно накапливать и сразу использовать. Вот почему, сами собой,
безо всякого внешнего вмешательства, в силу одного дуализма тенденции,
заключенной в первичном порыве, и противодействия этому порыву со
стороны материи – одни организмы отклонились к одному направлению,
другие – к другому. За этим раздвоением последовало много иных. Отсюда –
расходящиеся линии эволюции, по крайней мере в том, что в них существенно.
Но нужно считаться и с отступлениями, с остановками, со всякого рода
случайностями. И в особенности нужно помнить, что каждый вид поступает
так, как будто общее движение жизни остановилось на нем, а не пересекло его.
Он думает только о себе, живет только для себя. Отсюда бесчисленные
столкновения, сценой для которых служит природа. Отсюда поражающая и
шокирующая нас дисгармония, в которой, однако, мы не можем винить само
жизненное начало.
Таким образом, в эволюции весьма значительна доля случайности.
Случайны чаще всего формы, усвоенные, или, скорее, изобретенные. Случайно
разделение первоначальной тенденции нате или иные тенденции, друг друга
дополняющие и создающие расходящиеся эволюционные линии; оно зависит
от встреченных в таком-то месте и в такой-то момент препятствий. Случайны
остановки и отступления; случайны, по большей части, приспособления.
Только две вещи являются необходимыми: 1) постепенное накопление энергии;
2) отведение ее по гибким каналам в разнообразных и не поддающихся
определению направлениях, ведущих к свободным актам.
Существенным является также движение в направлении мышления. Если
наш анализ верен, то в истоках жизни лежит сознание или, скорее,
сверхсознание. Сознание или сверхсознание – это ракета, потухшие остатки
104
которой падают в виде материи; сознание есть также и то, что сохраняется от
самой ракеты и, прорезая эти остатки, зажигает их в организмы. Но это
сознание, представляющее собой потребность творчества, проявляется только
там, где творчество возможно. Оно засыпает, если жизнь осуждена на
автоматизм; оно пробуждается, как только вновь возникает возможность
выбора. Вот почему в организмах, лишенных нервной системы, оно варьирует в
зависимости от способности организма к передвижению и к изменению своей
формы. У животных же, обладающих нервной системой, оно пропорционально
сложности перекрестка, где сходятся пути, называемые чувствительными, и
пути двигательные, то есть пропорционально сложности мозга. Как следует
понимать это взаимодействие между организмом и сознанием?
Мы не будем останавливаться здесь на том, что исследовали в
предыдущих работах. Ограничимся напоминанием, что теория, согласно
которой сознание связано, например, с определенными нейронами и
выделяется по ходу их работы наподобие фосфоресценции, может быть
принята ученым в целях детального анализа. Это удобный способ выражения;
но не более того. В действительности живое существо есть центр действия. Оно
представляет собой известную сумму случайного, введенного в мир, то есть
определенное количество возможного действия, количество, меняющееся в
зависимости от индивидов, а в особенности от видов. Нервная система
животного очерчивает гибкие линии, по которым пойдет его действие (хотя
потенциальная энергия, которая должна освободиться, накапливается скорее в
мускулах, чем в самой нервной системе); его нервные центры своим развитием
и формой указывают на возможность более или менее обширного выбора
между более или менее многочисленными и сложными действиями. Так как
пробуждение сознания у живого существа тем более полно, чем шире
предоставленный ему выбор и чем более значительной суммой действия он
обладает, то ясно, что развитие сознания будет казаться соответствующим
развитию нервных центров. С другой стороны, так как всякое состояние
сознания с известной точки зрения есть вопрос, поставленный двигательной
105
активности, и даже начало ответа, то нет психологического факта, который не
предполагал бы работы мозговых механизмов. Таким образом, все происходит
так, как будто сознание исходит из мозга и как будто бы сознательная
деятельность во всех деталях формируется сообразно деятельности мозговой. В
действительности же сознание не исходит из мозга; но мозг и сознание
соответствуют друг другу, так как оба они одинаково измеряют количество
выбора, которым располагает живое существо, мозг – сложностью своей
структуры, сознание – интенсивностью своего пробуждения.
Именно потому, что мозговое состояние выражает лишь то, что в
соответствующем психологическом состоянии относится к рождающемуся
действию, психологическое состояние говорит о выборе больше, чем состояние
мозговое. Сознание живого существа, как мы пытались доказать в другом
месте, едино со своим мозгом в том же смысле, в каком заостренный нож
составляет единство со своим острием: мозг – это заостренный конец, которым
сознание проникает в плотную ткань событий, но он не расширяется вместе с
сознанием, как острие не расширяется вместе с ножом. Таким образом, из того,
что два мозга, к примеру, мозг обезьяны и мозг человека, очень сходны, нельзя
заключить, что соответствующие сознания можно сравнивать или соизмерять
друг с другом.
Но, быть может, и сходство их не так велико, как предполагают. Как не
поражаться тому факту, что человек способен выучить любое упражнение,
создать любой предмет, приобрести любой двигательный навык, тогда как
способность комбинировать новые движения у самого одаренного животного,
даже у обезьян, строго ограничена? В этом – мозговая характеристика человека.
Человеческий мозг создан, как и всякий мозг, для того, чтобы заводить
двигательные механизмы и в любой момент давать нам возможность выбрать
среди них тот механизм, который мы Приведем в движение действием
пружины. Но он отличается от мозга животного тем, что число механизмов,
которые он может завести, а следовательно, число пружин, между которыми он
делает выбор, бесконечно. От ограниченного же до неограниченного такое же
106
расстояние, как от закрытого до открытого. Это различие не в степени, но в
природе.
Поэтому и сознание животного, даже самого разумного, коренным
образом отлично от сознания человека. Ибо сознание точно соответствует
возможности выбора, которой располагает живое существо; оно расширяется
вместе с возможным действием, окружающим, словно дымка, действие
реальное: сознание есть синоним изобретения и свободы. У животного же
изобретение всегда является не более как вариацией на одну и ту же тему.
Конечно, ему удается своей личной инициативой расширить видовые
привычки, в которых оно заключено, но оно ускользает от автоматизма лишь на
одно мгновение, – как раз на время, необходимое для создания нового
автоматизма: двери его тюрьмы открываются, чтобы тотчас же снова
закрыться; дергая за собственную цепь, он достигает лишь того, что удлиняет
ее. С появлением человека сознание рвет эту цепь. У человека, и только у него,
оно освобождается. Вся история жизни до сих пор была историей усилий
сознания приподнять материю и более или менее полного подавления сознания
вновь и вновь падавшей на него материей. Затея была парадоксальной, если
только здесь можно говорить о затее и усилии иначе, чем метафорически. Речь
шла о том, чтобы сделать материю, то есть саму необходимость, орудием
свободы, чтобы создать механику, которая бы восторжествовала над
механизмом, и использовать детерминизм природы для того, чтобы пройти
через петли натянутой им сети. Но повсюду, за исключением человека,
сознание попадалось в сеть, через петли которой оно хотело проскользнуть.
Оно
осталось
порабощенным
механизмами,
которые
пустило
в
ход.
Автоматизм, который оно стремилось вывести на путь свободы, обвивает и
увлекает его. Сознание не в силах его избежать, потому что энергия, запасенная
для действий, почти полностью используется для поддержания бесконечно
хрупкого, крайне неустойчивого равновесия, в которое оно привело материю.
Но человек не только содержит в порядке свою машину; ему удается
пользоваться ею по своему желанию. Он обязан этим, без сомнения,
107
превосходству своего мозга, который позволяет ему строить безграничное
число двигательных механизмов, беспрестанно противопоставлять новые
привычки прежним и, вызывая раскол внутри самого автоматизма, добиваться
господства над ним. Он обязан этим своему языку, который обеспечивает
сознанию нематериальный остов, где сознание может воплотиться, и
освобождает
его,
таким
образом,
от
необходимости
останавливаться
исключительно на материальных телах, поток которых может вначале увлечь, а
вскоре – поглотить. Он обязан этим социальной жизни, которая, накопляя и
сохраняя усилия, как язык накопляет мысль, определяет тем самым средний
уровень, которого индивиды должны будут сразу достичь, и этим начальным
побуждением не дает заснуть посредственности, а лучших заставляет
подниматься выше. Но наш мозг, наше общество и наш язык – только внешние
и различные знаки одного и того же внутреннего превосходства. Они говорят,
каждый паевой манер, о той единственной, исключительной победе, которую
одержала жизнь в данный момент эволюции. Они выражают различие в
природе, а не только в степени, отделяющее человека от остального животного
мира. Благодаря им мы догадываемся: в то время, как все иные, полагая, что
веревка натянута слишком высоко, сошли с края широкого трамплина, на
котором жизнь восприняла свой порыв, человек один преодолел препятствие.
В этом-то совершенно особом смысле человек и является «пределом»,
«целью» эволюции. Жизнь, сказали мы, выходит за границы целесообразности,
как и других категорий. По существу это есть поток, хлынувший сквозь
материю и извлекающий из нее все, что может. Не было поэтому ни проекта, ни
плана в собственном смысле слова. С другой стороны, слишком очевидно, что
остальная природа не была предоставлена человеку: мы боремся, как другие
виды, мы боролись против других видов. Словом, если бы эволюция жизни
столкнулась в пути с другими случайностями, если бы, в силу этого,
жизненный поток разделился по-иному, мы очень отличались бы, и физически,
и морально от того, что представляем собой сейчас.
108
А потому было бы заблуждением рассматривать человечество, каким оно
предстает нам теперь, как нечто предначертанное инволюционном движении.
Нельзя даже сказать, что оно есть завершение всей эволюции, ибо эволюция
осуществлялась на нескольких расходящихся линиях, и если человеческий род
находится на краю одной из них, то иные пути были пройдены до конца
другими видами. Если мы считаем человечество смыслом эволюции, то совсем
на ином основании.
С нашей точки зрения, жизнь в целом является как бы огромной волной,
которая
распространяется
от
центра
и
почти
на
всей
окружности
останавливается и превращается в колебание на месте: лишь в одной точке
препятствие было побеждено, импульс прошел свободно. Этой свободой и
отмечена человеческая форма. Повсюду, за исключением человека, сознание
оказалось загнанным в тупик: только с человеком оно продолжало свой путь.
Человек продолжает поэтому в бесконечность жизненное движение, хотя он и
не захватывает с собой всего того, что несла в себе жизнь. На других
эволюционных линиях прокладывали себе дорогу другие заключенные в жизни
тенденции, нечто из которых, конечно, сохранил и человек, ибо все
взаимопроникает; но сохранил он очень немногое. Все происходит так, как
будто неопределенное и неоформленное существо, которое можно, назвать, по
желанию, человеком или сверхчеловеком, стремилось принять реальные формы
и смогло достичь этого, только утеряв в пути часть самого себя. Эти потери
представлены остальным животным миром и даже миром растительным, по
крайней
мере,
тем,
что
является
в
этих
мирах
положительным
и
возвышающимся над случайностями эволюции.
С этой точки зрения значительно уменьшается та дисгармония, которую
мы наблюдаем в природе. Организованный мир в целом является как бы
питательной почвой, на которой должен был произрасти или человек, или
существо, которое духовно походило бы на него. Животные, как бы ни были
они отдалены от нашего вида, даже враждебны ему, все же были полезными
спутниками, на которых сознание взвалило все то громоздкое, что оно тащило,
109
и которые позволили ему подняться – с человеком – до таких высот, откуда
открылся перед ним безграничный горизонт.
Сознание отлично от организма, который оно одушевляет, хотя на нем
отражаются известные перемены, происходящие в организме. Так как
возможные действия, план которых содержится в состоянии сознания,
ежеминутно получают в нервных центрах импульс своей реализации, то мозг
ежеминутно отмечает двигательные артикуляции состояния сознания. Но этим
и ограничивается взаимная зависимость сознания и мозга; судьба сознания не
связана поэтому с судьбой мозговой материи. Словом, сознание, по существу,
свободно; оно есть сама свобода; но оно не может проходить через материю, не
задерживаясь на ней, не приспосабливаясь к ней; это приспособление и есть то,
что называют интеллектуальностью; и интеллект, обращаясь к действующему,
то есть к свободному, сознанию, естественным образом вводит его в рамки, в
которых он привык видеть материю. Поэтому он всегда будет представлять
свободу в форме необходимости; он пренебрежет всем новым или творческим,
связанным со свободным действием, заменит само действие искусственным,
приблизительным подражанием, полученным путем соединения прежнего с
прежним, подобного с подобным. Таким образом, в глазах философии,
стремящейся вновь погрузить интеллект в интуицию, многие трудности
исчезают или уменьшаются. Но такое учение не только облегчает умозрение:
оно также придает нам больше сил для действия и жизни. Ибо с ним мы уже не
чувствуем себя обособленными в человечестве, а человечество не кажется нам
обособленным в природе, над которой оно господствует. Как крошечная
пылинка едина со всей нашей солнечной системой, увлекаемая вместе с нею в
том неделимом нисходящем движении, которое есть сама материальность, так и
все организованные существа, от низшего до самого возвышенного, с
первоистоков жизни до нашей эпохи, повсюду и во все времена, только и
делают, что выявляют единый импульс, обратный движению материи и
неделимый в себе самом. Все живые существа держатся друг за друга и все
уступают одному и тому же колоссальному напору. Животное опирается на
110
растение, человек возвышается над животными, и все человечество, в
пространстве и во времени, представляет собой огромную армию, которая
несется рядом с каждым из нас, впереди и позади нас, увлекаемая собственной
ношей, способная преодолеть любое сопротивление и победить многие
препятствия, – быть может, даже смерть.
Извлечения из книги: Бергсон А. Творческая эволюция [Электронный
ресурс] // URL: rumagic.com/ru_zar/sci_philosophy/bergson/0/ (дата обращения:
16.09.2015)
111
Петер Слотердайк
(1947)
Петер Слотердайк (слева) и Перцев А.В. в
актовом зале Санкт-Петербургского университета 19
апреля 2013 года на открытой лекции Слотердайка
(фото Кудрявцева В.И.)
Петер Слотердайк – популярный
немецкий
философ,
культуролог,
президент Высшей школы дизайна в Карлсруэ. В 1968 году начал обучение в
университетах Мюнхена и Гамбурга, где особое внимание уделял философии,
германистике и истории. Его докторская диссертация была написана под
руководством профессора Клауса Бриглеба и защищалась в 1976 году.
В 1980 году Слотердайк отправился в Индию, где слушал речи
проповедника Бхагвана.
Некоторое время Слотердайк находился под влиянием представителей
Франкфуртской школы, что отразилось в его творчестве.
В своей первой крупной работе «Критика цинического разума» (Kritik der
zynischen Vernunft), которая вышла в 1983 г. и обрела большую популярность,
П. Слотердайк подробно исследовал итоги просветительства и современность.
На русский язык эта книга была переведена профессором Перцевым А.В. и
вышла в России в 2001 году. «Критику цинического разума» по праву называют
манифестом постмодернизма.
Основные работы: «Мыслитель на сцене. Ницшеанский материализм»
(1986 г.), «Время медиа» (1993), «Социальная связь и аудиофония. Заметки к
антропологии
дигитальной
эпохи»
(1994).
Глобальным
проектом
П.
Слотердайка является трилогия «Сферы», в которой он обобщает массивы
знания в сфере культуры, истории и философии. Том I «Пузыри», том II
Глобусы», том III «Пена» вышли в Германии в 1998, 1999, 2004 гг., в России в
112
2005, 2007, 2010 гг. в переводе К.В. Лощевского. Автор «Сфер» называет свой
фундаментальный труд своего рода архивом, «в котором будут храниться
ценные данные во времена десятилетий забвения, которые мы переживаем
сейчас и конца которым не видно. Если вспомнить, что мы в шестидесятые и
семидесятые годы считали делом ближайшего будущего, чего, как мы
полагали, вот-вот достигнем, если припомнить, какие открытия и прорывы
предвещали тогда, то от сегодняшних отношений просто утрачиваешь дар речи:
это — уникальное отупление и оглушение, наподобие наркоза, неомещанство в
социальной сфере, неосхоластика в теоретической сфере, наступление
идиотизма в сфере массмедиа, злой рессентимент у старшего поколения,
ставшее злым честолюбие у многих представителей молодежи; это время,
лишенное духовности. Из тех немногих, кто хранит огонь, большинство сидит
по своим туннелям в изоляции друг от друга. Самое меньшее, что
позволительно сказать, — время ныне неблагоприятно для крупных обобщений
и
подведения
великих
итогов.
Собственно,
моя
книга
—
это
не
соответствующая циклу инвестиция в интеллект современных и последующих
читателей, которые заинтересуются тем, что знали до них». [1, 154]
Исследователь творчества П. Слотердайка Сьерд ван Туйнен считает его
диагностом современности и выделяет два основных этапа философской
эволюции:
«Первая фаза охватывает его произведения 80-х годов. В этой фазе он
ищет возможностей критического философствования, но – независимых от
Критической Теории, лежащих по ту сторону ее… Во второй фазе, начиная
работы "Евродаосизм и чуждость миру" (1994), он расширяет свое мышление,
основываясь на интересе к философской антропологии, и характеризует свое
учение как «амфибическую антропологию». И его новейший проект "Сферы"
(1998; 1999; 2004) принадлежит сюда же. Люди, по его мнению, не есть моноэлементарные существа. Они могут пониматься только как мигрирующие
животные (Umzugstiere), которые постоянно меняют место обитания и
расширяют свои жизненные сферы, упрочивая их. В этом смысле он
113
воспринимает мышление Делеза и терминологию "детерриториализация" и
"ретерриториализация". По настоящему известным Слотердайк стал благодаря
"скандалу из-за Человеческого Парка", который разразился как реакция на его
доклад в замке Ельмау под одиозным названием "Правила для Человеческого
Парка" (1999)». [2, 18]
В 2015 году в России вышла новая книга П. Слотердайка «Солнце и
смерть» в переводе профессора Перцева А.В., которая написана в жанре
диалога с историком философии, журналистом и писателем Гансом-Юргеном
Хайнрихсом и представляет собой идейную эволюцию философских взглядов
Слотердайка.
Кроме признания в научной сфере, Петер Слотердайк неоднократно
получал различные премии за достижения в области философской прозы.
П. Слотердайк является апологетом современного консерватизма.
Литература
1. Peter Sloterdijk, Hans-Jürgen Heinrichs. Die Sonne und der Tod.
Dialogische Untersuchungen.Surkamp Verlag Frankfurt am Main 2006.
2. Van Tuinen, Sjord. Peter Sloterdijk.Ein Profil. 2., durchgesehene
Auflage. – Paderborn, Wilgelm Fink Gmbh, 2007.
Кейс 1. Феномен современного цинизма
Прочтите отрывок из книги Петера Слотердайка «Критика цинического
разума» и ответьте на следующие вопросы:
1. Какие основные характеристики цинизма формулирует автор?
2. Приведите пример исторического генезиса цинизма,
руководствуясь текстом.
3. В чем отличие современного циника от киника античности?
Современный цинизм подает себя как состояние сознания, которое
следует за наивными идеологиями и их Просвещением. В нем и заключается
114
действительная причина сенсации, состоящей в том, что критика идеологий
выдохлась. Она осталась более наивной, чем то сознание, которое она хотела
разоблачить; сохраняя свою добро порядочную рациональность, она не
последовала за современным сознанием и не совершила вслед за ним поворота
к хитроумному плюралистическому реализму. Доныне выстраивавшийся ряд
форм ложного сознания: ложь, заблуждение, идеология — оказался незавершенным; современный менталитет заставляет добавить четвертый член ряда —
феномен цинизма. Говорить о цинизме — значит попытаться войти в старое
здание критики идеологий с нового входа.
Характеризовать цинизм как универсальный и диффузный феномен —
значит войти в противоречие с устоявшимся употреблением понятий; в общем
представлении цинизм есть не что-то диффузное, рассеянное, а нечто
бросающееся в глаза, яркое и выдающееся, он не универсально распространен,
а занимает позицию в стороне и в высшей степени индивидуален.
Непривычные определения представляют нечто в новой форме проявления,
делающей его чрезвычайно актуальным и в то же время неоспоримым.
Античность знает циника (лучше будет сказать: киника) как чудакаодиночку и моралиста-провокатора себе на уме. Диоген в бочке — прародитель
этого типа. В альбоме портретов, изображающих социальные характеры, он
предстает с тех пор как насмешник, не участвующий в общей игре, как
ехидный и злой индивидуалист, который демонстрирует, что ни в ком не
испытывает нужды, и которого никто не любит, потому что он не позволяет
никому уйти неуязвленным, уклонившись от его грубо разоблачающего
взгляда. По своему социальному происхождению он городская фигура,
отшлифованная в сутолоке античной метрополии. Можно было бы назвать его
наиболее ранней формой проявления деклассированной, или плебейской,
интеллигенции. Условием для того, чтобы он мог «цинически» выступить
против высокомерия и моральных «секретов фирмы» высокоразвитой
цивилизации, является существование города со всеми его достижениями и
теневыми сторонами жизни. Только при наличии города, выступая как его
115
«негативное изображение», образ циника может выкристаллизоваться и
обрести отчетливую форму — под прессом общественной молвы и всеобщей
любви-ненависти к себе. И только город может включить циника, который
демонстративно поворачивается к нему спиной, в число собственных
оригиналов, которым он симпатизирует как ярко выраженным, расположенным
к общению индивидуальностям.
В Новое время цинизм находит питательную почву как в городской
культуре, так и в придворной сфере. И та и другая есть формы отливки злого
реализма, от которого люди научились кривой ухмылке откровенной
аморальности. Как там, так и здесь у вовлеченных в интенсивное общение
интеллигентных
людей
накапливается
светское
знание,
элегантно
фланирующее между голыми фактами и конвенциональными фасадами. С
самого низа, от деклассированной городской интеллигенции, и с самого верха,
с вершины сознания государственных мужей, в серьезное мышление поступают
сигналы, свидетельствующие о радикально-ироническом отношении к этике и
об общественной конвенции, предполагающей, что общие законы до известной
степени существуют только для глупцов, тогда как у человека знающего с губ
не сходит усмешка рокового всеведения. Выразимся точнее: так усмехаются
власть
имущие,
тогда
как
кинические
плебеи
разражаются
громким
сатирическим смехом. На обширном поле цинического знания сходятся
крайности:
Уленшпигель
встречается
с
Ришелье;
Макиавелли
—
с
племянником Рамо; шумные кондотьеры эпохи Возрождения — с элегантными
циниками эпохи рококо; беззастенчивые предприниматели — с лишенными
всяческих иллюзий босяками; твердокаменные стратеги — творцы систем — с
лишенными всех и всяческих идеалов нигилистами.
С тех пор как буржуазное общество начало наводить мосты между
знанием, существующим у тех, кто находится на самом верху, и знанием,
существующим у тех, кто пребывает в самом низу общества, и заявило
честолюбивую претензию на то, чтобы основать свою картину мира целиком и
полностью на реализме, крайности растворились друг в друге. Сегодня циник
116
предстает как массовый тип: как усредненный социальный характер в
обществе, надстройка которого перестала быть таковой. Он есть массовый тип
не только потому, что достигшая прогресса индустриальная цивилизация сделала ведущего несладкую жизнь одиночку массовым феноменом. Скорее,
большие города сами стали диффузными конгломератами, утратившими
способность создавать приемлемые для всех public characters. Импульс,
заставлявший стремиться к индивидуализации, сильно ослаб в том климате,
который создается современным городом и средствами массовой информации.
Таким образом, современный циник в том виде, в каком он со времен Первой
мировой войны в массовом количестве наличествует в Германии, уже больше
не выступает в роли постороннего. Но менее, чем когда-либо, он проявляется
как яркий художественный тип. Современный массовый циник утрачивает
индивидуальность манеры кусаться и избавляет себя от риска выставляться на
всеобщее
обозрение.
Он
уже
давно
отказался
от
оригинальности,
привлекающей внимание и вызывающей насмешки других. Человек с ясным
«злым взором» нырнул в толпу, чтобы затеряться; анонимность теперь
открывает широкие возможности для цинического отхода в сторону.
Современный циник — это интегрированный в общество антиобщественный
тип, который способен соперничать в том, что касается внутренней лишенности
иллюзий, с любым хиппи. Его злобно-ясный взгляд не представляется ему
самому личным недостатком или аморальной причудой, за которую придется
отвечать лично. Инстинктивно он воспринимает свой способ существования
уже не как что-то злобное и ехидное, а как причастность к коллективному
реалистически
скорректированному
взгляду
на
вещи.
Это
манера,
распространенная у всех просвещенных людей,— поглядывать, как бы не
показаться глупее всех. Вероятно, в этом есть даже нечто здравое — ведь так
вообще проявляется стремление к самосохранению. Речь идет о позиции
людей, которые уяснили для себя, что времена наивности миновали.
В психологическом плане современного циника позволительно понимать
как пограничную разновидность меланхолика, способного держать под
117
контролем свои депрессивные симптомы и оставаться до некоторой степени
трудоспособным.
Да,
при
современном
цинизме
весьма
существенна
способность его носителей к труду — вопреки всему, после всего и даже «тем
более, что». Диффузный цинизм уже давно захватил ключевые позиции в
обществе — в президиумах, парламентах, наблюдательных советах, дирекциях
пред приятий, среди лекторов и среди практиков, на факультетах, в канцеляриях и редакциях. Вся их деятельность происходит на фоне некоторой
элегантной горечи. Ведь циники не глупы, они вполне видят то Ничто, к
которому все движется. Однако конституция их души достаточно эластична,
чтобы включать в себя постоянное сомнение в смысле собственной
деятельности, осуществляемой ради выживания. Они сознают, что делают, но
тем не менее делают это, поскольку действовать так их принуждает положение
вещей и не заглядывающий далеко инстинкт самосохранения; они говорят на
одном и том же языке: «Ничего не попишешь». Иначе то же самое делал бы
кто-то другой, и, возможно, еще хуже. Таким образом, новый интегрированный
цинизм часто испытывает даже вполне понятное чувство —он ощущает себя
жертвой и чувствует, что приносит жертвы. За твердокаменным фасадом
прилежного подыгрывания другим скрыты ранимость, несчастье и немалая
потребность проливать слезы. В этом есть нечто от печали по «утраченной
невинности», от печали, вызванной знанием того лучшего, против которого
направлена вся деятельность и все труды.
Отсюда следует первая наша дефиниция: цинизм есть просвещенное
ложное сознание. Это модернизированное несчастное сознание, над которым
уже небезуспешно и в то же время напрасно поработало Просвещение. Оно
усвоило просветительские наставления, но не осуществило того, к чему они
призывали,— и, пожалуй, не могло осуществить. Богатое и убогое
одновременно, это сознание уже чувствует себя неуязвимым для любой
критики идеологий; его ложность уже способна к отпору и отражению атак.
«Просвещенное ложное сознание» — кажется, что выбор такой
формулировки равносилен удару по просветительской традиции. Сам этот
118
тезис есть проявление цинизма в кристаллизованном состоянии. Однако он
заявляет реальное притязание на значимость; его содержание и его
необходимость раскрываются в предлагаемом очерке. С логической точки
зрения, перед нами парадокс: как же может и какое право имеет просвещенное
сознание быть ложным? Именно о том здесь и пойдет речь.
Делать худшее, зная лучшее — эта формула претендует на то, чтобы
стать чем-то большим, чем просто проходным выражением; она претендует на
то, чтобы выражать системный подход, стать моделью для постановки
диагноза. Таким образом, она обязывает к ревизии Просвещения; она должна
прояснить свое отношение к тому, что традиционно называется «ложным
сознанием»; более того, она вынуждает подвергнуть ревизии ход Просвещения
и работу по критике идеологий, в процессе которой оказалось возможным то,
что «ложное сознание» вобрало в себя и поглотило Просвещение. Если бы это
эссе претендовало на превращение в исторический экскурс, то это был бы
экскурс, посвященный модернизации ложного сознания. Однако замысел
изложения в целом не исторический, а физиогномический: речь пойдет о
структуре дающего отпор и отражающего атаки ложного сознания. Я, однако,
хотел бы показать, что эта структура не может быть понята без локализации ее
в некоторой политической истории полемических рефлексий.
Без сарказма не может быть никакого здорового отношения сегодняшнего
Просвещения к его собственной истории. У нас есть только выбор между
пессимизмом, который «лоялен» к истокам Просвещения и напоминает
декаданс, и веселой непочтительностью, с которой будут выполняться
первоначальные задачи Просвещения. При нынешнем положении дел верность
Просвещению может заключаться только в неверности ему. Отчасти это
объясняется позицией наследника, оглядывающегося на «героические» времена
и после этого с необходимостью скептически оценивающего результаты.
Будучи наследником, всегда испытываешь влияние «цинизма положения» —
это известно по историям наследников семейных капиталов. Однако одно
только положение, заставляющее оглядываться на прошлое, не объясняет
119
специфической
тональности
современного
цинизма.
Разочарование
в
Просвещении никоим образом не есть только знак того, что последователи
могут
и
должны
быть
более
критичными,
чем
основоположники.
Специфический дух современного цинизма имеет природу, коренящуюся в
конституции
больного
Просвещением
сознания,
которое,
набравшись
исторического опыта, отвергает всякого рода дешевый оптимизм. Новые
ценности? Нет, спасибо. После упорной надежды распространяется лишенный
полета эгоизм. В новом цинизме выражается свойственное зрелости отрицание,
которое не находит для себя никакой надежды, разве только немного иронии и
сострадания.
То, о чем в конечном счете идет речь,— это социальные и экзистенциальные границы Просвещения. Необходимость выживания и желание
самоутвердиться смирили и унизили просвещенное сознание. Оно становится
больным от того, что вынуждено принимать заданные ему отношения, которые
для него сомнительны, от того, что ему приходится примеряться к ним, а в
итоге и заниматься делами, с ними связанными.
Чтобы выжить, приходится идти учиться в школу реальности. На языке
тех, кто одобряет такой шаг, это называется взрослением, что отчасти правда.
Однако это еще не все. Вовлеченное в эту деятельность сознание с некоторым
беспокойством и раздражением оглядывается на утраченную наивность,
которую уже не вернешь, потому что осознание необратимо.
Извлечение из: Слотердайк П. Критика цинического разума.
–
Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2001. [Электронный ресурс]
URL: http://booksonline.com.ua/view.php?book=39192&page=5 (дата обращения:
16.09.2015)
120
121
Философия прагматизма
Прагматизм – философия, возникшая в США в конце XIX – начале ХХ
вв. Оксфордский словарь дает следующее определение. Прагматизм (от греч.
прагма – дело, действие) – философия, которая оценивает суждения
исключительно
по
их
практическим
последствиям
и
касательству
к
человеческой пользе. В философии И.Канта присутствует «прагматическая
вера», которая определяется тем, что бывают ситуации, когда подлинное знание
– недоступно, а мнение – недостаточно. Критерием истинности здесь является
успех.
Прагматизм – сложное образование, так или иначе в него входят:
1.
Новая установка: философ не отстранен от жизни, он активно
участвует в ней. Наука – не самозамкнутая система, а средство,
позволяющее человеку жить лучше. Эта установка была у Аристотеля
(высшее счастье – в познании), Ф. Бэкона («знание – сила!») и английских
эмпириков. Эти философские учения сильно повлияли на Прагматизм. И
наоборот, те учения, где наука объявлялась самостоятельной системой, не
связанной с жизнью обыденного человека, подвергаются резкой критике.
К этим системам следует отнести рационализм Декарта, немецкую
классическую
философию,
позитивизм
первой
и
второй
волн.
Абстрактный разум, который исследовали мыслители Нового времени,
представителей прагматизма не интересует. Разум связан с практикой, а
ученый одновременно есть субъект повседневности.
2.
Наука должна помогать человеку жить. Не нужно стесняться
обращаться к ее достижениям. Но и ученому не нужно стесняться
совершенствовать свое знание. Учение о праве науки на ошибку
(фаллибилизм). Нет раз и навсегда установленного знания. Оно
постоянно меняется, становится и совершенствуется. Побеждает не тот,
кто больше знает, а тот, кто умеет пользоваться своим знанием.
122
3.
Возможность выбора истины в соответствии с полезностью
(инструментализм).
4.
Учение о знаках и их роли в процессе познания.
5.
Создание идеала и культуры деловой жизни.
Прагматизм предложил оригинальное понимание истины. Истина
создается в процессе проверки идеи, т.е. связана с практикой, опытом. Истина
должна «работать», т.е. иметь практические последствия, быть полезной,
выгодной. Истина понимается как разновидность блага, т.е. подчеркивается
моральная сторона истины. Истина основывается на доверии, а также истина
должна удовлетворяет желание индивида согласовать новый опыт с запасом
своих старых убеждений.
123
Чарльз Сандерс Пирс
(10.09.1839–19.04.1914)
URL: http://www.philosophybasics.com/photos/peirce.jpg
Основоположник прагматизма. Родился и
большую часть жизни провел в г. Кембридже, штат
Массачусетс, в семье знаменитого математика,
профессора Бенджамена Пирса. С детства серьезно
увлекается химией, логикой и математикой. В 1855
г. поступил в Гарвардский университет, где изучал
в философию и естественные науки. В 1860–1863 г.
занимался изучением химии в гарвардской Научной
школе Лоуренса и получил степень магистра. В
1861 г. Пирс поступил на службу в Береговую
геодезическую охрану, которую возглавлял его отец, и проработал там 30 лет. В
1862 г. он женился на Гарриет Мелузине Фэй. Жена ушла от него в 1876 г., и
после официального развода в 1883 г. Пирс вступил в брак с француженкой
Жюльетой Фруасси. В 70-е гг. в Кэмбридже организовался «Метафизический
клуб», в который входили Ч.С. Пирс, Чонси Райт, Уильям Джеймс, Оливер
Холмс, Френсис Эббот и др. Предполагается, что именно в этом клубе впервые
прозвучал термин «прагматизм». В 1879–1891 гг. Пирс работал в университете
Джона Хопкинса (г. Балтимор), где читал курсы логики, философской
терминологии, средневековой философии и др. После ухода в отставку из
Береговой геодезической охраны, а также из университета в 1891 г. философ
оказывается в стесненном материальном положении, сильно болеет. Скончался
Ч. С. Пирс от рака в 1914 г. в Милфорде.
Две самые известные статьи Ч.С. Пирса связаны с основными идеями
прагматизма «Закрепление верования», «Как сделать наши идеи ясными».
Для Пирса мысль и ощущение являются знаками. Сами по себе они не
содержат знания, но требуют интерпретации. Знак указывает на другой знак.
124
Процесс познания не имеет ни начала, ни конца. Это перевод одного знака в
другой. Пирс не мог разрешить проблему значения знаков, но он вплотную
приблизился к основанию семиотики.
Пирс критикует принцип сомнения как источник познания в философии
Декарта. Он психологически интерпретирует сомнение как неуверенность,
невозможность действий. Поэтому для Пирса важным является состояние веры
(уверенности)
как
психологически
комфортное
состояние,
готовность
действовать определенным образом. Она не предполагает сомнения. Пирс
предлагает 4 метода закрепления верования:
1.
Метод упорства. Произвольное положение принимается на
веру. Но человек живет в обществе. Поэтому его вера будет колебаться.
2.
Метод авторитета. Веру закрепляет внешний авторитет.
Необходимо создать специальные учреждения, которые будут излагать
народу правильные доктрины. Всех, кто отвергает их, надо заставить
молчать устрашением.
3.
Априорный метод. В основу веры закладываются положения,
согласные с разумом.
4.
Научный метод. Основывается на гипотезе, что «существуют
реальные вещи, свойства которых совершенно независимы от наших
мнений о них. Эти реальности законосообразно воздействуют на наши
чувства».
Это
общее
мнение
о
мире,
картина
мира,
которая
вырабатывается сообществом ученых.
Научный метод, при этом, связан с вероятностью. Пирс утверждает, что в
мире царит случайность и все наши заключения о нем могут быть только
вероятными, поэтому Пирс приходит к концепции «фаллибилизма» –
погрешимости всякой теории. Поскольку если признать науку непогрешимой,
то мир предстанет механизмом, где нет места для Бога. Поэтому научное
познание должно обязательно подтверждаться практической достоверностью.
Здесь и можно сформулировать знаменитый принцип Пирса: «Рассмотрите,
какие последствия, могущие иметь предположительно, практическое значение,
125
имеет в нашем понимании объект нашего понятия. Тогда наше понятие этих
последствий есть все наше понятие об этом объекте».
Кейс №1: Проблема познания в прагматизме Ч.С. Пирса
Прочитайте отрывок текста Ч.С. Пирса и ответьте на следующие
вопросы:
1. Как Ч.С. Пирс характеризует роль сомнения и верования в познании?
2. Какие существует достоинства каждого метода закрепления верования?
3. В чем особенности научного метода закрепления верования?
Сомнение и верование
Мы как правило знаем, когда хотим задать вопрос, а когда – произнести
суждение, поскольку имеется различие между ощущением сомнения и
ощущением верования.
Но этим не исчерпывается то, что отличает сомнение от верования. Здесь
имеется также практическое различие. Наши верования руководят нашими
желаниями и формируют наши действия. Члены секты ассасинов шли на
смерть по первому приказу своего вождя, потому что они верили, что
повиновение ему обеспечит им вечное блаженство. Если бы они сомневались в
этом, то, конечно же, не поступили бы так. И так обстоит дело с любым
верованием, в зависимости от его степени. Переживание верования есть более
или менее достоверный показатель того, что в нашей природе установилась
некоторая привычка, которая будет определять наши действия. Сомнение не
обладает подобным эффектом.
Давайте опять вспомним природу знака и зададимся вопросом: откуда мы
можем знать, как какое-либо чувствование любого вида является знаком того,
что мы обладаем укоренившейся в нас привычкой?
Мы можем понять одну привычку, уподобляя ее другой привычке.
Однако чтобы понять, что представляет собой какая-либо привычка, должна
быть некоторая привычка, которая непосредственно осознается нами в своей
126
всеобщности. Это означает, что мы должны обладать определенной общностью
в нашем непосредственном сознании. Епископ Беркли, да и огромное
множество других хороших мыслителей, посчитали смехотворной идею, что
мы способны вообразить себе треугольник, который не был бы ни
равносторонним, ни равнобедренным, ни неравносторонним. Они, повидимому, считают, что объект воображения должен быть в точности
определен во всех аспектах. Однако представляется вполне достоверным, что
нечто общее мы все же должны воображать. Я не собираюсь в этой работе
вдаваться в вопросы психологии. Нам нет никакой необходимости знать во всех
подробностях, как осуществляется наше мышление; но лишь как оно может
осуществляться. Тем не менее, я могу сказать, что по моему мнению, наше
непосредственное сознание охватывает
длительность времени,
хотя и
бесконечно малую. В любом случае я не вижу возможности избежать
пропозиции, согласно которой для того, чтобы придать знаку какую-либо
общую значимость и для того, чтобы знать, что мы действительно придали ему
какую-то общую значимость, мы должны обладать непосредственным
воображением чего-то, что не является определенным во всех аспектах.
Мы не должны пропустить также и третий пункт различия. Сомнение
является беспокойным и неудовлетворенным состоянием, от которого мы
пытаемся освободиться и прийти к состоянию верования, в то время как
последнее является состоянием спокойного самоудовлетворения, от которого
мы не хотим уклоняться или же поменять на верование во что-то иное.
Напротив, мы упорно держимся не просто за акт верования, но за верование
только в то, во что мы действительно верим. Таким образом, сомнение и
верование оказывают на нас положительное воздействие, хотя и достаточно
различное. Верование не заставляет нас действовать немедленно, но ставит нас
в такие условия, что мы будем вести себя некоторым определенным образом,
когда представится возможность. Сомнение ни в малейшей степени не дает
такого активного результата, но принуждает нас исследовать до тех пор, пока
оно само не будет устранено. Это напоминает нам раздражение нерва и
127
рефлексивное действие, производимое этим раздражением; в то время как для
того, чтобы [получить] аналогию верования, нам следует бросить взгляд на то,
что называется нервными ассоциациями, например, на привычку нервов,
вследствие которой запах персика будет вызывать выделение слюны.
Цель исследования
Раздражение, причиненное сомнением, вызывает борьбу, направленную
на
достижение
состояния
верования.
Я
буду
называть
эту
борьбу
исследованием, хотя следует признать, что иногда это не очень точное
обозначение.
Раздражение,
причиненное
сомнением,
является
единственным
непосредственным побуждением для борьбы, направленной на достижение
верования. Но лучшим для нас, конечно же, будет, если наши верования
окажутся такими, что смогут правильно руководить нашими действиями, дабы
удовлетворять наши желания; и размышление заставит нас отвергнуть любое
верование, которое, как кажется, не было сформировано с тем, чтобы
гарантировать этот результат. Но оно будет делать предстоит сделать в
дальнейшем,
или
же
притворная
нерешительность
относительно
вымышленного положения вещей. Мы сомневаемся как раз в нашей
способности производить верования, наряду с тем важным фактом, что
разрешение
мнимой
дилеммы
производства
верования
приводит
к
возникновению bоnа fide привычки, которая будет действенной в реальной
критической ситуации. Именно эти две вещи в сочетании делают нас
интеллектуальными существами.
Всякий ответ на вопрос, имеющий хоть какое-то значение, представляет
собой решение относительно того, как мы действовали бы при воображаемых
обстоятельствах или какое ответное действие произвел бы, как ожидалось, мир
на наши чувства. Допустим, мне говорят, что если две прямые линии,
проведенные на одной плоскости, пересекаются третьей, так что сумма
внутренних углов с одной стороны меньше двух прямых углов, то в этом случае
128
эти линии, если их продолжить, пересекутся на той стороне, с которой
вышеупомянутая сумма меньше, чем два прямых угла. Это означает для меня,
что если бы я провел на плоскости две линии и хотел узнать, в какой точке они
встретятся, то я мог бы провести третью линию, их пересекающую, и
установить, с какой стороны сумма двух внутренних углов меньше, чем сумма
двух прямых, а затем – продлить эти линии в эту сторону. Сходным образом
любое сомнение есть состояние нерешительности относительно воображаемого
положения вещей.
Это, только рождая сомнение на месте этого верования. С сомнением,
поэтому борьба начинается, с прекращением его она заканчивается. Таким
образом, единственная цель исследования есть установление мнения. Мы
можем воображать, что этого для нас недостаточно и что мы ищем не просто
мнения, но истинного мнения. Однако подвергните эту фантазию проверке, и
она окажется беспочвенной; ибо как только достигнуто устойчивое верование,
мы будем полностью удовлетворены, вне зависимости от того, будет ли это
верование истинным или ложным. Ясно, что нечто, находящееся за пределами
области нашего знания, не может быть нашим объектом, ибо то, что не
оказывает воздействия на наш разум, не может стать побуждением для
умственного усилия. Самое большее, что можно утверждать, это то, что мы
ищем такое верование, о котором мы думали бы, что оно истинно. Но мы
думаем, что каждое наше верование истинно, и право же, данное утверждение
является пустой тавтологией.
То, что установление мнения есть единственная цель исследования,
представляет собой очень важное положение. Оно мгновенно сметает прочь со
своего пути различные смутные и ошибочные концепции доказательства.
Некоторые из этих концепций могут быть здесь отмечены. Некоторые
философы воображали, что для того, чтобы начать исследование, достаточно
просто задать вопрос устно или написать его на бумаге и даже рекомендовали
нам начинать наше исследования с сомнения во всем. Но простая
формулировка пропозиции в вопросительной форме не побуждает ум к борьбе
129
за достижение верования. Должно наличествовать реальное и живое сомнение,
без него же вся дискуссия становится пустопорожней.
Методы закрепления верования
Для того, чтобы разрешить наши сомнения, необходимо найти метод, с
помощью которого наши верования были бы определены не чем-то
человеческим, но каким-то внешним постоянным фактором – чем-то таким, на
что наше мышление не оказывает никакого воздействия. Некоторые мистики
воображают, что они располагают подобным методом в своем личном
вдохновении, ниспосланном свыше. Однако это – не что иное, как
разновидность метода упорства, в котором понятие истины как чего-то
общественного еще не развито. Наш внешний постоянный фактор не был бы
внешним, если бы его влияние распространялось только на какого-то
отдельного индивидуума. Он должен быть таким, который воздействует или
мог бы воздействовать на всех людей. И хотя эти воздействия столь же
разнообразны, как и различные условия индивидуального существования, все
же метод должен быть таким, чтобы окончательное заключение, к которому
приходит каждый человек, было одним и тем же. Таков метод науки. Его
основная гипотеза, изложенная на более знакомом языке, такова: имеются
Реальные вещи, свойства которых совершенно не зависят от наших мнений о
них; эти Реалии (Reals) воздействуют на наши чувства в соответствии с
постоянными законами, и хотя наши ощущения столь же различны, сколь
различны наши отношения к объектам, мы можем с помощью рассуждения
установить, каковы вещи в действительности и по истине; и каждый человек,
если он обладает достаточным опытом и основательно обдумывает его, будет
приведен к одному и тому же Истинному заключению. Новое понятие,
содержащееся здесь, – это понятие реальности. Меня могут спросить: откуда я
знаю, что существует что-то Реальное?
130
Мой ответ таков: 1. Если нельзя считать, что исследование доказывает то,
что существуют реальные вещи, то, с другой стороны, оно не приводит и к
противоположному заключению; метод и концепция, на которую он опирается,
всегда находятся в гармонии. Поэтому в отличии от других методов,
практическое применение метода науки не обязательно приводит к сомнению в
нем. 2. Переживание, которое служит источником каждого метода закрепления
верования, есть неудовлетворенность двумя несовместимыми пропозициями.
Однако наряду с этим всегда есть некое смутное ощущение (concession), что
существует какая-то одна вещь, которую пропозиция должна репрезентировать.
Поэтому никто не может в действительности сомневаться в том, что
существуют реальные вещи, поскольку если бы он сомневался, то его сомнение
не могло бы быть источником неудовлетворенности. Поэтому эта гипотеза
принимается каждым. И социальный импульс не побуждает людей сомневаться
в ней. 3. Всякий применяет научный метод по отношению к великому
множеству вещей и перестает им пользоваться только тогда, когда не знает, как
его применить. 4. Опыт применения метода не только не позволяет усомниться
в нем, но, напротив, научное исследование всегда одерживало самые
замечательные триумфы в деле установления мнения. Это объясняет, почему я
не сомневаюсь в методе или в гипотезе, на которую он опирается; и не только
не сомневаюсь, но и не верю в то, что кто-то, на кого я мог бы оказать влияние,
стал бы сомневаться в них. Поэтому с моей стороны было бы пустейшей
болтовней продолжать распространяться на этот счет. Если у кого-то имеется
сомнение по поводу этой проблемы, то пусть он рассмотрит ее самостоятельно.
Не следует полагать, что первые три метода установления верования не
имеют никаких преимуществ перед научных методом. Напротив, каждый из
них обладает своими достоинствами. Априорный метод отличается удобством
своих заключений, Природа этого процесса состоит в том, что мы принимаем
какие угодно верования, к которым мы питаем склонность и в которые все мы
верим в силу своей природы потому, что они льстят нашему самолюбию,
правда, до тех только пор, пока грубые факты не пробуждают нас от этих
131
сладостных грез Метод авторитета всегда будет править массой человечества, и
тех, кто обладает различными формами организованной силы в государстве,
никогда не удастся убедить в том, что опасное рассуждение не должно быть
каким-то образом подавлено. Если свобода слова не будет сдерживаться более
грубыми
формами
принуждения,
тогда
единообразие
мнения
будут
обеспечиваться посредством морального террора, который получит полное
одобрение со стороны респектабельного общества. Следование методу
авторитета
есть
путь
мира.
Некоторые
нонконформистские
взгляды
разрешаются, другие (признанные небезопасными) – запрещаются. Эти взгляды
различны в разных странах и в разные эпохи; но где бы вы ни были, если
только станет известно, что вы придерживаетесь верований, на которые
наложено табу, можете быть уверены, что с вами будут обращаться с
жесткостью не менее грубой, но более утонченной, чем если бы вас травили,
как волка. Поэтому величайшие интеллектуальные благодетели человечества
никогда не отваживались и даже теперь не отваживаются излагать свои мысли
целиком; и поэтому тень сомнения prima facie опускается на всякое положение,
которое считается существенным для безопасности общества. Гонение
происходит не только извне; человек зачастую мучится и страдает, когда
обнаруживает, что верит в положения, к которым его приучали испытывать
отвращение. Поэтому миролюбивому и благожелательному человеку будет
трудно сопротивляться искушению подчинить свои мнения авторитету. Но
больше всего я восхищаюсь методом упорства за его силу, простоту и
непосредственность. Люди, которые ему следуют, отличаются решительностью
своего характера, который благодаря этому ментальному правилу становится у
них очень спокойным. Они не тратят времени попусту на раздумья о том, чего
же они хотят, но, ухватившись с быстротой молнии за первое же попавшееся
решение, держатся за него до конца, что бы ни случилось, без каких бы то ни
было колебаний. Это - одно из самых превосходных качеств, которому обычно
сопутствует восхитительный, мгновенный успех. Нельзя не позавидовать
132
человеку, способному отказаться от разума, хотя мы и знаем, чем это в конце
концов должно обернуться.
Таковы
те
преимущества,
которыми
обладают
другие
методы
установления мнения по сравнению с научным исследованием. Человеку
следовало бы хорошенько поразмыслить над ними, а затем, помимо всего
прочего, ему следовало бы поразмыслить над тем, что в конце концов он
желает того, чтобы его мнения совпали с фактом, и что нет никаких оснований
полагать, что этот результат может быть достигнут с помощью трех первых
методов. Достижение требуемого результата – это исключительное право
метода науки. На основе таких размышлений человек должен сделать свой
выбор – выбор, который представляет собой нечто большее, нежели усвоение
какого-либо интеллектуального мнения. Этот выбор – одно из главных
решений в жизни, приняв которое, человек обязан следовать ему [до конца].
Сила привычки будет время от времени заставлять человека цепляться за
старые верования даже тогда, когда он в состоянии понять, что они лишены
крепкой основы. Но рефлексия над положением дел преодолеет эти привычки,
и он должен будет придать рефлексии подобающее значение. Люди иногда
уклоняются от этого, обладая идеей, согласно которой верования представляют
собой нечто полезное, и хотя они и чувствуют, что эта идея ни на чем не
основана, они ничего не могут с этим чувством поделать. Но пусть они
вообразят себе какой-то иной случай, хотя и сходный с их собственной
ситуацией. Пусть они зададутся вопросом, что они сказали бы после реформы
его религии мусульманину, который не решался бы отказаться от своих старых
представлений
относительно
отношений
между
полами;
или
же
«реформированному» католику, который все еще уклонялся бы от чтения
Библии. Разве бы они не сказали, что таким людям – реформированному
Мусульманину и реформированному Католику следует рассмотреть предмет
подобающим образом и ясно понять новое учение, а затем принять его
целиком, во всей его полноте? Но помимо всего прочего, пусть они поймут, что
совокупность верований много полезнее любого отдельного верования и что
133
отказываться от обращения за помощью к какому-либо верованию из опасения,
что оно может оказаться ненадежным, столь же аморально, сколь и невыгодно.
Человек, верящий в то, что существует такая вещь, как истина, которая
отличается от лжи только тем, что если ей руководствоваться в своих
действиях, то она привела бы нас, при подобающем осмыслении, именно к той
цели, к которой мы стремимся, и не сбила бы нас с пути, и притом, будучи
убежден в этом, все-таки отваживается не знать истины и стремится избегать
ее, право же, не в своем уме.
Извлечение из: Пирс Ч.С. Избранные философские произведения
[Электронный ресурс] URL: http://society.polbu.ru/pirs_philo/ch26_i.html (дата
обращения 15.09.2015)
134
Уильям Джеймс
(11.01.1842–26.08.1910)
URL: http://www.psikolojinotlari.com/wp-content/uploads/2014/12/12.jpg
Яркий представитель прагматизма. Родился
в
Нью-Йорке,
в
состоятельной
семье.
Его
младший брат – Генри Джеймс стал известным
писателем. С детства увлекался чтением книг по
философии. Долгое время не мог найти свое
призвание и пробовал свои силы в качестве
артиста, натуралиста, доктора. Джеймс в 27 лет
пережил психологический кризис, когда его
жизнь представлялась ему бесцельной и пустой,
но сумел выйти из него путем осознания, что
разные
убеждения,
мировоззренческие
установки
имеют
различные
последствия. Философ выбрал такие убеждения, которые позволил ему
свободно действовать и принимать важные решения в жизни. В 1878 г. Джеймс
женился на Эллис Гиббенс, которая была школьной учительницей, в его семье
родилось пятеро детей. В 1889–1907 гг. работал профессором психологии в
Гарвардском
университете.
Основное
философское
произведение
–
«Прагматизм», также с идеями прагматизма у Джеймса связаны работы
«Многообразие религиозного опыта», «Воля к вере».
Прагматизм понимается У. Джеймсом не как философское учение, а
прежде всего как метод разрешения философских споров. Для того чтобы
разрешить философские споры нужно применить Принцип Пирса к основным
положениям той или иной философской системы и понять, какая разница в
практических последствиях этих положений. В вечном противоборстве
находятся
два
философских
направления:
материализм
и
идеализм.
Материализм понимает человека как часть природы, ее слугу. Истина не
зависит от человека. Для идеализма мир – проявление Абсолюта, который, по
135
мысли Джеймса, выполняет ту же роль, что и природа в материализме. Поэтому
в практических последствиях материализма и идеализма никакой разницы нет,
и этот философский спор лишен смысла. Есть только два различных типа
темперамента, склоняющие человека либо к материализму, либо к идеализму.
1.
Мягкий
принципами),
темперамент:
интеллектуалист,
рационалист
идеалист,
(руководствуется
оптимист,
верующий,
сторонник свободы воли, монист, догматик.
2.
Жесткий темперамент: эмпирик (руководствуется фактами),
сенсуалист, материалист, пессимист, неверующий, фаталист, плюралист,
скептик.
Столкновение данных темпераментов является неразрешимой дилеммой
философии. Только прагматизм, полагает Джеймс, способен быть близким к
эмпирическим фактам, но при этом оставаться религиозным.
Важной темой для У. Джеймса является религия, которая понимается не
как система верований, обрядов, а как переживание и опыт личности.
Религиозное чувство ведет человека на вершины счастья, а счастье – это цель
жизни. Религия должна иметь практическую ценность для человека, которая в
первую очередь заключается в субъективном удовлетворении.
Христианство помогает переживать страдание, которое неизбежно
присутствует в жизни. Наиболее мужественно переживали страдание стоики,
но по Джеймсу есть огромная пропасть в психологическом восприятии мира у
стоиков и христианских святых. Стоики подчиняются необходимости, их
позиция пассивна, а у христиан присутствует «восторженная ясность духа», они
духовно активно противостоят страданиям. Религия помогает человеку идти на
жертвы: «религия делает для человека легким и радостным то, что при других
обстоятельствах для него является игом суровой необходимости». [1, 49]
Также религия дает чувство безопасности в ненадежной Вселенной и
поэтому она является источником жизненных сил, необходимых человеку для
дальнейшей борьбы. Вера в Бога дает человеку «моральные каникулы», когда
136
он может радоваться жизни, несмотря на все существующее зло. Это тайна
религии, как она может преодолевать зло, не отвергая его.
Литература
1. Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. М., 1993.
Кейс № 2: Прагматизм как метод в философии У. Джеймса
Прочитайте отрывок текста У. Джеймса и ответьте на следующие
вопросы:
1. Как следует разрешать философские споры?
2. Как Джеймс понимает метод прагматизма?
Прагматической метод это прежде всего метод улаживания философских
споров, которые без него могли бы тянуться без конца.
Представляет ли собой мир единое или многое? Царит ли в нем свобода
или необходимость? Лежит ли в его основе материальный принцип или
духовный? Все эти одинаково правомерные точки зрения на мир, и споры о них
бесконечны. Прагматический метод в подобных случаях пытается истолковать
каждое мнение, указывая на его практическое следствие. Какая получится для
кого-нибудь практическая разница, если принять за истинное именно это
мнение, а не другое?
Если мы не в состоянии найти практической разницы, то оба мнения
(противоположных) означают по существу одно и то же, и всякий дальнейший
спор здесь бесполезен. Серьезный спор возникает только в том случае, когда
мы можем указать на какую-нибудь практическую разницу, вытекающую из
допущения, что права какая-нибудь одна из сторон.
Взгляд, брошенный на историю этого учения, выяснит нам еще лучше,
что такое прагматизм. Название это произведено от того самого греческого
слова «pragma» (значит «действие»), от него происходят наши слова и
«практика» и «практический». Впервые оно было введено в философию
137
Чарльзом Пирсом в 1878 г. В статье под заглавием «Как сделать наши идеи
ясными», помещенной в январской книжке журнала за 1878 г. Пирс указывал
сперва, что наши убеждения суть фактические правила для действия, затем он
говорит, что для того, чтобы выяснить смысл какого-нибудь утверждения мы
должны лишь определить тот способ действия, которое оно способно назвать: в
этом способе действия и заключается для нас все значения данного
утверждения. В основе всех находимых нами между нашими мыслями
(утверждениями) различий даже самого тонкого и субтильного свойства лежит
следующий конкретный факт: ни одно из них не настолько тонко, чтобы
выражаться как-нибудь иначе, чем в виде некоторой возможной разницы в
области практики.
Поэтому, чтобы добиться полной ясности в наших мыслях о какомнибудь предмете, мы должны рассмотреть, какие практические следствия в
этом предмете, т. е. каких мы может ожидать от него ощущений и к какого рода
реакциям со своей стороны мы должны подготовиться. Наше представление об
этих следствиях как ближайших, так и отдаленных и есть все то, что мы можем
себе представить об этом предмете, поскольку вообще это представление имеет
какое-нибудь положительное значение.
В этом состоит принцип Пирса, принцип прагматизма. В течении
двадцати лет он оставался никем не замеченный, пока я в докладе,
прочитанным
перед
философском
кружком
профессора
Пуансона
в
Калифорнийском университете, не воспользовался им и не применил его
специально к религии. К этому времени (1898 г.) почва была по-видимому
подготовлена для восприятия нового учения. Слово «прагматизм» начинает
широко распространяться, и в настоящее время пестрит на страницах
философских журналов. Со всех сторон говорят о прагматическом движении,
говорят иногда почтительно, иногда пренебрежительно, но редко с ясным
пониманием сути дела. Ясно, что это название отлично подошло к целому ряду
философских направлений, которым до сих пор не хватало общего имени, и что
прагматизм пустил уже прочные корни.
138
Чтобы понять все значение принципа Пирса, надо научиться применять
его в конкретных случаях. Несколько лет тому назад я заметил, что Оствальд,
знаменитый
лейпцигский
химик,
превосходно
пользовался
принципом
прагматизма в своих лекциях по натурфилософии, хотя он и не назвал его этим
именем.
«Все виды реального», писал он мне, «влияют на нашу практику, и это
влияние и есть их значение для нас. На своих лекциях я обыкновенно ставлю
вопрос
следующим
образом:
что
изменилось
в
мире,
если
бы
из
конкурирующих точек зрения была верна та или другая? Если я не нахожу
ничего, что могло бы измениться, то данная альтернатива не имеет никакого
смысла».
Иначе говоря, обе конкурирующие точки зрения означают практически
одну и те же вещь, и другого значения, кроме практического, для нас не
существует. В одном напечатанном докладе Оствальда мы находим пример,
хорошо поясняющий его мысль. Химики долго спорили о внутреннем строении
некоторых тел, называемых «таутомерными». Свойство их, по-видимому,
одинаково хорошо согласовывались как с предположением, что внутрь у них
находится в колебательном движении атом водорода, так и с гипотезой, что они
представляют собой неустойчивые смеси из двух тел. Завязался ожесточенный
спор, не приведший ни к чему определенному. «Спор этот, замечает Оствальд,
никогда бы и не начался, если бы спросили себя, какая окажется на самом деле
разница, если допустить, что верна та или иная точка зрения. Тогда бы ясно
обнаружилось что никакой такой фактической разницы не может получиться, и
оказалось бы, каких-нибудь первобытных людей о том, благодаря кому
поднимается тесто, благодаря ль эльфам или гномам.»
Любопытно видеть, как теряют все свое значение многие философские
споры, раз только вы подвергнете их этому простому методу испытания и
спросите о вытекающих из них практических следствиях.
Не может быть разницы в одном каком-нибудь пункте, который бы не
составил разницы в одном каком-нибудь пункте, которая бы не составила
139
разницы в каком-нибудь другом, не может быть разницы в абстрактной истине,
которая не выразилась в конкретных фактах и в вытекающем отсюда для когонибудь, как-нибудь, и когда-нибудь способе действия. Вся задача философии
должна была бы состоять в том, чтобы указать, какая получится для меня и для
вас определенная разница в определенные моменты нашей жизни, если бы
истинной была та или иная формула мира.
В прагматическом методе нет ничего абсолютно нового. Сократ был
приверженцем его. Аристотель методически пользовался им. С помощью его
Локк, Беркли и Юм сделали многие ценные приобретения для истины. Шедуорз
Ходжсон
настойчиво
повторял,
что
действительность
если
что
она
«признается». Но все эти предшественники прагматизма пользовалось им
случайно, урывками: это была как бы прелюдия. Только в наше время метод
прагматизма приобрел всеобщий характер осознал лежащую на нем мировую
миссию и заявил о своих завоевательских правах. Я верю в эту миссию и в эти
планы и надеюсь, что под конец воодушевлю вас своей верой.
Прагматизм представляют собой отлично знакомое философскою
направление именно эмпирическое направление, но он представляет его, как
мне кажется, в более радикальной форме, менее доступной возражениям, чем
те, в которых выступал эмпиризм. Прагматист решительно, раз и навсегда,
отворачивается
от
профессиональным
целой
кучи
философам.
застарелых
Он
привычек,
отворачивается
от
дорогих
абстракций
и
недоступных вещей, от словесных решений, от скверных априорных
аргументов, от твердых, неизменных принципов, от замкнутых систем, от
мнимых абсолютов и начал. Он обращается к конкретному, к доступному, к
фактам,
к
действую,
к
власти.
Это
означает
искренний
отказ
от
рационалистического метода и признание господства метода эмпирического.
Это
означит
открытый
противопоставление
воздух,
догматизму,
все
многообразие
искусственности,
законченную истину.
140
живой
природы,
притязаниям
на
Прагматизм в то же время не выступает в пользу каких-нибудь
определенных специальных выводов. Он только метод. Но полное торжество
этого метода повлечет за собой колоссальную перемену в том, что я на первой
лекции назвал «темпераментом философии».
Сторонником ультрарационалистического метода придется тогда плохо;
как приходится плохо царедворцам в республиках или священникамультрамонтанам в протестантских странах. Наука и метафизика сблизятся
между собой и сумеют на деле работать дружно, рука в руку.
Метафизика обыкновенно прибегала к довольно первобытному методу
исследования. Вы знаете, что люди имели склонность к запрещенной законом
магии, и вы знайте также, какую роль в маги играли всегда слова. Дух, гений,
демон, вообще всякая чистая и нечистая сила, находятся в вашей власти, и если
только вы знаете ее имя или связывающую ее формулу заклинания. Соломон
знал имена всех духов и благодаря этому имел их у себя в полном подчинении.
Словом, мир всегда представлялся первобытному уму в виде своеобразной
загадки, ключ которой нужно искать в некотором всеозаряющем, приносящем
власть имени или слове. Это слово дает принцип мира, и власть им, значит, в
некотором роде, владеть самим миром.
«Бог», «Материя», «Разум», «Абсолютное», «Энергия» все эти подобные,
решающие загадку мира, имена. Раз вы их имеете вы можете быть покойны. Вы
находитесь тогда у конца своего метафизического исследования.
Но если вы оперируете прагматическим методом, вы никогда не увидите
в подобном слове завершения своего исследования. Из каждого слова вы
должны извлечь его практическую наличную стоимость, должны заставить его
работать в потоке вашего опыта. Оно рассматривается не только как решение,
столько как программа для дальнейшей работы, в частности, как указание на те
методы, с помощью которых может быть изменена данная действительность.
Таким образом, теории представляют собой не ответы на загадки, ответы
на которых мы можем успокоиться: теории становятся орудиями. Мы не
успокаиваемся в сладкой бездеятельности на теориях, мы идем вперед и сверх
141
того при случае изменяем с их помощью природу. Прагматизм делает все наши
теории менее тугими, он продает им гибкость и каждую усаживает за работу.
По существу он не представляет ничего нового и поэтому гармонирует со
многими старыми философскими направлениями.
Так, например, с номинализмом он сходится в том, что постоянно
обращается к частному индивидуальному; вместе с утилитаризмом он
подчеркивает практической момент действительности; с позитивизмом, он
разделяет презрение к словесным решениям, к бесполезным вопросам и
метафизическим абстракциям.
Все это, как вы видите, антиинтеллектуалистические тенденции. Против
притязаний и метода рационализма прагматизм и выступает в полном
вооружении. Но он никогда не защищает по крайней мере, в исходном своем
пункте каких-нибудь определенных специальных теорий. Он не имеет никаких
догматов, не выставляет никаких особых учений; он имеет только свой метод.
Как хорошо выразился молодой итальянской прагматист Папини, он
расположен
посреди
наших
теорий
подобно
коридору
в
гостинице.
Бесчисленное множество номеров выходит в этот коридор. В одной вы найдете
человека, пишущего атеистический трактат; в ближайшей какой-нибудь другой
человек молится на коленях о подаянии веры и силы; в третьей химик
исследует свойства тел; в четвертой обдумывается какая-нибудь система
идеалистической
метафизики;
в
пятой
доказывается
невозможность
метафизики. Но коридор принадлежит всем, все должны воспользоваться им,
если желают иметь удобный путь, чтобы выходить и заходить в свои комнаты.
Таким образом, прагматический метод отнюдь не означает каких-нибудь
определенных результатов, он представляет собой только известное отношение
к вещам, известную точку зрения. Именно такую точку зрения, которая
побуждает нас отвращать свои взоры от разных принципов первых вещей,
«категорий», мнимых необходимостей, и заставляют нас смотреть по
направлению к последним вещам, результатам, плодам, фактам.
142
Извлечение из: Джейс У. Что такое прагматизм? //[Электронный ресурс]
URL: http://marsexx.ru/pragmatik.html (дата обращения 10.09.2015)
143
Джон Дьюи
(20.10.1859–1.06.1952)
URL:
http://utep.uchicago.edu/sites/utep.uchicago.edu/files/styles/columnwidthwider/pu
blic/uploads/images/JohnDewey.jpg?itok=Ev6dMh10
Родился 20 октября 1859 года в г. Берлингтон,
штат
Вермонт.
После
окончания
вермонтского
университета работал учителем в 1879–1881 годах в
частной средней школе в Ойл Сити. Работая в школе,
Дьюи активно изучал философию, и в 1881 году
напечатал свою первую статью «Метафизическое
восприятие материализма» в «Журнале Философии».
После поступил в университет Джона Хопкинса, где
сотрудничал с Чарльзом Пирсом, читавшим курс логики, Стенли Холлом,
специалистом в области экспериментальной психологии, и Джорджем
Морисом, преподававшим историю философии. Эти мыслители оказали
большое влияние на формирование философских взглядов Дьюи. В 1884 г.
защитил диссертацию на
тему «Психология
Канта»
и
приступил к
преподаванию в университете штата Мичиган, в котором проработал 10 лет
(1884–1894). В 1886 году женился на Алис Чипман. Большое влияние на Дьюи
оказала педагог Джейн Аддамс. Она открыла в Чикаго первое необычное
заведение
-
сеттльмент,
в
котором
были
клубы
по
интересам,
исследовательские группы по изучению социальных проблем. Дьюи активно
участвовал в работе сеттльмента, выступал там с лекциями. В 1894 году Дьюи
приглашают на должность заведующего кафедрой философии Чикагского
университета и он соглашается. В 1896 году вместе со своей женой создал при
университете школу-лабораторию для внедрения своих идей. Дьюи полагал,
что «общество может быть реформировано через школу». При этом школа
должна измениться и стать общиной, в которой учащиеся вовлечены в
совместную и продуктивную деятельность.
144
В 1904 году Дьюи покидает Чикаго, и принимает приглашение
Колумбийского университета стать заведующим кафедры философии, где он
около тридцати лет занимался разработкой философских проблем.
Крупные работы, созданные в этот период «Как мы думаем»,
«Реконструкция философии», «Проблемы человека» и др., сделали известным
его во всем мире. В конце 1920-х годов Дьюи совершает длительное
путешествие
по
странам,
в
которых
произошли
революционные
преобразования (Россия, Китай, Мексика, Турция). В Советском Союзе Дьюи
познакомился со многими видными педагогами того времени, занятыми
созданием
новой
школы,
посетил
опытно-экспериментальную
станцию
Наркомпроса около Москвы, которой руководил С. Шацкий. Дьюи очень
понравилась советская педагогика. В 88 лет Джон Дьюи вторично женился,
взял двух приемных детей. Он умер 1 июня 1952 года в Нью-Йорке.
Дж. Дьюи творчески подходит к идеям прагматизма, его концепция
получила
название
инструментализма.
Вся
деятельность
человека
рассматривается как приспособление к окружающей среде. Главной категорией
здесь является опыт, в котором субъект и объект сливаются воедино.
Мышление играет главную инструментальную роль как средство наилучшего
приспособления человека к среде. Так Дьюи подчеркивает значение
рационального осмысления человеком опыта. Опыт представляет собой серии
ситуаций, которые человеку необходимо осмыслить и разрешить. Опыт, таким
образом, направлен в будущее, на то, чтобы преобразовать окружающую среду.
Человек развивает свои способности в процессе этого преобразования.
Истинность идей определяется их действенностью, успехом в решении
возникающих у человека проблем. Идея истинна, если разрешает проблему, как
«ключ отвечает условиям, налагаемым замком». Разные виды, формы
деятельности человека приравниваются друг к другу (познание, искусство, и
др.), в этом заключается принцип непрерывности. Человек должен выработать
навыки или привычки действовать определенным образом. Изменения в любой
сфере жизни – это изменение привычек. Отказ от старых, неэффективных, и
145
выработка новых, полезных. Изменение привычек достигается посредством
воспитания и обучения.
Важным
аспектом
философии
Дьюи
является
представление
о
демократии как наилучшем типе общества для развития самостоятельного
активного человека. Дьюи считает, что смысл демократии не заключается в
форме управления (политика), а в том, что демократия представляет собой
объединение
людей,
в
котором
человек
может
реализовать
себя
и
способствовать общему благу (этика). Роль образования в демократическом
обществе очень велика, поскольку демократическое общество не опирается на
принуждение,
а
воздействует
на
людей
посредством
образования.
«Образование в таком обществе создает у людей личный интерес к
общественным отношениям и управлению обществом и такие умонастроения,
благодаря которым изменения в обществе происходят постепенно, не порождая
беспорядков», – пишет Дж. Дьюи. [1, 107]
Накопление человеком индивидуального опыта ведет к формированию
его личности. Исходя из этого, Д. Дьюи выдвинул идею создания
«инструментальной» педагогики, строящейся на спонтанных интересах и
личном опыте ребенка. Дьюи убежден, что если поставить ребенка перед рядом
правильно сформированных задач, он сам найдет выход, решение. Он
приобретет опыт, а если правильно сделать «разбор полетов» (debriefing) этого
опыта с наставником, учащийся сделает правильные выводы сам. Главное – не
останавливать процесс «опытного» обучения, ставить все новые и новые задачи
(problems), которые обучаемый должен решать шаг за шагом.
Образование, для Дьюи представляет собой процесс воспитания,
обучения и развития. Каким образом организовать этот процесс? Прежде всего,
полагает он, необходимо создать соответствующую окружающую среду. Школа
– особая социальная среда, которая должна быть специально устроена таким
образом, чтобы положительно влиять на умственные и нравственные установки
участников обучения. Дж. Дьюи выделяет следующие важные функции школы
как социального института демократического общества: Школа должна
146
создавать
упрощенную
социальную
среду,
в
которой
отбираются
фундаментальные характеристики существующего общества, воспринимаемые
учениками. Школа должна напоминать как бы социальный мир в миниатюре, и
за пределами школы ученик не должен чувствовать себя в чуждом мире. Школа
должна защитить растущую личность от влияния отрицательных черт
существующей социальной среды. Расстановка нравственных приоритетов,
идеалов – тоже функция школы. Школа должна компенсировать отрицательное
влияние социальной среды и предоставить человеку возможность ограничения
своей социальной группы: «Школа также призвана согласовывать в системе
мировосприятия каждого отдельного человека влияния различных сообществ, в
которые он входит. Ведь в семье – одни нормы, на улице – другие, в цеху и в
магазине – третьи, а в религиозной общине – четвертые» [1, 27]. Это
стабилизирующая и интегрирующая функция.
Дьюи совершенно не считает эффективным любое принуждение в
образовании,
а
также
изолированное
интеллектуальное
образование.
Образование должно осуществляться только через совместную творческую
деятельность учащихся. Жизнь и образование понимается Дьюи как рост,
развитие, поэтому у образования нет, и не может быть какой-либо внешней
цели. Сам непрекращающийся образовательный процесс и есть своя
собственная цель. И главное здесь, поэтому, интерес – захваченность психики
обучаемого каким-либо объектом целиком и полностью, без остатка. По
мнению Дьюи в образовании не следует только искусственно делать
неинтересное интересным, а (прежде всего!) нужно найти материал,
вызывающий интерес. «Необходимо найти объекты и способы действия,
соответствующие реальным возможностям и интересам учеников. Такой
материал заинтересует учащихся, т.е. возбудит деятельность, которая будет
осуществляться настойчиво и последовательно» [1,122] – настаивает Дьюи.
Точно также подлинная дисциплина не является насилием, а является
свободой. Дисциплина должна быть внутренней, естественной: «Когда
дисциплина
понимается
в
интеллектуальном
147
смысле
(как
привычная
способность успешного умственного движения), она отождествляется со
свободой в истинном смысле этого слова. <…> Когда самопроизвольность, или
естественность, отождествляется с более или менее случайным проявлением
преходящих импульсов, стремление воспитателя направляется на то, чтобы
доставлять массу стимулов для поддержки самопроизвольной деятельности.
Доставляются разного рода интересные материалы, экипировки, инструменты,
занятия для того, чтобы не ослабевало свободное проявление личности» [2, 53–
54].
И наконец, опыт является сочетанием активности (эксперимент) и
проживания (претерпевание последствий своих действий). Опыт для Дьюи
важен как опыт прежде всего мышления. Образование должно создавать
условия
для
развития
этого
опыта.
«Там
где
школы
оборудованы
лабораториями, мастерскими, садом и огородом, где есть театр и стадион –
именно там существуют возможности для воспроизведения жизненных
ситуаций, именно там находят применение полученная информация и
выдвинутые в развивающем опыте идеи» [1, 154].
Опыт мышления для Дьюи протекает прямо-таки по знаменитому
принципу его предшественника, Ч.С. Пирса: он начинается с недоумения,
замешательства, сомнения, далее делается предположение о вероятном
будущем т.е. последствиях, затем изучение всех данных, позволяющих
уточнить проблему, затем выработка гипотезы, и, наконец, принятие гипотезы
как плана действий.
Таким образом, основным инструментов обучения и создание активной
позиции в философии Дьюи является игра. Она не только является разрядкой
существующего скучного, формального образования, игра должна быть
основой образования. Игра представляет собой свободную деятельность,
совершающуюся без принуждения. Игра бескорыстна, отмечена качеством
парадоксальности,
автоматизма
неожиданности,
окружающей
жизни.
импровизации,
направлена
Игра
выполняет
нередко
против
функции
тренировки способностей, необходимых для реализации в серьезном деле,
148
упражнения в самообладании. Важен и такой аспект потребности в игре, как
компенсация того, что человек не обнаруживает в реальной жизни. Таким
образом, игра присутствует в человеческой реальности, но всегда в той или
иной мере дистанцируется от повседневности, а игровое состояние всегда есть
преображение окружающего мира. Игра пластична и свободна, именно она
постепенно превращается в труд, как деятельность, требующую большего
внимания и сообразительности в отборе и использовании средств. Если труд,
работа сохраняют элемент игры, то они становятся искусством. «Дело школы –
создавать для учеников окружающую среду, в которой игра и работа
содействовали бы желательному умственному и нравственному росту» [1,184].
Таким образом, основные педагогическими ценностями и одновременно
инструментами
обучения
для
Дьюи
являются
полезность,
культура,
информация, социальная эффективность, интеллектуальная мощь.
Конечным результатом образования, по Д. Дьюи, должна была стать
сформированность навыков мышления, под которыми в первую очередь
понимается способность к самообучению. Целями образовательного процесса
выступают умение решать жизненные задачи, овладение творческими
навыками, обогащение опыта, а также воспитание в человеке стремления к
самосовершенствованию.
Литература
1. Дьюи Дж. Демократия и образование. М.: Педагогика – Прогресс, 2000.
2. Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления. Москва : Лабиринт,
1999.
Кейс № 3: Проблема воспитания мышления в прагматизме Д. Дьюи.
Прочитайте отрывок текста Д. Дьюи и ответьте на следующие вопросы:
1. Как понимается мышление и составляющие его элементы?
2. Что представляют собой средства воспитания мышления?
149
Глава первая. Что такое мысль?
Мы можем повторить, сказав, что начало мышления находится в каком-то
затруднении, смущении или сомнении. Мышление не является случаем
самовозгорания; оно не возникает на почве «общих принципов». Есть нечто
специфическое, что производит и вызывает его. Общее внушение ребенку (или
взрослому) подумать, независимо от существования в его личном опыте
затруднения, смущающего его и выводящего из равновесия, является настолько
же бесплодным советом, как совет поднять себя за ушки от сапог.
Если затруднение дано, то следующей ступенью является мысль о какомлибо выходе — образование плана или проекта попытки, размышление о какойнибудь теории, которая выяснит особенности положения, рассмотрение какогонибудь решения проблемы. Факты, находящиеся налицо, не могут заменить
решения; они могут только его внушить. Что же является источниками мысли?
Очевидно, прошлый опыт и прежнее знание. Если данное лицо имеет некоторое
знакомство с подобными положениями, если оно раньше имело дело с
материалом подобного же сорта, возможно, что у него возникнут мысли более
или менее подходящие и целесообразные. Но если не было в известной степени
аналогичного опыта, который может быть теперь воспроизведен фантазией,
сомнение так и остается сомнением. Не на что опереться, чтобы выяснить его.
Если перед ребенком (или взрослым) даже и стоит проблема, но у него нет
прежнего опыта, заключающего подобные же условия, то требовать, чтобы он
думал, вполне бесполезно.
Если возникшая мысль сразу принимается, то перед нами
некритическое
мышление,
minimum
рефлексии.
Обдумывать
—
вещь,
размышлять, значит искать добавочных данных, новых фактов, которые
разовьют мысль, и, как было сказано, или подтвердят ее, или сделают
очевидной ее нелепость и неприложимость. Если дано действительное
затруднение и разумное количество аналогичного опыта, на который можно
опереться, то в данном пункте находится различие par excellence между
хорошим и дурным мышлением. Самый легкий путь — это принять любую
150
мысль, которая кажется правдоподобной, и таким образом покончить с
состоянием умственной неловкости. Рефлективное мышление всегда более или
менее беспокойно, так как заключает в себе нарушение инерции, склонной
принимать мысль по ее внешнему достоинству; оно заключает согласие
перенести
состояние
рефлективное
дальнейшего
умственного
мышление
означает
исследования;
а
беспокойства
и
приостановку
суждения
приостановка
может
тревоги.
быть
Короче,
на
время
несколько
мучительной. Как мы увидим ниже, самый важный фактор в воспитании
хороших
умственных
навыков
состоит
в
приобретении
способности
задерживать заключение и в обладании различными методами подыскивать
новый материал, чтобы подтвердить или отвергнуть первые пришедшие на ум
мысли. Поддерживать состояние сомнения и вести систематическое и
медленное исследование — таковы существенные элементы мышления.
Глава третья. Естественные средства воспитания мысли
Самое значение мысли для жизни делает необходимым контролирование
ее воспитанием вследствие ее естественного стремления идти ложным путем и
вследствие существования социальных влияний, пытающихся образовать
навыки мысли, которые приводят к несоответствующим и ошибочным
понятиям. Но самое воспитание должно основываться на прирожденных
способностях, т.е. оно должно находить в них исходную точку. Существо,
которое не могло бы мыслить без воспитания, никогда не может быть научено
мыслить; можно научиться хорошо мыслить, но не мыслить вообще. Короче,
воспитание должно опираться на первоначальное и независимое существование
прирожденных способностей; дело идет о их направлении, а не о их создании.
Преподавание и учение являются такими же соответствующими процессами,
как продажа и покупка. Можно с таким же удобством утверждать, что продал,
когда никто не покупал, как и то, что преподавал, когда никто не научился. И в
учебной передаче инициатива принадлежит учащемуся даже больше, чем при
торговле покупателю. Если одного индивидуума можно научить мыслить
151
только в том смысле, чтобы экономнее и продуктивнее пользоваться силами,
которые у него есть, то еще вернее, что других можно учить, поддерживая и
обращаясь к силам, которые в них уже действуют. Действительное обращение
такого рода невозможно, если учитель не знаком с существующими навыками и
склонностями, естественными средствами, которыми он должен пользоваться.
Самым жизненным и важным фактором для пополнения первоначального
материала, из которого может возникнуть представление, является, без
сомнения, любопытство. Мудрейший из греков говорил, что удивление — мать
всякой науки. Инертный ум будет как бы ждать, чтобы опыт насильственно был
ему навязан. Многообещающие слова Уордсуорта:
The eye — it cannot choose but see:
We cannot bid the ear be still;
Our bodies feel, where'er they be,
Against or with our will
[Глаз не может не глядеть, мы не можем запретить уху слышать, наши
тела чувствуют, где бы они ни находились, помимо или согласно нашей воле.] –
справедливы,
поскольку
человеком
естественно
владеет
любопытство.
Любознательный ум постоянно на чеку и исследует, ища материала для мысли,
как сильное и здоровое тело ищет всегда питания. Стремление к опыту, к
новым и разнообразным сношениям встречается там же, где встречается
удивление. Такая любознательность является единственно верной гарантией
приобретения первоначальных фактов, на которых должен основываться
вывод.
В своем первоначальном проявлении любопытство является избытком
жизненности, выражением изобилия органической энергии. Физиологическое
беспокойство заставляет ребенка «вмешиваться во все», доставать, толкать,
разбивать, рыться. Наблюдатели животных заметили, что один автор называет
«их прирожденным стремлением играть». «Крысы бегают, нюхают, роются,
грызут без прямого отношения к делу. Таким же образом собака царапается и
прыгает, котенок бродит и ворует, выдра проползает всюду подобно подземной
152
молнии, слон беспрестанно покачивается, обезьяна теребит вещи». Самое
случайное наблюдение над деятельностью маленького ребенка вскрывает
беспрерывное проявление исследующей и испытывающей деятельности.
Объекты
сосутся,
ощупываются,
бросаются;
они
притягиваются
и
отталкиваются, хватаются и швыряются, — короче, над ними производят
опыты, пока они не перестают проявлять новые свойства. Такая деятельность
едва ли является интеллектуальной, и все же без нее умственная деятельность
была бы слабой и перемежающейся по недостатку материала, над которым
можно оперировать.
Более высокая степень любопытства или любознательности развивается
под влиянием социальных стимулов. Когда ребенок научается тому, что он
может обращаться к другим, чтобы пополнить запас опыта, так что, если у него
не хватает объектов для интересующих его опытов, то он может попросить
других доставить ему интересный материал, — тогда наступает для него новая
эпоха. «Это что?», «Почему?» становится неизбежным признаком присутствия
ребенка. В начале это спрашивание является немногим больше, чем
отражением в социальных отношениях того же физического избытка сил,
который заставлял раньше ребенка толковать и теребить, открывать и
закрывать. Он последовательно спрашивает: на чем стоит дом, на чем стоит
фундамент, поддерживающий дом, на чем земля, поддерживающая фундамент;
но его вопросы совсем не являются доказательством настоящего сознания
разумных связей. Его «почему» не является просьбой научного объяснения:
мотив, движущий
им,
просто
жажда более
широкого
знакомства с
таинственным миром, в котором он находится. Это поиски не закона или
принципа, но просто более обширного факта. Но здесь является больше, чем
простое желание собрать верные сведения, набрать разрозненные элементы,
хотя спрашивание часто грозит выродиться в простую болезнь речи. В
ощущении (как бы оно ни было смутно), что факты, с которыми
непосредственно встречаются чувства, не составляют всего, что за ними
153
скрывается,
больше
и
больше
из
них
вытекает,
лежит
зародыш
интеллектуальной любознательности.
Любознательность поднимается над органической и социальной сферой и
становится интеллектуальной на той ступени, когда превращается в интерес к
проблемам, вызванным наблюдением вещей и накоплением материала. Когда
вопрос не разрешается тем, что спрашивают другого, когда ребенок продолжает
держать его в уме и ловит все, что может помочь ответить на него, то
любознательность становится положительной интеллектуальной силой. Для
открытого ума природа и социальный опыт полны разнообразных и
заманчивых вызовов заглянуть дальше. Если зарождающиеся силы не будут в
должный момент использованы и развиты, они могут исчезнуть, умереть или
прийти в упадок. Этот общий закон особенно справедлив по отношению к
чувствительности того, что не установилось и проблематично; у немногих
людей интеллектуальная любознательность так ненасытна, что ее ничто не
обескуражит, но у большинства ее острота сглаживается и притупляется. Слова
Бэкона, что мы должны стать как маленькие дети, чтобы войти в царство науки,
напоминают в одно и то же время открытый ум и гибкий интерес детства, и ту
легкость, с какой теряются эти качества. Одни теряют их по безразличию и
беззаботности; другие — по пустому легкомыслию; многие избегают этих зол
только для того, чтобы впасть в неподвижный догматизм, настолько же
пагубный для духа удивления. Иные настолько захвачены рутиной, что
недоступны
новым
фактам
и
проблемам.
Некоторые
сохраняют
любознательность только по отношению к тому, что касается их личного
благополучия или избранной карьеры. У многих любопытство ограничивается
интересом к местным сплетням и судьбе соседей; действительно, это настолько
обычно, что первой ассоциацией при слове любопытство является нескромное
вмешательство в чужие дела. По отношению к любопытству учитель должен
обыкновенно больше учиться, чем учить. Он редко может претендовать на то,
чтобы возжечь, или даже усилить его. Его цель — скорее поддерживать
священную искру удивления и раздувать пламя, которое уже тлело. Его задача
154
состоит в том, чтобы защитить дух исследования, предохранить его от того,
чтобы от излишнего напряжения он не притупился, не одеревянел от рутины,
не окаменел от догматических внушений или не рассеялся благодаря
бесцельному упражнению над ничтожными вещами.
Глава двенадцатая. Активность и воспитание мышления
Когда вещи становятся знаками, когда они приобретают способность
представлять, обозначать другие вещи, то игра из простого избытка физических
сил
превращается
в
деятельность,
включающую
умственный
фактор.
Наблюдали, что маленькая девочка, сломав куклу, проделывала с ногой куклы
весь процесс умывания, укладывания в постель и ласки, как привыкла
поступать с целой куклой. Часть заменила целое, она реагировала не на
чувственно данный стимул, но на понятие, вызванное чувственным объектом.
Так, дети употребляют камень вместо стола, листья вместо тарелок, желуди
вместо чашек. Так, они пользуются куклами, поездами-кирпичиками и другими
игрушками. Занимаясь ими, они живут не с физическими вещами, но в
широком мире понятий, естественных и социальных, вызванных этими вещами.
Так, когда дети играют в лошадки, играют в лавку, в домашнее хозяйство или
команду, то они подчиняют физически данное идеальному обозначению. Таким
путем определяется и строится мир понятий, запас концепций (самых основных
для всякого интеллектуального развития). Кроме того, понятия не только
становятся таким образом близкими знакомыми, но они организуются,
распределяются в группы, могущие, быть связно соединены. Игра и рассказ
незаметно сливаются. Самые причудливые игры детей редко теряют всякую
связь со взаимоотношением и соответствием друг другу различных понятий,
самые «свободные» игры соблюдают известные принципы связи и единства.
Они имеют начало, середину и конец. В общественных играх правила порядка
проникают в различные мелкие действия и соединяют их в связное целое. Ритм,
соперничество и совместная деятельность, заключающиеся в большинстве игр,
также вводят организацию. Нет, следовательно, ничего таинственного, или
155
мистического, в открытии, сделанном Платоном и повторенном Фребелем, что
игра является главным, почти единственным способом воспитания ребенка в
годы его относительно позднего младенчества.
Игривость является более важным переживанием, чем игра. Первая
представляет состояние долга, последняя является преходящим внешним
проявлением этого состояния. Когда вещи рассматриваются просто как
проводники
Следовательно,
представлений,
игривое
то
состояние
представляемое
—
свободно.
побеждает
Человек
не
вещь.
связан
физическими признаками вещей, он не заботится также о том, означает ли (как
мы говорим) вещь действительно то, что она для него представляет. Когда
ребенок играет в лошадки с половой щеткой и в поезд из стульев, то факт, что
щетка не представляет в действительности лошадь, а стул — локомотив, не
имеет значения. Для того, чтобы в дальнейшем склонность к игре не привела к
произвольной мечтательности и к построению мира фантазии наряду с миром
действительных вещей, необходимо, чтобы состояние игры постепенно
перешло в состояние работы.
Что такое работа, работа не только как внешнее выполнение, но как
состояние ума? Это значит, что человек уже не удовлетворяется признанием и
действием со значениями, вызываемыми вещами, но требует соответствия
значения самим вещам. При естественном развитии дети приходят к тому, что
находят несоответствующими вполне «нарочные» игры. Фикция — слишком
легкий путь, чтобы дать удовлетворение. Здесь не достаточно стимулов, чтобы
вызвать удовлетворительную умственную реакцию. Когда достигнут этот
пункт, то идеи, вызываемые вещами, должны прилагаться к вещам с известным
вниманием к их соответствию. Маленький вагон, похожий на «настоящий»
вагон, с «настоящими» колесами, стрелкой и островом, лучше удовлетворяет
умственную потребность, чем простое утверждение, что все, попадающееся под
руку, представляет вагон. Случайное участие в накрывании «настоящего» стола
с «настоящими» тарелками удовлетворяет больше, чем прежнее утверждение,
что плоский камень — стол, а листья — блюда. Интерес может все еще
156
сосредотачиваться на значениях, вещи могут иметь значение, только поскольку
они выполняют известное значение. Поскольку это еще состояние игры. Но
теперь значение имеет такой характер, что должно находить соответственное
воплощение в действительных вещах.
Наше словоупотребление не позволяет нам называть такую деятельность
работой. Однако она представляет действительный переход от игры к работе.
Ибо работа (как состояние ума, а не просто как внешнее выполнение) означает
интерес к соответствующему воплощению значения (представления, цели,
задачи)
в
объективной
форме
путем
использования
соответствующих
материалов и применений. Такое состояние извлекает преимущества из
понятий, возникших и построенных при свободной игре, контролирует их
развитие, наблюдая, чтобы они прилагались к вещам соответственно
наблюдаемому строению самых вещей.
Этот пункт различия между игрой и работой может быть выяснен путем
сравнения
с
более
обычным
способом
установления
разницы.
При
деятельности в игре, говорят обыкновенно, интерес деятельности заключается в
ней самой; в работе он заключается в продукте или результате, к которому
деятельность приводит. Следовательно, первый вполне свободен, между тем
как последний связан целью, которая должна быть достигнута. Когда различие
устанавливается таким резким образом, то почти всегда вводится ложное,
противоестественное отделение процесса от результата, действия — от
достигнутого совершения.
Истинное различие — не между интересом к деятельности ради ее самой
и интересом к внешнему результату этой деятельности, но между интересом к
деятельности, именно как она протекает из момента в момент, и интересом к
деятельности, как стремящейся к достижению высшей степени, к результату и
поэтому обладающей признаком непрерывности, связующей последующие
ступени. Оба могут одинаково представлять интерес к деятельности «ради нее
самой», но в одном случае деятельность, к которой относится интерес, более
или менее случайна, следует случайным обстоятельствам и капризу или
157
внушению; в другом — она обогащена сознанием, что приводит куда-то, что
достигает чего-то.
Если бы ложная теория отношения состояния игры и работы не была
связана с неудачными приемами школьной практики, то отстаивание более
правильного взгляда могло бы показаться излишней пунктуальностью. Но
резкая граница, существующая, к сожалению, между детским садом и классами,
является доказательством того, что теоретическое подразделение имеет
практические применения. Под названием игры первый (т.е. детский сад)
становится несправедливо символичным, мечтательным, сентиментальным и
произвольным; между тем как под противоположным названием работы
последние (т.е. классы) содержат много признаков извне данных работ. Первый
не имеет цели, а последние содержат такую отдаленную цель, что только
воспитатель, а не ученик сознает, что это цель.
История культуры показывает, что научные знания человечества и его
технические способности развивались, особенно на первоначальных ступенях,
из основных проблем жизни. Анатомия и физиология выросли из практических
потребностей поддержания здоровья и деятельности; геометрия и механика —
из потребности измерять землю, строить и делать машины, экономизирующие
труд, астрономия была тесно связана с мореплаванием, давая отчет в течении
времени; ботаника выросла из требований медицины и агрономии; химия была
связана с окрашиванием, металлургией и другими ремесленными занятиями.
Наоборот, современная индустрия почти всецело является делом прикладной
науки. Год за годом все суживается область рутины и грубого эмпиризма
благодаря превращению научного открытия в промышленное изобретение.
Автомобиль, телефон, электрическое освещение, паровая машина, со всеми их
революционными последствиями для социальных отношений и общественной
силы, являются плодами науки.
Эти факты полны воспитательного значения. Большинство детей по
своим склонностям по преимуществу активны. Школы вследствие этого
предприняли, больше из утилитарных, чем чисто воспитательных мотивов,
158
большое число активных занятий, обычно группируемых под названием
ручного труда, включая сюда школьные сады, экскурсии и разные графические
искусства. Может быть, наиболее насущной проблемой воспитания в настоящее
время является организация и объединение этих предметов так, чтобы они
сделались средствами для образования быстрых, постоянных и плодотворных
навыков мысли. Общепризнано, что они захватывают самые первоначальные,
прирожденные потребности детей (обращаясь к их желанию действовать);
приобретает признание и то, что они дают большую возможность воспитания
самостоятельных и действительных социальных качеств. Но они могут быть
также использованы для выставления типичных проблем, которые должны
решаться личным размышлением и опытом, приобретением определенного
запаса знаний, приводящих далее к более специальным научным знаниям. В
действительности нет такого волшебства, при помощи которого чисто
физическая деятельность или слепая деятельность рук, могла бы привести к
интеллектуальным результатам. Ручной труд может также преподаваться по
рутине, путем внушения или на основании условностей, как и книжные
предметы. Но разумное, последовательное занятие садоводством, стряпней или
тканьем или простыми деревянными и железными изделиями может быть
планомерным, что неизбежно приведет учеников не только к накоплению
сведений, имеющих практическое и научное значение в ботанике, зоологии,
химии, физике и других науках, но и (что имеет большое значение) сделает их
осведомленными
в
методах
экспериментального
исследования
и
доказательства.
Что элементарный круг занятий перегружен — это общая жалоба.
Единственная альтернатива от реакционного возврата к воспитательным
традициям
прошлого
заключается
в
разработке
интеллектуальных
возможностей, заключающихся в разных искусствах, ремеслах и занятиях и
соответственной реорганизации круга занятий. Здесь, более чем где-либо,
найдены средства, благодаря которым слепой и рутинный опыт расы может
быть превращен в углубленный свободный эксперимент.
159
Извлечение из: Дьюи Д. Психология и педагогика мышления / Пер. с
англ. Н.М. Никольской. – М.: Совершенство, 1997.— 208 с. // [Электронный
ресурс] URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/mysl/index.php (дата
обращения 16.09.2015)
160
Ричард Маккей Рорти
(4.10.1931–8.08.2007)
URL: http://www.pensament.com/filoxarxa/imatges/Rorty2.jpg
Американский
философ.
Родился в Нью-Йорке, его родители,
Джеймс и Уинифред Рорти, были
писателями и социал-демократами.
В своей небольшой автобиографии
Рорти
описал
определившие
две
с
детства
темы,
его
развитие. Во-первых, это тема дела
Л. Троцкого, породившая интерес к общественным проблемам: «Когда мне
было 12 лет, самыми важными книгами на полках моих родителей были два
тома в красных переплетах: “Дело Льва Троцкого” и “Невиновен”. Это были
отчеты Комиссии Дьюи по расследованию московских процессов. Я не читал
эти книги с таким увлечением, с каким я читал “Psychopathia Sexualis” КраффтЭбинга, но я относился к ним так, как другие дети относятся к семейной
Библии: это были книги, которые распространяли вокруг себя искупительную
истину и нравственное сияние. Если бы я был по-настоящему хорошим
мальчиком, говорил я себе, я бы прочел не только отчеты комиссии Дьюи, но и
“Историю русской революции” Троцкого. Я брался за нее много раз, но так и не
смог дочитать до конца. В 1940-х годах русская революция и ее предательство
Сталиным были для меня тем же, чем Пришествие и его предательство
католиками было для маленьких, не по годам развитых лютеранских мальчиков
400 лет назад» [1]. Во-вторых, это совершенно индивидуальный интерес к
орхидеям: «когда мои родители жили в горах северо-западного Нью-Джерси,
мои интересы переключились на орхидеи. В этих горах встречается 40 видов
диких орхидей, я в конце концов нашел 17. Дикие орхидеи редки, и их
довольно сложно обнаружить. Я был невероятно горд тем, что был
161
единственным в этих краях, кто знал, где они растут, знал их латинские
названия и время цветения. Когда я бывал в Нью-Йорке, я шел в Публичную
библиотеку на 42-ой улице, чтобы еще раз перечитать в ботанической книге
XIX века статью об орхидеях востока Соединенных Штатов.
Я не вполне понимал, почему эти орхидеи столь важны, но я был просто
убежден в их чрезвычайности. Я был уверен, что наши благородные, чистые,
целомудренные, дикие северо-американские орхидеи нравственно выше
пестрых, тропических орхидей-гибридов с витрин цветочных магазинов. Я был
также убежден, что существует особый важный смысл в том, что орхидеи —
самые поздние и сложные растения, развившиеся в процессе эволюции.
Оглядываясь назад, я вижу во всем этом немало сублимированной
сексуальности (конечно, орхидеи самые сексуальные из цветов), и мое желание
узнать о них все было, наверно, связано с моим желанием понять все
незнакомые слова у Крафт-Эбинга.
Хоть и с трудом, но я осознавал, что в моем эзотерическом интересе к
социально бесполезным цветам было нечто сомнительное. Я читал (мне,
умному, неуклюжему, единственному в семье ребенку было предоставлено
огромное количество свободного времени) и “Мариуса-Эпикурейца”, и
марксистскую критику эстетических учений отцов церкви. “Литературу и
Революцию” Троцкого я прочитал от корки до корки и боялся, что он не
разделил бы моего интереса к орхидеям» [1]. Рорти сначала полагал каким-либо
образом объединить эти две темы, но пришел к выводу, что они всегда будут
существовать параллельно.
В возрасте 15 лет Рорти поступил Чикагский университет, где получил
степень бакалавра, а позже магистра. В 1952-1956 гг. учился в Йельском
университете, получил ученую степень доктора философии. Служил 2 года в
армии, три года преподавал в колледже Уэллсли. С 1961 г. работал
профессором в Принстонском университете. С 1982 года — профессор
Вирджинского университета, лауреат стипендии Мак-Артура.
162
Философия
Хайдеггера,
Рорти
опирается
Гадамера,
на идеи
Витгенштейна.
Джеймса, Дьюи,
Рорти
критикует
Ницше,
сциентизм
аналитической философской традиции, но также отрицает метафизику.
Рорти противопоставляет свои
взгляды западному рационализму,
осуществляет поворот от эпистемологии к герменевтическому постижению
мира, «от теории к повествованию» и «разговору». Философ деконструирует
традиционные
составляющие
систематической
философии:
онтологию,
концепцию сознания, идеи разума и рассудка, понятия истины, сущности,
объективности и др. Для Рорти является важным преодоление разделения
методологии естественнонаучную и гуманитарную, в котором предполагается,
что между «строгими» науками (естествознанием и математикой), философией
и
гуманитарными
науками
нет
принципиального
различия.
Поэтому
естественные науки не могут претендовать на истинное познание мира.
В работе «Философия и зеркало природы» (1979) Рорти критикует
западную культуру за то, что она отдает приоритет знанию и науке. Основную
роль играет философия, которая развитием своей проблематики активно
способствовала утверждению исключительной привилегии знания и познания.
Наука и знание отождествляются с истинным, объективным и универсальным
представлением о реальности начиная с Платона. Такое представление
переживает подъем в эпоху Нового времени в философии Декарта и Локка,
которые положили начало философскому исследованию сознания и наделили
философию
способностью
априори
обосновывать
эмпирические науки.
Сознание, дух, разум представляют собой зеркало, отражающее окружающий
мир и природу. Рорти также показывает, что Кант был философом, который
сделал основные проблемы современной философии каноническими, а также
философию – профессиональной академической дисциплиной. Вопросы границ
познания в дальнейшем были поставлены с точки зрения языка.
Наука должна рассматриваться как социальная и культурная практика,
существующая наряду с другими. Она является одной из множества языковых
игр. Также научная истина не должна иметь какие-либо преимущества перед
163
другими способами познания реальности, и признаваться нейтральной,
объективной и независимой от субъективных интересов людей. Научная истина
является результатом согласия, аргументации, дискуссии и солидарности.
Рорти полагает, что познание не имеет превосходства над разговором, поэтому
самое важное в дискуссии придти к согласию, а не к некой объективной истине.
Философия Р.Рорти, несмотря на ярко выраженный постмодернистский
характер, наследует традиции американского прагматизма. Так, например, он
использует разделение на мягкие и жесткие типы темпераментов в философии,
а также сам обращается к важности не только интерпретации мира, но и
действия, практики. «С прагматической, анти-репрезентативистской точки
зрения на природу убеждений, которую я разделяю с Дьюи, убеждения
и желания (и интенциональные состояния вообще), являются характеристиками
(habits) действия. Поэтому, нет никакого смысла проводить разграничение
между убеждениями по поводу фактов и убеждениями по поводу ценностей,
разграничения того рода, которые привыкли проводить репрезентативисты.
Именно поэтому нет никакой надобности беспокоиться о том, где кончается
научная попытка точной научной репрезентации мира и где начинается
попытка изменения мира. Мы всегда пытаемся изменить мир, ибо все наши
убеждения и желания составляют часть попытки придать такую форму
окружающей среде, которая соответствовала нашим потребностям. Для
прагматистов не может быть никакого напряжения между поиском истины
и поиском счастья, ибо первый является просто разновидностью второго», [2] –
отмечает философ.
Литература
1. Рорти Р. Троцкий и дикие орхидеи // Неприкосновенный
запас. — 2001. — № 3. // http://magazines.russ.ru/nz/2001/3/rort.html
2. Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность [Электронный
ресурс] // URL:http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5152
164
Кейс № 4: Проблема познания в аспекте постмодернистской
рецепции прагматизма Р.Рорти
Прочитайте отрывок текста Р. Рорти и ответьте на следующие вопросы:
1. Каким образом в философии появилось понятие «сознание»,
разделение на внутреннее и внешнее, а также «эпистемология занавеса
идей»?
2. Как понимается путь развития философии, а также ее
современное состояние?
…у
греков
нет
способа
отделить
«состояния
сознания»
или
«сознательные состояния» — события внутренней жизни — от событий во
«внешнем мире». Декарт, с другой стороны, использовал «мысль», чтобы включить в этот термин сомнение, понимание, утверждение, отрицание, желание,
отказ, воображение и чувствование, и говорил, что даже если мне снится, что я
вижу свет, «это, собственно, то, что именуется моим ощущением, причем
взятое в этом смысле ощущение есть ничто иное, как мышление». Как только
Декарт укрепился в такого рода терминологии, Локк смог использовать термин
«идея» таким образом, что для него совсем нет греческого эквивалента, а
именно как значащий «все, что представляет объект понимания, когда человек
мыслит» или «всякий непосредственный объект ума при мышлении».
Как сказал Кении, современное использование слова идея идет от Декарта
через Локка, «и Декарт сознательно придал ему новый смысл... а
систематическое использование его для обозначения содержания человеческого
ума было отклонением от прежней практики». Более важно то, что, несмотря на
всю силу философского искусства, не существует термина в греческой и
средневековой традиции, равнообъемного слову «идея», используемого
Декартом и Локком. Это же относится к концепции человеческого ума как
внутреннего пространства, в котором боль и ясные и отчетливые идеи
предстают перед единым Внутренним Глазом. Были, конечно, понятия скрытой
165
мысли, разрешающейся внутри, foro interno, и тому подобное. Новизна понятия
единого внутреннего пространства, в котором телесные и чувственные
ощущения (говоря словами Декарта, «смешанные в одно идеи чувства и
воображения»), математические истины, моральные правила, идея Бога, виды
депрессии и все остальное, что мы называем «ментальным», были объектами
квази-наблюдения. Такая внутренняя арена со своим внутренним наблюдателем
много раз предлагалась в античной и средневековой мысли, но никогда не
рассматривалась достаточно серьезно в течение долгого времени, чтобы
представить проблему. Но XVII век принял ее достаточно серьезно и позволил
ей
поставить
проблему
занавеса
идей,
проблему,
которая
сделала
эпистемологию центральной в философии.
Есть философский метод, который вообще ничего хорошего не дает —
это
«анализ значений». Каждый человек вполне понимает значения,
подразумеваемые другим человеком. Проблема тут в том, что одна сторона
считает, что таких значений слишком много, а другая сторона — что слишком
мало. В этом отношении самой близкой аналогией будет конфликт между
вдохновленными теистами и невдохновленными атеистами. Вдохновленный
теист — это тот, кто «просто знает», что есть сверхъестественные существа,
которые играют определенные объяснительные роли в рассмотрении естественных феноменов. (Их не следует путать с естественными теологами, которые
предлагают сверхъестественное в качестве наилучшего объяснения этих
феноменов.) Вдохновленные теисты унаследовали свою картину вселенной,
разделенной на два великих онтологических царства — сверхъестественного и
естественного — вместе с соответствующими языками. Способ, которым они
говорят о вещах, сложнейшим образом связан — или он кажется таковым — с
понятием божественного. Концепция сверхъестественного в роли «теории»
поражает нас не больше, чем концепция ментального в роли такой теории.
Когда они сталкиваются с атеистами, они рассматривают их как людей,
которые не знают, что происходит, хотя они допускают, что атеисты способны
предсказывать природные феномены и весьма успешно управлять ими.
166
(«Прославим небеса, — говорят они, — что мы не такие, как эти естественные
теологи, а то в противном случае мы потеряли бы всякий контакт с
реальностью».) Атеисты же рассматривают теистов как людей, которые
используют слишком много слов в своем языке и слишком много значений,
чтобы можно было беспокоиться по этому поводу. Атеисты-энтузиасты
объясняют вдохновленным теистам, что «все, что существует реально, есть...»,
а теисты отвечают, что надо понимать, что есть гораздо больше вещей на земле
и небе... И так продолжается все время. Философы с обеих сторон могут
анализировать значения до посинения, но всякий такой анализ является либо
«прямым» и «редуктивным» (то есть «не рассудочным» анализом религиозного
дискурса, который является аналогом «экспрессивных» теорий отчетов о боли),
либо просто описанием альтернативных «форм жизни», кульминацией которых
является не слишком-то просветляющее восклицание: «Тут играется языковая
игра». Игра теистов существенна для их самоимиджа, точно так же, как
существенен для западного интеллектуала имидж Зеркальной Сущности
человека, но ни один из них не имеет более широкого доступного контекста для
оценки этого имиджа. Да и откуда появиться такому контексту?
Ну, вероятно, из философии. Когда эксперимент и «анализ значения»
терпят неудачу, философы традиционно обращаются к системосозиданию,
изобретая новый контекст, так сказать, не сходя с места. Обычная стратегия
состоит в том, чтобы найти компромисс, который позволит обеим сторонам —
тем, кто любит бритву Оккама (например, материалистам, атеистам), и тем, кто
верен тому, что они «просто знают», — рассматривать себя как достигших
«альтернативных перспектив» некоторой большей реальности, сделать наброски которой — дело рук философов. Таким образом, мягко настроенные
философы встали над «войной между наукой и теологией», и рассматривают
Бонавентуру и Бора как людей, обладающих различными, неконкурирующими
«формами сознания». На вопрос — «сознание о чем?» — отвечают чем-то
вроде — «о мире», или «о вещах-в-себе», или «о чувственном многообразии»,
или «о стимуляциях». Но неважно, какой из этих вариантов предлагается, так
167
как все они являются частью искусства, предназначенного именовать
сущности, не обладающие интересными особенностями, за исключением лишь
присущей им безмятежной нейтральности. Аналогом этой тактики среди
жестко настроенных философов ума является нейтральный монизм, где
ментальное и физическое рассматриваются в качестве двух «аспектов»
некоторой лежащей в основе реальности, в дальнейшем описании которой нет
нужды. Иногда нам говорят, что эта реальность познается интуицией (Бергсон),
или же тождественна сырому материалу ощущений (Рассел, Айер), а иногда
она просто постулируется в качестве единственного средства избегания
эпистемологического скептицизма (Джеймс, Дьюи).
Эпистемология занавеса идей, которая взяла верх в философии XVII века,
трансформировала скептицизм из академического любопытства (пирроновский
скептицизм) и конкретных и локальных теологических вопросов (авторитет
Церкви
против
индивидуального
прочтения
Священного
Писания)
в
культурную традицию. Это было проделано за счет возникновения нового
философского жанра — системы, связывающей вновь субъект и объект. С тех
пор их примирение было целью философской мысли. Райл и Виттгенштейн
ошибались, когда говорили, что с картиной XVII века, которая держала нас в
плену, было не все в порядке, и это видно из того, что в обыденной жизни мы
не испытываем трудностей в решении того, что обладает умом, а что — нет,
или того, продолжает ли стол существовать при отсутствии его восприятия.
Такая аргументация может быть уподоблена утверждению, что имитация
Христа не может быть подходящим идеалом по той причине, что в обыденной
жизни мы не испытываем затруднений при осознании границ, налагаемых на
любовь
благоразумием
и
себялюбием.
Образы,
которые
порождают
философские (и поэтические) традиции, вряд ли заметны за границами
исследования, точно так же, как советы по совершенствованию, предлагаемые
религией, вряд ли блюдутся в обычные дни недели. Если философия есть
попытка видеть, как «вещи, в наиширочайшем смысле этого термина,
соединяются в целое в наиширочайшем смысле этого слова», тогда она всегда
168
будет включать конструирование образов, которые будут иметь характерные
проблемы и порождать характерные жанры литературы. Можно даже сказать,
что я и делаю, что образ XVII века изжил себя, что традиция, которая его
инспирировала, потеряла свою жизненность. Но такая критика его — совсем
другое дело по сравнению с утверждением, что эта традиция исказила или не
сумела решить проблему. Скептицизм и главный жанр современной философии
имеют симбиотические отношения. Одно живет смертью другого и умирает за
счет его жизни. Не следует рассматривать философию ни как достижение
успеха в «ответе скептицизму», ни как какой-то пустяк, поскольку известно,
что невозможно ответить на скептический вызов.
Представление
о
том,
что
существует
автономная
дисциплина,
называемая философией, отличная одновременно от религии и науки и в то же
время опирающаяся на них, — совсем недавнего происхождения. Когда Декарт
и Гоббс осуждали «философию схоластов», они не полагали, что предлагают в
качестве замены новый и лучший вид философии — более удовлетворительную
теорию познания, или лучшую метафизику, или лучшую этику. Подобные
различия между «областями философии» еще не были проведены. Идея самой
«философии», в том смысле, в котором она понимается, начиная с XIX века,
когда ее предмет стал стандартным предметом образования, еще не
существовала. Оглядываясь назад, мы считаем Декарта и Гоббса «зачинателями
новой (modern) философии», но они сами рассматривали собственную
культурную роль сквозь призму (по выражению Леки [Lecky]) «войны между
наукой и теологией». Они воевали (хотя и с благоразумной осторожностью) с
целью сделать интеллектуальный мир более безопасным для Коперника и
Галилея. Они не считали, что предлагают «философские системы», и рассматривали свой труд как вклад в процветание исследований по математике и
механике, а также в освобождение интеллектуальной жизни от церковных
институтов. Гоббс определял «философию» как «познание, достигаемое
посредством
правильного
рассуждения
(per
rectam
radiocinationem)
и
объясняющее действия, или явления, из познанных нами причин». У него не
169
было желания отделять сделанное им от того, что называлось «наукой». Только
с Кантом пришло различие между наукой и философией. Пока не была
сломлена власть церкви над наукой и образованием, энергия людей, которых
мы считаем «философами», была направлена на демаркацию своей деятельности от религии. Только после того, как эта битва была выиграна, на
повестку дня встал вопрос об отделении философии от науки.
В конце XIX века философы совершенно обоснованно беспокоились о
будущем своей дисциплины. С одной стороны, возникновение эмпирической
психологии подняло вопрос: «Что нам нужно знать о познании, чего не может
нам сказать психология?» Со времени попытки Декарта сделать мир
безопасным для ясных и отчетливых идей и кантовской попытки сделать его
безопасным для синтетических априорных истин, эпистемология доминировала
над онтологией. Поэтому «натурализация» эпистемологии через психологию
предполагала, что простой и смягченный физикализм мог бы быть единственным видом требуемого онтологического взгляда. С другой стороны, традиция
германского идеализма отклонилась — в Англии и Америке — в сторону того,
что
называется
«продолжением
протестантизма
другими
средствами».
Идеалисты пытались спасти «духовные ценности», которые отрицались
физикализмом, путем использования берклианских аргументов для избавления
от материальной субстанции, а также использования гегелевских аргументов
для избавления от индивидуального эго (в то же время решительно игнорируя
гегелевский историцизм). Но мало кто принял серьезно эти высокоумные
попытки. Ревностный редукционизм Бейна и Милля и ревностный романтизм
Ройса привели как эстетических иронистов типа Джеймса и Брэдли, так и
социальных
реформаторов
типа
молодого
Дьюи,
к
провозглашению
нереальности эпистемологических проблем и решений. Они спровоцировали
радикальную критику «истины как соответствия» и «знания как точности
репрезентаций», ставя таким образом под угрозу все кантовское представление
философии в качестве метакритики частных дисциплин. Одновременно такие
разные философы, как Ницше, Бергсон и Дильтей, подрывали некоторые из
170
таких же кантианских предположений. Некоторое время казалось, что
философия могла бы раз и навсегда отвернуться от эпистемологии, от поисков
достоверности, структуры и строгости и от попыток утвердить себя в качестве
трибунала разума.
Дух игривости, который как будто готов был войти в философию около
1900 года, был, однако, подавлен в зародыше. Точно так же, как математика
инспирировала изобретение Платоном «философского мышления», так и
серьезно настроенные философы обратились к математической логике для того,
чтобы
избавиться
от
обильных
сатирических
нападок
их
критиков.
Парадигмальными фигурами в этой попытке возродить математический дух
были Гуссерль и Рассел. Гуссерль считал, что философия заперта между
«натурализмом»
и
«историцизмом»,
которые
не
давали
того
вида
«аподиктических истин», которые, по заверению Канта, были родимыми
пятнами философов. Рассел присоединился к Гуссерлю в осуждении
психологизма, который проник в философию математики, и провозгласил
логику сущностью философии. Движимые потребностью в нахождении чего-то
такого, о чем возможны аподиктические суждения, Рассел открыл «логическую
форму», а Гуссерль — «сущности», «чисто формальные» аспекты мира,
которые выявлялись при «выведении за скобки» всего неформального.
Открытие этих привилегированных репрезентаций вновь привело к поиску
серьезности, чистоты и строгости, поиску, продолжавшемуся целых сорок лет.
Но в конце поиска, еретические последователи Гуссерля (Сартр и Хайдеггер) и
еретические последователи Рассела (Селларс и Куайн) подняли те же самые
вопросы о возможности аподиктической истины, которые Гегель поднимал в
отношение Канта. Феноменология постепенно транс формировалась в то, что
Гуссерль в отчаянии назвал «просто антропологией», а «аналитическая»
эпистемология
(то
есть
«философия
науки»)
становилась
все
более
историцистской и все менее «логической» (как в работах таких философов, как
Хэнсон, Кун, Харре и Гессе). Поэтому, через семьдесят лет после появления
«Философии как строгой науки» Гуссерля и «Логики как сущности
171
философии» Рассела мы опять стоим перед мнимой опасностью, с которой
столкнулись авторы этих манифестов: если философия становится слишком
натуралистической, непримиримые позитивные дисциплины оттолкнут ее в
сторону;
если
она
становится
слишком
историцистской,
тогда
интеллектуальная история, литературная критика и подобные уязвимые
«гуманитарные дисциплины» поглотят ее.
Как только разговор заменяет конфронтацию, представление об уме как
Зеркале Природы может быть отброшено. Тогда понятие философии как
дисциплины, которая ищет привилегированные репрезентации среди тех,
которые учреждают Зеркало, становится непостижимым. Всепроникающий
холизм не имеет места в представлении о философии как «концептуальной»,
как «аподиктической», как указывающей «основания» остального знания, как
объясняющей, какие репрезентации являются «чисто данными» или «чисто
концептуальными», как представляющей «каноническое обозначение», а не
эмпирическое открытие, или же как изолирующей «межконцептуальные
вспомогательные категории». Если мы рассматриваем познание как вопрос
разговора и социальной практики, а не попытку отразить (в зеркале) природу,
мы не будем вовлечены в метапрактику, которая будет критикой всех
возможных форм социальной практики. Поэтому холизм приводит, как
детально аргументирует Куайн и походя упоминает Селларс, к концепции
философии, которая не имеет ничего общего с поисками достоверности.
Эпистемологический бихевиоризм (который мог бы быть назван
попросту «прагматизмом», если бы этот термин не был слишком перегружен)
не имеет ничего общего со взглядами ни Уотсона, ни Райла. Скорее, это
утверждение, что философии нечего предложить, кроме здравого смысла,
относительно познания и истинности (дополненных биологией, историей и т.
д.). Вопрос вовсе не в том, чтобы предложить необходимые и достаточные
бихевиористские условия для «S знает, что р»; никто больше и не мечтает об
этом. Это также и не вопрос, могут ли быть предложены такие условия для «S
видит, что р», или «S кажется, что р», или «S имеет мысль, что р».
172
Приверженность бихевиоризму в широком смысле, в котором бихевиористами
являются
Куайн
и
Селларс,
состоит
не
в
том,
чтобы
предлагать
редукционистский анализ, а в том, чтобы отказаться от попыток определенного
сорта объяснения: а именно такого сорта объяснений, которые не только
помещают понятия типа «знакомство со значениями» или «знакомство с
сенсорными явлениями» между воздействием среды на человеческие существа
и отчетами о них, но также используют эти понятия для объяснения
надежности этих отчетов.
Я полагаю, что взгляд, согласно которому эпистемология или некоторая
наследующая ей дисциплина необходима для культуры, смешивает две роли,
которые мог бы играть философ. Первая — это роль информированного
дилетанта, полиграмматика, сократического посредника между различными
дискурсами. В его, так сказать, салоне у герменевтических мыслителей
выведываются
их
самодостаточные
практики.
Разногласия
между
дисциплинами и дискурсами сглаживаются или превосходятся в ходе
разговора. Вторая — это роль надзирателя, который знает общие основания для
всего, — роль философа-царя Платона, который знает о том, что на самом деле
делают остальные, независимо от того, знают они об этом или нет, потому что
он знает все об окончательном контексте (Формы, Ум, Язык), в рамках
которого они делают это. Первая роль сродни герменевтике, а вторая —
эпистемологии. Герменевтика рассматривает отношения между различными
дискурсами как отношения между частями проблемы в возможном разговоре,
разговоре, который не предполагает дисциплинарной матрицы, объединяющей
участников разговора, но где надежда на соглашение не теряется, пока идет
разговор.
Это
надежда
не
того
рода,
когда
ожидается
открытие
существовавшего до того общего основания, но просто надежда на согласие
или, по крайней мере, на волнующее и плодотворное разногласие. Эпистемология рассматривает надежду на согласие как знак существования общего
основания, которое, будучи наверняка неизвестным для говорящих, объединяет
их в общей для всех рациональности. С точки зрения герменевтики, быть
173
рациональным это значит желать освободиться от эпистемологии — от взгляда,
согласно которому существует специальное множество терминов, в которое
должно уложить все возможные результаты разговоров, и желать освоить
жаргон собеседника, а не переводить его в свой собственный. С точки зрения
эпистемологии, быть рациональным — значит найти подходящее множество
терминов, в которые должны быть переведены все результаты для того, чтобы
соглашение стало возможным. В рамках эпистемологии разговор представляет
неявное исследование. В рамках герменевтики исследование представляет
рутинный разговор. Эпистемология рассматривает участников разговора как
людей, объединенных тем, что Оукшотт называет universitas, — то есть как
группу, объединенную взаимными интересами в достижении общей цели.
Герменевтика рассматривает их как группу, объединенную тем, что он
называет societas, — то есть как людей, чьи жизненные дороги пересеклись,
объединенных, скорее, вежливостью, нежели общей целью, и еще меньше,
общим основанием.
Здесь, наконец, я прихожу к предположению, которым я завершил
последний раздел, — что суть наставительной философии состоит в том, чтобы
поддерживать разговор, а не в том, чтобы искать объективную истину. Такая
истина, согласно защищаемому мною взгляду, есть нормальный результат
нормального дискурса. Наставительная философия не только анормальна, но и
является по сути своей реакцией, протестом против попыток закрыть разговор
по причине универсальной соизмеримости через гипостазирование некоторого
привилегированного множества описаний. Опасность, которой наставительная
философия хочет избежать, состоит в том, что некоторый заданный словарь,
некоторый способ осмысления людьми самих себя, может ввести их в
заблуждение, суть которого в том, что отныне все дискурсы могут, или должны
быть, нормальными. Результирующее замораживание культуры могло бы быть,
в глазах философов-наставников, дегуманизацией человеческих существ.
Философы-наставники, таким образом, согласны с выбором Лессинга, который
предпочел бесконечную жажду истины «всей Истине». Потому что для
174
философа-наставника сама мысль о представлении «всей Истины» абсурдна,
потому что абсурдно само платонистское понятие Истины. Оно абсурдно либо
как представление об истине о реальности, которая не есть реальность-приопределенном-описании, либо как представление об истине при некотором
привилегированном описании, которое делает не необходимыми все другие
описания, поскольку все они соизмеримы друг с другом.
Взгляд на поддержание разговора как на достаточную цель философии,
взгляд на мудрость как на способность поддерживать разговор равнозначен
скорее взгляду на человеческие существа как на генераторов новых описаний,
нежели как на существа, способные, следует надеяться, к точному описанию.
Считать целью философии истину, а именно истину относительно терминов,
которые обеспечивают окончательную соизмеримость всех видов человеческой
деятельности и практики — значит считать человеческие существа скорее
объектами, нежели субъектами, существующими en-soi, нежели pour-soi и ensoi вместе, описываемыми объектами и описывающими субъектами вместе.
Полагать, что философия позволит нам рассматривать сам описывающий
субъект как некоторого рода описываемый объект, значит полагать, что все
возможные описания могут считаться соизмеримыми с помощью одного
описательного словаря, а именно самой философии. Потому что если бы мы
имели
такое
понятие
идентифицировать
универсального
описания,
мы
могли
человеческие-существа-при-данном-описании
бы
с
человеческой «сущностью». Только с таким понятием представление о том, что
человек имеет сущность, имело бы смысл, независимо от того, понимается ли
сущность как познание сущностей или же нет. Поэтому даже не говоря, что
человек есть одновременно субъект и объект, pour-soi, как en-soi, мы схватываем нашу сущность. Мы не можем избегнуть платонизма, сказав, что „наша
сущность состоит в том, что мы не имеем сущности», если мы постараемся
использовать это прозрение в качестве основания для конструктивной и
систематической попытки.
175
Извлечение из: Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск,
1997. // [Электронный ресурс] URL: http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5141(дата
обращения 16.09.2015)
176
Неопозитивизм и постпозитивизм
ХХ век был веком перемен и значительных изменений во всех сферах
человеческой жизни – в литературе, живописи, истории, медицине, и, в первую,
очередь в науке. Особенности духовной жизни общества нашли свое отражение
в различных философских течениях. Наиболее значимыми философскими
течениями ХХ века можно назвать прагматизм, марксизм, персонализм,
структурализм, фрейдизм и неофрейдизм, феноменологию, неопозитивизм и
постпозитивизм, и т.д.
Позитивизм представляет собой широко известное течение в философии
XIX– ХХ вв., основанное в 30-х гг. XIX в. французским мыслителем О. Контом
(1798–1857). В Англии данное течение было поддержано Д. С. Миллем (1806–
1873) и Г. Спенсером (1820–1903). В истории философии названные мыслители
представляют собой классический позитивизм или, как принято его еще
называть, «первый позитивизм». Данное течение возникло как своеобразная
реакция на идеалистическую философии И. Канта. Для них априорное познание
не являлось единственным средством в процессе нахождения истинного знания.
Они считали, что единственным средством в нахождении истинного и
объективного знания являются научные методы. При этом под научными
методами понимались приемы и техника естественных наук. Т. к. только наука
может выявить в природе и обществе определенные закономерности и истину.
Ко «второй волне позитивизма» или эмпириокритицизму относятся
Э. Мах (1838–1916) и Р. Авенариус (1843–1896). Они предприняли новую
попытку в очищении опыта и сведения всего к опыту. Они считали, что
критический анализ познавательного процесса позволит выявить ошибки, сбои
непрерывности познавательного процесса, что в конечном счете, поможет
избавиться от этих ошибок. Опыт («чистый» опыт) представлял для них
нейтральную реальность, которая не является только психической или
физической. В итоге мир – это совокупность ощущений, данные нашего опыта.
177
Идеи
представителей
эмпириокритицизма
были
подхвачены
и
переосмыслены участниками «Венского кружка» – Р. Карнапом (1891– 1970),
М. Шликом (1882–1936), О. Нейратом (1882–1945) и др. Это направление в
истории философии получило название неопозитивизм («логический атомизм»,
«логический эмпиризм», «логический позитивизм»). Характерной чертой
неопозитивизма является подробное исследование языка для прояснения
проблем философии. Можно также отметить, что значительную роль в
переосмыслении основных положений позитивизма сыграла работа «Логикофилософский трактат» Л. Витгенштейна (1889–1951). В трактате мир
представлен как совокупность фактов. Последние представляют собой события,
которые состоят из объектов. О событиях рассказывают логические атомы или
элементарные
высказывания.
Именно
из
фактов
формируется
наше
представление о мире и сама картина мира. Философия же служит лишь
средством
логического
прояснения
мыслей:
«Истинный
метод
философствования должен быть следующим: не изрекать ничего кроме того,
что может быть сказано, то есть суждений естественных наук, то есть того, что
не имеет отношения к философии, – а затем, когда кто-либо еще захочет изречь
нечто метафизическое, показать ему, что он не сумел наделить смыслом
отдельные знаки своего суждения. Хотя это не удовлетворит собеседника – он
не ощутит, что мы учим его философии, – это метод будет единственно
корректным» [1, 149].
Представители неопозитивизма внесли значительный вклад в развитие
теории познания и философии науки. Они отказались от психологической
трактовки утверждения о сводимости знания к его эмпирической основе, в
отличие от старого эмпиризма, для которого это сведение означало
установление того, что понятия возникают из элементов «чувственного
данного» в индивидуальном сознании познающего субъекта. Они расширили
знания о сущности и назначении языка науки, о функциях науки, о логике
развития научного знания, об истинности знания и т.д. Нельзя не отметить
способ установления истинности научных утверждений с помощью принципа
178
верификации, представляющего собой установление истинности высказываний
в процессе их эмпирической проверки, который они предложили. Он означает,
что те высказывания, которые могли быть сведены к данным чувственного
опыта, найти в нем подтверждение являются истинными. Если высказывание не
находит подобного опытного подтверждение, то его необходимо отнести к
псевдопредложениям. Например, у нас есть предложение «эта дверь белая» и
оно подтверждается зрительными данными, то мы имеем дело с истинностным
высказыванием. А «время необратимо» или «движение – форма существования
материи» – это псевдопредложения. Элементарные предложения, к которым
могут быть сведены все высказывания эмпирических наук, получили название
«протокольных», поскольку они трактовались как записи непосредственного
опыта, свободного от каких-либо внеэмпирических вмешательств.
На этом история философского позитивизма не закончивается. Принцип
верификации,
предложенный
логическим
позитивизмом,
вызвал
много
вопросов у последующих мыслителей – в лице К. Р. Поппера, И. Лакатоса,
Т. Куна, П. Фейерабенда и др. Переход от неопозитивизма к постпозитивизму
во многом был связан с изменениями некоторых мировоззренческих установок
философии науки – разочарование в безусловных, рационалистически
трактуемых
ориентирах
культуры
и
склонность
к
мозаичному
и
плюралистическому видению мира и места человека в нем, акцент на
относительности, исторической обусловленности познавательных ценностей и
результатов.
Если говорить об особенностях постпозитивизма, то В. Н. Порус
выделяет следующие:
1. В отличие от логического позитивизма, который основывался на
установлении несомненных оснований научного знания на почве чувственного
опыта, постпозитивизм объявил «эмпирический базис» науки продуктом
рациональной
конвенции,
выявил
нагруженность» терминов языка науки;
179
неустранимую
«теоретическую
2.
Постпозитивизм,
унаследовав
проблему
«рациональной
реконструкции» истории науки от неопозитивизма, пришел к плюрализму
методологий, к идее принципиальной ущербности любых попыток «втиснуть»
историю науки в какую-либо единую методологическую схему;
3. Постпозитивизм произвел радикальный пересмотр представлений о
науке как целенаправленном поиске истин. Понятие истины либо полностью
устранялось
из
методологических
рассуждений,
либо
подвергалось
специфической интерпретации, приспособленной к антикумулятивистским
моделям эволюции науки;
4. Помимо этого одной из основных тенденций постпозитивизма стало
«коллективистское»
понимание
субъекта
научного
познания:
«стиль
мышления», включающий наряду с понятийными «каркасами» ценностные
ориентации, детерминируется
научным сообществом и
выступает как
априорное условие любой научно-познавательной деятельности. [11, 722–723]
180
Мориц Шлик
(1882–1936)
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Шлик,_Мориц #/media/File:Schlick_sitting.jpg
М. Шлик является одним из наиболее
известных
представителей
логического
позитивизма. Он родился в достаточно
богатой семье в Берлине. Изучал физику в
Берлинском
защитил
университете,
диссертацию
по
в
1904
году
физике
под
руководством М. Планка. Но в дальнейшем
увлекся философией, хотя интерес к физике
никогда не терял. С 1922 года возглавил
кафедру философии в Венском университете,
где в 1924 году организовал «Венский
кружок». Значительное влияние на философские взгляды М. Шлика оказали
работы раннего Л. Витгенштейна. 22 июня 1936 г. был застрелен своим
бывшим аспирантом. Им были написаны такие работы как «Пространство и
время в современной физике» (1917), «Всеобщая теория познания» (1918),
«Позитивизм и реализм» (1932) и т.д.
В сфере основных интересов М. Шлика были проблемы теории познания
и философии науки. В своих главных работах – «Пространство и время в
современной физике» и «Всеобщая история познания» – он сразу занял
негативную позицию по отношению к господствующей в университетах
философской позиции неокантианства. Им были подвергнуты критике
основные кантовские идеи, в частности допущение о существовании
синтетических априорных суждений. По мнению М. Шлика, во всех случаях,
когда суждения формулируются как логически необходимые истины они
имеют аналитический характер. В случае же, когда они имеют отношение к
реальности, они являются эмпирическими (апостериорными) суждениями.
181
В дальнейшем Шлик встал на еще более радикальные позиции по
отношению к предшествующей философской традиции под влиянием
Л Витгенштейна и Р. Карнапа. Любое научное знание он трактовал как
«уплотнение»
и
обобщение
«чувственного
данного»,
составляющего
единственный фундамент познания. В связи с этим метафизика лишена какоголибо познавательного значения.
182
Рудольф Карнап
(1891–1970)
URL: http://sbiblio.com/biblio/persons/p448/photo/photo.jpg
Р. Карнап занимает значительное место
в истории логического позитивизма или
неопозитивизма. Карнап родился в 1891 году
в Германии. С 1910 по 1914 гг. изучал
математику,
физику
и
философию
во
Фрайбургском и Йенском университетах.
Одним из учителей Карнапа был Г. Фреге,
оказавший сильное влияние на его взгляды.
После окончания Первой мировой войны, в
которой
он
принял
участие,
Карнап
возобновил учебу в Йенском университете и
в 1921 году защитил докторскую диссертацию по философским основаниям
геометрии. В 1926 году он получил должность приват-доцента в Венском
университете и начал принимать активное участие в работе «Венского кружка».
С 1931 по 1935 гг. Карнап возглавлял кафедру философии природы при
Германском университете в Праге. В 1935 г. был вынужден эмигрировать в
США,
где
университете.
получил
В
должность
1954–1961
профессора
гг.
философии
возглавлял
кафедру
в
Чикагском
философии
Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Умер в 1970 г. Основные
работы: «Логическое построение мира» (1928), «Логический синтаксис языка»
(1934), «Исследования по семантике» (1942–1947), «Логические основания
вероятности» (1950) и т.д.
Для Р. Карнапа было важно сформулировать язык с четко заданной
логической структурой, в котором могут быть выражены как данные
непосредственного опыта, так и положения эмпирических наук. В рамках этого
языка необходимо было выделить часть, которая используется для описания
183
данных непосредственного опыта, т.е. необходимо задать словарь исходных
терминов, а затем четко определить логические процедуры сведения терминов
и предложений эмпирических наук к терминам и предложениям, в которых
фиксируется непосредственный опыт. Т.е. важно сформулировать формальные
языки со строго заданной логической структурой, которая пригодна для
описания всех эмпирических явлений. Именно эта задача и явилась для него
главной в работе «Логическое построение мира». Прежнюю метафизику Р.
Карнап в работе «Преодоление метафизики логическим анализом языка» (1932)
предлагает заменить пониманием философии как логики науки. «Но что же
тогда остается для философии, если все предложения, которые нечто означают,
эмпирического происхождения и принадлежат реальной науке? То, что
остается, – не предложения, не теория, не система, а только метод, а именно,
метод логического анализа. … В своем позитивном употреблении метод служит
для пояснения осмысленных понятий и предложений, для логического
обоснования реальной науки и математики. … Указанная задача логического
анализа, исследование оснований есть то, что мы понимаем под "научной
философией" в противоположность метафизике» [4, 58]. Логический анализ
направлен не только на очищение науки от метафизики, но и в конечном счете
на выявление единства научного знания. Единство науки – вот та идея, которая
проходила через все творчество философа.
Кейс 1. «Венский кружок» и метод логического анализа
Прочтите предложенный отрывок и ответьте на следующие вопросы:
1. В чем состоит задача философской работы?
2. Почему наука отвергает метафизику? Какие метафизические
ошибки выделяют авторы?
3. Для чего служит метод логического анализа?
4. Что представляет собой научное миропонимание?
184
II. Научное миропонимание
Научное миропонимание характеризуется не столько через особые
положения, сколько через определенную принципиальную установку, методы
(Gesichtspunkte), исследовательскую направленность. В качестве цели здесь
мыслится единая наука. Это устремление направлено на то, чтобы объединить и
взаимно объяснить достижения отдельных исследователей в различных
научных областях. Из этой целевой установки вытекает подчеркивание
коллективной
работы;
отсюда
и
выдвижение
на
передний
план
интерсубъективной понимаемости; отсюда проистекает поиск нейтральной
системы формул, символики, освобожденной от засорений исторически
сложившихся языков; отсюда также и поиск общей понятийной системы.
Стремятся к четкости и ясности, отвергаются темные дали и загадочные
глубины. В науке нет никаких «глубин»; везде только поверхность: все данные
опыта (Erlebte) образуют сложную, не всегда обозримую, часто лишь в
частностях понятную сеть. Все доступно человеку; и человек является мерой
всех вещей. Здесь проявляется родство с софистами, а не с платониками; с
эпикурейцами, а не с пифагорейцами; со всеми, кто отстаивает земную
сущность и посюсторонность. Научное миропонимание не знает никаких
неразрешимых загадок. Прояснение традиционных философских проблем
приводит к тому, что они частью разоблачаются как кажущиеся проблемы,
частью преобразуются в эмпирические проблемы и тем самым переходят в
ведение опытной науки. В этом прояснении проблем и высказываний и состоит
задача философской работы, а вовсе не в создании собственных «философских»
высказываний. Методом этого прояснения является логический анализ; Рассел
говорит о нем так: он «постепенно возник по образцу критических
исследований математиков. По моему мнению, здесь имеет место прогресс,
аналогичный тому, который был достигнут в физике благодаря Галилею:
доказуемые
конкретные
результаты
185
заменили
недоказуемые
всеобщие
утверждения, для подтверждения которых можно опираться только на
способность к фантазированию.»
Этот метод логического анализа и есть то, что существенно отличает
новый эмпиризм и позитивизм от старого, ориентированного больше в
биологически-психологическом
ключе.
Когда
кто-то
утверждает:
«Бог
существует», «Первоосновой мира является бессознательное», «Существует
энтилехия как последний принцип живого существа», то мы не говорим ему:
«То, что ты утверждаешь, ложно»; но мы спрашиваем: «Что ты имеешь в виду
под этими высказываниями?» И тогда оказывается, что существует резкая
граница между двумя видами высказываний. К одному виду принадлежат
высказывания, как они осуществляются в эмпирической науке; их смысл можно
установить посредством логического анализа, точнее — посредством их
сведения к простым высказываниям о том, что дано эмпирически. Другие
высказывания, к которым относят приведенные выше, оказываются полностью
бессмысленными (bedeutungsleer), если принимать их такими, как их видит
метафизик. Конечно, часто их можно переистолковать в эмпирические
высказывания; но тогда они теряют то эмоциональное содержание, которое для
метафизика как раз чаще всего и является существенным. Метафизик и теолог
верят, сами себя вводя в заблуждение, что своими предложениями они что-то
высказывают, представляют какое-то положение дел. Анализ, однако,
показывает, что эти высказывания ничего не означают, а являются выражением
некоторого чувства жизни. Выражение такого рода чувства конечно же может
быть важной жизненной задачей. Но адекватным выразительным средством для
этого является искусство, например лирика или музыка. Если же вместо этого
избирается теоретическая языковая форма, то появляется опасность симуляции
теоретического содержания там, где его вообще нет. Если метафизик или
теолог хочет сохранить привычную языковую экипировку, то он должен
осознавать и признавать, что он осуществляет не изложение, а выражение,
производит не теорию, результат познания, а поэзию или миф. Когда мистик
утверждает, что он обладает переживаниям, которые находятся над или по ту
186
сторону всех понятий, то в этом ему невозможно возразить. Но об этом он не
может говорить; ведь говорить — означает выражать в понятиях, сводить к
фактам, которые могут быть включены в науку.
Научное миропонимание отвергает метафизическую философию. Но чем
можно объяснить заблуждения метафизики? Этот вопрос можно рассмотреть с
различных точек зрения: в психологическом, социологическом и логическом
аспектах. Исследования в психологическом направлении находятся только на
начальной стадии; некоторые подходы к глубинному объяснению даны,
возможно, в психоаналитических исследованиях Фрейда. Точно также обстоит
дело с социологическими исследованиями; тут можно упомянуть теорию
«идеологической надстройки». Здесь имеется еще открытое поле для
перспективного дальнейшего исследования.
Дальше продвинулось выяснение логических корней метафизических
заблуждений, в особенности, благодаря работам Рассела и Витгенштейна. В
метафизических теориях, уже в самих постановках вопросов содержится две
коренные логические ошибки: первая — слишком сильная привязанность к
форме традиционных языков, другая — неведение относительно логических
способностей мышления. В обыденном языке одна и та же словесная форма,
например
существительное,
используется
как
для
обозначения
вещей
(«яблоко»), так и свойств («твердость»), отношений («дружба»), процессов
(«сон»); вследствие этого возникает соблазн вещественного истолкования
функциональных понятий (гипостазирование, субстантивирование). Можно
привести многочисленные похожие примеры того, как язык вводит нас в
заблуждения, которые были точно так же губительны для философии.
Вторая коренная ошибка метафизики состоит в представлении, что
мышление якобы может из себя самого, без использования какого-либо
опытного материала, вести к познанию, либо же может по крайней мере из
данных
положений
дел,
посредством
умозаключения,
получать
новое
содержание. Логическое исследование показывает, однако, что любое
мышление, любое умозаключение состоит ни в чем ином как в переходе от
187
предложений к другим предложениям, которые не содержат ничего, что не
заключалось
бы
уже
в
предыдущих
предложениях
(тавтологическое
преобразование). А потому метафизика не может быть развита из «чистого
мышления».
Тем самым, посредством логического анализа преодолевается не только
метафизика в собственном, классическом смысле этого слова, в частности,
схоластическая
метафизика
и
системы
немецкого
идеализма,
но
и
замаскированная метафизика кантовского и современного априоризма. Научное
миропонимание не знает никакого безусловно истинного познания из чистого
разума, никаких «синтетических априорных суждений», на которых основана
кантовская теория познания и тем более вся до и послекантовская онтология и
метафизика.
Суждения
арифметики,
геометрии,
определенные
основоположения физики, которые Кант рассматривает в качестве примеров
априорного познания, получают в этом случае свое объяснение. Именно в
отказе от возможности синтетического познания a priori и заключается
основополагающий тезис современного эмпиризма. Научное миропонимание
знает лишь предложения опыта о всевозможных предметах и аналитические
предложения логики и математики.
Все приверженцы научного миропонимания едины в отказе от открытой
метафизики и замаскированной метафизики априоризма. В добавление к этому
Венский кружок считает, что высказывания (критического) реализма и
идеализма о реальности или нереальности внешнего мира и всего выходящего
за пределы психики (Fremdpsychischen) имеют метафизический характер,
поскольку по отношению к ним могут быть выдвинуты те же самые
возражения, что и к высказываниям старой метафизики: они бессмысленны,
поскольку
неверифицируемы
и
беспредметны.
Нечто
является
«действительным», если оно встроено в общую систему опыта.
Интуиция, особо подчеркиваемая метафизиками в качестве источника
познания, в целом не отвергается научным миропониманием. Однако оно
добивается и требует тщательного последующего рационального оправдания
188
всякого интуитивного познания. Тому кто ищет, дозволены любые средства;
найденное, однако, должно выдержать последующую проверку. Отвергается
точка зрения, которая видит в интуиции высокоценный, проникающий в
глубину вид познания, который якобы может выходить за пределы
чувственного опытного содержания и не должен быть связан тесными узами
понятийного мышления.
Мы охарактеризовали научное миропонимание в основном посредством
двух определяющих моментов. Во-первых, оно является эмпиристским и
позитивистским: существует только опытное познание, которое основывается
на том, что нам непосредственно дано (das unmittelbar Gegebene). Тем самым
устанавливается граница для содержания легитимной науки. Во-вторых, для
научного миропонимания характерно применение определенного метода, а
именно метода логического анализа. Через применение этого логического
анализа к эмпирическому материалу, научная работа стремится к достижению
своей цели, к единой науке. Поскольку смысл каждого научного высказывания
должен быть установлен через сведение к какому-нибудь высказыванию о
непосредственно данном (das Gegebene), то и смысл каждого понятия, к какой
бы отрасли науки оно не принадлежало бы, должен быть установлен через
пошаговое сведение к другим понятиям, вплоть до понятий самой низшей
ступени, которые относятся к непосредственно данному. Если бы такой анализ
был осуществлен для всех понятий, то они тем самым были бы упорядочены в
некоторую систему сводимости (Rueckfuehrungssystem), «конституирующую
систему». Исследования, направленные на создание такой конституирующей
системы, «конституирующая теория», образуют тем самым рамки применения
логического анализа, характерного для научного миропонимания. Такие
исследования очень скоро показывают, что традиционной, аристотелевскосхоластической логики совершенно недостаточно для достижения этой цели.
Только в современной символической логике («логистике») удается получить
требуемую строгость определений понятий и высказываний, и формализовать
интуитивный процесс умозаключений обыденного мышления, то есть привести
189
его к строгой форме, автоматически контролируемой посредством знакового
механизма. Исследования конституирующей теории показывают, что в самых
низших слоях конституирующей системы находятся понятия, выражающие
собственно психические переживания и качества; над ними располагаются
физические объекты; из них образуются внепсихические предметы, а в самом
конце — предметы социальных наук. В общих чертах упорядочение понятий
различных отраслей науки в единую конституирующую систему можно видеть
уже сегодня, но для ее более детальной разработки предстоит еще многое
сделать. Одновременно с доказательством возможности общей системы
понятий и раскрытием ее формы станет очевидным, что все высказывания
имеют отношение к непосредственно данному, и тем самым прояснится форма
построения единой науки.
В научном описании речь может идти только о структуре (форме
упорядочивания) объектов, а не об их «сущности». То, что люди соединяют
посредством языка суть структурные формулы; в них представлено содержание
общего познания людей. Субъективно переживаемые качества — красный цвет,
удовольствие — как таковые суть только переживания, а не познания; в
физикалистской оптике речь идет только о том, что в основном понятно даже
слепому.
Извлечение из: Карнап Р. Научное миропонимание – Венский кружок /
Р. Карнап, Г. Ган, О. Нейрат // Логос. – № 2 (47). – 2005. – С. 20– 17.
190
Карл Раймунд Поппер
(1902–1994)
URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Karl_Popper2.jpg/330pxKarl_Popper2.jpg
К. Р. Поппер является одним из
наиболее известных представителей
постпозитивизма. Он родился в Вене в
1902 г. В 1928 г. им была защищена
диссертационная работа на тему «К
вопросу
о
методе
психологии
мышления» у психолога Карла Бюлера.
Несколько лет преподавал математику
и физику в начальной и средней школе.
В
1937
г.
Попперу
пришлось
эмигрировать в Новую Зеландию, где он начал преподавать в Кентерберийском
университетском колледже. В начале 1946 г. он получил приглашение в
Лондонскую школу экономики и переехал в Англию. Умер в 1994 г. Поппер
известен работами по философии науки, социальной и политической
философии: «Логика исследования» (1935), «Открытое общество и его враги»
(Т.1 – 1945, Т.2 – 1965), «Нищета историцизма» (1957), «Предположение и
опровержение:
рост
научного
знания»
(1957),
«Объективное
знание:
эволюционный подход» (1972) и т.д.
В значительной степени именно Поппер начал критику логического
позитивизма в своей работе «Логика исследования» и, как он сам заявил, «убил
логический позитивизм» [11, 722]. Он полагал, что у него получилось
выполнить задачу, с которой не справились представители «Венского кружка»,
а именно – создать теорию научной рациональности, которая опиралась бы на
эмпиризм и логику, что позволило бы разделить науку и ненауку. В другой
своей работе – «Логика научного исследования (1959) – Поппер наиболее полно
излагает свои взгляды на эпистемологическую проблематику. Именно в этом
191
сочинении им были заложены основы новой методологической концепции,
получившей название «фальсификационизм», или «критический рационализм».
В сравнении с представителями логического позитивизма, которые видели
свою задачу в эмпирическом обосновании научного знания, Поппер своей
главной проблемой считает проблему демаркации: «Проблему нахождения
критерия, который дал бы нам в руки средства для выявления различия между
эмпирическими науками, с одной стороны, и математикой, логикой, а также
"метафизическими" системами, с другой, я называю проблемой демаркации» [8,
30.] Философия для Поппера не является эмпирической наукой, однако ее
концепции и утверждения осмысленны; более того, они оказывали и
продолжают оказывать плодотворное стимулирующее воздействие на развитие
научного познания. Критериям научности является фальсифицируемость,
отсюда следует, что все научные утверждения и теории являются не более чем
рискованными предположениями, гипотезами, которые рано или поздно будут
опровергнуты. Абсолютная достоверность в науке недостижима. Единственное,
что мы можем сделать – это обнаружить ложность принятых в настоящий
момент теорий, с тем, чтобы заменить их новыми теориями. На место
абсолютно достоверных протокольных предложений неопозитивизма он ставит
базисные (единичные) предложения, дающие информацию о чувственно
воспринимаемых вещах. По мнению Поппера, после того как теория была
создана, сами ученые, осознавая ее гипотетичность, стремятся как можно
быстрее ее фальсифицировать и заменить другой теорией. В итоге развитие
науки состоит из выдвижения смелых гипотез, попыток их опровергнуть и
заменить новыми, еще более смелыми гипотезами.
Как уже отмечалось выше, постпозитивизм был заинтересован в
реконструкции истории науки. К. Р. Поппер был одним из тех, кто осуществил
попытку
анализа
природы
научного
знания.
Он
выделяет
в
работе
«Предположения и опровержения. Рост научного знания» (1959) три трактовки
знания, которые представлены в современной эпистемологии – эссенциализм,
инструментализм и фаллибилизм. Прогресс же выражается не в накоплении
192
истинного знания о мире, а в том, что возрастает степень правдоподобности
сменяющих друг друга теорий. Любая теория при этом, по мнению Поппера,
будучи заведомо ложной, имеет как истинные, так и ложные следствия,
совокупность которых он называет истинным и ложным содержанием теории.
Кейс 2. Проблема различения эмпирических наук,
математики и «метафизических наук»
Прочтите предложенный отрывок и ответьте на следующие вопросы:
1. Что представляет собой проблема демаркации?
2. Что понимает Поппер под «псевдопредложениями»?
3. Как определяется эмпирическая наука?
Критерий эмпирического характера теоретических систем
(1) Предварительный вопрос. Юмовская проблема индукции, то есть
вопрос о достоверности законов природы, возникает из явного противоречия
между принципом эмпиризма (утверждающим, что только «опыт» позволяет
судить об истинности или ложности фактуального высказывания) и осознанием
того обстоятельства, что индуктивные (или обобщающие) рассуждения
недостоверны.
Под влиянием Витгенштейна Шлик высказал мнение о том, что данное
противоречие можно устранить, приняв допущение, что законы природы
представляют собой «не подлинные высказывания», а «правила преобразования
высказываний», то есть разновидность «псевдовысказываний».
Эту
попытку
решить
проблему
индукции
(решение
Шлика
представляется мне чисто словесным) объединяет со всеми более ранними
аналогичными попытками, а именно априоризмом, конвенционализмом и т. п.,
одно необоснованное допущение о том, что все подлинные высказывания в
принципе должны быть полностью разрешимы, то есть верифицируемы или
фальсифицируемы. Эту мысль можно выразить более точно: для всякого
подлинного высказывания должна существовать логическая возможность как
193
его (окончательной) эмпирической верификации, так и его (окончательной)
эмпирической фальсификации.
Если отказаться от этого допущения, то становится возможным простое
разрешение того противоречия, которое образует проблему индукции. Мы
можем вполне последовательно интерпретировать законы природы и теории
как подлинные высказывания, которые частично разрешимы, то есть они — по
логическим основаниям — не верифицируемы, но асимметричным образом
только
фальсифицируемы: это
высказывания,
проверяемые
путем
систематических попыток их фальсификации.
Предлагаемое решение имеет то преимущество, что оно открывает путь
также для решения второй, еще более фундаментальной проблемы теории
познания (или теории эмпирического метода). Я имею в виду следующее.
(2) Главная проблема. Это — проблема демаркации (кантовская проблема
границ научного познания), которую можно определить как проблему
нахождения критерия, который позволил бы нам провести различие между
утверждениями (высказываниями, системами высказываний), принадлежащими
к
эмпирической
науке,
и
утверждениями,
которые
можно
назвать
«метафизическими».
Согласно решению этой проблемы, предложенному Витгенштейном,
такое разделение достигается с помощью использования понятий «значение»
или «смысл»: каждое осмысленное, или имеющее значение, предложение
должно быть функцией истинности «атомарных» предложений, то есть должно
быть
полностью
логически
сводимо
к
сингулярным
высказываниям
наблюдения или выводимо из них. Если некоторое утверждение, претендующее
на роль научного высказывания, не поддается такому сведению, то оно «не
имеет значения», «бессмысленно», является «метафизическим» или просто
«псевдопредложением». В итоге метафизика оказывается бессмысленной
чепухой.
Может показаться, что, проведя такую линию демаркации, позитивисты
достигли
более полного
успеха в уничтожении
194
метафизики,
чем все
предшествующие
антиметафизики.
Однако
этот
метод
приводит
к
уничтожению не только метафизики, но также и самого естествознания, ибо
законы природы столь же несводимы к высказываниям наблюдения, как и
рассуждения
метафизиков.
(Вспомним
проблему
индукции!)
Если
последовательно применять критерий значения Витгенштейна, то законы
природы окажутся «бессмысленными псевдопредложениями», следовательно,
«метафизическими» высказываниями. Поэтому данная попытка провести
линию демаркации терпит крах.
Догму значения или смысла и порождаемые ею псевдопроблемы можно
устранить,
если
в
фальсифицируемости,
качестве
то
критерия
есть
по
демаркации
крайней
мере
принять критерий
асимметричной
илиодносторонней разрешимости. Согласно этому критерию, высказывания
или системы высказываний содержат информацию об эмпирическом мире
только в том случае, если они обладают способностью прийти в столкновение с
опытом, или более точно — если их можно систематически проверять, то есть
подвергнуть (в соответствии с некоторым «методологическим решением»)
проверкам, результатом которых может быть их опровержение.
Таким образом, признание односторонне разрешимых высказываний
позволяет нам решить не только проблему индукции (заметим, что существует
лишь один тип умозаключения, осуществляемого в индуктивном направлении,
а именно — дедуктивный modus tollens), но также более фундаментальную
проблему демаркации — ту проблему, которая породила почти все другие
проблемы эпистемологии. Наш критерий фальсифицируемости с достаточной
точностью отличает теоретические системы эмпирических наук от систем
метафизики (а также от конвенционалистских и тавтологических систем), не
утверждая при этом бессмысленности метафизики (в которой с исторической
точки зрения можно усмотреть источник, породивший теории эмпирических
наук).
Поэтому, перефразировав и обобщив хорошо известное замечание
Эйнштейна,
эмпирическую
науку
можно
195
охарактеризовать
следующим
образом: в той степени, в которой научное высказывание говорит о
реальности, оно должно быть фальсифицируемо, а в той степени, в которой
оно не фальсифицируемо, оно не говорит о реальности.
Логический
анализ
может
показать,
что
роль
(односторонней)
фальсифицируемости как критерия эмпирической науки с формальной точки
зрения
аналогична
непротиворечивость.
той
роли,
которую
Противоречивая
для науки
система
не
в
целом играет
выделяет
никакого
собственного подмножества из множества всех возможных высказываний.
Аналогичным образом, нефальсифицируемая система не в состоянии выделить
никакого
собственного
«эмпирических»
подмножества
высказываний
из
(всех
множества
сингулярных
всех
возможных
синтетических
высказываний).
Извлечение из : Поппер К. Р. Логика и рост научного знания : избранные
работы : пер. с англ. / К. Поппер ; сост., общ. ред. и вступ. ст. В. Н. Садовского.
— М. : Прогресс, 1983. — С. 236– 239.
196
Имре Лакатос
(1922–1974)
URL: http://100-bal.ru/pars_docs/refs/163/162259/162259_html_404aab61.png
И.
Лакатос
является
учеником
и
критиком К. Р. Поппера. Родился в 1922 г. в
Венгрии. Учился у известного венгерского
марксиста Дьердя (Георга) Лукича. Во время
Второй мировой войны был участником
антифашистского
сопротивления,
избежал
ареста и остался жив, но в Освенциме погибли
его мать и бабушка. В 1947 г. Лакатос занимал
видный пост в Министерстве образования
Венгрии,
но
вскоре
был
обвинен
в
«ревизионизме», арестован и больше трех лет
провел в лагере. В 1956 г. он эмигрировал в
Англию и начал преподавать в Кембридже, а с 1960 г. в Лондонской школе
экономики. Умер в 1974 г. от кровоизлияния в мозг. Наиболее известные
работы: «Доказательства и опровержения. Как доказываются теоремы»,
«Фальсификация
и
методология
научно-исследовательских
программ»,
«История науки и ее рациональные реконструкции»
В своей основной работе «Фальсификация и методология научноисследовательских программ» он предложил свой вариант, отличный от К. Р.
Поппера и Т.Куна, развития научного знания. По его мнению, основной
единицей описания развития науки является «научно-исследовательская
программа», которая включает в себя «жесткое ядро», «защитный пояс» и
совокупность методологических правил или «негативную эвристику», которая
определяет предпочтительные пути исследования.
197
Кейс 3. Методология научно-исследовательских программ
как реконструкция науки
Прочтите предложенный отрывок и ответьте на следующие вопросы:
1. Что представляет собой методология научно-исследовательских
программ?
2. В чем состоит отличие методологии научно-исследовательских
программ от фальсификационизма и конвенционализма?
3. Почему простые «аномалии» не могут заменить одну программу
другой?
4. В каких случаях исследовательская программа является
прогрессирующей, а в каких она регрессирует?
D. Методология научно-исследовательских программ
Согласно
моей
методологической
концепции,
исследовательские
программы являются величайшими научными достижениями и их можно
оценивать на основе прогрессивного или регрессивного сдвига проблем; при
этом научные революции состоят в том, что одна исследовательская программа
(прогрессивно) вытесняет другую. Эта методологическая концепция предлагает
новый способ рациональной реконструкции науки. Выдвигаемую мною
методологическую концепцию легче всего изложить, противопоставляя ее
фальсификационизму и конвенционализму, у которых она заимствует
существенные элементы.
У
конвенционализма
эта
методология
заимствует
разрешение
рационально принимать по соглашению не только пространственно-временные
единичные «фактуальные утверждения», но также и пространственновременные универсальные теории, что дает нам важнейший ключ для
понимания непрерывности роста науки. В соответствии с моей концепцией
фундаментальной единицей оценки должна быть не изолированная теория или
198
совокупность теорий, а «исследовательская программа». Последняя включает в
себя конвенционально принятое (и поэтому «неопровержимое», согласно
заранее избранному решению) «жесткое ядро» и «позитивную эвристику»,
которая определяет проблемы для исследования, выделяет защитный пояс
вспомогательных гипотез, предвидит аномалии и победоносно превращает их в
подтверждающие примеры – все это в соответствии с заранее разработанным
планом. Ученый видит аномалии, но, поскольку его исследовательская
программа выдерживает их натиск, он может свободно игнорировать их. Не
аномалии, а позитивная эвристика его программы – вот что в первую очередь
диктует ему выбор проблем.
И лишь тогда, когда активная сила позитивной эвристики ослабевает,
аномалиям может быть уделено большее внимание. В результате методология
исследовательских
программ
может
объяснить
высокую
степень
автономности теоретической науки, чего не может сделать несвязанная цепь
предположений и опровержений наивного фальсификациониста. То, что для
Поппера, Уоткинса и Агасси выступает как внешнее, метафизическое влияние
на науку, здесь превращается во внутреннее – в «жесткое ядро» программы.
Картина
научной
исследовательских
игры,
программ,
которую
весьма
предлагает
отлична
от
методология
подобной
картины
методологического фальсификационизма. Исходным пунктом здесь является не
установление
гипотезы,
фальсифицируемой
а
«фальсификация»
выдвижение
(в
(и,
следовательно,
исследовательской
попперовском
смысле)
не
непротиворечивой)
программы.
влечет
Простая
отбрасывания
соответствующего утверждения. Простые «фальсификации» (то есть аномалии)
должны быть зафиксированы, но вовсе не обязательно реагировать на них. В
результате исчезают великие негативные решающие эксперименты Поппера:
«решающий эксперимент» – это лишь почетный титул, который, конечно,
может быть пожалован определенной аномалии, но только спустя долгое время
после того, как одна программа будет вытеснена другой. Согласно Попперу,
решающий
эксперимент
описывается
199
некоторым
принятым
базисным
утверждением, несовместимым с теорией; согласно же методологии научноисследовательских программ, никакое принятое базисное утверждение само по
себе не дает ученому права отвергнуть теорию. Такой конфликт может
породить проблему (более или менее важную), но ни при каких условиях не
может привести к «победе». Природа может крикнуть: «Нет!», но человеческая
изобретательность – в противоположность мнению Вейля и Поппера – всегда
способна крикнуть еще громче. При достаточной находчивости и некоторой
удаче можно на протяжении длительного времени «прогрессивно» защищать
любую теорию, даже если эта теория ложна. Таким образом, следует отказаться
от попперовской модели «предположений и опровержений», то есть модели, в
которой
за
выдвижением
пробной
гипотезы
следует
эксперимент,
показывающий ее ошибочность: ни один эксперимент не является решающим в
то время – а тем более до времени, – когда он проводится (за исключением,
может быть, его психологического аспекта).
Необходимо указать на то, что методология научно-исследовательских
программ является гораздо более зубастой, чем конвенционализм Дюгема:
вместо того чтобы отдавать решение вопроса, когда следует отказаться от
некоторой «структуры», на суд неясного дюгемовского здравого смысла, я
ввожу некоторые жесткие попперовские элементы в оценку того, прогрессирует
ли некоторая программа или регрессирует и вытесняет ли одна программа
другую, то есть я даю критерии прогресса и регресса программ, а также
правила устранения исследовательских программ в целом. Исследовательская
программа считается прогрессирующей тогда, когда ее теоретический рост
предвосхищает ее эмпирический рост, то есть когда она с некоторым успехом
может предсказывать новые факты («прогрессивный сдвиг проблем»);
программа регрессирует,
если
ее теоретический
рост отстает
от ее
эмпирического роста, то есть когда она дает только запоздалые объяснения
либо случайных открытий, либо фактов, предвосхищаемых и открываемых
конкурирующей
исследовательская
программой
программа
(«регрессивный
прогрессивно
200
сдвиг
объясняет
проблем»).
больше,
Если
нежели
конкурирующая, то она «вытесняет» ее и эта конкурирующая программа может
быть устранена (или, если угодно, «отложена»).
(В рамках исследовательской программы некоторая теория может быть
устранена только лучшей теорией, то есть такой теорией, которая обладает
большим эмпирическим содержанием, чем ее предшественница, и часть этого
содержания впоследствии подтверждается. Для такого замещения одной теории
лучшей первая теория не обязательно должна быть «фальсифицирована» в
попперовском смысле этого термина. Таким образом, научный прогресс
выражается
скорее
в
осуществлении
верификации
дополнительного
содержания теории, чем в обнаружении фальсифицирующих примеров .
Эмпирическая «фальсификация» и реальный «отказ» от теории становятся
независимыми событиями . До модификации теории мы никогда не знаем, как
бы она могла быть «опровергнута», и некоторые из наиболее интересных
модификаций обусловлены
«позитивной
эвристикой» исследовательской
программы, а не аномалиями. Одно только это различие имеет важные
следствия и приводит к рациональной реконструкции изменений в науке,
совершенно отличной от реконструкции, предложенной Поппером.)
Очень трудно решить – особенно с тех пор, как мы отказались от
требования прогрессивности каждого отдельного шага науки, — в какой
именно момент определенная исследовательская программа безнадежно
регрессировала или одна из двух конкурирующих программ получила
решающее
преимущество
конвенционализме,
в
перед
нашей
другой.
Как
методологической
и
в
концепции
дюгемовском
не
может
существовать никакой обязательной (не говоря уже о механической)
рациональности. Ни логическое доказательство противоречивости, ни вердикт
ученых об экспериментально обнаруженной аномалии не могут одним ударом
уничтожить исследовательскую программу. “Мудрым” можно быть только
задним числом.
В предлагаемом нами кодексе научной честности скромность и
сдержанность играют большую роль, чем в других кодексах. Всегда следует
201
помнить о том, что, даже если ваш оппонент сильно отстал, он еще может
догнать вас. Никакие преимущества одной из сторон нельзя рассматривать как
абсолютно решающие. Не существует никакой гарантии триумфа той или иной
программы. Не существует также и никакой гарантии ее крушения. Таким
образом, упорство, как и скромность, обладает большим «рациональным»
смыслом. Однако успехи конкурирующих сторон должны фиксироваться и
всегда делаться достоянием общественности.
(Здесь мы должны хотя бы упомянуть основную эпистемологическую
проблему
методологии
научно-исследовательских
программ.
Подобно
методологическому фальсификационизму Поппера, она представляет собой
весьма
радикальный
вариант
конвенционализма.
И
аналогично
фальсификационизму Поппера, она нуждается в постулировании некоторого
внеметодологического индуктивного принципа – для того, чтобы связать (хотя
бы как-нибудь) научную игру в прагматическое принятие и отбрасывание
высказываний и теорий с правдоподобием. Только такой «индуктивный
принцип» может превратить науку из простой игры–в эпистемологически
рациональную деятельность, а множество свободных скептических игр,
разыгрываемых для интеллектуальной забавы, в нечто более серьезное–в
подверженное ошибкам отважное приближение к истинной картине мира.)
Подобно любой другой методологической концепции, методология
научно-исследовательских программ выдвигает свою историографическую
исследовательскую
программу.
Историк,
руководствующийся
этой
программой, будет отыскивать в истории конкурирующие исследовательские
программы, прогрессивные и регрессивные сдвиги проблем. Там, где историк
дюгемовского толка видит революцию единственно в простоте теории (как,
например, в случае революции Коперника), он будет находить длительный
процесс вытеснения прогрессивной программой программы регрессирующей.
Там, где фальсификационист видит решающий негативный эксперимент, он
будет «предсказывать», что ничего подобного не было, что за спиной любого
якобы решающего эксперимента, за каждым видимым столкновением между
202
теорией и экспериментом стоит скрытая война на истощение между двумя
исследовательскими
программами.
И
только
позднее
–
в
фальсификационистской реконструкции – исход этой войны может быть связан
с проведением некоторого «решающего эксперимента».
Подобно любой другой теории научной рациональности, методология
исследовательских программ должна быть дополнена эмпирической внешней
историей. Никакая теория рациональности никогда не сможет дать ответ на
вопросы о том, почему определенные научные школы в генетике отличаются
друг от друга или вследствие каких причин зарубежная экономическая помощь
стала весьма непопулярной в англосаксонских странах в 60-х годах нашего
столетия. Более того, для объяснения различной скорости развития разных
исследовательских программ мы можем быть вынужденными обратиться к
внешней истории. Рациональная реконструкция науки (в том смысле, в котором
я употребляю этот термин) не может быть исчерпывающей в силу: того, что
люди не являются полностью рациональными. существами, и даже тогда, когда
они действуют рационально, они могут иметь ложные теории относительно
собственных рациональных действий.
Методология исследовательских программ проводит весьма отличную
демаркационную линию между внутренней и внешней историей по сравнению
с той, которую принимают другие теории рациональности. К примеру, то, что
для фальсификациониста выступает как феномен (к его прискорбию, слишком
часто
встречающийся)
иррациональной
приверженности
ученых
к
«опровергнутой» или противоречивой теории, который он, конечно, относит к
внешней истории, на основе моей методологии вполне можно объяснить, не
прибегая к внешней нстории, – как рациональную защиту многообещающей
исследовательской программы. Далее, успешные предсказания новых фактов,
представляющие
собой
серьезные
свидетельства
в
пользу
некоторой
исследовательской программы и являющиеся поэтому существенными частями
внутренней
истории,
не
важны
ни
для
индуктивиста,
ни
для
фальсификациониста. Для индуктивиста и фальсификациониста фактически не
203
имеет значения, предшествовало открытие фактов теории или последовало за ее
созданием: решающим для них является лишь их логическое отношение.
“Иррациональное” влияние такого стечения обстоятельств, благодаря которому
теория предвосхитила открытие определенного факта, не имеет, по их мнению,
значения для внутренней истории. Такие предвосхищения представляют собой
«не доказательство, а (лишь) пропаганду». Вспомним неудовлетворенность
Планка по поводу предложенной им в 1900 году формулы излучения, которую
он рассматривал как «произвольную». Для фальсификациониста эта формула
была смелой, фальсифицируемой гипотезой, а недоверие, которое испытывал к
ней Планк, являлось нерациональным настроением, объяснимым только на
основе психологии. Однако, с моей точки зрения, недовольство Планка можно
объяснить в рамках внутренней истории: оно выражало рациональное
осуждение теории ad hoes . Можно упомянуть и еще один пример: для
фальсификационизма неопровержимая «метафизика» имеет лишь внешнее
интеллектуальное влияние; согласно же моему подходу, она представляет
собой существенную часть рациональной реконструкции науки.
Большинство историков до сих пор стремится рассматривать решение
некоторых важных проблем истории науки как монополию экстерналистов.
Одной из них является проблема весьма частых одновременных научных
открытий. То, что считается «открытием», и в частности великим открытием,
зависит от принятой методологии. Для индуктивиста наиболее важными
открытиями являются открытия фактов, и, действительно, такие открытия часто
совершаются одновременно нескольким учеными. Для фальсификациониста
великое открытие состоит скорее в открытии некоторой теории, нежели в
открытии факта. Как только теория открыта (или, скорее, изобретена), она
становится общественным достоянием, и нет ничего удивительного в том, что
несколько людей одновременно будут проверять ее и одновременно сделают
(второстепенные) фактуальные открытия. Таким образом, ставшая известной
теория выступает как призыв к созданию независимо проверяемых объяснений
более высокого уровня. Например, если уже известны эллипсы Кеплера и
204
элементарная динамика Галилея, то одновременное «открытие» закона
обратной квадратичной зависимости не вызовет большого удивления:
поскольку проблемная ситуация известна, одновременные решения можно
объяснить исходя из чисто внутренних оснований. Однако открытие новой
проблемы нельзя объяснить столь же легко. Если историю науки понимают как
историю конкурирующих исследовательских программ, то большинство
одновременных открытий –теоретических или фактуальных – объясняются тем,
что исследовательские программы являются общим достоянием и в различных
уголках мира многие люди работают по этим программам, не подозревая о
существовании
друг
друга.
Однако
действительно
новые,
главные,
революционные открытия редко происходят одновременно. Некоторые якобы
одновременные открытия новых программ лишь кажутся одновременными
благодаря ложной ретроспекции: в действительности это разные открытия,
только позднее совмещенные в одно.
Излюбленной областью экстерналистов была родственная проблема – о
том, почему спорам о приоритете придавали столь большое значение и тратили
на них так много энергии. Индуктивист, наивный фальсификационист или
конвенционалист могли объяснить это только внешними обстоятельствами, но
в свете методологии исследовательских программ некоторые споры о
приоритете являются существенными проблемами внутренней истории, так как
в этой методологии наиболее важным для рациональной оценки становится то,
какая из конкурирующих программ была первой в предсказании нового факта,
а какая была согласована с этим теперь уже известным фактом лишь позднее.
Некоторые
споры
о
приоритете
можно
объяснить
интеллектуальным
интересом, а не просто тщеславием и честолюбием. Тогда обнаруживается
важность того обстоятельства, что теория Тихо Браге, например, лишь post hoc
преуспела в объяснении наблюдаемых фаз Венеры и расстояния до нее, а
впервые это было точно предсказано коперниканцами или что картезианцы
умели объяснить все то, что предсказывали ньютонианцы, но только post hoc.
Оптическая же теория ньютонианцев объясняла post hoc многие феномены,
205
которые были предвосхищены и впервые наблюдались последователями
Гюйгенса.
Все эти примеры показывают, каким образом многие проблемы, которые
для
других
историографий
были
внешними,
методология
научно-
исследовательских программ превращает в проблемы внутренней истории. Но
иногда граница сдвигается в противоположном направлении. Например, может
существовать эксперимент, который сразу же–при отсутствии лучшей теории –
был признан негативным решающим экспериментом. Для фальсификациониста
такое признание является частью внутренней истории, для меня же оно не
рационально и его следует объяснить на основе внешней истории.
Извлечение из: Лакатос И. История науки и ее рациональные
реконструкции / Лакатос И. Избранные произведения по философии и
методологии науки / Имре Лакатос ; [пер. с англ. И. Н. Веселовского, А. Л.
Никифорова, В. Н. Поруса]. — М. : Академический Проект, 2008. — С.217–
231.
206
Пол Фейерабенд
(1924–1994)
URL: http://do.mgppu.ru/UserFiles/do/4.EUMK_METODOLOGICH_OSNOVI_PSIHOLOGE/content/
Persons/Feyerabend_P.jpg
П. Фейерабенд, в отличии от К. Р.
Поппера
и
других
представителей
постпозитивизма, предложил другую точку
зрения на науку, которая была названа
«методологическим
анархизмом».
П.
Фейерабенд родился в Вене. С 1943 г. служил
в северной части Восточного фронта, в
дальнейшем получил звание лейтенанта и был
награжден орденом Железный крест. С 1958
по 1989 года работал профессором философии
в Калифорнийском университете в Беркли.
Умер в возрасте 70 лет в 1994 в Швейцарии. Является автором работ «Против
метода. Очерк анархистской теории познания» (1975), «Наука в свободном
обществе» (1978), «Прощай, разум» (1987).
Он считал, что развитие науки осуществляется за счет взаимной критики
несовместимых теорий перед лицом наличествующих фактов. Целью научной
работы должно быть создание альтернативных теорий и ведение полемики
между ними. Во время этой работы необходимо следовать двум принципам –
принципу пролиферации (изобретение и разработка концепций, несовместимых
с существующими общепризнанными научными теориями) и принципу
несоизмеримости (теории невозможно сравнить между собой). Принцип
пролиферации гипотез Фейерабенд выражает кратко с помощью прекрасного
выражения «допустимо все».
В работе «Против метода. Очерк анархистской теории познания» (1975)
он отмечает, что все принципы и правила научного метода, которые философы
207
науки представляют в качестве канонов научной рациональности, постоянно
нарушаются учеными в процессах реальной научной практики: они не
смущаются противоречиями; разрабатывают теории, вступающие в конфликт с
эмпирическими данными; выдвигают и защищают теории, несовместимые с
хорошо обоснованными и общепризнанным знанием. Именно так они получают
свои важнейшие результаты. В итоге, можно сделать вывод, что нет никаких
принципов и правил научной рациональности. Более того, по мнению
Фейерабенда, ученый даже обязан изобретать и разрабатывать идеи и теории,
несовместимые как с имеющимися фактами, так и с признанными теориями,
ибо только такой способ действий может открыть несовершенства и
ограниченность имеющегося знания.
Кейс 4. Анархизм в науке
Прочтите предложенный отрывок и ответьте на следующие вопросы:
1. Почему нарушение методологических правил необходимо для
прогресса науки?
2
Что
представляет
собой
«анархизм»
в
науке,
согласно
предложенному отрывку? Что означает утверждение «анархизм помогает
достигнуть прогресса в любом смысле»?
1
Это доказывается и анализом конкретных исторических событий, и
абстрактным анализом отношения между идеей и действием. Единственным
принципом, не препятствующим прогрессу, является принцип все дозволено.
Идея
метода,
содержащего
жесткие,
неизменные
и
абсолютно
обязательные принципы научной деятельности, сталкивается со значительными
трудностями при сопоставлении с результатами исторического исследования.
При этом выясняется, что не существует правила – сколь бы правдоподобным и
эпистемологически обоснованным оно ни казалось, – которое в то или иное
время не было бы нарушено. Становится очевидным, что такие нарушения не
208
случайны
и
не
являются
результатом
недостаточного
знания
или
невнимательности, которых можно было бы избежать. Напротив, мы видим,
что они необходимы для прогресса науки. Действительно, одним из наиболее
замечательных достижений недавних дискуссий в области истории и
философии науки является осознание того факта, что такие события и
достижения, как изобретение атомизма в античности, коперниканская
революция, развитие современного атомизма (кинетическая теория, теория
дисперсии, стереохимия, квантовая теория), постепенное построение волновой
теории света, оказались возможными лишь потому, что некоторые мыслители
либо сознательны решили разорвать путы «очевидных» методологический
правил, либо непроизвольно нарушали их.
Еще раз повторяю: такая либеральная практика есть не.просто факт
истории науки – она и разумна, и абсолютно необходима для развития знания.
Для
любого
данного
правила,
сколь
бы
«фундаментальным»
или
«необходимым» для науки оно ни было, всегда найдутся обстоятельства, при
которых целесообразно не только игнорировать это правило, но даже
действовать вопреки ему. Например, существуют обстоятельства, при которых
вполне допустимо вводить, разрабатывать и защищать гипотезы ad hoc,
гипотезы,
противоречащие
хорошо
обоснованным
и
общепризнанным
экспериментальным результатам, или же такие гипотезы, содержание которых
меньше, чем содержание уже существующих и эмпирически адекватных
альтернатив, или просто противоречивые гипотезы и т. п.
Существуют даже обстоятельства – и встречаются они довольно часто, –
при которых аргументация лишается предсказательной силы и становится
препятствием
на
пути
прогресса. Никто
не
станет
утверждать,
что
обучение маленьких детей сводится исключительно к рассуждениям (argument)
(хотя рассуждение должно входить в процесс обучения, и даже в большей
степени, чем это обычно имеет место), и сейчас почти каждый согласен с тем,
что те факторы, которые представляются результатом рассудочной работы –
овладение языком, наличие богатого перцептивного мира, логические
209
способности,
–
частично
обусловлены
обучением,
а
частично
–
процессом роста, который осуществляется с силой естественного закона. В тех
же случаях, где рассуждения представляются эффективными, их эффективность
чаще
всего обусловлена физическим повторением, а не семантическим
содержанием.
Согласившись
с
этим,
мы
должны
допустить
возможность
нерассудочного развития и у взрослых, а также в теоретических построениях
таких социальных институтов, как наука, религия, проституция и т.п. Весьма
сомнительно, чтобы то, что возможно для маленького ребенка – овладение
новыми моделями поведения при малейшем побуждении, их смена без
заметного
усилия,
–
было
недоступно
его
родителям.
Напротив,
катастрофические изменения нашего физического окружения, такие, как войны,
разрушения систем моральных. ценностей, политические революции, изменяют
схемы. реакций также и взрослых людей, включая важнейшие схемы
рассуждений.
Такие
изменения
опять-таки
могут
быть
совершенно
естественными, и единственная функция рационального рассуждения в этих
случаях может заключаться лишь в том, что оно повышает то умственное
напряжение, которое предшествует изменению поведения и вызывает его.
Если
же
существуют
факторы
–
не
только
рассуждения,
–
заставляющие нас принимать новые стандарты, включая новые и более
сложные формы рассуждения, то не должны ли в таком случае сторонники
status
quo
представить
противоположные причины,
а
не
просто
контраргументы? («Добродетель без террора бессильна», – говорил Робеспьер.)
И если старые формы рассуждения оказываются слишком слабой причиной, то
не обязаны ли их сторонники уступить либо прибегнуть к более сильным и
более «иррациональным» средствам? (Весьма трудно, если не невозможно,
преодолеть с помощью рассуждения тактику «промывания мозгов».) В этом
случае
даже
наиболее рафинированный рационалист будет вынужден
отказаться от рассуждений и использовать пропаганду и принуждение и не
вследствие того, что его доводы потеряли значение, а просто потому, что
210
исчезли психологические условия, которые делали их эффективными и
способными оказывать влияние на других. А какой смысл использовать
аргументы, оставляющие людей равнодушными?
Разумеется, проблема никогда не стоит именно в такой форме. Обучение
стандартам и их защита никогда не сводятся лишь к тому, чтобы
сформулировать их перед обучаемым и сделать по мере возможности ясными.
По предположению, стандарты должны обладать максимальной каузальной
силой, что весьма затрудняет установление различия между логической силой и
материальным воздействием некоторого аргумента. Точно так же, как хорошо
воспитанный ученик будет повиноваться своему воспитателю независимо от
того, насколько велико при этом его смятение и насколько необходимо
усвоение новых образцов поведения, так и хорошо воспитанный рационалист
будет
повиноваться
мыслительным
схемам своего учителя,
подчиняться
стандартам рассуждения, которым его обучили, придерживаться их независимо
от того, насколько велика путаница, в которую он погружается. При этом он
совершенно не способен понять, что то, что ему представляется «голосом
разума», на самом деле есть лишь каузальное следствие полученного им
воспитания и что апелляция к разуму, с которой он так легко соглашается, есть
не что иное, как политический маневр.
Тот факт, что заинтересованность, насилие, пропаганда и тактика
«промывания мозгов» играют в развитии нашего знания и науки гораздо
большую роль, чем принято считать, явствует также из анализа отношений
между идеей и действием. Предполагается, что ясное и отчетливое понимание
новых идей предшествует и должно предшествовать их формулировке и
социальному выражению. («Исследование начинается с проблем», – говорит
Поппер.) Сначала у нас есть идея или проблема, а затем мы действуем, т.е.
говорим, созидаем или разрушаем. Однако маленькие дети, которые
пользуются словами, комбинируют их, играют с ними, прежде чем усвоят их
значение, первоначально выходящее за пределы их понимания, действуют
совершенно иначе. Первоначальная игровая активность является существенной
211
предпосылкой заключительного акта понимания. Причин, препятствующих
функционированию этого механизма, у взрослых людей нет. Можно
предположить, например, что идея свободы становится ясной только благодаря
тем
действиям,
которые
направлены
на
ее
достижение.
Создание
некоторой вещи и полное понимание правильной идеи этой вещи являются, как
правило, частями единого процесса и не могут быть отделены одна от другой
без остановки этого процесса. Сам же процесс не направляется и не может
направляться четко заданной программой, так как содержит в себе условия
реализации всех возможных программ. Скорее этот процесс направляется
некоторым неопределенным побуждением, некоторой «страстью» (Кьеркегор).
Эта страсть дает начало специфическому поведению, которое в свою очередь
создает обстоятельства и идеи, необходимые для анализа и объяснения самого
процесса, представления его в качестве «рационального».
Прекрасный пример той ситуации, которую я имею в виду, дает развитие
теории Коперника от Галилея до XX столетия. Мы начали с твердого
убеждения, противоречащего разуму и опыту своего времени. Эта вера росла и
находила поддержку в других убеждениях, в равной степени неразумных, если
не сказать больше (закон инерции, телескоп). Далее исследование приобрело
новые направления, создавались новые виды инструментов, «свидетельства»
стали по-новому соотноситься с теориями, и наконец появилась идеология,
достаточно богатая для того, чтобы сформулировать независимые аргументы
для любой своей части, и достаточно подвижная для того, чтобы найти такие
аргументы, если они требуются. Сегодня мы можем сказать, что Галилей стоял
на правильном пути, так как его настойчивая разработка на первый взгляд
чрезвычайно нелепой космологии постепенно создала необходимый материал
для защиты этой космологии от нападок со стороны тех, кто признает
некоторую концепцию лишь в том случае, если она сформулирована
совершенно определенным образом и содержит определенные магические
фразы, называемые «протоколами наблюдения». И это не исключение, это
норма: теории становятся ясными и «разумными» только после того, как их
212
отдельные несвязанные части использовались длительное время. Таким
образом, столь неразумная, нелепая, антиметодологическая предварительная
игра оказывается неизбежной предпосылкой ясности и эмпирического успеха.
Когда же мы пытаемся понять и дать общее описание процессов развития
такого рода, мы вынуждены, разумеется, обращаться к существующим формам
речи, которые не принимают во внимание этих процессов и поэтому должны
быть разрушены, перекроены и трансформированы в новые способы
выражения, пригодные для непредвиденных ситуаций (без постоянного
насилия над языком невозможны ни открытие, ни прогресс). «Кроме того,
поскольку
традиционные
повседневного
мышления
категории
(включая
представляют
обычное
собой
научное
евангелие
мышление)
и
повседневной практики, постольку попытка такого понимания будет создавать,
в сущности, правила и формы ложного мышления и действия – ложного,
конечно, с точки зрения (научного) здравого смысла». Это показывает, что
«диалектика составляет природу самого мышления, что в качестве рассудка оно
должно впадать в отрицание самого себя, в противоречие» всем канонам
формальной логики.
(Между прочим, частое использование таких слов, как «прогресс»,
«успех», «улучшение» и т.п., не означает, что я претендую на обладание
специальным знанием о том, что в науке хорошо, а что – плохо, и хочу внушить
это знание читателю. Эти термины каждый может понимать по-своему и в
соответствии с той традицией, которой он придерживается. Так, для эмпириста
«прогресс» означает переход к теории, предполагающей прямую эмпирическую
проверку большинства базисных положений. Некоторые считают квантовую
механику примером теории именно такого рода. Для других «прогресс»
означает унификацию и гармонию, достигаемые даже за счет эмпирической
адекватности.
Именно
так
Эйнштейн
относился
к
общей
теории
относительности. Мой же тезис состоит в том, что анархизм помогает
достигнуть прогресса в любом смысле. Даже та наука, которая опирается на
213
закон и порядок, будет успешно развиваться лишь в том случае, если в ней хотя
бы иногда будут происходить анархистские движения.)
В этом случае становится очевидным, что идея жесткого метода или
жесткой теории рациональности покоится на слишком наивном представлении
о человеке и его социальном окружении. Если иметь в виду обширный
исторический материал и не стремиться «очистить» его в угоду своим низшим
инстинктам или в силу стремления к интеллектуальной безопасности до
степени ясности, точности, «объективности», «истинности», то выясняется, что
существует
лишь один принцип,
который
можно
защищать
при
всех
обстоятельствах и на всех этапах человеческого развития, – все дозволено.
Теперь этот абстрактный принцип следует проанализировать и объяснить
более подробно.
Извлечение из: Фейерабенд П. Против метода. Очерк анархистской
теории познания / Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М.,
1986. – С.153–159.
Литература
1.
Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / Л. Витгенштейн ;
пер. с англ. Л. Добросельского. – М. : АСТ : Астрель, 2010.
2.
Журнал «Erkenntnis («Познание»). Избранное / Пер. с нем. А. Л.
Никифорова. Под ред. О. А. Назаровой. – М. : Издательский дом «Территория
будущего», Идея-Пресс, 2006.
3.
Карнап Р. Научное миропонимание – Венский кружок / Р. Карнап,
Г. Ган, О. Нейрат // Логос. – № 2 (47). – 2005. – С. 13–26.
4.
Карнап Р. Преодоление метафизики логическим анализом языка / Р.
Карнап / Путь в философию : Антология / Науч. ред. Л. Б. Комиссарова ;
Худож. П. П. Ефремов. — М. ; СПб. : ПЕР СЭ : Университетская книга, 2001.
— С. 42–61.
214
5.
Крафт В. Венский кружок. Возникновение неопозитивизма. / В.
Крафт ; Пер. с англ. А. Никифорова. – М. : Идеа-Пресс, 2003.
6.
Лакатос И. Избранные произведения по философии и методологии
науки / И. Лакатос ; [пер. с англ. И. Н. Веселовского, А. Л. Никифорова, В. Н.
Поруса]. — М. : Академический Проект, 2008.
7.
Поппер К. Р. Какой мне видится философия / К. Р. Поппер / Путь в
философию : Антология / Науч. ред. Л. Б. Комиссарова ; Худож. П. П. Ефремов.
— М. ; СПб. : ПЕР СЭ : Университетская книга, 2001. — С.123–137.
8.
Поппер Р. К. Логика научного исследования ; пер. с англ. / К.
Поппер ; под общ. ред. В. Н. Садовского. — М. : Республика, 2004.
9.
Поппер Р. К. Объективное знание. Эволюционный подход / К. Р.
Поппер ; Отв. ред. В. Н. Садовский; Пер. с англ. Д. Г. Лахути. — М. :
Эдиториал УРСС, 2002.
10.
Поппер Р. К. Предположения и опровержения. Рост научного
знания / К. Поппер ; [пер. с англ. А. Л. Никифорова, Г. А. Новичковой]. — М. :
АСТ : Ермак, 2004.
11.
Порус В. Н. Постпозитивизм // Энциклопедия эпистемологии и
философии науки. – М. : «Канон+», РООИ «Реабилитация», 2009. – С. 722–723.
12.
Фейерабенд П. Наука в свободном обществе / П. Фейерабенд ; пер.
с англ. А. Л. Никифорова. – М. : АСТ : АСТ МОСКВА, 2010.
13.
Шлик М. Будущее философии / М. Шлик / Путь в философию :
Антология / Науч. ред. Л. Б. Комиссарова ; Худож. П. П. Ефремов. — М. ; СПб.
: ПЕР СЭ : Университетская книга, 2001. — С. 66–79.
215
Философская антропология в Германии
Философская антропология является заметным направлением в западной
философии ХХ века, сложившимся после первой мировой войны в Германии.
Важным источником философской антропологии является философия жизни, в
которой переживание человеком мира выходило на первый план.
Основные идеи и методологические установки восходят к работам М.
Шелера, Г. Плеснера, А. Гелена. Это направление ставит вопрос о сущности
человека, его уникальности по отношению к другим формам жизни.
Философская антропология исследует все слои душевно-духовной жизни
человека, занимается поисками антропологических оснований человеческой
жизнедеятельности, культуры, нравственности, права, социальных институтов.
В богатство социальной жизни философская антропология включает широкий
спектр
межличностных
отношений,
основывающихся
на
естественных
симпатиях людей, на актах признания «другого», благодаря сопереживанию
или общности языка. Многие проблемы философской антропологии были
инспирированы феноменологией Э. Гуссерля, которая оказала значительное
влияние и на экзистенциальную философию, в которой параллельно
исследовались основные проблемы человеческого существования. Мы можем
увидеть, что представители философской антропологии используют понятие
«экзистенция» в своих концепциях.
Для философской антропологии определение человека никогда не может
быть
завершенным,
т.
к.
незавершенным,
существование человека.
216
открытым
остается
само
Макс Шелер
(1874–1928)
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Шеллер,_Макс#/media/File:Scheler_max.jpg
Родился в Мюнхене 22 августа
1874 г. В 1894 г. закончил гимназию, в
1894–1895
гг.
изучал
медицину,
психологию
и
философию
Мюнхенском
университете,
в
потом
перевелся в Берлинский университет, где
изучал социологию и философию у Г.
Зиммеля и В. Дильтея. В декабре 1897 г.
защищает
диссертацию
на
тему
«Введение в установление отношений
между
логическими
и
этическими
принципами». В 1899 стажировался в
университете Гейдельберга и прошел габилитацию в Йене, в этом же году
Шелер официально принял католичество и женился на Амелии Оттилии. В
1900—1905 работал в Йенском университете в звании приват-доцента. В январе
1902 впервые встретился с Э. Гуссерлем в Галле, так началось увлечение
Шелера идеями феноменологии. В 1912 году в «Журнале по психопатологии»
публикуется его работа «О ресентименте и моральной оценке», переизданная
затем под названием «Ресентимент в структуре моралей» в сборнике 1915 года
«Избранные трактаты и статьи». В 1913–1928 гг вместе с А. Пфендером, М.
Гейгером и А. Райнахом редактирует «Ежегодник по философии и
феноменологическим исследованиям».
В 1913– 1914 гг выходят следующие работы: «К феноменологии и теории
симпатии и о любви и ненависти», «Формализм в этике и материальная этика
ценностей», «Феноменология и теория познания».
217
В 1916 публикуются вторая часть «Формализма в этике», работы «Война
и возрождение» и «Ordo amoris».
В 1919 Шелер становится одним из директоров Института социологии и
социальных наук, а также профессором Кельнского университета. В 1920
знакомится с Марией Шеей (1892—1969), на которой женится в 1924 году
после очередного развода. Мария Шелер будет редактором Собрания
сочинений Макса Шелера. В 1921 году выходит сборник его работ «О вечном в
человеке». В 1922 публикуется работа «Современная немецкая философия».
В 1927 Шелер в Дармштадте в «Школе мудрости» сделал доклад «Особое
положение человека», затем переработанный в знаменитую работу «Положение
человека в космосе». В 1928 году Шелер получил приглашение на должность
профессора философии и социологии Франкфуртского университета и переехал
во Франкфурт. Умер во Франкфурте-на-Майне 19 мая 1928 года.
Макс Шелер является основателем философской антропологии. Философ
выделял несколько основных подходов к пониманию человека. Во-первых, это
идея об Адаме и Еве, лежащая в основе религиозного понимания человека. Вовторых, преобладание со времени древнегреческой философской традиции
понимание человека как человека разумного (homo sapiens). Марксизм
развивает идею homo faber, которая определяет человека понимается как
особый вид животных. Также популярностью пользуется в начале ХХ века идея
декаданса человека, в которой человек преодолевает серхчеловеком.
Шелер стремится исследовать сущность человека и отмечает, что до сих
пор философия не смогла выработать единую идею человека. Основной
отправной
точкой
для
понимания
человека
по
Шелеру
является
одушевленность всего живого. Все живое наделено переживанием. Самое
общее определение жизни у М. Шелера – «порыв» как темное, слепое влечение.
Сначала порыв бессознателен. Инстинкты животных – это специализированные
формы порыва. Уже у высших животных имеется практический интеллект.
Шелер задает вопрос: «если животному присущ интеллект, то отличается ли
вообще человек от животного более, чем только по степени?».
218
Принцип, который является определяющим для человека, по Шелеру
находится вне жизни, является противоположным жизни. Это дух. Центром
духа является личность. Таким образом, М.Шелер «предлагает новую
концепцию Я-личности, которая исходит не из субстанциализма, а из
своеобразного «функционализма». Я-личность — это «место» исполнения
актов. Такое понимание личности особенно важно для раскрытия этического
априори: Я выступает здесь как носитель ценностей, а не «оценивающий
субъект» [1].
Центральным определением человека как духовного существа является
«его экзистенциальная несвязанность, свобода, отрешенность его… от
принуждения, от давления, от зависимости от органического, от «жизни»…».
Человек поэтому не привязан к окружающему миру, у него есть мир. Человек
может сдерживать свои инстинкты и изменять действительность своими
действиями. Шелер отмечает важность теории З. Фрейда о сублимации и
называет
человека
«аскетом
жизни»,
но
он
против
рассмотрения
происхождения духовной жизни полностью из либидо. У животного есть
только окружающая среда, специфичная для вида. Животное воспринимает в
мире только вредное или полезное. Человек разрывает этот круг, являясь
духовной
личностью.
Он
непосредственные
впечатления
делает
«недействительными», то есть проводит феноменологическую редукцию и
приходит к сущностному созерцанию, отвлекаясь от существования. Этот акт
является идеацией. Шелер приводит пример с Буддой, который увидел одного
нищего, одного больного и одного умершего и сделал вывод обо всей сущности
бытия. Б.В. Марков показывает, что феноменология является центральным
элементом проекта философской антропологии М. Шелера: «феноменология
опирается
на
переживание
как
«живейший,
интенсивнейший
и
непосредственнейший контакт с самим миром». Ее генеалогия восходит к
философии духа. Духовная жизнь мыслится в ней как антропологическая
константа. Главное в человеке не столько жизнь, сколько переживание. Шелер
219
определял дух как бессильный, но способный говорить «нет» витальным
порывам» [1].
Также у человека есть самосознание, поэтому человек обладает волей.
Так, различение добра и зла, переживание любви, чувство уважения не менее
важны для человека чем познание. Человек для Шелера прежде всего существо
любящее, и только потом познающее и волящее.
Критика Декарта, его противопоставления res extensa и res cogitans.
«Разделив все субстанции на «мыслящие» и «протяженные», Декарт ввел в
европейское сознание целое полчище заблуждений относительно человеческой
природы». [2, 175] У духа нет своей энергии, ее он достигает благодаря порыву.
«…только жизнь способна привести в действие и осуществить дух, начиная с
его простейшего побуждения к акту и вплоть до создания произведения,
которому мы приписываем духовное смысловое содержание».
Литература
1. Марков Б.В.Ценности и бытие в философской антропологии Макса
Шелера // [Электронный ресурс ] URL: http://anthropology.ru/ru/text/markovbv/cennosti-i-bytie-v-filosofskoy-antropologii-maksa-shelera
(дата
обращения
16.09.2015)
2. Шелер М. Положение человека в космосе // [Электронный ресурс ]
портал
Библиотека
философской
антропологии
URL:
http://musa.narod.ru/sheler2.htm (дата обращения 16.09.2015)
Кейс № 1: Человек будущего в философии М. Шелера
Прочитайте отрывок из текста М.Шелера и ответьте на следующие
вопросы:
1.
Каковы основные свойства человека?
2.
Какие выделяются виды уравнивания?
220
3.
Как понимается де-сублимация?
Если, таким образом, речь идет о будущем человека и его новом образе,
то я могу позволить себе думать только о таком образе будущего, который
соответствует не автоматически наступающей — позитивно или негативно
направленной трансформации органических природных задатков человека, но
который представляет собой прежде всего «идеал», доступный его свободному
самоформированию формированию той чрезвычайно пластичной части его
существа, которая, прямо или косвенно, доступна духу и воле. То, что идет от
духа, идет не автоматически, не само собой. Оно должно быть взято в руки. В
этом смысле верны слова француза Гратри: «Не только каждый в отдельности,
но и все человечество может кончить и как святой, и как негодяй, в
зависимости от того, чего оно хочет». Человек — это существо, сам способ
бытия которого - это все еще не принятое решение о том, чем оно хочет быть и
стать.
Но если и должно быть имя у идеала, то идеал для человека это
«всечеловек», а не «сверхчеловек», задуманный уже с самого начала
отдаленным от массы и всякой демократии. Сверхчеловек, как и недочеловек,
должен, однако, в идеале всечеловека стать человеком.
В ходе своего становления, известного нам, вплоть до сегодняшнего дня
человек проявил себя как существо, наделенное необычайной пластичностью.
Поэтому для всякого философского направления является величайшей
опасностью понимать идею человека слишком узко, выводить ее из одного
только естественного или только исторического образа или усматривать ее в
одной такой узкой идее. Идея «animal rationale» в классическом смысле была
слишком узка: «homo faber» позитивистов, «дионисический человек» Ницше,
человек
как
«болезнь
жизни»
в
новых
панромантических
учениях,
«сверхчеловек», «homo sapiens» Линнея, «l'homme machine» Ламетри, человек
только «власти», только «Libido», только «экономики» Макиавелли, Фрейда и
Маркса, сотворенный Богом и падший Адам — все эти представления слишком
221
узки, чтобы охватить человека целиком. Все это — как бы идеи вещей. Но
человек — не вещь, он есть направление движения самого универсума, самой
его основы. Человек есть «микрокосм и одухотворенное живое существо» — я
надеюсь, что эти идеи — уже не слишком узкие петли для многообразия его
возможностей и форм. Итак, отворим просторы человеку и его сущностно
бесконечному движению и — никаких фиксаций на одном «примере», на
одной,
естественноисторической
или
всемирно-исторической
форме!
«Человечество несет в себе неограниченное число возможностей развития —
оно таинственнее и величественнее, чем обычно думают». (Л. фон Ранке)
Правда, всечеловек в абсолютном смысле — идея человека, раскрывшего все
свои сущностные возможности, — едва ли нам близок; он далек от нас так же,
как и Бог, который, поскольку мы постигаем его сущность в духе и в жизни,
есть не что иное, как Essentia человека — но только в бесконечной форме и
бесконечном многообразии. Для каждой эпохи мировой истории существует,
однако,
относительный
всечеловек,
некий
доступный
Максимум
всечеловечности, относительный Максимум участия во всех высших Формах
человеческого бытия. То же самое относится и к нам. Позвольте мне для
характеристики этого относительного, доступного нам сегодня всечеловека как
направляющего идеала исходить из задачи наступающей мировой эпохи:
Если бы на вратах грядущей эпохи мировой истории я должен был
написать название, которое бы передавало всеохватывающую тенденцию этой
эпохи, то, как мне кажется, ей подходило бы только одно — «уравнивание».
Уравнивание
почти
всех
характерных
специфических
естественных
особенностей, как физических, так и психических, которые свойственны
человеческим группам как таковым, на которые можно подразделить все
человечество и — одновременно — мощный рост духовных, индивидуальных и
относительно
индивидуальных,
уравновешивание
расовых
например,
напряженностей,
национальных
уравнивание
различий:
менталитетов,
воззрений на Я, мир и Бога в больших культурных кругах, прежде всего Азии и
Европы. Уравнивание специфики мужского и женского типов духа в их борьбе
222
за господство над человеческим обществом. Уравновешивание капитализма и
социализма, а тем самым — классовых логик и классовых состояний и прав
между высшими и низшими классами. Уравнивание в распределении
политической власти между так называемыми культурными, полукультурными
и первобытными народами; уравнивание относительно более примитивного и в
высшей степени цивилизованного менталитета. Относительное выравнивание
юности и зрелости в смысле ценностного отношения к их духовным позициям.
Уравновешивание специального научного знания и образования человека,
физического и умственного труда. Уравновешивание сфер национальных
экономических интересов и того вклада, который нации вносят в общую
культуру
и
цивилизацию
человечества
в
смысле
его
духовного
и
цивилизационного развития. Наконец, это и уравнивание односторонних идей о
человеке, несколько типов которых я назвал выше.
Заметим: эта тенденция к уравниванию при постоянно растущей
дифференциации духовного индивидуума «человек» — это уравнивание
относится не к тем вещам, которые мы «выбираем». Оно — неотвратимая
судьба. Кто ему противится, кто хочет культивировать какой-нибудь так
называемый
«характерный»,
«специфический»
идеал
человека,
уже
пластически сформированный в ходе истории — тот попадет впросак. Словно
заваленный барахлом антикварный магазин, сегодняшний мир переполнен
желанием реанимировать все возможные стилистические формы вида
«человек»:
«языческого»
человека,
«раннехристианского»
человека,
«готического» человека, «ренессансного» человека, «латинско-католического»
человека (Франция), человека-«мужика» и т. д. Человечество молча пройдет
мимо таких искусственных романтических устремлений.
Итак, если само уравнивание, как я сказал, — это неотвратимая судьба
человечества, первым общим переживанием которого явилась на самом деле
мировая война, — ибо лишь здесь впервые начинается общая история так
называемого человечества, — то при всем этом задачей духа и воли является
задача так управлятъ этим выравниванием групповых свойств и сил и так
223
направлять их, чтобы оно соответствовало ценностному росту вида «человек».
И это задача — причем первостепенной важности — для всякой политики.
Расскажем вкратце о некоторых видах наступающего уравнивания. Вне
всякого сомнения будет и дальше прогрессировать уравнивание рас, смешение
кровей. Уже И. Кант предсказал уравновешение расовых напряженностей как
судьбу человечества. Тот, кто видит спасение мира в сохранении некоей
«чистой», по его мнению, «благородной расы», тому не остается ничего
другого, как поступить наподобие «семи верных последователей» графа Гобино
— переселиться вместе с другими благородными по расе на остров и там впасть
в отчаяние! Движение за самостоятельность цветных народов уже сейчас
добилось заметных успехов. Уравнивание белых и цветных неизбежно
наступит. Но — оно может происходить хорошо, а может происходить и плохо
— так, что сойдется либо адекватная кровь, способствующая, согласно
научному опыту, ценностному росту человеческого типа, либо смешается кровь
неадекватная, понижающая ценность человеческого типа. Толковать ли великие
системы рас, на которые распадается человечество, полигенетически, не считая
человечество
внутри
себя
кровнородственным
вообще,
или
мыслить
монофилетически — во всяком случае само расовое разделение уже вовлечено
в процесс человеческого становления. Единое человечество ни с расовой, ни с
культурной точки зрения не было исходным пунктом истории — оно является
целевым направлением его эволюции. По своей наиболее формальной
структуре всемирная история — это вовсе не ритмически упорядоченная череда
множества либо расовых судеб, либо так называемых «культур», которые
рядом друг с другом и независимо друг от друга расцветают, созревают и
отмирают, — как это внушает нам О. Шпенглер, отвлекаясь от всех смешений,
рецепций, ренессансов, — и не изначально единственное континуальное
движение, лишь позднее разделяющееся на отдельные потоки за счет разности
среды и исторически приобретенных различий в природных зачатках, как
предполагают все специфически христианские и позитивистские — оба поевропейски суженные — воззрения на историю. Ее структура похожа скорее на
224
речную систему, в которой множество рек веками течет по своему особому
руслу, но, питаемое бесчисленными притоками, в конце концов при
увеличивающемся угле наклона стремится соединиться в один великий поток.
В той мере, в какой стабильные образования, которые откладываются в виде
цивилизаций и культур из все уменьшающегося множества исторических
потоков, возникают из наделенного разумом Духа народа — по своей структуре
всегда конкретно уникального — они переживают в земном бессмертии
этнические народы вместе с их государственными и экономическими
институтами.
Их
объективное
смысловое
и
ценностное
содержание,
образующее дух, способно в любое время ожить в ренессансах и культурных
смешениях и вновь оказывать формирующее воздействие на человека. Так,
античность оказалась способной в вечно новой форме оплодотворять мир
западноевропейских народов. Но в той мере, в какой эти образования являются
простым «выражением», чистой физиогномикой души и жизни групп (в виде
сказаний, сказок, мифов, обычаев, нравов и т.д.), их живое ценностное значение
окончательно умирает и утрачивается вместе с народностью — в этой мере они
смертны. Только общие продукты смешения духа, влечения к власти и
интеллекта, в особенности позитивная наука, техника, формы государства и
управления, юридические правила — короче говоря, цивилизационные
образования — обнаруживают, резко отличаясь, с одной стороны, от всякой
чисто «духовной культуры», а с другой стороны, от «душевно выразительных и
жизненных образований», одновременно некий континуальный «прогресс»,
пересекающий
бытие
различных
народов
и
культурные
формы,
и
прямолинейную «кумуляцию», которая со временем становится все более
«интернациональной». Но уравнивание чисто духовных культурных форм — не
только существующих в одно и то же время, но и сформировавшихся в
прошлом,
однако
выживших
и
способных
к
выживанию,
—
такое
«космополитическое» уравнивание идет несопоставимо более медленными
темпами и с помощью совершенно Других средств, чем цивилизационнотехническое,
связанное
прежде
всего
225
с
мировой
торговлей,
«интернациональное» уравнивание, которое, правда, служит предпосылкой для
первого.
На важнейшем месте среди видов возможного уравнивания стоит
уравнивание в образовании самого человека, соответствующего этой эпохе
мировой истории, — субъекта, который делает и создает всю историю.
Уравнивание, которое нам уже сегодня бросается в глаза везде, где бы
лик человека ни начинал формироваться в элитах, находясь в движении к
относительному всечеловеку — это уравнивание «аполлонического» и
«дионисического»
человека,
взятых
как
идеи,
как
типы.
Эта
противоположность разделяла до сих пор и философское мышление всех наций
в форме «рационализма» и «иррационализма», «философии идей» и
«философии жизни». Это уравнивание представляет собой не только для
западноевропейской части человечества, но не в меньшей степени и для
американской его части, какой-то странный процесс, который в значительной
мере уже начался и который столь многих из нас, кто опирается только на
масштабы прошедшей эпохи, наполняет страхом и ужасом. Я назвал бы этот
процесс, чтобы охватить все богатство его симптомов, которые он
обнаруживает уже сейчас, процессом де-сублимации. Под де-сублимацией я
понимаю процесс (желаемого самим духом) ограничения меры поступления
получаемой организмом энергии к мозгу, соответственно, к интеллекту, в
которых происходит вся чисто духовная деятельность, т.е. деятельность
постижения идей.
Но как бы то ни было: западноевропейское человечество так долго
подвергалось односторонней сублимации, с такой силой стремилось изгнать
всю «природу» из человека, сформировало такое одностороннее человеческое
самосознание, сконцентрированное на духе и столь безмерно дуалистическое
ощущение жизни, что даже столетие систематической де-сублимации едва ли
может ему повредить. Вообще, человек в своем историческом развитии может
покончить с аскезой и сублимацией в той мере, в какой он уже автоматически и
оптически
одухотворил
себя.
Вся
история
226
морали
—
это
история
относительного освобождения от внешних пут — соразмерно с уже
достигнутой высотой сублимации и приобретенной силой внутренних
обязательств.
Правда, то, что мы видим сегодня, — это еще не (относительное)
приближение к всечеловечеству. Это лишь вступление, преддверие этого
приближения. Когда де-сублимация дойдет до известного пункта, когда снова
станут сами собой разумеющимися жизненные ценности, которые эпохой
Нового времени, прежде всего ее образом мыслей со времен Декарта, были
погребены под интеллектом и механизмом — тогда новое равновесие должно
будет постепенно восстанавливаться, а дух и духовные ценности вновь
приобретут соответствующее сущности человека значение. И только тогда
будет сделан новый шаг ко всечеловеку, т.е. к человеку с более высоким
напряжением между духом и влечением, идеей и чувственностью, и
одновременно с упорядоченным гармоническим слиянием обоих в одну форму
бытия и действия. И только тогда будет преодолен тот роковой, жестокий
романтический распад, та несостыкованность идеи и действительности,
мышления и деяния, которыми столь серьезно больна вся наша европейская и, к
сожалению, не в последнюю очередь, и наша Германская духовная жизнь.
Тот, кто глубже всех укоренен в тьме Земли и природы, той «natura
naturans», которая порождает все естественные образования, «natura naturata», и
кто одновременно как духовная личность выше всех возносится в своем
самосознании к солнечному миру идей, тот приближается к идее всечеловека, а
в ней — к идее субстанции самой мировой основы, вечно становящегося
взаимопроникновения духа и порыва. «Кто в глубины проник, любуется
жизнью.» (Гельдерлин).
Вместе с этим движением в направлении к равновесию между духовным
и жизненным принципом в человеке одновременно идет другой, не менее
важный и соответствующий ему процесс: уравнивание мужского и женского в
человечестве. Откровенно земная, почвенническая, дионисическая фаза нашей
мировой эпохи отчетливо обнаруживает новую тенденцию к повышению
227
ценности и росту господства женщины, которую все мы сегодня так глубоко
ощущаем и которая наверняка повлияет на наши глубочайшие и потаеннейшие
представления. Со времен упадка культа древних земных богинь-матерей
западная идея Бога приобретала все более односторонне мужскую и
логическую окраску. Протестантизм покончил с последним остатком древнего
культа богини-матери в рамках христианской церкви, выступив против культа
Марии как theotokos, а также против культа «Матери церкви». До сих пор наша
идея Бога, как это метко подметил И. Дж. Уэллс в своей книге «The Invisible
King» (Бисмарк, человек с выраженным мужским началом, чувствовал и
рассуждал так же; и Соловьев высказывается в том же духе) имела чрезвычайно
односторонний мужской оттенок в том, что касается созерцания и чувства, если
не догматического понятия (последнее, впрочем, по видимости). Я хотел
сказать, не только по видимости: ибо до тех пор, пока первооснова бытия
остается только «чистым духом» и «светом», остается сопричастна только
духовному принципу, без атрибута «жизни», «порыва», она как бытие и идея de
facto понимается точно так же односторонне мужественно-логически, как и
классическая идея человека в качестве «homo sapiens». Да и этимологически
слово, обозначающее «человека», во многих языках восходит к слову
«мужчина». Это движение к новому значению и культу женского, которое
носит
больше
ценностному
гетерический,
уравниванию
чем
деметрический
полов
—
сказать
характер,
к
к
новому
«матриархальным»
представлениям было бы слишком сильно — может дать самые неожиданные, в
том числе уродливые, плоды. Но и это движение является лишь необходимым
звеном в том общем процессе, который я назвал де-сублимацией. Оно также
ведет
односторонне
спиритуализированного,
сверх-сублимированного
человека, который все мерит только мужскими мерками, в направлении ко
всечеловеку.
Процесс
уравнивания
более
крупного
масштаба,
касающийся
формирования человека, — это уже давно начавшийся процесс уравнивания
Европы и трех великих азиатских центров, Индии, Китая и Японии,
228
опосредованный исламским миром — процесс, который в будущем приобретет
еще более значительные масштабы. И здесь Европа давно перестала быть
только дающей. После того, как Европа передала и продолжает передавать свои
технические и экономические методы производства и обусловливающие их
науки этим народам, последние становятся все более независимыми от Европы
за счет создания самостоятельной индустрии в своих странах. Но, с другой
стороны, Европа через бесчисленное множество каналов все глубже принимает
в свое духовное тело, причем в последнее время в значительно возросшей мере,
древнюю мудрость Востока, например, древнюю азиатскую технику жизни и
страдания — если говорить о Германии, то со времен В. Фон Гумбольдта,
Шеллинга и Шопенгауэра, — чтобы, наверное, впервые по-настоящему
вжиться в нее. Истинно космополитическая мировая философия находится в
процессе становления — по крайней мере, в процессе становления находится
фундамент движения, которое не только исторически регистрирует издавна
совершенно чуждые нам высшие аксиомы бытия и жизни индийской
философии, буддистских форм религии, китайской и японской мудрости, но и
одновременно по сути дела проверяет их и преобразует в живой элемент
собственного мышления. Если не поступаться формами духа, выработанными
античностью, христианством и современной наукой, — там, где это пытаются
делать, идут по ложному пути, — то образ современного человека за счет этого
модифицируется в очень существенном отношении и в очень значительной
мере.
Здесь берет начало также процесс уравнивания идеи о человеке и
формирующих человека образцов. Такого рода уравнивание разыгрывается
прежде всего между западным идеалом «героя», активность которого
направлена вовне, и наиболее распространенным в Азии, проявляющимся в
самой яркой форме в древнейшем южном буддизме идеалом терпящего
«мудреца», который встречает страдания и зло искусством терпения,
«непротивления» — лучше сказать, духовного сопротивления идущей во вне
автоматической реакции на зло. Это в принципе относится к сущностной сфере
229
человека — любое страдание и зло, от простейших телесных болей до
глубочайших переживаний духовной личности преодолевать как извне,
посредством преобразования внешних раздражений, которые их создают, так и
изнутри,
посредством
снятия
нашего
инстинктивного
сопротивления
раздражению — короче говоря: посредством искусства терпения.
Я твердо убежден, что длившаяся столетиями фиксация иудейскохристианского
учения
о
грехопадении,
о
наследственном
грехе
и
искупительном страдании человека и тесно связанная с этим, неизвестная еще
элитам классической античности потребность спасения других (и как ее
следствие — учения о благодати и откровении), в первую очередь привели к
тому, что у нас, у людей Запада, вообще отсутствует систематически
разработанная техника преодоления страданий изнутри, — а также вера в нее и
в ее возможный неограниченный прогресс. До недавнего времени у нас
отсутствовала также и психотехника, как в смысле систематической
психотерапии, так и в смысле искусства внутренней техники жизни и
руководства души, потому что ее исключала истекшая эпоха по сути своей
натуралистической
медицины, для
которой
отправным пунктом были
отдельные органы и комплексы клеток. Но так как тело и душа в жизненном
процессе есть нечто единое со структурной точки зрения, то общий жизненный
процесс должен в принципе также и технически поддаваться изменению с
обеих сторон, посредством физико-химических раздражений u через коридор
сознания (готов ли он уже к этому и насколько — это вопрос позитивной науки
и техники), причем не только при нервных расстройствах, но и при
органическом и внутреннем заболевании организма.
До сих пор мы еще вообще не ставили всерьез один вопрос — а именно,
вопрос о том, не может ли весь процесс западной цивилизации, этот столь
односторонне и сверхактивно направленный во вне процесс, оказаться в
конечном счете опытом с негодными средствами, (рассматривая исторический
процесс как целое), если его не будет сопровождать противоположное
искусство завоевания внутренней власти над всей нашей психофизической
230
«жизнью», автоматически протекающей на уровне ниже духовного, искусство
погружения, ухода в себя, терпения, сущностного умозрения. Не может ли
случиться так, — я беру крайний случай, — что человек, ориентированный
только на внешнюю власть над людьми и вещами, над природой и телом, без
указанных выше акций и противовесов в виде техники власти над самим собой
в конце концов кончит противоположным тому, к чему он стремился: его все
больше и больше будет порабощать тот самый естественный механизм,
который он сам усмотрел в природе и встроил в природу как идеальный план
своего активного вмешательства? Бэкон говорил: «naturam nisi parendo
vincimus». Но разве нельзя точно так же сказать «naturam paremus, si nil volumus
quam naturam vicere» ? Индийский миф рассказывает о юном боге кришне,
который, после того как он долго и безуспешно боролся в реке с обвившей его
мировой змеей, символом каузальной сети мира, освободился, отвечая призыву
Божественного отца помнить о своей небесной природе, от смертельных
объятий змеи — так легко, добавляет индийский миф, как женщина вынимает
руку из перчатки — благодаря тому, что каждой частью своего тела
приспособился к извивам змеи, совершенно им поддался! Иудейскохристианское понятие человека, которое в соответствии с представлением о
Боге-творце и Боге-трудящемся — греки, Платон и Аристотель не знали его, —
фиксирует человека прежде всего как «господина творения», как властное
существо, существо, ставящее цели вопреки природе, и выводит его из общей
взаимосвязи жизни и природного космоса так, как ни одно другое понятие
человека этого не делало — сравните для примера китайскую, индийскую,
классически-греческую идеи человека — это чрезвычайно односторонняя и в
сущности совершенно неадекватная идея человека. И она не станет адекватней
за счет того, что соединится с ошибками «классического» представления о
«самодеятельном разуме» и «самовластии идеи»!
Человек
должен
снова
учиться
постигать
великую
незримую
солидарность всех живых существ между собой во всеединой жизни, всех
духов — в вечном Духе, и одновременно — солидарность мирового процесса с
231
судьбой становления его высшей основы и ее солидарность с мировым
процессом. И он должен воспринимать эту связанность с миром не просто как
учение, а постигать ее жизненно, внешне и внутренне упражняясь и участвуя в
ней. Бог в своей сущностной основе столь же мало «господин и король»
творения. Однако оба они прежде всего товарищи по судьбе, страдающие и
преодолевающие, которые когда-нибудь, наверное, победят.
Указанная выше противоположность между восточной и западной
установкой по отношению к миру находит также в политике и ее методе особое
выражение, значение которого обычно недооценивается. Я имею в виду
глубокую противоположность между «политикой охотника», позитивной
политикой
власти
и
«политикой
жертвы»,
негативной
политикой
непротивления: тем искусством заманивания «охотника» в хаотические
просторы необъятных земель, в которых охотник так легко ошибается и
оступается, не находя центральных силовых центров, опираясь на которые он
мог бы приводить в движение всю страну. Ужасный момент в жизни
Наполеона, стоящего перед подожженной самими русскими Москвой, столь
пластически описанный Леопольдом Фон Ранке в его книге «Возвышение
Пруссии», был, наверное, лишь первым примером того типа ситуаций, которые
в будущем могут еще нередко повторяться в конфликтах между позитивной
властной политикой европейских государств и азиатскими державами с их
методом негативной политики. Это относится сегодня точно также к
английской политике с ее возможностями в Китае, как и к политике «nonresistance».
Посредством усвоения и формирования особой техники терпения и
страдания и посредством ее синтеза с уже разработанной на Западе внешней
техникой власти возможна и трансформация общей познавательной культуры.
Под этим я имею в виду подчинение позитивного, специального знания, с
одной стороны, и знания, ориентированного на образование, с другой, —
метафизическому знанию ради спасения. Ведь сущностное созерцание —
специфическая для метафизического познания установка по отношению к
232
бытию — прежде всего необходимо связано с «пассивной», страдательной
позицией, временно приостанавливающей активность жизненного центра.
Также и подлинное природо-«ведение» требует — в противоположность
научному «знанию» о природе с его познавательной целью, направленному на
господство над природой, - позиции любящей самоотдачи. И «язык» Природы,
каким его еще так глубоко понимали Франциск Асизский или, например, Фабр
в своей книге «Souvenirs Entomologiques», мы снова должны учиться понимать,
отучиваясь одновременно от расхожего мнения, будто математическое
естествознание, сколь бы ни было оно достойно восхищения, есть единственно
возможный способ нашего знающего участия в природе. Это глубокое
гетеанское знание: «Ядро природы — не в сердце ль человека?», это
пребывание внутри самой «natura naturans», это внутреннее динамическое
соучастие в великом всеохватывающем процессе становления, в котором
рождается всякое природное образование — из духа и порыва вечной
субстанции, — все это нечто совершенно иное, нежели математическое
естествознание! Такое знание изнутри — образ, каким его рисует Фабр —
может сформировать большую культуру, причем такое знание возможно как
знание отдельных образований природы, а не только как всеобщее
дионисическое участие в космовитальном бытии. Такое знание облагораживает
и делает счастливым человека, в то время как естествознание учит его умнее и
властнее наводить порядок в природе и господствовать над ней. Если не
появится это новое внутреннее оестествление человека, это новое чувство
единства, эта новая любовь к природе, в том виде, в каком она так мощно
возродилась несколько лет назад в молодежном движении Германии и Италии,
тогда и в самом деле может наступить время, когда человек больше не будет
видеть никакой ценности в том, чтобы владеть тем, над чем он так
односторонне стремился господствовать и только господствовать, — да и сама
жизнь не будет для него столь ценной, чтобы гнаться за особой витальной
ценностью: «властью над природой»!
233
То же самое относится и к метафизике. Только если она по-настоящему
проникает в человека через постоянные упражнения в идеации и возведении к
сущности отдельных случайных элементов опыта, она имеет подлинное
значение. Только тогда она — самоосвобождение, самоспасение от страха, от
давления голого «наличного бытия», от случайностей судьбы, тогда она — то,
чем она была для Платона, Аристотеля, Спинозы, Канта: свободное дыхание
человека, которому угрожает опасность задохнуться в специфике своего
«окружающего мира». Запад уже почти совсем утратил идею метафизики, тем
более ее технику и метод познания; он совершенно задушен, с одной стороны,
грубыми догмами церковных вероисповеданий, с другой стороны, —
позитивной
специальной
наукой,
ориентированной
на
достижения.
Изолировать и отгородить человека от непосредственного бытийного и
жизненного контакта с основой всех вещей — это означает такое же страшное
ограничение человека, прямо-таки прекращение подачи воздуха для его
внутренней жизни, каким, с другой стороны, является отгораживание человека
от природы. Человеку, по Гете, нужно иметь три рода благоговения:
благоговение перед тем, что выше него; перед тем, что ниже него; перед тем,
что рядом с ним. Уравнивание в этом отношении должно произойти и будет
происходить. Верно направлять его — это одна из важнейших задач
культурной политики. В особенности задачу образования в наших Германских
школах, прежде всего высших школах, нельзя, как это было раньше,
рассматривать как нечто вторичное или побочное по сравнению со
специальным научным образованием.
Также
и происходящее
во
все
возрастающей мере уравновешивание между физическим и умственным трудом
(Ратенау), душевное воспитание почти роковым образом отгороженного от
национальных духовных ценностей пролетариата в ходе широко задуманного
движения в области народного образования возможны лишь тогда, когда и
высшими слоями общества задача образования будет рассматриваться как
строго самостоятельная. Голая специальная наука и специальная техника
разделяют людей; подлинное образовательное знание, однако, способно
234
заставить их дышать вместе в одном духовном национальном жизненном
пространстве. Меньшинство необразованных специалистов, привитое к
бесформенной рабочей массе, — это было бы цивилизованным варварством!
Извлечение из: Человек в эпоху уравнивания: Макс Шелер [Электронный
ресурс] URL: http://rumagic.com/ru_zar/sci_philosophy/sheler/0/ (дата обращения
16.09.2015)
235
Гельмут Плеснер
(1892–1985)
URL: http://player.myshared.ru/905384/data/images/img32.jpg
Плеснер (Plessner), Хельмут (1892–1985) Он
родился в 1892 году в Висбадене, сын врача. С 1912
года
он
учился
Гейдельберге,
зоологии
Берлине
и
и
философии
Геттингене.
На
в
его
философское становление повлияли философ и
биолог Дриш, неокантианских философы, такие как
Виндельбанд,
феноменолог
Ласк,
и
Эдмунд
Макс
Вебер,
Гуссерль.
а
также
Опыт
революционной политики в послевоенной Баварии и
современного визуального искусства (Кандинский) также сформировали его
мышление. После габилитации в 1920 году, стал доцентом философии в
Кельнского университета. После прихода к власти национал-социалистов
Плесснер освобожден от должности в связи с еврейским происхождением,
эмигрировал, работал в Гронингене, где стал первым профессором социологии
в Нидерландах. С 1946 года — профессор философии и социологии в
университете Геттингена.
Плесснер способствовал развитию институциональной структуры отдела
социологии в Геттингене, преподавал философию, и по просьбе Адорно и
Хоркхаймера принимал участие в качестве управляющего сотрудника во
Франкфуртском институте социальных исследований. В Геттингене он
способствовал развитию социологии спорта и инициировал комплексные
эмпирические исследования в области высшего образования.
Плесснер был не только источником вдохновения для социологии своего
времени, он активно обменивался идеями с биологом Адольфом Портманом,
дискутировал с антропологом Арнольдом Геленом. Эти дебаты сделали
философскую антропологию привлекательной для подрастающего поколения
236
философов, таких как Юрген Хабермас. Кроме того, Плесснер постоянно
спорил с экзистенциализмом и критической теорией.
Около 1965, когда Плесснер уже вышел на пенсию в Швейцарии, его
пригласили в Цюрихский университет, где он еще пару лет читал лекции по
философии и поражал молодое поколение своей открытостью к всему новому.
Плесснера также можно считать первопроходцем филос. антропологии.
Его основная работа «Ступени органического и человек» вышла в 1928 г.
Плесснер, как и М.Шелер критикует психофизический параллелизм Декарта.
Исходный принцип Плесснера относительно понимания человека заключается
в
том,
что
существует
единая
целостная
структура
человеческого
существования, в которую входят и органическое тело, и специфическая для
человека направленность на мир. Плесснер в первую очередь рассматривает
человека в перспективе биологии, при этом опираясь на труды Гуссерля и
Дильтея. По его мысли, биология не может самостоятельно сформировать
целостное понимание человека без философии.
Для того, чтобы определить биологическую составляющую человека
Плесснер обращается к человеческому телу, телесности. Он отмечает
специфическую уникальную выразительность человеческого тела. Так смех, и
плач присущи только человеку, и отсутствуют у животных. Плесснер
рассматривает ступени органической жизни – миры растений, животных,
человека в их специфическом отношении к собственному «жизненному
окружающему миру». Здесь вводится понятие позициональность, понимаемое
как поле взаимоотношений живого организма со средой. Позициональность
растения заключается в том, что у растения нет центра, и с окружающим миром
оно
взаимодействует
не
центрировано.
Позициональность
животного
центрирована. Как отмечает Плесснер, у животное есть центр, из которого оно,
при этом этот центр не переживается как середина. У животного присутствуют
переживания, связанные с окружающим миром, но при это животное не
переживает
себя.
Позициональность
человека
заключается
в
его
эксцентричности. В силу этой позиции человек способен отделять свое «Я» от
237
своего физического существования и осознавать свою собственную «самость»,
осознавать себя как личность. Экс-центрическая позиция задает не только
структуру внутреннего мира человека, но и способы реализации существования
человека, его отношения к бытию. Основные формы этого отношения
определяются тремя базовыми антропологическими законами.
Человек должен сам себя сделать тем, что он есть. Человек сам управляет
своей
жизнью
с
помощью
культурного
творчества.
Второй
закон
опосредованной непосредственности определяет способ, каким даны объекты
человеку в познавательном и эмоциональном отношении к миру. Третий закон
– это закон утопического места. Он характеризует неукорененность человека в
бытии. Неукорененность означает сознание ничтожности своего бытия и тем
самым ничтожности бытия всего мира. Собственное существование, как и
существование всего сущего, осознается человеком как нечто случайное.
Отсюда вытекает тяга к поиску такой основы мира, которая более не
подвержена случайности, является абсолютным бытием, Богом. В этом
Плесснер видит ядро всякой религиозности. Принцип эксцентричности можно
понимать как «неизмеримость» человека, когда полагается отказ от всякой
определенности человека.
Кейс № 2: Проблема экс-центричности человека
Прочитайте отрывок из текста Г. Плесснера и ответьте на следующие
вопросы:
1. В чем заключается экс-центричность человека?
2. Как понимается тело, душа, дух и личность?
3. Охарактеризуйте основные законы человеческого бытия.
Глава седьмая. Сфера человека.
1. Позициональность эксцентрической формы. Я и свойство личности
Ограниченность животной организации заключается в том, что от
индивидуума скрыто его собственное бытие, поскольку он не устанавливает
238
отношение к позициональной середине, в то время как его среда (Medium) и
собственная телесная плоть даны ему относительно позициональной середины,
в
абсолютном
«здесь»-«теперь».
Последнее
не
становится
для
него
предметным, еще раз выделенным в результате включения в отношение, ибо
здесь нет еще точки отсчета для установления возможного отношения.
Насколько животное есть оно само, оно претворяется в «здесь»-«теперь».
Последнее не становится для него предметным, не обособляется от него,
остается состоянием, опосредованным сквозным движением конкретного
жизненного осуществления. Животное живет, исходя из своей середины, входя
в нее, но оно не живет в качестве середины. Оно переживает содержания
окружающего поля, свое и чужое, оно также в состоянии установить
господство над собственной плотью, образует самоотнесенную с собой
систему, образует себя, но оно не переживает себя.
Но кто же тогда должен представлять переживающего субъекта также и
на этой ступени позициональности? Кому должны быть даны его собственные
обладание, переживание и действие, втекающие в «здесь»-«теперь» и
выплескивающиеся из него в импульсах? «К какой еще точке, к какой
поверхности следовало бы отнести само это положение вещей? Какое
расстояние отделяет структурный момент живой вещественности от тела
животного как вещи?». Насколько животное представляет собой плоть,
настолько оно дано самому себе, отнесено к позициональной середине и в
качестве стоящего в «здесь»-«теперь» совокупного тела может оказывать на
него влияние, обеспечивая физическую результативность идущим из центра
импульсам. Но совокупное тело еще не полностью становится рефлективным.
Еще не полностью, то есть мыслимо известное возвышение, выводящее
живую телесную вещь на позиционально более высокую ступень, за пределы
животной ступени, – в соответствии с тем же законом, какой обусловливает
отличие животного от растения в ступенях развития. Подобно тому, как
открытая форма растительной организации обнаруживает позициональные
свойства, хотя отношение вещи к своей позициональности еще не «положено»,
239
– эта возможность осуществляется в закрытой форме животной организации –
так и сущностная форма животного открывает возможность, которая может
быть реализована только в чем-то ином, чем она. Живому телу на ступени
животного полная рефлективность противопоказана. Положенность животного
в нем самом, его жизнь, идущая из срединности, хоть и является опорой его
существования, тем не менее не поставлена в отношение к нему, ему не дана.
Таким образом, здесь еще остается возможность реализации. Мы имеем в виду,
что она оставлена за человеком.
Какие же условия должны выполняться, чтобы центр позициональности
живой вещи, претворившись в который она живет, в силу которого она
действует и испытывает воздействия, был дан ей? Очевидно, что главным
условием
является
то,
чтобы
центр
позициональности,
благодаря
дистанцированности которого от собственной плоти возникает возможность
всякой данности, был дистанцирован и от самого себя. Быть данным означает
быть данным кому-то одному. Но кому же, как не самому себе, может быть еще
дано то, чему дано все остальное? С другой стороны, пространственновременная точка абсолютного «здесь»-«теперь» не может отмежеваться от себя,
удвоиться (в какой бы, впрочем, форме мы себе ни представляли отказ от
самого
себя).
Смысл
нерелятивируемость,
чистого
которую,
«здесь»-«теперь»
однако,
такого
предполагает
рода
его
предполагаемое
расщепление центра должно было бы упразднить. Представляя это с полной
наглядностью, можно сказать: если имеется некоторая абсолютная точка
«здесь»-«теперь», позициональная середина живого, то было бы бессмысленно
предполагать «наряду» с ней, перед ней или позади нее, раньше или позже нее
существование еще одного точно такого же средоточия. И все-таки мы всякий
раз
подвергаемся
искушению
принять
это
допущение,
поскольку
позициональным средоточием должно быть то, которому нечто дано, для
которого нечто переживаемо, а именно, субъект сознания и осознанного
начинания. Видеть может только глаз, увидеть глаз тоже может только чей-то
глаз. Если же у нас нет возможности располагать за каждым глазом сколь
240
угодно много других, поскольку все они в конечном счете приводят к одному
видящему субъекту и речь идет здесь именно об одном, то видение глазом
самого себя, данность субъекта самому себе не может быть обоснована
посредством (самого по себе бессмысленного) тиражирования субъективного
ядра.
Правда, пока мы представляем себе позициональный центр, субъекта как
некоторую неизменную и завершенную величину, просто существующую
подобно какому-либо телесному признаку, мы не сможем избежать указанного
тиражирования и связанных с ним несуразностей. Но это представление
является столь же доступным, сколь и ложным. Оно упускает из виду, что речь
идет о позициональном свойстве, наличие которого связано с исполнением или
полаганием - с исполнением и полаганием в смысле жизненности сущего,
которая определена границей как своим конститутивным принципом.
Позициональная середина обнаруживается только в исполнении. Она есть
то, посредством чего вещь приходит к единству гештальта: сквозное движение
опосредования.
Как
момент позициональности, она является
еще
не
вступившим в свои функции субъектом. Для этого требуется специфический
оборот: позициональный момент должен стать конститутивным принципом
вещи. Тем самым она полагается в своей собственной середине, в сквозном
движении своего опосредованного в единство бытия, - так достигается ступень
животного. Соответственно этому закону, по которому один из моментов
низшей ступени, взятый в качестве принципа, дает начало следующей за ним
более высокой ступени, одновременно выступая на ней как один из ее
моментов («удерживаясь» на ней), и следует мыслить такое существо, чья
организация
конституируется
по
масштабам
позициональных
свойств
животного. Этот индивидуум существует как положенный в середину своего
положенного бытия через сквозное движение своего опосредованного в
единство бытия. Он находится в центре своего нахождения.
Тем самым дано условие, согласно которому центр позициональности
дистанцирован от самого себя, и, будучи обособлен от себя самого, делает
241
возможной тотальную рефлективность жизненной системы. Оно дается, избегая
бессмыслицы
удвоения
субъектного
ядра,
исключительно
в
смысле
позициональности. Идущая из середины жизнь субъективного ядра соотносится
с ним, обратная связь как свойство репрезентированного через центр тела дана
ему самому. Пусть даже и на этой ступени живое существо претворено в
«здесь»-«теперь» и живет из середины, тем не менее оно осознает
центральность своего существования. Оно располагает самим собой, знает о
себе, оно обнаруживает себя само и есть в этом Я – находящаяся «позади себя»
точка схождения его собственной глубинности, которая изъята из собственной
середины всякого возможного исполнения жизни и становится зрителем
сценария этого внутреннего поля, – как уже необъективируемый, не
обращенный более к позиции предметности субъективный полюс. На этой
предельной ступени жизни полагается основа для все более новых актов
рефлексии над самим собой, для regressus ad infinitum (Отступление до
бесконечности (лат.)) самосознания, и тем самым осуществлено расщепление
на внешнее поле, внутреннее поле и сознание.
Можно понять и то, почему животная природа должна быть сохранена и
на этой высочайшей достижимой ступени развития. Закрытая форма
организации только доведена здесь до своего предельного выражения. Ведь
живая вещь не обнаруживает в своих позициональных моментах никакой
точки, опираясь на которую можно было бы подняться выше, за исключением
той, что дает возможность организовать совокупную рефлективную систему
животного тела по принципу рефлективности, а то, из чего жизнь на ступени
животного только складывалась, кроме того еще и поставить в отношение к
живому существу. Дальнейшее восхождение за эти пределы уже невозможно,
поскольку здесь живая вещь действительно превосходит саму себя. Хотя она и
остается в сущности связанной с «здесь»-«теперь», живет безотчетными
переживаниями, захваченная объектами окружающего поля и реакциями
собственного бытия, но она способна дистанцироваться от самой себя, полагая
бездну между собой и своими переживаниями. Тогда она существует по ту и по
242
сю сторону этой бездны, привязанная к телу, привязанная к душе и в то же
время ни к чему не привязанная, неуместная нигде, несмотря на связь с
пространством и временем, – и вот так она превращается в человека.
В своем существовании, ориентированном против окружающего поля как
чуждой ему данности, животное занимает фронтальную позицию. Будучи
отчужденным от окружающего поля и одновременно отнесенным к нему, оно
живет, осознавая себя только как плоть, как единство чувственных полей и – в
случае централизованной организации – полей действия, в собственном теле,
естественным местом которого оказывается скрытое от животного средоточие
его экзистенции. Человек же как живая вещь, поставленная в средоточие своей
экзистенции, знает эту середину, переживает ее и потому выходит за ее
пределы. Он переживает свою связанность абсолютным «здесь»-«теперь»,
тотальную конвергенцию окружающего поля и собственной плоти к центру
занимаемой им позиции и поэтому он уже не связан ею. Он переживает
непосредственное зарождение своих действий, импульсивность своих порывов
и движений, радикальную исходность своего живого бытия, нахождение между
одним действием и другим и выбор, также как и захваченность аффектами и
побуждениями, он осознает себя свободным и вопреки этой свободе
прикованным к существованию, которое препятствует ему и с которым он
должен
вести
борьбу.
Если
жизнь
животного
центрична,
то
жизнь
человеческая, не способная разорвать эту центричность, но в то же время ее
преодолевающая,
эксцентрична.
характерную
человека
для
Эксцентричность
форму
его
представляет
фронтальной
собой
расположенности
относительно окружающего поля.
В качестве Я, делающего возможным полную обращенность живой
системы к самой себе, человек находится уже не в «здесь»-«теперь», но
«позади» него, позади самого себя, как неуместный нигде, в ничто,
претворенный
в
ничто,
в
пространственно-временное
нигде-никогда.
Неуместный нигде и вневременный, он делает возможным переживание самого
себя, а также переживание своей неуместности и вневременности как
243
нахождения снаружи самого себя, поскольку человек является живой вещью,
которая больше не находится только в самой себе, но само его «нахождение в
себе» представляет фундамент его нахождения. Он положен в своих границах,
ограничивающих его как живую вещь, и потому – вне их. Он не только живет и
переживает, но и переживает свое переживание. Но то, что он переживает себя
как нечто, не могущее уже быть пережитым, не могущее уже выступать в
предметной позиции, будучи чистым Я (в отличие от психофизического
индивидуального Я, тождественного переживаемому Мне), имеет своим
основанием единственно лишь особый способ ограничения, присущий той
вещи, которая называется человеком, или, более резко: непосредственно
выражает этот способ.
И напротив, как Я, которое постигает себя в полном обращении,
чувствует, узнает себя, отнесено к своим волениям, мышлению, побуждениям,
чувствам (а также отнесено к самому этому отнесению), человек остается
связанным
своим
окружающего
поля
непосредственности
«здесь»-«теперь»,
и
и
собственной
цельности,
центром
плоти.
тотальной
Так
осуществляя
живет
все
то,
конвергенции
он
что
в
в
своей
силу
необъективированной природы своего Я он постигает во внутреннем поле как
реальность своей душевной жизни.
Переход от бытия внутри собственной плоти к бытию за ее пределами
становится
для
него неустранимой двуаспектностью его
экзистенции,
действительным разломом его природы. Он живет по сю и по ту сторону этого
разлома, как душа и как тело, и как психофизически нейтральное единство этих
сфер. Двойная аспектность, однако, не перекрывается единством, не рождается
из него; единство не есть что-то третье, примиряющее две противоположности
и передающееся им, оно не составляет самостоятельную сферу. Оно есть
разлом, зияние, пустой переход опосредования, которое для самого живущего
равно абсолютной двузначности и двуаспектности различения телесной плоти и
души, – в этом опосредовании он их переживает.
244
Позиционально перед нами тройное разделение: живое есть тело,
существует в теле (как внутренняя жизнь, или душа) и вне тела как точка
зрения, из которой оно представляется и тем и другим вместе. Индивидуум,
который с позициональной точки зрения трояко характеризуется подобным
образом, называется личностью. Он является субъектом своего переживания,
своих восприятий и своих действий, своих намерений. Он знает и волит. Его
существование в самом деле установлено на ничто.
2. Внешний мир, внутренний мир, сопредельный мир (Mitwelt)
Если свойство быть снаружи себя превращает животное в человека, то
поскольку
эксцентричность
не
обеспечивает
появление
новой
формы
организации, очевидно, что человек в телесном плане должен оставаться
животным. Физические признаки человеческой природы имеют поэтому
исключительно эмпирическое значение. Бытие человеком не привязано ни к
какому определенному образу и потому могло бы реализоваться (если
вспомнить остроумную догадку палеонтолога Даке) также и во многих иных,
неведомых нам образах. Свойство быть человеком привязано только к
централизованной форме организации, составляющей базис эксцентричности
человека.
Вдвойне обособленный от собственного тела, то есть обособленный в
своей середине еще и от своей самости, от своей внутренней жизни, человек
находится в мире, который в соответствии с троякой характеристикой его
позиции разделяется на внешний мир, внутренний мир и сопредельный мир
(Mitwelt). В каждой из этих сфер он имеет дело с вещами, которые
противостоят ему как особая действительность, пребывающее в себе бытие.
Всякая
предстоящая
ему
данность
выделена
поэтому
фрагментарно,
проявляется отрывочно, как аспект, поскольку рассматривается под углом
зрения принадлежности к своей сфере, то есть на фоне целого. Эта
фрагментарность сущностно связана с самообоснованностью того или иного
имеющегося содержания, с тем фактом, что оно есть.
245
Наполненное вещами окружающее поле превращается в исполненный
предметов внешний мир, представляющий собой континуум пустоты или
пространственно-временной протяженности. Поскольку предметы в своих
границах манифестируют сущее, пустые формы пространства и времени,
непосредственно отнесенные к телесным предметам, являются формами
манифестации ничто. (Это положение не должно вызывать к жизни старый
спор о существовании или несуществовании пустого пространства. Столь же
мало, однако, могут быть привлечены для подтверждения или опровержения
его существования физические или теоретико-познавательные, соответственно,
метафизические аргументы. В нем находит свое отражение исключительно
наглядное положение вещей. Чистые «где» и «когда», осуществимые
посредством сущего, представляются в том же самом отношении чистой
противоположностью этому сущему, или небытием, – пусть даже физики или
метафизики, необходимым образом выходя за эти пределы, обнаруживают всю
предварительность
такого
определения).
Вещи
в
однородной
сфере,
допускающей всевозможные движения, каковую представляет собой релятивно
ориентированное пространственно-временное целое, создают ситуацию, строго
соответствующую эксцентрической позиции организма. Если он находится вне
естественного места, вне себя, является непространственным, вневременным,
не установленным нигде, установленным на ничто, в ничто своей границы, то и
телесная вещь из окружающей среды также находится «в» «пустоте»
относительных мест и времен. И организм, в силу своей эксцентричности,
является для себя всего лишь телесной вещью подобного рода в окружающей
среде, в определенном месте в определенном времени; в том месте, которое
может быть заменено любым другим местом в этом континууме пустоты.
Таким образом, на этой ступени больше не существует окружающего
поля в исключительном смысле. Вместе с включением организма в релятивно
ориентированное пространственно-временное целое, и окружающее поле
равным образом включается в это единство пустоты. Оно сохраняется со всеми
своими свойствами (тотальная конвергенция вокруг абсолютного «здесь»246
«теперь», обособленность от плоти, безграничность и конечность), конечно же,
по отношении к организму в занимаемой им позиции. И тем не менее само это
позициональное целое находится во внешнем мире наряду со всеми другими
вещами.
Эксцентричности
структуры
живого
существа
соответствует
эксцентричность положения, или двуаспектность, его экзистенции как тела и
плоти, как вещи среди вещей в любом месте единого пространственновременного континуума, и как системы, концентрически смыкающейся вокруг
абсолютной середины в пространстве и времени с абсолютно заданными
векторами.
Поэтому необходимы оба взгляда на мир: человек как плоть посредине
некоей сферы, которая в соответствии с его эмпирическим гештальтом
допускает абсолютные верх, низ, переднее, заднее, правое, левое, раньше,
позже, – взгляд, который служит базисом органологического мировоззрения; и
человек как телесная вещь, находящаяся в любом месте релятивно
ориентированного континуума возможных процессов, – взгляд, ведущий к
физико-математическому пониманию. Плоть и тело, будучи одним и тем же,
хотя и не представляют собой материально разделимые системы, все же не
совпадают между собой. Двойная аспектность выражена в них радикально.
Столь же радикально несводимы друг к другу окружающее поле и внешний
мир, равным образом не составляющие две материально разделимые зоны.
Можно частицу за частицей переносить окружающее поле во внешний мир,
хотя оно теряет при этом свои свойства – быть окружающей средой. В
результате этот перенос рисует разворачивающуюся по законам перспективы
пространственно-временную сферу определенной размерности, физический
эквивалент позиционного поля, которое скрывает у себя организм как телесную
вещь (объект анатомии и физиологии).
Оба аспекта соседствуют друг с другом, соединенные исключительно в
точке эксцентричности, в необъективируемом Я. Подобно тому, как это Я,
лежащее «позади» тела и плоти, составляет точку стяжения собственного
внутреннего бытия, его самобытия, ту границу, к которой возможно только
247
асимптотическое приближение, так и вещь во внешнем мире обнаруживает
точно такую же структуру как явление некоторого неисчерпаемого бытия, как
конструкция из оболочки и ядра. Находясь в пространственном смысле
«позади» чувственно-телесного, связывая воедино массу плоти, но не
претворяясь в нее, переживая во временном плане поток изменений и не
подвергаясь разрушению, субстанциальное ядро представляет ту «середину»
являющейся вещи, реальное приближение к которой в то же время невозможно.
Ведь физическое вещественное тело (то, что реально определимо в
пространственно-временном смысле) полностью сводимо к явлению. Середина
становится точкой стяжения, Х-ом своих предикатов, носительницей свойств.
На этом основана в конечном счете существенная для любой реальности
необходимая односторонность явления или оттененность его изображения,
момент избыточности в данном, поскольку оно постигается как сущая
действительность.
Дистанцированное от самого себя живое существо дано себе в качестве
внутреннего мира. Внутреннее проявляется в противоположность внешнему,
принявшему форму обособленного от плоти окружающего поля. Строго говоря,
термин «внешнее» неприменим к миру телесных вещей как таковому. Только
ставшее миром, включенное в него окружающее поле, окружающая среда есть
внешний мир. Тогда в порядке противопоставления окружающей среде
соответствует внутренний мир, мир «в пределах» плоти, – то, что собственно и
есть живое существо. Но и этот мир не ограничен однозначно одним аспектом.
Закон эксцентричности определяет двуаспектность его существования как
души и переживания.
Когда живое существо претворено в свое самобытие, непосредственно
или рефлектированно, оно находится в переживании, «знает» свои переживания
и осуществляет тем самым психическую реальность. В то же время это
осуществление
привязано
к
психической
реальности,
к
самобытию.
Интенсивность и размах осуществления, на которые способно живое существо,
являются определяющими для образа его психической жизни, так же как и само
248
оно определяется им. Глубина и сила, или умеренность и сдержанность
ощущений, воления, мышления; душевные качества, дарования, все душевные
расположения
и
способности
одновременно
и
обусловливают
наши
переживания и обусловлены ими. Переживания отпечатлеваются в человеке,
сотрясают его, создавая новые возможности будущего переживания, в свою
очередь сами становясь возможными благодаря предданным свойствам души.
Душа как исполненная заложенных в ней задатков, способная к развитию и
подчиняющаяся
законам,
и
переживание
как
проживаемая
мной
действительность моей собственной самости в «здесь»-«теперь», в которой
никто не может меня заместить и отторгнуть меня от которой способна разве
что смерть (хотя даже и это сомнительно), не совпадают между собой, хотя и не
составляют две материально отделенные друг от друга системы. Мы имеем
дело с радикальной двуаспектностью – она соответствует различию тела и
плоти, а впрочем, когда речь идет о данности, двуаспектность непринудительно
сопровождает это различие.
Внутренний мир как реальность, наличная в самоположении и в
предметной установке, являющаяся объектом переживания и объектом
восприятия, по типу своего бытия отличен от внешнего мира. Ведь даже если в
последнем мы пробегаем по всей градации способов проявления бытия,
начиная с чистых обстояний всего лишь несущей и сопутствующей
окружающей среды и заканчивая чистой предметностью существующего для
себя вещного мира, то мы никак не касаемся самого бытия. Во внутреннем
мире, напротив, задана градация бытия. Здесь я могу «быть настроенным»,
также как и «чем-то быть». К сущности позиционального нахождения в
«здесь»-«теперь» (и к сущности одновременно дистанцированной от него
эксцентричности) относится то, что самобытие обнаруживает градацию бытия
начиная от захваченности и самозабвения и заканчивая вытесненным, скрыто
существующим переживанием. Иногда, как, например, в случае психической
травмы, комплекса в психоаналитическом смысле, или при наличии ясного,
ностальгически окрашенного чувственного образа в памяти мы имеем дело с
249
психическим как вещью с четко обозначенными границами, с присущей ей
силой воздействия. В других случаях, когда мы захвачены болью или
наслаждением, а разнообразные аффекты пронизывают и затопляют наше
душевное бытие, исчезает всякая дистанция между деятельным субъектом
переживания и субъективным ядром личности в целом, и мы «растворяемся» в
душевном.
Для
затопляющего
таких
движения.
наших
внутренних
Между
этими
состояний
подходит
экстремальными
образ
состояниями
душевной реальности обнаруживаются, однако, многообразные переходы. Так,
встретив впервые какого-то человека, я получаю от него некое ощущение, –
почти как запах или вкус. Формы симпатии и антипатии заполняют всю шкалу
такого рода значимых состояний. Или я прислушиваюсь к самому себе, словно
во мне говорит какой-то внутренний голос. Я пытаюсь услышать его там, где,
собственно, ничего не может быть услышано.
То обстоятельство, что я в своем самоположении выступаю как источник
материи и формы для внутренней сферы и что мне дано и само это
самоположение,
способствует
открытию
психической
реальности
и
одновременно ее преобразованию. Даже если постепенный рост наших знаний
о душевных законах укрепляет доверие к способности психического бытия
противостоять взгляду психолога-экспериментатора и, по крайней мере в
эмпирическом плане, выбивает почву из-под ног идеалистической установки,
утверждающей относительно психики ее безраздельную «привязанность к
сознанию», все же нельзя с порога отвергать те изменения, каким подвергаются
реалии и события внутреннего мира, когда они становятся объектами
направленного внимания. В акте рефлексии, внимания, наблюдения, поиска,
вспоминания
жизненный
субъект
актуализирует
также
и
душевную
действительность и, разумеется, она оказывает воздействие на ставшую
объектом реальность таких, например, явлений, как желание, любовь,
депрессия, чувство. Под взглядом переживающего субъекта внутренняя жизнь
может претерпеть сильные изменения, подобно светочувствительному слою
фотопленки, попавшему на свет.
250
Только так быть не должно. Взгляд, согласно которому знание о какомлибо переживании означает не простую констатацию реальности, но придание
формы некоторому X, – идея, нашедшая своих сторонников в неокантианстве, –
основывается на представлении о психике как сплошном переживании (он
делает эмпирическую психологию невозможной). С этой точки зрения,
психическим
является
переживание
мышления,
переживание
воления,
переживание чувств и т.д., а душевная жизнь и переживание вследствие этого
совпадают между собой. В соответствии с общими основоположениями
идеализма психические феномены рассматриваются здесь как исключительные
предметы самопонимания и полностью приравниваются к содержаниям
сознания, отождествляются с ними. Принцип esse=percipi (Быть – воспринимать
(лат.)), смягченный в данном случае более осторожной мыслью Канта о
самоаффицировании
субъекта
психическим
«самим-по-себе»,
о
форме
внутреннего созерцания и феноменальной значимости попавших в поле
самонаблюдения содержаний, сохраняет свою силу для внутреннего мира даже
тогда, когда он уже давно утратил свой смысл применительно к миру
внешнему.
И в самоположении, и в предметной установке, как в качестве
переживаемой, так и созерцаемой действительности, я дан себе в явлении, сам
оставаясь в то же время действительным. Правда, многие охотно разделяют ту
точку зрения, что в самоположении, то есть в исполнении переживания, не
следует говорить о внутреннем мире как являющемся и он непосредственно
открывается здесь таким, каков он есть сам по себе. Допуская, что рефлексия
над переживанием позволяет схватить собственную самость только в качестве
феномена, утверждают, что нельзя сомневаться в том, что переживание само в
себе
есть
нечто
абсолютное,
или
сам
внутренний
мир
(широко
распространенное допущение, лежащее в основании всех разновидностей
субъективизма
и
философии
переживания).
Такого
рода
прерогатива
самоположения могла бы, однако, считаться оправданной только в том случае,
если бы человек был исключительно центрично ориентированным живым
251
существом, а не эксцентричным, каким он является на самом деле.
Относительно животного совершенно верным представляется тезис, что в
своем самоположении оно полностью является самим собой. Оно поставлено в
позиционалъную середину и претворяется в нее. Напротив, человек подчинен
закону эксцентричности, по которому его бытие в «здесь»-«теперь», то есть его
растворение в переживании, больше не совпадает с точкой его существования.
Даже в осуществлении мысли, чувства, воления человек находится вне самого
себя.
Иначе на чем же основана возможность фальшивых чувств, ложных
мыслей, встраивание себя в то, что на самом деле не существует? На чем
основана возможность стать (хорошим или плохим) актером, превращение
человека в кого-то другого? Как получается, что ни другие личности,
наблюдающие за человеком, ни в первую очередь сам человек не могут
определенно утверждать, не исполняет ли он просто некую роль даже в
моменты полного самозабвенья и отрешенности? Свидетельства внутренней
очевидности не устраняют сомнений в достоверности собственного бытия. Оно
неспособно
преодолеть
раскол,
гнездящийся
в
самобытии
человека,
пронизывающий его в силу его эксцентричности, и поэтому никто не знает о
самом себе, тот ли он, кто плачет или смеется, думает и принимает решения,
или это делает та уже отколовшаяся от него самость, – его иное в нем, его
дублер, а, может быть, и антипод.
Если философия подходит к исследованию принципов психического, по
которым конституируется внутренний мир, она должна будет уделить особое
внимание этому фундаментальному расколу, – ведь он открывает подход к
пониманию лабильности, или, если воспользоваться, может быть, еще более
адекватным сравнением, к пониманию безразличного равновесия как главного
признака внутреннего мира, из которого этот мир извлекает свои величайшие
возможности, но который в равной мере может стать источником его болезни и
гибели.
252
Эксцентричность, на которой покоятся как внешний (природа), так и
внутренний мир (душа), определяет, что индивидуальная личность должна
различать в самой себе индивидуальное и «универсальное» Я. Это различение,
безусловно, ощутимо для нее обычно только в общении с другими личностями,
и даже тогда это универсальное Я никогда не выступает в своей абстрактной
форме, но конкретно в первом, втором, третьем лице. Человек обращается к
себе и к другим Ты, Он, Мы – и не потому, что он должен был бы
воспринимать эти лица в тех формах, которые кажутся ему наиболее
подходящими, основываясь на заключениях по аналогии или на актах
вчувствования, но он делает это лишь в соответствии со структурой
свойственного ему способа бытия. Человек сам по себе есть Я, то есть
обладатель своей плоти и своей души; Я, составляющее центр окружности, в
которую оно тем не менее не включается. Поэтому для человека открыто
опытное пространство, чтобы он мог пользоваться этой неуместностьювневременностью своего положения, в силу которого он является человеком,
для самого себя и для любого другого существа даже там, где он сталкивается с
живыми существами вовсе чуждого ему вида.
И ничто даже в пределах простого жизненного опыта так убедительно не
демонстрирует несостоятельность известных теорий вывода по аналогии и
вчувствования, согласно которым человек сначала приходит к идее некоторого
сопредельного ему мира (Mitwelt), а затем удостоверяется в реальности других
Я, чем повсеместно наблюдающееся в коллективном и индивидуальном
развитии
человека
персонификации.
В
изначальное
окружающем
стремление
к
ребенка
мире
антропоморфизации
даже
мертвые
и
вещи
приобретают качества персональной жизни. Образ мира первобытных народов
– в том случае, если мы вообще можем быть уверены, что перед нами
первобытные, то есть первоначальные, а не вторичные, спроецированные нами
формы, – обнаруживает те же черты. И лишь трезвый взгляд на мир,
формируемый рассудочной культурой , приводит человека к представлению о
неживом. Под этим углом зрения пантеистическое всеодушевление и
253
одухотворение мира, встречающееся в более поздних культурах, означает
попытку парализовать такого рода представление, бегство в детское
восприятие.
В гипотезе существования других Я речь идет не о переносе
свойственного человеку способа бытия, каким он живет для себя, на другие,
всего лишь телесно присутствующие перед ним вещи, то есть не о расширении
круга персонального бытия, но о сужении и ограничении этого, как раз не
локализованного и сопротивляющегося своей локализации, круга бытия сферой
«людей». Процесс ограничения, как он отражается в истолковании чужих
жизненных центров, проявляющихся в своем плотском качестве, должен быть
строго отграничен от предположений, что могут существовать иные нам
личности, что вообще существует персональный мир. Впервые необходимость
этого подчеркнул Фихте. Любому реальному полаганию в отдельном теле
некоторого Я, некоторой личности, предпослана сфера Ты, Он, Мы. Если
отдельному человеку приходит, так сказать, в голову мысль, что он не один и
что его окружают не только вещи, но и его спутники в этом мире – такие же,
как и он, чувствующие существа; больше того – если он с самого начала
проникается такой мыслью, это имеет своим основанием вовсе не акт
проецирования вовне его собственной формы жизни, но представляет собой
предпосылку, делающую возможной всю сферу человеческого существования.
Несомненно, чтобы ориентироваться в этом мире, необходимо постоянное
напряжение и тщательно выверяемый опыт. Ведь «другой», не претерпевая
ущерба в своем структурном сущностном сходстве со мной как личностью,
является простой индивидуальной реальностью (как и я), чей внутренний мир
изначально почти что полностью скрыт от меня и должен открываться только
посредством самого разного рода толкований.
Посредством свойственной человеку эксцентрической позиционной
формы обеспечивается для него реальность сопредельного мира (Mitwelt). То
есть этот мир не является тем, что должно было бы осознаваться человеком
лишь на основании определенных восприятий, хотя, естественно, он обретает
254
плоть и кровь при наличии определенных восприятий в процессе опыта. В
подобном же смысле сопредельный мир отличается от внешнего и внутреннего
мира и тем, что его составляющие, личности, не воплощают в себе какой-либо
специфический субстрат, который в материальном смысле выходил бы за
пределы того, что уже представлено во внешнем и внутреннем мире самих по
себе. Его специфический признак составляет жизненность и при этом в ее
высшей, эксцентрической форме. Таким образом, специфический субстрат
сопредельного мира опирается все же только на свойственную этому миру
структуру. Сопредельный мир есть собственная позиционная форма человека,
воспринимаемая им как сфера других людей. Поэтому нужно добавить, что
посредством эксцентрической позиционной формы строится сопредельный мир
и одновременно гарантируется его реальность.
Понятно, что такое положение вещей дает повод к различным
превратным толкованиям. Кажется невозможным, что целый мир не имеет
специфического для себя субстрата, характерной для него одного «материи».
Но в этом случае в качестве мира должна была бы выступить чистая форма.
Если
в
материальном плане единство
личности
не
допускает
иной
дифференциации, кроме как на телесное и душевное бытие, и свойство
личности опирается на модус бытия (жизни), то согласно традиционному
дуалистически-эмпирическому представлению у нас нет права говорить о
каком-либо самостоятельном сопредельном мире. – Нечувствительность к
существованию нераздельного, невозводимого к телу и душе слоя бытия,
проявляющегося только в наделенных жизнью вещах, конечно, мстит за себя, в
особенности там, где идет речь о высших формах воплощения этих слоев бытия
в «личности».
И далее: разве не является уступкой проективной доктрине, учению о
переносе единичного модуса бытия на другие тела, когда говорится, что
сопредельный мир представляет собой собственную позиционную форму
человека, воспринимаемую им как сфера других людей? – Мало что можно
было бы удержать из такого рода представления о вещах, если бы оно не
255
дополнялось в соответствии со своим смыслом еще и идеей существования
этой сферы, представляющей собой как раз предпосылку для понимания
собственной позиции вообще и для понимания именно этой позиционной
формы как некоей сферы. Существование сопредельного мира является
условием возможности того, что живое существо сможет понять свое
положение, а именно, – себя как часть этого сопредельного мира. Насколько
мало приложимы расхожие схемы к жизненному отношению личности и
внешнего мира, схемы, ставшие для нас привычными благодаря нашим органам
чувств, рассматриваемым как предмет физиолого-физического исследования, в
особенности же схема визави-установки человека относительно внешнего мира,
и еще одна – мира как источника информационного обеспечения, настолько же
бессмысленным было бы применение их в контексте отношения личности к
сопредельному миру. Кроме того, однако, ставить реальность мира в
зависимость от того, соответствует ли отношение к нему категориям,
формирующим связи с природой или душой, означало бы считать проблему
предрешенной в дуалистическом духе, что уже не может иметь под собой
никакого прочного основания.
Сопредельный мир не окружает личность, как это делает (пусть даже не в
столь строгом смысле, поскольку сюда относится и собственная плоть
человека) природа. Но он также и не наполняет личность, как это можно было
бы равно неадекватным образом сказать о внутреннем мире. Сопредельный мир
несет на себе личность, будучи в то же время несомым и конструируемым ею.
Между мной и мной, мной и им лежит сфера этого духовного мира. Если
отличительным признаком природного существования личности является
способность занимать абсолютную середину чувственно-образной сферы,
которая в то же время сама по себе релятивизирует эту установку и лишает ее
абсолютного
смысла;
если
отличительным
признаком
душевного
существования личности является то, что она принимает по отношению к
своему внутреннему миру установку понимания и одновременно исполняет
этот мир в переживании, тогда можно утверждать, что духовный характер
256
личности опирается на форму Мы, свойственную ее собственному Я, на
совершенное единство охваченности и охватывания собственного жизненного
существования в соответствии с модусом эксцентричности.
Мы, то есть не обособившаяся из Мы-сферы группа или сообщество,
которое может называть себя Мы, но обозначаемая этим словом сфера как
таковая и есть то, что со всей строгостью одно только и может называться
духом. Ведь взятый в своей чистоте, дух отличен от души и сознания. Реально
душа предстает как внутреннее существование личности. Сознание же есть
аспект представления мира, обусловленный эксцентричностью личностного
существования. Дух, напротив, представляет собой созданную своеобразной
позиционной формой и устойчиво существующую сферу, и потому не
составляет реальности, но реализуется в сопредельном мире, даже если
существует только одна личность. – Конечно, обычно эти различения попросту
игнорируются и понятия дух, душа, субъект, сознание рассматриваются как
эквиваленты или даже прямо замещаются одно другим. Отсюда рождаются
роковые воззрения о духовности мира, о всеобщей одушевленности,
субъективистские, а наряду с ними – и объективно-идеалистические
предрассудки, в которые стремятся вдохнуть новую жизнь, опираясь на давно
уже почившие естественной смертью классические образцы.
Сопредельный мир реален, даже если существует только одна личность,
поскольку
он
представляет
собой
сферу,
существующую
благодаря
эксцентрической позиционной форме, и эта сфера лежит в основании всякого
разделения на первое, второе и третье лицо единственного и множественного
числа. Поэтому данная сфера как таковая может быть отделена и от
вычленяемых из нее сегментов, и от своего специфического жизненного
основания. Так она становится чистым Мы или духом. И только так человек
являет собой дух и обладает духом. Он обладает им не в том же самом смысле,
в каком он обладает телом и душой. Последними он обладает потому, что он
есть они и он живет. Дух же, напротив, есть сфера, в силу которой мы живем
257
как личности, в которой мы находимся, именно потому, что наша позиционная
форма ее в себе содержит.
Только потому, что мы являемся личностями, мы находимся в мире
независимого от нас и в то же время подверженного нашим воздействиям
бытия. Поэтому есть своя правда и в том, что дух составляет предпосылку и
природы, и души. Этот тезис нужно принимать в свойственных ему границах. В
качестве предпосылки для конституирования действительности дух выступает
не как субъективность, сознание или интеллект, а как Мы-сфера. В свою
очередь,
эта
действительность
только
тогда
представляет
собой
действительность и складывается в нее, если она остается конституированной
также и для себя, независимо от принципов ее конституирования, заложенных в
аспекте сознания. Именно благодаря этой отстраненности от сознания она
исполняет закон эксцентрической сферы, о чем выше уже шла у нас речь.
Если бы мы захотели найти образ, подходящий для выражения
сферической структуры сопредельного мира, то отметили бы, что благодаря ей
лишаются
своего
значения
пространственно-временные
различия
в
местоположении людей. Как часть сопредельного мира всякий человек
находится там, где находится и другой. В сопредельном мире имеется только
один человек, точнее говоря, сопредельный мир существует как один человек.
Он представляет собой абсолютную точечную структуру, в которой все, что
носит человеческий облик, остается изначально связанным, даже если
витальный базис распадается на отдельные живые существа. Он предстает как
сфера взаимоотношений и полной открытости, в которой встречают друг друга
все человеческие вещи. И таким образом этот мир оказывается воистину
безразличным к единственному и множественному числу как бесконечно
малый
и
бесконечно
большой,
как
субъект-объект,
как
гарантия
действительного (а не только возможного) самопознания людей в форме их
взаимного бытия.
Принято говорить с оглядкой на Гегеля (чаще всего в очень
поверхностном смысле) о субъективном, объективном и абсолютном духе.
258
Отношение к таким жестко очерченным понятиям всегда в основе своей
проблематично. Важнее в первую очередь понимание неприменимости понятий
субъективного и объективного к духу как сфере. Нельзя истолковывать это и
так, будто речь здесь идет об абсолютном духе. Если не принимать во внимание
все производное от духа, все то, что за него высказывается, сферу духа можно
определить только как нейтральную по отношению к субъективному и
объективному, то есть как безразличную к различению субъекта и объекта. Но
это еще не дает оснований прилагать предикат абсолютности к данному слою
бытия. Соблазн каждый раз говорить о духе как абсолюте (и это также означает
нечто иное, чем понятие абсолютного духа) возникает из-за того, что пропасть
между субъектом и объектом, которая несмотря ни на что сохраняет свое
значение для человека, снимается или преодолевается в сфере духа. Если мы
вспомним, что дух представляет собой сферу, данную нам только благодаря
эксцентрической позиционной форме, что эксцентричность, однако, означает
отличающую человека форму его фронтальной утвержденности по отношению
к окружающему полю, становится понятным изначальный парадокс жизненной
ситуации человека: как субъект он противостоит самому себе и миру и
одновременно тем самым отрешается от данного противостояния. В мире и
против мира, в себе и против себя – ни одно из этих противоположных друг
другу определений не имеет перевеса над другим; пропасть, пустой
промежуток между «здесь» и «там», движение по ту сторону сохраняется, даже
если человек осознает это и наделенный именно этим знанием занимает сферу
духа.
Возможность объективации самого себя и противостоящего нам
внешнего мира опирается на дух. Это значит, что объективирование, или
знание, не есть сам дух, но имеет его своей предпосылкой. Именно потому, что
эксцентрически оформленное живое существо благодаря своей жизненной
форме свободно от естественно укорененной, заданной в закрытой форме его
организации фронтальности и противопоставленности окружающему полю, оно
захвачено свойственным сопредельному миру отношением к себе (и ко всему,
259
что есть) и способно обнаруживать непреодолимость своего экзистенциального
статуса, который оно разделяет вместе с животными, также неспособными его
избежать. Субъект-объектное отношение отражает «низшую» форму бытия,
правда, освещенную светом той сферы, благодаря которой человек как живое
существо образует более высокую форму бытия и обладает ею.
Дополнительно
словоупотреблении
сделаем
под
еще
две
сопредельным
оговорки.
миром
В
понимается
обычном
социальное
окружение человека, то есть нечто более узкое и конкретное, нежели описанная
здесь сфера существования. В более узком смысле от сопредельного мира
(Mitwelt) также отделяют мир предков (Vorwelt) и мир потомков (Nachwelt) и
рассматривают
современников
как
актуальную
совокупность,
которую
определенно следует отличать от прошлых и грядущих поколений. Тем не
менее не вызывает сомнений, что всякая эмпирически доступная конкретизация
подобного рода имеет отношение к особой сфере, которая все же не может
отождествляться с предметной природой или с душой, или быть созвучной
синтезу их обеих. Предельной составляющей этой сферы является личность в
качестве жизненного единства, которое если и распадается при аналитическом,
объективирующем рассмотрении на природу, душу и дух (или на смысловые
единства и единства значений как корреляты интенциональных актов), то
никогда не может из них складываться. Если некто иной выступает перед нами
как часть социального окружения, как наш ближний, то это имеет своим
основанием только особую структуру личностной сферы. Поэтому, скорее
всего, и оправданно использование слова «сопредельный мир», несмотря на
употребление его в ограниченном смысле, для обозначения той реальности, из
которой оно, собственно, и черпает свое значение.
Далее, в утверждении существования исключительно человеческого мира
ближних
содержится
отказ
от
теорий,
рассматривающих
социальные
отношения у животных, формы их совместной деятельности и взаимодействия
под тем же углом зрения, что и свойственные человеку социальные формы
жизни. Если зоолог и говорит о сопредельном мире или социальном мире
260
какого-либо животного вида, о государствах пчел, термитов или муравьев, о
формах группового существования, сообществах, племенных союзах и т.д., то
он вкладывает в это не тот смысл (по крайней мере, не подразумевает его
необходимость), что в аспекте рассматриваемого живого существа можно
говорить о каком-либо фактически существующем, соответствующем ему
социальном мире. Истинный биолог даже из методических соображений
избегает подобных суждений и ограничивается исследованием феноменов
социально обусловленных реакций. Поскольку эти феномены проявляются в
пространственно-временном мире, естественно, биолог может говорить также и
об исследовании социальных миров у животных.
Совсем иное доказывает концепция, утверждающая, что социальный
жизненный горизонт и пространство жизни даны животному точно таким же
или сходным образом, что и человеку его мир. Это допущение ложно. Ведь так
же как окружающее поле свойственного животному существования не может
проявляться для него в виде мира (welthaft), то есть в истинной предметности, –
иначе оно уже не будет животным – так и его отношение к близкому
(Mitverhaltnis) не выражается для него в виде мира. Оно не осознается им как
отношение к близкому и остается для него скрытым. Хотя животное и
находится внутри этого отношения, последнее не носит для него характера
постижимого. Форма его организации является концентрической, а не
эксцентрической, и потому не дает возможности для раскрытия и постижения
его позиции в отношении к близкому.
Если, однако, философия оставляет сопредельный мир исключительно за
человеком, то это не означает, что она проходит мимо проявлений социальной
жизни в царстве животных или ставит под сомнение их особое значение. В этом
случае обсуждению подвергается только их правильная оценка и истолкование.
Конечно, проще всего было бы говорить также и о сопредельном поле (Mitfeld)
животного как о присущем животному окружающем поле, и предполагать
возможность того, что в своем социальном поведении животное определенным
образом отнесено к такого рода сфере сопредельного поля. Но это было бы
261
преждевременным заключением. Закрытая форма организации животного не
допускает конституирования собственного сопредельного поля как отличного
от окружающего поля. Его видовые партнеры, «близкие ему» животные не
составляют для животного специфически отличного и заключенного в границы
окружения. Они слиты с окружающем полем как целым и потому
рассматриваются как совпадающие с ним по смыслу.
В этом не может быть сомнения: у животного есть чутье на своих
видовых партнеров, с которыми оно «объективно» соотносится как с близкими
себе. Какую роль в этом играет простой инстинкт, а какую – восприятие,
остается ли здесь еще место для проб и ошибок, а тем самым – и для особого
опыта, все это должна выяснить биология. Но то, что отношение к близкому все
же должно гарантированно присутствовать, начиная от простейших типов
сообщества, спорадически возникающего при спаривании, в борьбе за добычу и
т.д., и вплоть до высших типов «государственных» союзов, – это с
непосредственной очевидностью обнаруживается в самой сущности закрытой
формы организации и кроме того получает фактическое подтверждение в
опыте.
Все живое на основании своей жизненности находится в определенном
отношении к близкому себе, то есть относится к нему как к спутнику, соседу и
сотруднику, что отличается от простой соотнесенности (последнее вообще-то
представимо только в качестве предельного выражения свойственной человеку
предметной установки). Этот вывод с принудительной необходимостью
следует
из
всего
соответствующего
контекста
нашего
исследования.
Отношение к близкому захватывает прежде всего связь живого существа с
окружающей средой, независимо от того, участвуют ли в ней неживые или
обладающие жизнью вещи. Отношение подлинного противоположения (не во
враждебном смысле, а в смысле объективности) доступно только человеку. И
его мир также необходимым образом опирается на особенности окружающей
среды, подобно тому, как в структуре его собственного существования высшие
и специфически человеческие начала опираются на животные. И этот мир
262
также поневоле (и внутренне оправданно) раскрывается как среда, как
нерасчлененная «атмосфера», полнота обстоятельств, которые окружают и
несут на себе человека. Тысячи вещей, с которыми мы ежедневно имеем дело,
от куска мыла до почтового ящика, являются объектами только в возможности,
в то же время выступая в ситуации обхождения с ними в качестве компонентов
окружающего поля, в качестве членов отношения к ним как к близким.
Эта жизнеотнесенная зона обходительности и доверия, где господствуют
истинные отношения к близкому, насколько они (не будучи, конечно,
встроенными в мир) характерны для жизненной ситуации животного, очевидно,
не имеет к сопредельному миру самому по себе никакого отношения. И если
человек может говорить о своем брате осле и брате дереве скорее в прямом, чем
всего лишь в аллегорическом смысле, то только вследствие того, что он
воспринимает сплошную общность всего живого и подчеркивает в этом
характерное вообще для витальной позициональности отношение к близкому,
через которое он видит также и себя связанным со всем живым свойственным
себе образом. И все же та сфера, в которой Ты и Я действительно связаны в
единство жизни и каждый открыто смотрит в лицо другому, оставлена за
человеком, – как сопредельный мир, в котором не только господствуют
отношения к близкому себе, но отношения к близкому превращаются в
конституирующую форму действительного мира, в котором Я и Ты сплавлены
в отчетливое Мы.
Основные антропологические законы.
I. Закон естественной искусственности
Насколько
человек
удовлетворяет
требованиям
своей
жизненной
ситуации? Как он реализует эксцентрическую позицию? Какими главными
отличительными чертами должно обладать его существование, свойственное
ему как живому существу?
Уже
в
самом
вопросе
выражено
заданное
эксцентричностью
противостояние человека своей жизненности и жизненной ситуации. Из
263
эксцентричности следует именно этот вопрос. Его следует рассматривать не
просто как произвольную постановку проблемы, с которой философ подходит к
людям (как и ко всем вещам на небе и на земле), но как (нашедшее свое
выражение в слове) препятствие, которое человек сущностно-необходимо
должен преодолевать, если он желает жить. И этот философский вопрос, как в
основе своей всякий вопрос, который человек должен себе задавать тысячу раз
в своей жизни: что я должен делать, как я должен жить, как свершить мне свое
существование,
–
обусловленности,
представляет
в
собой,
сущности
при
типичное
всей
своей
выражение
исторической
разлома
или
эксцентричности, которых не смогла избежать ни одна, даже самая наивная,
приближенная к природе, цельная, жизнерадостная и традиционалистская эпоха
в истории человечества. Были, правда, и будут повторяться времена, которые
не говорили об этом и в которых сознание конститутивной безродности
человеческого существа скрадывалось прочной привязанностью к почве и
семье, к очагу и предкам. Но и они не знали покоя, пусть даже и искали его.
Идея рая, состояния невинности, золотого века, без которых не могло прожить
ни одно поколение людей (сегодня эта идея получила название «сообщества»),
является свидетельством того, чего не хватает человеку, и свидетельством его
знания о том, благодаря чему он поднялся над животным.
Как эксцентрически организованное существо он должен еще только
сделать себя таким, каков он уже есть. Только так сможет он исполнить
навязанный ему формой его бытия способ существования – не просто
претвориться
в центр своей
позициональности
(как это
свойственно
животному, живущему, исходя из своей середины, и все относящему к своей
середине), а находиться в нем и тем самым одновременно знать о своей
поставленноcти в нем.
Этот бытийный модус нахождения в своей поставленности возможен
только как исполнение, идущее из центра поставленности. Один из подобного
рода способов быть выполняется только в качестве реализации. Человек живет
тогда только, когда ведет жизнь. Быть человеком означает «обособление»
264
бытия живым от бытия и исполнение этого обособления, в силу чего слой
жизненности
предстает
как
квазисамостоятельная
сфера,
которая
для
животного и растения остается несамостоятельным моментом бытия, присущим
ему
свойством
(даже
и
там,
где
она
составляет
организующую,
конституирующую форму для одного типа жизненного бытия, а именно, для
животного). Вследствие этого человек ни просто проживает до конца то, что он
есть, – он не изживает себя (беря это выражение в его радикальной
непосредственности), – ни делает себя только тем, что он есть. Его
существование таково, что хотя им и вызвано это находимое в нем различение,
само оно в то же время возвышается над различением. Такое «поперечное
положение» человека философия объясняет его эксцентрической позиционной
формой, но это мало что дает. Тот, кто попадает в него, находится в аспекте
абсолютной антиномии: необходимости только сделаться таким, каков ты уже
есть; вести ту жизнь, какой ты живешь.
Основные антропологические законы.
II. Закон опосредованной непосредственности.
Имманентность и экспрессивность
Если бы результаты человеческих начинаний нельзя было абстрагировать
от самого человека, они не смогли бы способствовать восстановлению
онтически недоступного для человека равновесия с помощью искусственных
средств. Даже простейшее орудие является орудием лишь постольку, поскольку
в нем представлено некоторое положение вещей (Sachverhalt), выражено
некоторое бытийное обстояние (Seinsverhalt). Только при этих условиях
становится пригодным для использования даже самое примитивное орудие,
простейший
инструмент.
Если
принято
считать,
что
доступные
для
употребления вещи нашего обихода получают свой полный смысл и все свое
бытие исключительно из рук изобретателя и действительны лишь относительно
нашего обхождения с ними, то это только половина правды. Ведь для
технических вспомогательных средств (и более того – для всех произведений и
265
установлений, берущих начало в человеческом творчестве) столь же
существенной будет также и их внутренняя значимость, их объективность,
которая является в них тем, что может быть только найдено и открыто, но не
произведено.
В этом смысле все, что получает свое место в сфере культуры, указывает
как авторство человека, так (и в той же степени) и независимость от него.
Человек может изобретать в той мере, в какой он открывает. Он может
производить только то, что «уже» имеется само по себе, – так же, как сам он
является человеком только тогда, когда делает себя им, и живет, когда ведет
свою жизнь. Производя, он лишь создает обстоятельства, при которых
изобретение становится событием и обретает свой образ. Здесь вновь
воспроизводится рассмотренное выше отношение коррелятивности априорных
и апостериорных элементов, в общих чертах определяющее, да и просто
задающее позицию живого существа или характер его приспособления к
окружению, но уже в слое осознанного деяния, которое становится творческим
только тогда, когда ему удается специфическим образом приспособиться к
объективному миру. Тайна творчества, наития, заключается в счастливой
находке, когда человек встречается с миром вещей. Вовсе не поиск чего-то
определенного есть первичное в действительном изобретении – ведь тот, кто
что-то ищет, на самом деле уже нашел его. Он подчинен закону сущего,
согласно которому находка является простым осуществлением гарантированно
осуществимого стремления. В противоположность этому, первичным в поиске
и нахождении будет коррелятивность человека и мира, указывающая, в свою
очередь, на тождество его эксцентрической позиционной формы и структуры
вещной реальности (которая точно также обнаруживает «эксцентрическую»
форму).
Мы бы не стали утверждать, что тем самым дали полную характеристику
сущности изобретения и удачной находки. Изобретением зовется также и
переход из возможности в действительность. До изобретения молотка
существовал не он сам, а фактическое обстояние, которому он придал
266
выражение. Граммофон, можно сказать, созрел для своего изобретения уже
тогда, когда было установлено, что звуковые волны могут подвергаться
механическим преобразованиям, и не человек был виновником этого
обстоятельства. Тем не менее, граммофон нужно было изобрести, то есть нужно
было найти подходящую для этого форму. Творческий прием представляет
собой способность выражения. Благодаря ему реализующий акт, который
должен опираться на предоставляемый природой материал, обретает характер
искусственности.
В соответствии со своей внутренней сущностью и внешним проявлением
всякая способность выражения разделяется на содержание и форму, на что и
как выражения. Мы не будем в данной связи затрагивать основные
разновидности выражения – наша задача заключается только в том, чтобы
выявить сущностно-всеобщий закон, обнаруживающий свою значимость для
каждой разновидности выражения. Основные способы, какими задается
выражение, были подробно раскрыты нами с учетом эстезиологических
проблем в работе «Единство чувств». Здесь мы указываем на нее для того,
чтобы в последующем избежать ложных толкований некоторых проблем. В
намерение автора в данном случае не входит выявление специфических форм
выражения, его основных категорий в пользу, например, некоторого всеобщего
закона выражения или их дедукция из него. Выражение и тем самым культура
как манифестация в конкретно постижимой форме возможна только в
соответствии с одной из названных категорий. (Данное положение, в свою
очередь, следует отличать от того, что эти категории манифестации или
реализации [как это было показано с помощью эстезиологического метода в
«Единстве
чувств»]
обнаруживают
свое
проявление
в
определенных
эмпирических фактах тех или иных ушедших в историю культур, – в
евклидовой геометрии, языковом стиле, в чистой музыке постреформационной
Европы. Часто это понимают в совершенно превратно, будто тем самым данная
музыка, данная геометрия, данный язык должны рассматриваться как
априорные категории. Конечно, речь идет совсем не о том. Априорной может
267
быть не выразительная форма, – ей это свойственно столь же мало, сколь и
содержанию, – но только [обнаруживаемый благодаря исключительным
примерам!] тот вид и способ, каким мы находим для определенного
содержания соответствующую ему форму).
Речь идет в данном случае о предпосланной всем способам выражения
необходимости выражения вообще, понимании сущностной связи между
эксцентрической позиционной формой и выразительностью как жизненным
модусом человека. Побуждение выразить себя, необходимость высказаться
известны каждому человеку из его личного опыта; это возвращает нас к мысли,
что человек рожден для жизни в сообществе. Данная потребность сообщить о
себе подвержена персональным колебаниям. От нее, в свою очередь, следует
отличать другого рода потребность в выражении, психологическая значимость
которой многократно недооценивалась, – это потребность в мимическом
изображении, и в целом в изображении, другими словами, в воспроизведении
пережитых вещей, будоражащих чувств, фантазий, мыслей: она в меньшей
степени
опирается
на
социальные
начала.
От
ее
интенсивности
и
направленности зависят степень и характер раскрытия художественных
способностей. Видимо, она основана прежде всего на стремлении сохранить в
образах и сделать обозримой быстротечность жизни.
Так в действительности дело и обстоит. Человек живет в окружающем
поле, имеющем характер мира. Вещи даны ему предметно – действительные
вещи, которые в своей данности проявляют себя как отделимые от своей
данности. К их сущности принадлежит избыточный момент собственной
значимости, для-себя-существования, их бытия-самих-по-себе, иначе не имело
бы смысла говорить о действительных вещах. Тем не менее этот избыточный
момент, этот излишек обнаруживает себя - в явлении, которое, принадлежа к
действительности, не полностью раскрывает ее, но и в самой предметности
реально, то есть прямо, представляет всего лишь обращенную к субъекту
сторону действительного. Так что субъект получает возможность познать
реальность только через посредство явления, и именно в непосредственной
268
форме, поскольку в непосредственном настоящем явления непосредственно
приводится
«к»
явлению
излишек
бытия-самого-по-себе,
больше-чем-
являющего-ся-бытия.
Если
соединить
образ
возвышения,
в
котором
выражалась
эксцентрическая позициональность человека, с приведенным уже ранее
образом на-хождения-за-собой, то ситуация пребывания человека в мире
прояснится в одно мгновение и прежние представления об этой ситуации
обретут живые черты. Эта ситуация человека есть имманентность сознания.
Все, что человек узнает, он узнает в качестве содержания сознания и потому не
в качестве чего-то находящегося в сознании, а как сущее вне сознания.
Поскольку человек организован эксцентрически и тем самым становится
позади себя, он живет, обособившись от всего, что есть он и что вокруг него. В
двойном обособлении от собственной плоти, поставленный в середине своей
позиции и не просто живущий из этой середины, как это свойственно
животному, человек знает о себе как о душе и теле, знает о других личностях,
живых существах и вещах непосредственно только как о явлениях, иными
словами, только как о содержаниях сознания, а посредством них – знает и о
являющихся реальностях.
В плане самого испытывающего, воспринимающего, созерцающего,
внутренне становящегося, понимающего знания отношение знания должно
выступать для человека как непосредственное, прямое. Здесь ему не остается
ничего другого, как постигать вещи в наготе их непосредственности. Поскольку
они таковы для него, таковы они и сами по себе. Ведь для того, чтобы иметь
знание об объекте, человек как субъект, который стоит за (над) собой, сам
образует опосредование между собой и объектом. Точнее: знание об объекте
есть опосредование между собой и объектом. Таким образом, при своем
исполнении опосредование стирает его, человека, как посредствующего,
стоящего за своей спиной субъекта; субъект забывает себя (человек же не
забывает!) - и утверждается наивная прямота схватывания вещи самой по себе
во всей ее очевидности.
269
Подобно тому, как установленное между животным и окружающим
полем опосредованное отношение не может иметь характера опосредования для
самого животного, поскольку оно же само и осуществляет опосредование
между собой и полем (и кроме этого, благодаря своей центрированности
претворяется в это осуществление), так и для человека опосредованное им
отношение
к
окружающему
полю
так
же
принимает
характер
непосредственного. И у него исполняющая середина или Я также поглощается
в исполнение опосредования; более того: она превращается в чистую
исполненность, чистое сквозное движение. Таким образом, эксцентричность
человека,
на
почве
которой
он
стоит
за
(над)
собой,
не
может
воспрепятствовать сознанию непосредственности и прямого контакта. Ведь
глядящий субъект (середина позиции) и субъект, находящийся в середине,
тождественны друг другу.
Основные антропологические законы III.
Закон утопического местоположения.
Ничтожествование и трансценденция
Под знаком этих слов проходит все человеческое существование.
Эксцентрическая форма существования толкает человека к культуротворчеству,
пробуждает
потребности,
которые
могут
быть
удовлетворены
только
посредством системы искусственных объектов, и одновременно тем самым
налагает на них печать бренности. Люди во всякие времена достигают того,
чего хотят. В то же время, как только они этого достигают, незримый человек в
них уже переступает через них. Его конститутивная неукорененность
удостоверяется реальностью мировой истории.
Но человек открывает эту неукорененность и в самом себе. Она дает ему
сознание собственного ничтожествования (Nichtigkeit) и в дополнение к этому ничтожествования мира. Перед лицом этого Ничто она пробуждает в нем
сознание своей однократности и единственности, а в добавление к этому - и
индивидуальности этого мира. Так пробуждается в нем сознание абсолютной
270
случайности его существования и вместе с тем и идея основы мира, идея
покоящегося в себе необходимого бытия, абсолюта или Бога. Правда, это
сознание
лишено
непоколебимой
достоверности.
Подобно
тому,
как
эксцентричность не допускает однозначной фиксации собственного положения
(то есть, она требует его, но при этом всякий раз и упраздняет – постоянное
аннулирует собственное полагание), так и человеку не дано знать, «где»
находится он сам и соответствующая его эксцентричности действительность.
Если же так или иначе он хочет решения, ему остается только прыжок в веру. В
ходе истории в пространствах различных культур понятия и чувство
индивидуальности и ничтожествования, случайности и божественной основы
собственной жизни и мира несомненно изменялись в своих образах и своей
значимости для жизни. Но в них сохранялось априорное, заложенное вместе с
самой жизненной формой человека ядро, – ядро всякой религиозности.
Можно спорить о том, имеет ли религия своей существенной
предпосылкой потребность в искуплении или же она только de facto выполняет
в верующем функцию искупления. Представления о Божественном сменяются
представлениями о святом и человеческом. Одно только характерно для любой
формы религиозности: она придает всему окончательность. То, что не могут
дать человеку ни природа, ни дух, то предельное, которое звучит как «Это так!»
– она хочет ему дать. Предельная связь и включенность, место его жизни и
смерти, укрытость, примирение с судьбой, истолкование действительности,
родина – все это дарит только религия. Между нею и культурой, несмотря на
исторические примирения и редко когда искренне звучащие клятвы в верности,
столь популярные в наше время, существует абсолютная вражда. Кто тоскует
по дому, родине, укрытости, должен принести себя в жертву вере. Тот же, кто
держится духа, обратно не возвращается.
Для занимающего позицию эксцентричности она означает неразрешимое
внутреннее противоречие. Действительно, благодаря ей он включен во
внешний мир и в мир ближних и внутренне постигает самого себя как
действительность. Но этот контакт с бытием куплен дорогой ценой: в своей
271
эксцентричности человек находится там, где он находится, и одновременно не
там, где он находится. То «здесь», в котором он живет и к которому отнесена в
тотальной
конвергенции
нерелятивируемое»
вся
окружающая его
«здесь»-«теперь»
его
среда, то
положения,
абсолютное,
принимается
и
одновременно не принимается им. Он поставлен в своей жизни, он находится
«за ней», «над ней» и образует вследствие этого выступающую за границы
своей периферии середину окружающей его среды. Но эксцентрическая
середина, даже обретя реальность, остается бессмыслицей. Если, таким
образом, существование человека скрывает в себе с человеческой точки зрения
реализованную бессмыслицу, прозрачный парадокс, понятную невнятность, он
нуждается в опоре, которая помогла бы ему выйти из этой ситуации его
действительности. Будучи привязанной в своем существовании к точке опоры,
находящейся за пределами действительной сферы, действительность – внешний
мир, внутренний мир и мир ближних, – сущностно корреллирующая с
человеческим существованием, поневоле сама оказывается лишенной опоры и,
определяясь своим отношением к этой трансцендентной действительности,
опорной или скрепляющей точке, смыкается в Единый Мир, во Вселенную. Так
действительность
как
совокупное
единство
претерпевает
свое
объективирование, а тем самым – и свое обособление от «нечто», то есть,
выявляет свою непричастность к этому миру. Став «нечто», она оказывается
определенной как «эта» действительность и вычленяется относительно сферы
не «этого», а несколько иного бытия. Она выступает как Один индивидуальный
мир, поскольку открывает горизонт возможностей быть также и иной.
В этом таким, а не иным образом, действительном мире и индивидуум
становится индивидуальностью. Человек оказывается для себя уже не просто
отлитой в единую форму нераздельной сущностью, но незаместимой,
незаменимой жизнью в «здесь»-и-«теперь». Необратимость вектора его
экзистенции обретает позитивный смысл. Можно объяснить это высокой
ценностью отпущенного нам срока жизни, ограниченного смертью. Но смерть,
перед лицом которой живет человек, не позволяет ему видеть единственность
272
именно его собственной жизни. Подобно тому, как мир обособляется в качестве
индивидуальности на горизонте возможностей быть иным, так и для человека
его собственное существование в качестве индивидуального обособляется
только на горизонте возможностей стать другим. Эти возможности даны
человеку в его жизненной форме. Человек сам является для себя основой
человеческого как такового, на котором он выступает в качестве «этого и
никакого другого». Как чистое «Я» или «Мы» находится единичный
индивидуум в мире ближних. Последний не только обнимает единичного
человека как окружающая его среда, не только наполняет его как внутренний
мир, – он пронизывает человека насквозь, человек сам есть этот мир.
Единичный человек представляет собой человечество, то есть как единичный
он абсолютно заместим и заменим. Любой иной мог бы находиться на его
месте, поскольку в неуместности своей эксцентрической позиции он смыкается
с ним в изначальном сообществе, характеризующемся как «Мы».
Формирование и выражение солидарных чувств и образа действий,
предшествующая конкретному сообществу замещаемостъ и заменяемость
всякого единичного всяким другим в форме «Мы», образуют тот фон, на
котором единичный выступает как индивидуальность. Ведь в сущности он есть
то же, что и другой, он находится там же, где и другой, а другой занимает его
место. Поэтому в действительности внешнего и внутреннего мира другой
может занимать ту же позицию, что и любой человек в своем абсолютном
«здесь», другими словами, – «он мог бы стать таким же, как и другой».
Свойственная единичному человеку его действительная заменимость и
заместимость является свидетельством и удостоверением случайности его
бытия, или его индивидуальности.
Извлечение из: Плесснер Х. Ступени органического и человек.
[Электронный ресурс] URL:
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000877/st000.shtml (дата обращения
16.09.2015)
273
Арнольд Гелен
(29.01.1904–30.01.1976)
URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/0/0a/Гелен,_Арнольд.jpg
Родился в семье издателя Макса Гелена.
Двоюродным братом А. Гелена был генерал-майор
вермахта Р. Гелен, руководивший в годы Второй
мировой войны отделом генерального штаба,
который
занимался
разведкой
на
восточном
фронте. Р. Гелен после войны создал Федеральную
разведывательную службу ФРГ («служба Гелена»),
которую возглавлял с 1956 по 1968 год. Это
оказало влияние на А. Гелена, поскольку философ
был воспитан в том же духе служения государству.
А. Гелен считается одним из ведущих представителей неоконсерватизма в
Германии второй половины ХХ века. В этой ипостаси он вел ожесточенную
полемику с Т.В. Адорно, идеологом «новых левых».
После окончания гимназии в Лейпциге А. Гелен некоторое время работал
торговцем книгами и банковским служащим, затем с 1924 по 1927 год изучал
философию, филологию, историю искусств, германистику и психологию в
университетах Лейпцига и Кельна. А. Гелен посещал лекции М.Шелера, Н.
Гартмана. Докторскую диссертацию защитил под руководством Ганса Дриша,
посвятив
ее
проблемам
теории
познания.
В
1930
году
представил
габилитационную работу, посвятив ее методу абсолютной феноменологии.
Здесь важно отметить, что А. Гелен, которого биологи считали философом, а
философы биологом, не получил «правильного» биологического образования,
являясь по роду своей научной работы чистым «гуманитарием». С 1930 по 1934
года был приват-доцентом и преподавал философию в университете Лейпцига
на филологически-историческом отделении. В 1933 году вступил в НСДАП и в
1934 году стал членом национал-социалистического союза доцентов. В ноябре
274
1933 года подписал обращение профессоров немецких университетов и высших
школ,
выразивших
поддержку
Гитлеру
и
национал-социалистическому
государству. В определенной степени это способствовало его продвижению по
карьерной лестнице. Когда Пауль Тиллих был уволен с государственной
службы за публикацию критических статей против национал-социалистической
власти, А. Гелен занял освободившуюся должность профессора в университете
Франкфурта. Спустя некоторое время он – как бывший ассистент, то есть
ученик и ближайший помощник Г. Фрайера – получил кафедру философии в
Институте культуры и всеобщей истории (до 1933 года это был Институт
социологии) в университете Лейпцига.
С 1938 года А. Гелен – ординарный профессор университета
Кенигсберга. С 1940 года он некоторое время возглавлял институт в
университете г. Вена, в октябре 1941 года был призван на военную службу и
выступал в роли специалиста по психологии, ведая в оккупированной Праге
отбором и аттестацией личного состава. В конце войны А. Гелен был отправлен
на фронт в чине лейтенанта и был тяжело ранен. Не будучи австрийцем, он был
уволен с государственной службы в Австрии после окончания войны.
Поскольку университетские профессора – в отличие от государственных
чиновников и школьных учителей – не должны были в обязательном порядке
состоять в нацистской партии, после войны А. Гелен был подвергнут - как и все
немцы в Западной Германии - проверке для выяснения степени связи с
нацистами и личной ответственности за происходившее в 1933–1945 годах.
Проверка показала, что он, действительно, сменил в качестве профессора Пауля
Тиллиха, уволенного за выступления против Третьего рейха, однако сам
никогда не высказывал националистических и антисемитских идей. Поэтому
после двухлетнего перерыва он смог продолжить свою профессорскую
деятельность, хотя поначалу и не в «классическом» университете. С 1947 по
1961 год он был ординарным профессором психологии и социологии
Немецкого университета наук об управлении им. Шпейера, а с 1962 ординарным профессором социологии в Технической Высшей школе земли
275
Рейн-Вестфалия в Аахене, где преподавал до выхода в отставку в 1969 году.
До сих пор А. Гелен считается одним из ведущих представителей
политического неоконсерватизма в ХХ веке.
Основная работа Гелена «Человек. Его природа и положение в мире»
(1940). Специфику и
сущность человека Гелен связывает с особой
исключительностью биологической организации человека. По его мнению
«человек – существо, открытое миру». Эта «открытость» определяется его
биологическим
недоразвитием
и
недостаточностью,
т.е.
неприспособленностью, неспециализированностью, примитивизмом.
Человек
как
биологически
«недостаточное»,
«неготовое»,
«не
установившееся» существо долен сам решать задачу своего выживания, своего
жизнеобеспечения. В силу этого человек является действующим существом.
Действие – это форма человеческого владения природой в целях обеспечения
его жизнедеятельности.
Если животное хорошо приспособлено к окружающей среде, целиком
находясь под управлением инстинкта, то человек биологически – существо
ущербное. Его существование под угрозой в силу неприспособленности и
оттеснения инстинктов. Животное имеет от рождения именно тот набор средств
для добывания пищи, для защиты и нападения, для выживания в данных
климатических условиях, какой необходим в тех естественных условиях, в
которых оно живет. «Окружающая среда» по-немецки – «Umwelt», что означает
не просто «мир-вокруг», а, скорее, «облекающий мир», «идеально пригнанный
и подогнанный мир» – мир, который идеально соответствует устройству
животного. Человек как существо, рожденное преждевременно, не имеет
сформированных заранее биологических органов, приспособленных к жизни в
условиях дикой природы. Нет у него и инстинктов, которые отбирают из
окружающего мира только те раздражители, которые биологически важны и
заслуживают того, чтобы на них реагировать.
Все это в совокупности у А. Гелена называется «мирооткрытостью»
(Weltoffenheit) - в противоположность «мирооблаченности» животного. На
276
человека сразу же после рождения обрушивается избыток раздражений, на
которые он не знает, как реагировать – у него нет жестких инстинктивных
программ, а также нет и необходимого инструментария, который обеспечил бы
выживание.
Но зато, с другой стороны, он открыт миру и, значит, способен научаться,
поскольку не прикован ни к какому горизонту опыта или образцу поведения.
Поэтому благодаря своему рефлексивному сознанию человек способен
перестраивать
условия
своей
жизни
(выживания),
созидая
для
себя
искусственную окружающую среду – культуру.
В силу своей открытости миру человек постоянно выдерживает натиск
избытка впечатлений, а вместе с ним приобретает возможности истолкования
своих действий и мира в целом, которые он не смог бы реализовать без
некоторого облегчения. Поэтому человеческие качества и институты следует
объяснять, исходя из их разгрузочной функции, делающей возможными
порядок и сохранение личности.
Сюда
относятся
общественные
институты,
или
«внутренние
достижения», – такие как язык, мышление, воображение.
А.
Гелен
выделил
три
основных
инстинкта,
которые
создают
«плюралистическую этику» человека. Эти инстинкты существуют и у
животных, и у человека. Но у животных они «срабатывают» только при
появлении конкретных биологических раздражителей и перестают действовать,
когда эти раздражители удаляются. А у человека есть разум, который позволяет
создавать абстракции и заменять конкретные биологические раздражители
мыслеобразами.
Первый
из
инстинктов
–
инстинкт
заботы
о
детеныше
–
«срабатывает» у животного только тогда, когда оно видит детеныша и
перестает действовать, если детеныша удалить. Но человек может при помощи
абстрагирующего интеллекта перенести заботу о ребенке на заботу обо всех
детях мира и, в тенденции, обо всех людях. В результате возникает этос
гуманитаризма, требующий заботиться о человеке вообще, опекать всех. Такой
277
этос
формирует
вокруг
себя
интеллигенцию,
ныне
именуемую
«правозащитной».
Второй инстинкт – инстинкт сострадания ущербной жизни и восхищения
цветущей жизнью – заставляет животных оказывать помощь больным и
раненным сородичам, а также любоваться великолепными экземплярами своего
вида. У человека этот инстинкт заставляет ходить в цирк или на спортивные
арены, чтобы смотреть состязания силачей, устраивать зверинцы, где с
восхищением наблюдать крупных и хищных животных, процветающую жизнь
во всех ее формах - а также заботиться об инвалидах, больных, голодающих.
При помощи абстрагирующего интеллекта этот инстинкт превращается в
идеологию
стремления
к
счастью,
которое
понимается
как
полное
удовлетворение потребностей в обществе потребления. Буржуа и пролетарий –
главные носители этой идеологии.
Третий инстинкт – это инстинкт совместной обороны от врага. У
животных он заставляет собираться особей данного вида для отпора врагу –
например, коровы встают в круг при появлении волка и выставляют вперед
рога, а лошади, встав в круг, отбиваются от хищника задними ногами.
Первобытные люди защищались от врагов столь же инстинктивно, но затем
интеллект позволил создать отвлеченный образ врага – и государство стало
формой сплочения людей перед лицом такого врага, даже если он и отсутствует
в данный момент в пределах видимости.
Кейс № 3. Человек, созидающий культуру в философии А. Гелена
Прочитайте отрывок текста А. Гелена и ответьте на следующие вопросы:
1.
В чем заключается значимость понятия «разгрузки» для
человека?
2.
Как понимается язык и мышление в концепции А. Гелена?
VII
278
Если я воспользуюсь тут благоприятной возможностью, чтобы выделить
два существенных понятия, а именно «свободы от ситуации» и «разгрузки», то,
прежде всего надо заметить, что, говоря о «свободе», всегда нужно задавать
вопрос: свобода от чего и свобода для чего. То, что человек свободен от
ситуации, означает, что он независим от случайного наличного обстояния
непосредственно преднаходимой ситуации. Независимость эта – столь же
«теоретическая», как и «практическая», и это — на любом уровне для обоих
выражений. Человек видит и познает, помимо непосредственно наличного
материала или, точнее, проходя его насквозь, именно прорисовывающийся в
нем горизонт возможностей и вероятностей изменения. Поэтому никакая
ситуация не позволяет предсказывать с полной определенностью, исходя из ее
«наличного состава», что может делать в ней человек и как он будет себя вести.
Свобода «для» означает, конечно, что существует свобода использования
заключающихся в этом составе возможностей, изменения ситуации в какомлибо направлении, в зависимости от круга объективных возможностей,
имеющегося опыта и предпочитаемых интерпретаций и истолкований.
Представления о пространстве и времени суть не что иное, как взятая in
abstracto (Отвлеченно (лат.)) принципиальная неисчерпаемость любого опыта,
открытость любой ситуации, незавершенность в ней любого движения,
изменчивость любого факта. Пространство и время мыслятся как априорные
предпосылки, ибо если условия собственного его существования являют себя
человеку, то они являют себя как безусловное: не только как пространство и
время, но и как любовь и смерть, и «бремя жизни», как пот лица его.
К понятию «разгрузки», еще не вполне исследованному, но в основных
чертах уже постижимому, можно прийти от размышлений о том, что с
биологической
точки
зрения,
уже
доказавшей
свою
плодотворность,
сущностные признаки человека выступают как «недостатки» или «бремя»: это
относится и ко всей совокупности его органов, обрекающих его на
беспомощность, и к его незащищенности в неприспособленном для него
мире — поле неожиданностей. Итак, задача самосохранения задается тут
279
особенным образом: надо рассмотреть, как человек само это бремя обращает в
средства продления и поддержания жизни. Тогда мы увидим, что он, так
сказать, использует свою неприспособленность, чтобы обозреть и заполучить в
свои руки и самого себя, и мир. Здесь — корень .бесспорной правоты тех, кто
говорил об «эксцентричности» человека, его «позиции вне жизни» и т.д. и по
большей части тут же давал этому «метафизическую» интерпретацию.
От дуалистических формулировок, которые тут напрашиваются, можно
уйти, показав, как проявляется особая человеческая «техника» самосохранения
уже в структурах его сенсомоторной жизни, и через анализ языка,
продемонстрировав, что законы, найденные в этих структурах, остаются теми
же самыми и для высших функций. Анализ этого, может быть, несколько
растянутый, но, в конечном счете, удовлетворительный, я дал в своей книге; он
не может обойтись без понятия разгрузки, которое, таким образом, выступает
здесь в первом значении, предполагающем получение возможностей для жизни
именно с помощью наличных ненормальных условий.
Здесь впервые следует задуматься над связью обозначения и обзора в
оптическом поле: массы, доступные для возможного ощущения, отнюдь не
проявляются в восприятии во всей их достижимой полноте. Напротив, поле
восприятия стало в значительной мере символическим, и это, как мы видели, в
ходе развития собственных движений человека. Например, блики, тени,
орнамент на каком-нибудь предмете, допустим чашке, мы обыкновенно отчасти
вообще не замечаем, отчасти же с их помощью восприятие указывает на
пространственные и образные представления, и тем самым косвенно у него
«имеются» оборотные стороны предметов и внеположные нам части
пространства. Точно так же оцениваются пересечения. Напротив, материальная
структура («тонкий фарфор») и вес видятся целиком, но иным и, так сказать,
более предикативным образом, чем выступающий на переднем плане характер
«сосуда», т. е. полого и круглого, и опять-таки иным образом даны
определенные оптические даты, напр., ручка или «удобное для руки» место
всей формы внушают определенные привычные движения. Все эти даты глаз
280
охватывает одним взглядом. То есть поле восприятия построено так, что на
фоне
бесконечно
неактуальными,
многообразных,
лишь
нейтрализованных
потенциально
воспринимаемых
и
становящихся
дат
появляются
определенные центры высокосимволического сгущения — располагающегося,
со своей стороны, на различных уровнях, — то есть вещи, и что всю эту
систему можно обозреть единым взглядом именно потому, что столь
исключительно многое «не замечается» и не входит в значащие центры.
Следует прямо сказать, что наш глаз необычайно безразличен к наличному
составу ощущаемого и даже его фону, но он в высшей степени чувствителен к
самым сложным обозначениям (Andeutungen).
Выше мы исследовали эту ситуацию с точки зрения ее возникновения, в
то время как теперь достигнутое состояние интересует нас с точки зрения
разгрузки. А об этом можно сказать следующее: непосредственность
воздействия всей полноты раздражений разрушена, контакты с ними сведены к
минимуму, но этот минимум обладает огромной потенцией к развитию. Таким
образом, порядок восприятия настолько же соответствует опосредованному
поведению человека, устремленному к будущим фазам действительности,
насколько
он
порождается,
со
своей
стороны,
неприспособленным,
неспецифическим, «пробующим» поведением. Вся эта жизненно важная в
своих
результатах
структура
предполагает,
конечно,
избыток
неприспособленных, непрофильтрованных раздражений, и именно благодаря
этому условию и удается та постепенная «зарядка» впечатлений символами, то
упорядочивание и расчленение оптического поля, которое вырастает в процессе
повседневной деятельности человека и предстоит нам как обозреваемый мир:
оно
зримо
выражает
непосредственности
и
достигнутую
дистанцию,
разрушение
возможность
предусмотрительного
сферы
поведения,
предвосхищающего будущие впечатления и достигающего господства в
широком кругу. Так именно из аномальных по меркам животного условий
человек извлекает средства, чтобы вести человеческую жизнь, и эту непростую
связь я называю «разгрузкой».
281
Далее, это выражение должно означать еще одну сторону той же
ситуации, а именно прогрессирующий непрямой характер человеческого
поведения, все более ослабленный и тем самым более свободный, более
изменчивый контакт. Между действием и его целью вводятся промежуточные
звенья, становящиеся, со своей стороны, предметом производного и побочного
интереса, и человеческим поведением мы считаем не случайное использование
находящегося рядом орудия для достижения ближайших целей, но обработку
орудия для достижения отдаленных целей. Здесь можно заметить, что действия
или, в самом общем виде, движения человека являются руководимыми и
планируемыми
движениями,
ориентированными
на
предполагаемые,
предвидимые ситуации. То, что извне выглядит как поведение изменчивое,
лишенное непосредственности, то предстает изнутри запланированным,
предусмотрительным, управляемым высшими центрами.
В этом последнем аспекте понятие разгрузки получает дополнительный
смысл. Чтобы низшие функции могли вводится в качестве ведомых и
направляемых, высшие должны перенять у них определенную, изначально
присущую им деятельность, прежде всего, варьирование и комбинирование, но
высшие функции совершают это в непрямой, только обозначающей,
символической форме, т. е. они осознаны. Только этот механизм, собственно, и
является той предпосылкой, которая позволяет разделить функции на высшие и
низшие.
Простейший
пример —
проект
движения.
Движения
рук,
первоначально обремененные задачами перемещения, теряют их с обретением
вертикального положения. Во множестве игровых, обиходных, осязательных и
хватательных движений они проиграли огромное количество комбинаций и
вариаций в прямом контакте с самими вещами. Но это значит: они не
совершили действий в собственном смысле слова, заранее запланированной
работы. Только когда развернуто поле проектов фантазии, все вариации и
комбинации могут быть спроектированы заново, «в представлении», в
воображаемой картине движений и ситуаций, а само реальное движение
становится направляемым, вторично вводимым рабочим движением. Итак,
282
задачи вариаций и соподчинения движений, которые маленький ребенок
годами разбирает по складам, перенимаются в дальнейшем виртуальным
движением, реальное движение осуществляется простыми способами и может
частично автоматизироваться. Но проект движения — это движение лишь
«слегка намеченное», виртуальное и тем самым предусмотрительное/движение
только возможное, но пережитое как таковое в направленности на будущее и
будущие ситуации.
В этом смысле «разгрузка» означает, что центр тяжести человеческого
поведения все больше перемещается на «высшие», то есть самые нетрудные,
лишь обозначающие функции, а тем самым мы — в новом аспекте —
встречаемся с упомянутой выше ситуацией: сфера непосредственности
разрушена и поведение стало предвосхищающим, направленным на будущие
фазы действительности.
Эта закономерность соответствует не только исследованной выше
структуре поля восприятия, но она генетически вплетена в его построение,
причем феномены достигают тут высокой степени сложности. Приведем хотя
бы такой пример: значения в оптическом поле суть воплощение прежних,
реально совершавшихся движений, например, когда мы вместе с дверной
ручкой видим и нарисованный на ней указатель «повернуть вниз». Сами эти
значения
представляют собой
точки
опоры
и
вехи для
ориентации
потенциальных движений, которые сразу отправляются от этих символов и,
руководствуясь ими, направляют или тормозят реальное движение. Итак,
богатство обозначений в оптическом поле связано с возрастающим перевесом
потенциальных движений и, следовательно, переходом реальных пробных
движений в движения направляемые и планируемые. Таким образом, то, что
человек «разгружает себя», есть обширная тема двустороннего рассмотрения,
ибо, проходя мир восприятия, нагружая его символами, сосредоточивая в
значениях и тем самым дистанцируя от себя, он одновременно пускает в ход
более высокие, менее трудоемкие, только «намечающие» и потенциальные
283
функции, и как раз благодаря этому движения становятся действиями,
управляемыми и активно вводимыми действиями в расчете на дальние цели.
Впрочем, к последнему из рассмотренных аспектов можно приложить
понятие разгрузки в том же самом, наиболее широком смысле, в каком оно
употреблялось до этого, т. е. в смысле извлечения жизненных возможностей и
техники самосохранения из наличных аномальных условий. Здесь они
заключаются в необычной подвижности человеческого естества, в отсутствии у
него прирожденных, специально приспособленных фигур движения, а весь
трудный путь развития этого богатства движений есть одновременно путь
разгрузки:
пока
не
разовьется
такая
способность
к
потенциальным
комбинациям, что реальные движения станут совершенно вторичными, а
именно направляемыми или тормозимыми, в зависимости от того, какие
значения охватываемой взглядом ситуации воспринимаются двигательной
фантазией .
VIII
Здесь невозможно показать с какой поразительной убедительностью
описанные структурные законы сенсомоторной жизни могут быть применены к
языку (ук. соч., § 23– 27, 29– 36, 38– 40). Легко предвидеть, что язык
непосредственно продолжает эти процессы разгрузки. И если задуматься над
тем, что символика, спонтанно распространяющаяся за пределы мира
восприятия, ослабление непосредственного контакта с ним, все более
изменчивое и только означающее поведение принадлежат к всеобщим законам
этой жизни, то едва ли вызовет удивление, что эти законы снова и в самой
четкой форме обнаруживаются в языке, если только сам язык принципиально
понимают как сенсомоторную систему, обнаруживающую, конечно, особую
специфику, которую можно анализировать. Во всяком случае, здесь язык делает
последний шаг к освобождению от ситуации: адресуясь при помощи слова,
нами самими созданного символа, к некоторой вещи, внимая ей в слове
чувственно, слышимо и символически, располагая словом произвольно, мы
284
становимся совершенно независимы от данной ситуации. Произвольно
преступая границы «здесь-и-теперь», мир оказывается в нашем распоряжении в
одних только значениях, чья интимная близость нам проистекает из нашей
собственной жизненности, а слова одновременно замещают и представляют
восприятия, перекрывая их в их фактичности и произвольно транспонируя их,
что имеет чрезвычайно важное витальное значение в ориентации на удаленное
и будущее.
«Мышление» как качество само по себе не может быть выведено.
Интенция вообще есть самонаправленность, по-ведение-себя через указующий
символ к проявляющемуся в нем целому, подобно тому как кошка в шелесте
предвосхищает мышь. Отчего интенция, несомая звуковым движением слова,
обладает этим особым качеством — «мышлением», объясняется, видимо, тем,
что только, в звучании речи движение интенции уже содержит сам указующий
символ: звук. Поскольку движение, ориентирующееся на вещь, и сама эта вещь
(хотя и только символически, как слышимая) сведены здесь в одно
единственное субъективное переживание, то понятно, что и по отношению к
этой функции есть функция еще более косвенная, которая ею руководит и ее
варьирует:
предельно
де-сенсуализированное
мышление
является
разгружающей инстанцией по отношению к языку, и этим фантазмам, самым
изменчивым, бесконтактным и загруженным, нужны для опоры лишь
эфемерные, едва намеченные символы движений и представлений. Мышление
есть представление представления, или символика второго порядка, оно
зависит от сенсомоторной символики языка или движений руки.
Я упомянул это здесь лишь для того, чтобы показать решающее значение
такого понимания для преодоления проблемы души и тела. Если рассматривать
мышление, исходя из языка, а язык — исходя из элементарных движений и
ориентации, то с этой точки зрения отпадают любые причины для
дуалистических допущений. Но, только перестав сваливать все трудно
разрешимые
вопросы
на
понятие
проблематику этого понятия.
285
«души»,
можно
четко
прояснить
Тогда эта проблема касается уже только жизненных побуждений
человека, а именно того обстоятельства, что человек переживает в себе свои
побуждения, потребности, интересы и т.д. в неразрывной связи с иллюзиями их
исполнения. Такая осознанность, «иллюстрированность» сферы побуждений
является основанием того, что называют «внутренним миром», и у нас нет
никаких оснований приписывать этот великий парадокс какому-нибудь
животному. Само мышление приводится в движение либо отсюда, либо
внешними поводами, и если дальше оно увлекается самим собою, находит свою
тематику в себе самом, то и тогда его влекут интересы (конечно, весьма
условные и высококультивированные). Я придаю большое значение тому
тезису, что «автаркия» мышления имеет совершенно мнимый характер: будучи
в себе самом, так сказать, только потенциальностью, мышление служит столь
различным целям и поводам, что именно поэтому кажется независимым от
каждой особой, конкретной цели, так что возникает ложная видимость
самостоятельной сферы, лежащая в основе всякого дуализма. Каждое
возможное движение, если только оно умышленное, каждое внешнее
впечатление, каждый осадок в нас такого впечатления, каждое обращение и
каждый приступ к чему-либо: каждый интерес и каждое побуждение могут
сопровождаться мышлением, которое, таким образом, есть не что иное, как
способность комбинировать любой из этих элементов с любым другим, вводя
его в действие в качестве простого знака и повода для комбинации. Остается
еще только понять образный мир «внутренних», данных самому человеку
побуждений и желаний.
Извлечение из: Гелен А. О систематике антропологии // Проблема
человека в западной философии. М., 1988. [Электронный ресурс] URL: anthropology.ru/ru/text/gelen/o-sistematike-antropologii#vii (дата обращения 16.09.2015)
286
287
Японская философия в ХХ веке
Появление философии в Японии считается вопросом довольно спорным.
Все
исследователи
соглашаются,
что
данной
традиции
присуща
самостоятельная философско-мировоззренческая мысль, которая развивалась
под влиянием буддийского и конфуцианского учений. В строгом виде можно
сказать, что философия Японии началась лишь в конце XIX века, когда у
японских мыслителей появился шанс познакомиться с западноевропейской
традицией. Первые философские размышления были связаны с развитием
Японии и осмыслением ее дальнейшего пути как цивилизации. В дальнейшем
круг философских вопросов расширился, мыслителей стали интересовать
вопросы онтологии, теории познания, логики и т.д.
В начале ХХ века, в период Тайсе (1912–1926), появляется первое
оригинальное учение японской философии, автором которой является Нисида
Китаро (1870–1945), основатель киотской школы, ведущей философской
школы Японии. Его учение описывает буддийский образ мысли в системе
западноевропейских категорий, буддийская традиция была переосмыслена под
влиянием философии А. Бергсона и неокантианства. Нисида разработал ряд
теорий и концепций, к которым относятся теория «чистого опыта», концепция
«логики» места, концепция «абсолютного небытия», теория «исторического
мира» и др. Значение его вклада в развитие японской философии настолько
велико, что ни одно серьезное философское учение в Японии не обходится без
его влияния.
Учение Нисида Китаро охватывало большой круг вопросов, которые в
дальнейшем стали развивать его ученики. Так, Танабэ Хадзимэ (1885–1962)
разрабатывал «логику видов», занимался философией математики и общей
теорией науки, основываясь на идеях марбургской школы неокантианства.
Учениками Нисида также являются Кояма Ивао, Косака Масааки, Ниситани
Кэйдзи, Янагида Кэндзюро, Томонага Сандзюро, Мутай Рисаку, продолжавшие
развивать идеи школы и в послевоенное время. Мутай Рисаку и Ямаути Токурю
288
для развития учения Нисида привлекли феноменологию Гуссерля. Еще одним
продолжателем работы школы был Вацудзи Тэцуро (1889–1960), который
занимался проблемами этики и философии культуры.
В 20–40-е годы ХХ века японская философская мысль наверстывает
самые последние философские изыскания европейской традиции: кантианство,
неокантианство, гегельянство, неогегельянство, экзистенциализм, философия
жизни,
феноменология
и
марксизм.
Направления
разрабатываются
в
зависимости от личных интересов.
В конце 20-х годов японские мыслители знакомятся с трудами
М. Хайдеггера и К. Ясперса. Несмотря на приверженность марксизму, взгляды
этих философов пропагандирует Мики Кеси, также осваивает это направление
Вацудзи Тэцуро и др. В 30–50-е годы, а затем и в послевоенный период,
японские
мыслители
возвращаются
к
учению
Нисиды
Китаро
и
переосмысливают его идеи в русле экзистенциализма. Популярность также
приобретают
взгляды
Ж.-П.
Сартра
и
других
представителей
этого
направления. В 1951 году было основано «Общество Ясперса» и появился
журнал «Экзистенция», в дальнейшем появилось «Общество Кьеркегора».
Благодаря этим штудиям появилась теория «философского реализма» Канэко
Такэдзо.
В
эстетическом
экзистенциализме
Имамити
Томонобу
было
сформулировано понимание искусства как формы проявления небытия,
представляющего всеобъемлющее созидающее начало (к чему определение, к
пониманию, искусству, небытию?). В 60–70-е годы в сферу интересов
экзистенциалистов
попадает
социальный
аспект
человеческого
бытия.
Примером такого интереса служит концепция «трудовой экзистенции» Судзуки
Тору, основанная на смешении марксистских и экзистенциалистских идей, и
представление о трех типах коммуникации наличного бытия Муто Мицуру,
разработанное в ходе анализа понятия социальной экзистенции. Близость
философских воззрений ученых киотской школы и экзистенциалистов
позволила развить это направление достаточно широко.
289
В 30-е годы благодаря профессору Мики Киеси (1897–1945) началось
изучение философии марксизма, а его популяризацией занималось «Общество
по изучению материализма» под руководством Тосака Дзюн (1900–1945), куда
входили такие видные ученые, как Нагата Хироси, Саигуса Хирото, Кодзаи
Есисигэ, Ока Кунио, Мори Коити и др. В дальнейшем исследованиями
марксизма занимаются в 50–60-е годы Сибата Синго, Ивасаки Тикацугу,
Тэрадзава Цунэнобу, Такэтани Мицуо, Саката Сеити, Иэнага Сабуро. В
середине 60-х годов влиятельной становится немарксистская трактовка учения,
которую разрабатывали Уэмото Кацуми, Сироцука Нобору и др. Японский
взгляд на философию марксизма носит критический характер, часто ученые
стараются переосмыслить его основные положения и переформулировать их в
соответствии с японскими реалиями.
В 50-е годы в японской философской мысли широкое распространение
получил прагматизм. Данное направление разрабатывалось в Институте
общественной мысли (Сисо кэнкюдзе) такими учеными, как Куно Осаму,
Цуруми Сюнсукэ, Маруяма Macao, Рокуро Хидака, Симидзу Икутаро, Уэяма
Сюмпей. В основном исследования строились на критике американского
прагматизма, но также признавалась необходимость использования метода
прагматизма для изучения повседневной жизни. Также к представителям
японского прагматизма можно отнести сторонников идеологии гражданской
демократии, социологов Такэути Есими, Фукуда Седзо и др. В их
представлениях основой японского общества являются граждане, которых
необходимо рассматривать с точки зрения групп профессиональной общности,
отбросив политический контекст. На японском прагматизме, как и на
американском, отразилось влияние неопозитивистских и марксистских идей.
В
50–60-е
годы
переосмыслению
подверглись
неопозитивизм
и
аналитическая философия. В начале 50-х годов появляется общество «Логика
науки», где изучали философию С. Лангер и А. Тарского (Оэ Сэйдзи),
А.Н. Уайтхеда и К. Поппера (Итии Сабуро), а также идеи Венского кружка
(Исимото Син, Ханада Кэйсукэ), философию Г. Фреге и Л. Виттгенштейна
290
(Мацумото Оката), взгляды Р. Карнапа (Нагай Нарио). В 1954 году у
сторонников аналитической философии появляется свое «Общество теории
основ науки», в котором работали такие ученые как Симомура Торатаро, Миякэ
Гоити, Оэ Сэйдзи и др. В дальнейшем появляются самостоятельные
исследования по символической логике, например, работы Накамура Хидэки,
Есида Каохико, Сумихара Такэо, Савада Нобусигэ, Мацусита Гохаку. Развитие
японского позитивизма, начиная от гносеологических проблем, двигалось в
сторону анализа языка и значения слов, претерпевая формализацию знания.
Волновали японских мыслителей и вопросы социальной философии.
Интерес к этому направлению появился еще в 20-е годы, когда шло знакомство
с основными западноевропейскими философскими концепциями. В 40-е годы
популярной стала теория гражданского общества, а в 50–60-е годы стали
изучаться проблемы массового общества. В 70-е годы у сторонников
техницистской социологии появился интерес к модели социального развития У.
Белла и Э. Тоффлера и проблемам постиндустриального общества (Томинага
Кэнъюити, Симидзу Икутаро, Мацусита Кэйити, Косака Токусабуро). В 80–90-е
годы к социальной философии обращались в связи с рассмотрением проблемы
личного и общественного, например Сасаки Такэси и Наоки Ямаваки.
В 70-е годы наибольшую популярность приобретают социологические и
культурологические исследования по своеобразию японской культуры и
менталитета.
естественную,
Накамура
где
Юдзиро
человек
понимает
близок
природе,
японскую
и
культуру
противопоставляет
как
ей
цивилизованную западную культуру, где человек уже отдален от естественной
среды. Такэо Дои занимался исследованиями японского национального
характера, основную особенность которого он связывал с чувством амаэ, т.е.
заботы, зависимости. Построениями вертикальной и горизонтальной моделей
японского общества занимался Тиэ Наканэ, а Хамагути Эсюн разрабатывал
контекстуальную концепцию личности, действующей в зависимости от
окружения.
291
Также в 70-е годы были продолжены исследовательские традиции
Киотской школы в духе Нисида Китаро. К ученым этого направления
относились Судзуки Дайцукэ, Цудзимура Коити, Уэда Сидзутэру, Охаси Ресукэ
и др. Наиболее известны исследования по дзэн-буддизму Судзуки Дайцукэ,
который популяризировал это направление на Западе, и благодаря чему
получил мировое признание. Концепцию западного и восточного типов
мышления разрабатывал Ямаути Токурю, а в области компаративистики эти
идеи стал развивать Накамура Хадзимэ. В 80–90-е годы начинает развиваться
неокиотская школа, чей вектор интересов также сместился в область японской
культуры, ее истории и духовной традиции. К ученым школы относятся Уэяма
Сюмпэй, Иманиси Киндзи, Умэхара Такэси и др. В качестве примера их
исследований может быть приведена основанная на натуралистической теории
видов живых существ теория сравнительных цивилизаций Иманиси Киндзи и
Умэсао Тадао.
Развитие японской философской мысли в последние годы ХХ века шло в
областях философии науки, структурализма и постструктурализма, феминизма
и осмысления экологических проблем. Исследования по философии науки с
опорой на достижения феноменологии и аналитической философии ведут Ноэ
Кэйити, Иида Такаси, Мурата Дзюнъити, Тандзи Нобухару. Разработкой
структуралистских и постструктуралистских идей занимаются Такахаси Тэцуя,
Имамура Ниндзи, Накаока Сигэбуми и др. Философским осмыслением проблем
окружающей среды занимаются Кавамото Такаси и Кувако Тоспо. Философию
феминизма во взаимосвязи с экологической проблематикой развивают Мориока
Масахиро и Аоки Яеи, а прикладной этикой занимаются Като Хисатакэ, Васида
Киекадзу, Камо Наоки. В области теории познания лидирующее место
занимают Омори Содзо и Курода Ватару, проблему телесности разрабатывает
Хироси Итикава, вопросы семиотики развивает Сакабэ Мэгуми. Крупнейшим
японским философом последних лет считается Хиромацу Ватару (1933–1994),
объединивший
идеи
марксизма,
структурализма,
292
феноменологии
и
неокантианства,
и
выдвинувший
концепцию
субъективности.
293
структуры
коллективной
Нисида Китаро
(1870–1945)
URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Kitaro_Nishidain_in_Feb._1943.jpg
Нисида
оригинальным
основателем
Китаро
считается
японским
Киотской
первым
философом,
школы,
с
чьим
влиянием невозможно не считаться, когда речь
идет о развитии японской философской мысли
в ХХ веке. Высшее образование Нисида
получил в Токийском университете, а затем с
1899 года по распределению стал работать
профессором
префектуре
Четырех
Исикава,
высших
а
школ
позднее
в
стал
профессором Киотского университета, где
проработал до 1927 года. Уже на закате жизни
в 1940 году он был удостоен императорского Ордена культуры за вклад в
развитие японской философской мысли. Основные произведения: «Учение о
Добре» (1911), «Интуиция и размышление в самопробуждении» (1913–17), «От
деяния к видению» (1927), «Самосознание и определение ничто» (1930–32) и
др.
Главным достижением Нисида было развитие синтеза восточного и
западного мировоззрений, а также попытка построить логическую систему на
основе
восточного
восприятия
жизни,
базирующегося
на
буддийских
практиках, а его представление о метафизическом ничто можно считать
основой восточноазиатской культуры. Для обоснования своей позиции Нисида
активно использует категориальный аппарат западноевропейской философской
традиции, тем самым восполняя недостатки родного языка, а также позволяя
поставить свои размышления в один ряд с трудами западных мыслителей.
294
В первых трудах Нисида, на которые заметно повлияли английский
эмпиризм и философия У. Джеймса, дается попытка выразить интуитивизм
восточного мировосприятия и опыт дзэн-буддийских практик, для чего
преодолевается дихотомия восприятия мира сквозь призму субъект-объектной
парадигмы посредством теории «чистого опыта». Обращение к чистому опыту
служит толчком к реализации истинного Я, а, впоследствии, и единения с
предельной реальностью, экзистенциальным состоянием которой и является
Добро, являющееся основой благосостояния человечества.
Влияние
А.
Бэргсона
и
неокантианцев,
а
также
симпатии
к
экзистенциализму отразились в понятии дзикаку – самопробуждения, с
помощью которого объяснялась взаимосвязь интуиции и размышления.
Самопробуждение является универсальным опытом, в котором реализуется
тождество субъекта и объекта, а также обнаруживается абсолютная свобода
воли, возникающая из абсолютной пустоты. Взаимосвязь самопробуждения и
свободы воли позволяют обосновать не только индивидуальный опыт, но и
метафизическую структуру мироздания, в которой человек понимается как
творческая пустота.
Дальнейшее
развитие
экзистенциалистских
идей
развивается
в
представлениях Нисиды о внутренних противоречиях человеческого бытия
(инстинкт и рассудок, тело и душа, Я и мир), основы которого он изложил в
собственной системе логики – логике басе, т.е. места, топоса. Эта концепция
является центральной в философских воззрениях Нисида. С точки зрения
рациональности логика басе – это единственный путь к предельной реальности.
Само басе является предикатом предикатов, тем истинным местом, где субъект
и предикат являют собой целое, и распадется на три категории: басе бытия,
басе
пустоты
и
басе
абсолютной
пустоты.
Басе
бытия
выступает
фундаментальным ограничением существования в мире, поскольку определяет
существование всех вещей в пространстве. В его основе лежит невидимое басе
пустоты, существующее только в отношении бытия. Истинно универсальным и
трансцендентным является лишь басе абсолютной пустоты, где стирается
295
индивидуальность. Экзистенциальный переход в басе абсолютной пустоты
происходит по пути от функционирующих объектов к истинно видимым.
Посредством опустошения Я как басе начинает отражать мир таким, какой он
есть, и отождествляет себя со всем мирозданием.
В дальнейшем идея басе развивалась в определении понятия пустоты.
Согласно Нисида, все пронизано абсолютной пустотой, и в то же время все
объекты самоопределяются посредством этой пустоты. В своих страданиях
человек неожиданно может достигнуть предела, где противоречия мира
объединяются в идее абсолютной пустоты, что приводит к абсолютно
противоречивому самоопределению индивида. Подобная трактовка постижения
пустоты близка практикам достижения озарения в дзэн. Взаимосвязь человека и
абсолютной пустоты является обратной, поскольку Бог стремится отдалиться
от осознающего себя человека и, напротив, все больше проникает в него при
отрицании индивидуального Я. Единство с божественным, с абсолютной
пустотой, которое в философии Нисида названо длительностью прерывности,
возможно лишь посредством самоотрицания. Растворившись в басе, постигнув
силу объединения абсолютной пустоты, Я становится способно на творчество и
реализацию внутренней силы. И в этом случае Я начинает обладать деятельной
интуицией, т.е. полной включенностью в деятельность, совершаемую в
настоящий момент. В этом смысле Нисида переворачивает классические
представления о деятельности и интуиции, давая последней роль активного
начала.
Благодаря
самоотрицанию
посредством
деятельной
интуиции
абсолютная пустота проявляется в этом мире сквозь человеческое Я. Это дает
возможность обозначить историческую значимость отдельных людей в
метафизическом смысле.
Философия Нисиды Китаро оставила заметный след в японской
культурной традиции и привела к рождению самостоятельной японской
философской школы. В своих трудах Нисида удалось создать логически
стройную систему восточного мировоззрения и ценностей на основе
переосмысления терминологии западноевропейской философской традиции.
296
Кейс 1. Понимание Добра в философии Нисида Китаро
Прочтите отрывок из книги Нисида Китаро «Учение о Добре» и ответьте
на следующие вопросы:
1. В чем состоит суть теории деятельности?
2. Как понимается добро с точки зрения теории деятельности?
3. Поясните значение воли в ее взаимосвязи с природой добра.
Глава 9. Добро (Теория деятельности)
Так как я уже рассматривал различные мнения относительно добра, а
также указал на моменты их недостаточности, я думаю, автоматически
становится ясно, какие из них дают верное представление о добре. Где мы
должны искать добро, которое наша воля должна сделать своим объектом,
моделью, определяющей ценность наших поступков? Как я уже говорил ранее в
разделе, где обсуждал основы ценностных суждений, мы должны всеми
средствами искать основу этих суждений в непосредственном опыте сознания.
Добро ‒ это то, что должно быть объяснено только внутренними требованиями
сознания, и не то, что должно быть объяснено извне. Мы не в состоянии
объяснить его только из того факта, что событие развивается этим путем, или
что оно возникает данным образом по необходимости. Стандарт истины, в
конечном счете, находится во внутренней необходимости сознания, и,
например, Августин и Декарт, которые размышляли над этой проблемой
наиболее глубоко, определили его в этом моменте, в котором и мы должны
искать уже основной стандарт добра. Тем не менее, гетерономная этика
пытается искать стандарт добра и зла вовне. Таким образом, она, в конце
концов, не может объяснить, почему кто-то действует с позиции добра. Мы
можем сказать, что, в противовес гетерономным этическим теориям, в
рациональной теории, которая пытается определить ценность добра и зла из
297
причины, являющейся одной из внутренних функций сознания, был сделан шаг
в нужном направлении, но причиной является не то, что определяет значение
воли. Как заявил Г. Хоффдинг, сознание начинается и заканчивается с
деятельностью воли, а воля являет собой нечто большее, чем функцию
абстрактного понимания. Дело не в том, что последнее превосходит первую, но,
напротив, что первая является средством управления последнего. [...]
Таким образом, очевидно, что мы должны искать объяснение добра в
характеристиках самой воли. Воля является базовой объединяющей функцией
сознания и также непосредственно выражением объединяющей силы, которая
является основой реальности. Воля не является деятельностью от имени
другого лица, но является деятельностью от имени себя. И ничего не остается,
кроме как искать основу, которая определяет значение воли в самой себе.
Характеристика деятельности воли, как я уже говорил ранее, когда я обсуждал
характеристики поступков, заключается в том, что в своей основе воля обладает
тем, что является априорной потребностью (основная причина сознания),
которая появляется как объективное понятие в сознании, и с помощью которой
она и объединяет сознание. Когда это объединение завершается, то есть когда
реализуется идеал, то в нас рождается эмоция удовлетворения, а когда этого не
происходит, то рождается эмоция недовольства. То, что определяет значение
поступков, полностью заключается в этой априорной потребности, которая
является основой воли, и когда кому-то удается реализовать эту потребность, то
есть достичь идеала, такой поступок расценивается как добро, а когда этого не
происходит, то поступок подвергается порицанию как зло. Таким образом, речь
идет о том, как мы говорим, что добро является осуществлением наших
внутренних желаний, т.е. идеалов, или, другими словами, развитием и
совершенствованием воли. Мы называем такого рода этическую теорию,
основанную на фундаментальном идеале, теорией деятельности (энергетизм).
[...]
Теперь, если мы считаем добро реализацией идеалов и удовлетворением
требований, то, исходя из чего проистекают эти требования и идеалы, и какого
298
рода характеристиками обладает процесс добра? Правильно будет сказать, что,
поскольку воля является наиболее глубокой объединяющей функцией
сознания, т.е. деятельностью самой себя, оригинальные требования или идеалы,
которые являются причиной воли, в общем виде возникают из характеристик
самого себя, то есть, являются силой личности. С нашего сознания в мысли,
воображении и воле, а также в так называемом интеллектуальном восприятии,
эмоциях, также импульсах, все имеет в своем основании внутреннее
операционное единство, все феномены сознания являются развитием и
совершенствованием
этого
единства.
Кроме
того,
самая
глубокая
объединяющая сила, которая образует единство нашей так называемой
личности, и воля являются тем, что выражает эту силу. И если мы пытаемся
размышлять в таком ключе, то развитие и совершенствование будут
непосредственно развитием и совершенствованием себя, и мы можем сказать,
что добро является развитием и совершенствованием (самореализацией)
личности. То есть то, что наш дух развивает различные способности и
достигает полного развития, является высшим благом, добром. (Так называемая
энтелехия Аристотеля является добром.) Равно как бамбук проявляет в полной
мере природу бамбука, а сосна природу сосны, также и врожденная природа
человека проявляется в человеческом добре.
Извлечение из: Нисида Китаро. Нисида Китаро дзэнсю: дзэн 22 кан. Дай 1
кан. (Полное собрание сочинений Нисида Китаро: в 22 т. Т. 1.) / Такэда Ацуси
[хока] хэнсю. – Токио: Иванами-сетэн, 2003. – 470 с. – С. 114– 117.
299
Судзуки Дайсэцу Тэйтаро
(1870–1966)
URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/0b/DT_Suzuki_by_Okamura.jpg
Судзуки Дайсэцу Тэйтаро ‒ еще один
значимый
японский
философ
ХХ
века,
буддолог и популяризатор учения школы Дзэн
на Западе. В его заслуги входит первое
развернутое описание эзотерического опыта
дзэнских наставников в терминах европейской
культуры, а также акцентирование внимания
на проблеме вопрошания в процессе освоения
дзэнского опыта и достижения просветления.
Свое обучение Судзуки начал в стенах
монастыря школы Риндзай, где познакомился
с дзэнскими практиками под руководством
Имагиты Кодзэна, и затем ‒ Сяку Соэна. Свои студенческие годы провел в
стенах университета Васэда и Токийского университета, где вместе с Нисида
Китаро изучал западную философию. В конце XIX века впервые посещает
США, и, спустя несколько лет, в 1897 году становится ассистентом
американского философа и религиоведа Пола Каруса (1852–1919), занимаясь
под его руководством переводами и изданием важнейших буддийских
сочинений. С 1909 года преподавал в японских университетах, а с 1919 по
приглашению Нисида Китаро обосновался в университете Отани в Киото.
Спустя пару лет организовал общество «Восточный буддист» с одноименным
журналом, где опубликовал «Эссе по дзэн-буддизму», переизданные в
дальнейшем в Лондоне, и получившие широкую известность на Западе. С 1949
года стал преподавать в США, сначала в Гавайском университете, затем в
Колумбийском и Кембридже. В 1954 году был удостоен японской премии
Асахи за заслуги в области культуры. Последние годы жизни много
300
путешествовал по США с открытыми лекциями по дзэн-буддизму. Основные
произведения: «Основные принципы буддизма махаяны» (1907), «Очерки о
Дзэн-буддизме»
(1927,
1933,
1934),
«Японская
духовность»
(1944),
«Мистицизм: христианский и буддийский» (1957), «Дзэн и японская культура»
(1959), в соавторстве с Э. Фроммом и Р. Де Мартино «Дзэн-буддизм и
психоанализ» (1960) и др.
Судзуки Дайсэцу сформулировал ключ к пониманию философского
языка дзэн-буддизма, осуществил перевод ряда буддийских понятий на
европейские языки, и представил свое понимание буддийской философии в
виде самостоятельного учения. Понятие дзэн в его произведениях понимается и
как одна из буддийских школ Махаяны (Большой колесницы), и как сущность
буддийского учения, и как квинтэссенция восточного учения в целом, и, более
того, как дух всех религий и философий, предельная духовная универсалия и
высшая
истина.
Последнее
понимание
дзэн
являет
собой
основу
самостоятельного учения Судзуки, где дзэн являет собой основу опыта и сам
опыт, метод достижения временности и саму вневременность человеческого
бытия, смысл жизни и саму жизнь.
Благодаря своему образованию и дальнейшим штудиям, Судзуки был
хорошо знаком с европейской философской традицией, наибольший интерес у
него вызывали идеи У. Джеймса о чистом опыте и учение М. Экхарта о
мистицизме. Под влиянием этих концепций Судзуки разработал свою теорию
философского опыта, в центре которой стоит концепция просветления. В
онтологическом плане его учение о просветлении базировалось на категориях
пустоты и воли. Буддийское представление о пустоте как основе бытия
дополняется представлением о мировой воле, определяющей ход развития
вещей. В этом смысле просветление являет собой акт самоотождествления
воли, которая, развиваясь, прошла этапы отдаления сознания, и в этом акте
преодолевает субъект-объектный дуализм и восстанавливает свое единство.
Само
же
просветление
является
кульминацией
разрешения
состояния
вопрошания, которое понимается и как начало сознания как такового, и как
301
средство его саморазвития в самосознание и самоактуализацию в человеке.
Опыт просветления в понимании Судзуки – это акт метафизической интуиции,
поскольку он дает наиболее глубокое понимание природы бытия и
отождествим с нирваной, т.е. просветлением как прорывом в трансцендентное,
выходом и спасением из круга бесконечного перерождения в изначальное
состояние блаженства. Для отдельного человека просветление становится
специфической формой мироотношения, где опыт обретается как единство
знания и бытия, как индивидуальная самореализация в осознании единства со
всем сущим.
Знакомство с концепцией Дзэн у Судзуки Дайсэцу оказало сильное
влияние на западную философскую мысль и культуру ХХ века. К его
размышлениям обращались не только культурологи и религиоведы, например
М. Элиаде, но и ряд европейских философов, являвшихся представителями
различных направлений: К. Юнг, М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, Л. Виттгенштейн
и др. Сильное влияние идей Судзуки испытал на себе Э. Фромм, написавший с
ним совместную книгу. Судзуки Дайсэцу обновил буддийские представления с
помощью западной терминологии, и был признан на родине живым символом
современного буддизма. Следы его влияния можно обнаружить и в
философских воззрениях японских коллег, например у Нисида Китаро.
Кейс 2. Понимание Дзэн в философии Судзуки
Прочтите отрывок из книги Д.Т. Судзуки «Очерки о Дзэн-буддизме» и
ответьте на следующие вопросы:
1. Каков мир глазами адептов дзэн?
2. Как воспринимется природа в учении дзэн?
3. В чем состоит суть послания дзэн для современности?
Картины дзэнской жизни
Махаяна
–
это
по
преимуществу
религия
бодхисаттв,
религия
преданности идеалу бодхисаттвы (бодхисаттвачарья), идеалу дзэнской жизни.
302
В Индии эта жизнь описывалась с богатой образностью и философскими
интуициями. В результате появились такие великие махаянские сутры, как
Аватамсака (или Гандавъюха), Махапраджняпарамита, Лотосовая сутра и
другие, а также образы таких великих бодхисаттв, как Манджушри,
Самантабхадра, Майтрея и Авалокитешвара. Духовное видение, проникающее
во все тайны бытия, чувство любви, пробуждающееся из глубин души, великий
план всеобщего спасения, включая даже самые незначительные и ничтожные
существа, и неистощимый запас энергии и «искусных средств» (упая),
необходимых для воплощения в жизнь этого плана, – все это явлено великими,
сверхъестественными и сверхличностными фигурами и составляет базис
махаянского сознания.
Когда религия бодхисаттв появилась в Китае и была ассимилирована
китайским народом, она превратилась в то, что ныне известно как дзэн. Она
лишилась своего индийского облика, ее возвышенные метафизические
интуиции
были
заменены
практическими
утверждениями
о
нашей
повседневной жизни, а ее богатые, пестрые фантазии уступили место бытовым
практикам – сбору хвороста или выращиванию сосен. Тем не менее в дзэн нет
ни вульгарности, ни мещанства. Наоборот, где бы ни явился дух дзэн, все, к
чему он прикасается, приобретает какую-то таинственность. […] В любом
случае мы не можем отрицать того факта, что повсюду, где присутствует
истинный дух дзэн, все ценности претерпевают преображение и люди
начинают жить в мире, который не может быть постигнут ни чувствами, ни
основанной на них логикой.
То, что для адептов дзэн существует особый мир, даже если они живут
прозаической, повседневной жизнью, явствует из их эксцентрического,
асоциального,
странного
поведения,
которое
не
допускает
никакой
предсказуемости или рационализации. Оно всегда неожиданно. Однако, как ни
странно, в нем есть что-то свежее и стимулирующее. Когда мы читаем
биографии дзэнских наставников или рассматриваем картины в жанре сумиэ,
иллюстрирующие их жизнь, то понимаем, какая мощная стальная цепь
303
нравственных и интеллектуальных условностей сковывает наши движения.
Цепь не всегда бывает из стали. Иногда она кажется сотканной из тончайшего
материала, вроде лепестков лотоса, как некая смутная идея, дремлющая в
самых темных закоулках сознания. Но как же она крепка! Как тяжела! Она
надежно опутывает нас по рукам и ногам. Когда нам кажется, что мы свободны,
мы бессильны отбросить эту лотосовую нить сознания эго. Царство,
символизируемое танцем Бу-дэя, Бодхидхарма, пересекающий океан на сухом
листе, пара поэтов, бродящих в ночи с кистью и листком бумаги, – все это
превышает способности к постижению у простых смертных. Но как же
могущественно это царство!
Этот внутренний мир часто объективен, безличностен. У природы
собственные образы, у нее есть собственные настроения, которые предстают в
виде скал, гор, рек, птиц, людей и трав. Ее дух живет в них. Дзэнский художник
улавливает их, что возможно только тогда, когда художник теряет себя в
природе, когда он становится послушным инструментом в ее руках – и в
результате возникают пейзажи, исполненные художниками жанра сумиэ.
Поскольку в этих пейзажах нет так называемой чувственной реальности, то они
лишены цвета и перспективы. И тем не менее мы ощущаем здесь некий дух,
озаряющий горы и реки, вообще любые предметы. В последнее время мы часто
слышим о том, как Запад завоевывает природу, однако идея завоеваний глубоко
чужда Дальнему Востоку, ибо для нас, восточных людей, природа – друг, а не
враг. Если мы ее не понимаем, то это наша вина, а не ее. Даже когда она
выглядит устрашающей, она никогда не обнаруживает зла по отношению к нам,
как это часто характерно для злых людей. Поэтому художник лучше всего
чувствует природу тогда, когда он пребывает в бессознательном состоянии (яп.
мусин, кит. у-синь, санскр. ачитта); и мы видим, что во всей истории дзэн
наставники часто прибегают к примерам из царства природы.
Наконец, дзэнские наставники не просто любят природу, они не
опьянены «собственным богом» внутри себя. Их труды направлены на
общество, они по-своему служат ему.
304
Когда бодхисаттвы пребывают в сфере своей Самбхогакаи, или Тела
наслаждения, они облачены в церемониальные, великолепно украшенные
одеяния и восседают в традиционной позе. В мандалах школы сингон так
представлены все будды и бодхисаттвы; нечто подобное имеет место и в
изображениях
школы
Чистой
Земли.
Когда
же
идеал
бодхисаттвы
приближается к земной человеческой жизни, то есть когда бодхисаттва
представляется в своей Нирманакае, Теле трансформации, для того чтобы
служить живым существам, его трансцендентальная направленность, до того
жесткая и недоступная пониманию, постепенно смягчается и как бы проходит
«секуляризацию». Иными словами, бодхисаттва принимает более привычную
для человека позу и является в более простой, удобной одежде, лишенной
любых внешних украшений. Он теперь является более человечной фигурой.
Его образ уже не нужно ставить в святилище как объект поклонения, он должен
жить среди нас как один из нас.
Когда представление о Теле трансформации подвергается дальнейшим
преобразованиям, бодхисаттва фактически становится нашим ближним. Он, так
же как и мы, ходит на рынок за провизией, рубит дрова, переписывает сутры,
работает на заводе или в офисе, он может быть кем угодно, даже куртизанкой.
Все это означает, что природа Будды (буддхата) содержится в каждом из
нас, в каждом живом существе. Только когда мы видим ее, мы можем увидеть
бодхисаттву в одном из его обликов. Когда Манджушри (Мондзю),
Самантабхадра (Фугэн) или Авалокитешвара (Каннон) нисходят на наш
социальный уровень, мы встречаем их каждый день, везде в нашей
повседневной жизни. Самое ничтожное из наших дел, самая незначительная
вещь – все это викурвита бодхисаттвы, его лалита, и все чудеса индийской
махаяны, записанные в многочисленных махаянских сутрах, совершались
также Хуэй-нэном и Хун-жэнем, Хань-шанем и Ши-дэ. Более того, они могут
быть совершены любым Томом, Диком и Гарри. Единственное, что необходимо
для этого, — это открыть глаз праджни.
305
Извлечение из: Судзуки Д. Т. Очерки о дзэн-буддизме: Часть третья /
Пер. с англ. С. Л. Бурмистрова. – СПб.: Наука, 2005. – 432 с. – С. 366–370.
Литература
1. Джинджолия Б. И.
Вопрошание
и
просветление
в
учении
Д. Т. Судзуки. / И. Б. Джинджолия. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та,
2005.
2. История
философии:
Учебник
для
вузов.
/
под
ред.
А. С. Колесникова. – СПб.: Питер, 2010.
3. Ицуро Сакисака. Современные японские мыслители. / Пер. с яп.
А. А. Бабинцев, Д. П. Бугаева. – М.: Иностранная литература, 1958.
4. Козловский Ю. Б. Современная буржуазная философия в Японии /
Ю. Б. Козловский; Акад. наук СССР, Ин-т философии. – М.: Наука, 1977..
5. Михалева А. А. Проблема культуры в японской философии.
К. Нисида и Т. Вацудзи. / А. А. Михалева; Рос. акад. наук, Ин-т философии.
– М.: ИФ РАН, 2010.
6. Нагата Х. История философской мысли в Японии: Пер. с яп./ Общ.
ред. и вступ. ст. Ю. Б. Козловского. – М.: Прогресс, 1991.
7. Таити Сакаи. Что такое Япония? / Таити Сакаи; пер. с яп. и ком.
В.С. Гривнина. – М.: «Партнет Ко Лтд.», ИТАР – ТАСС, 1992.
8. Хайдеггер
взаимодополнительности
и
восточная
культур.
/
философия:
Отв.
ред.:
поиски
М. Я. Корнеев,
Е. А. Торчинов. 2-е издание. – СПб.: Санкт-Петербургское философское
общество, 2001.
306
307