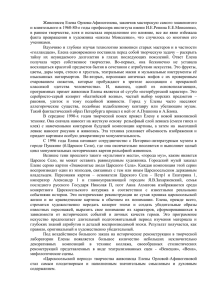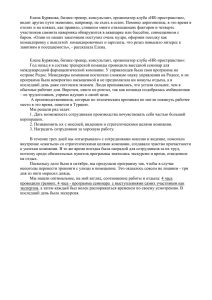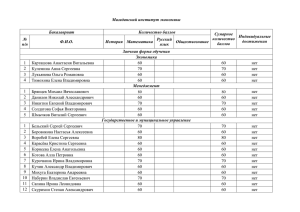4007302_vremya_priliva
advertisement
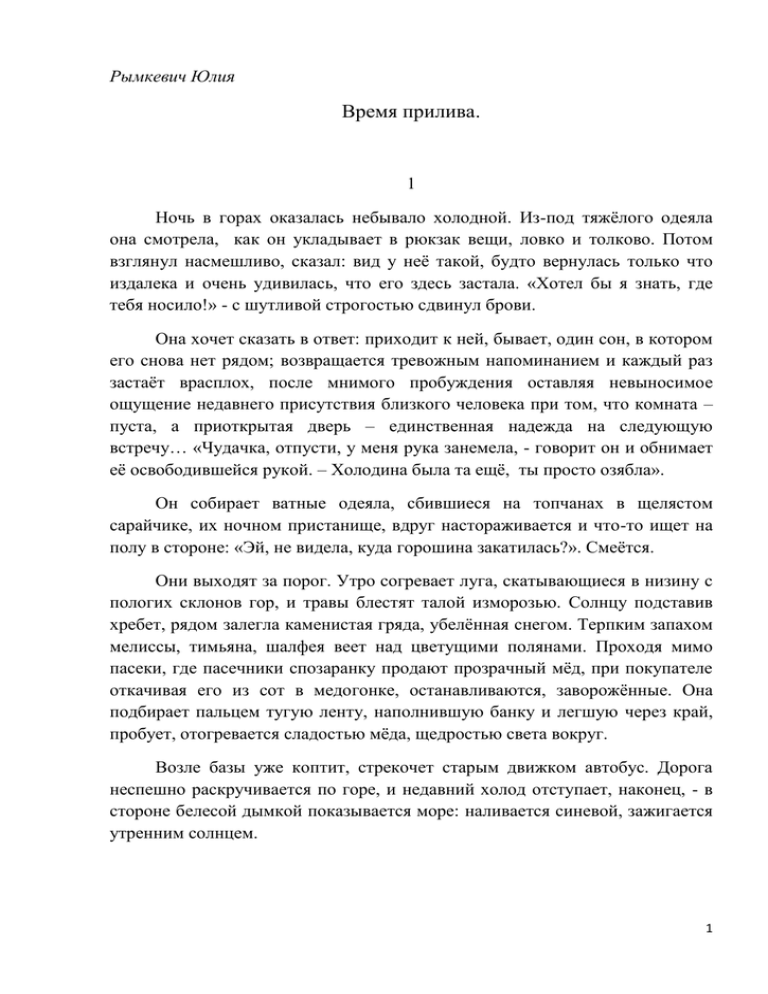
Рымкевич Юлия Время прилива. 1 Ночь в горах оказалась небывало холодной. Из-под тяжёлого одеяла она смотрела, как он укладывает в рюкзак вещи, ловко и толково. Потом взглянул насмешливо, сказал: вид у неё такой, будто вернулась только что издалека и очень удивилась, что его здесь застала. «Хотел бы я знать, где тебя носило!» - с шутливой строгостью сдвинул брови. Она хочет сказать в ответ: приходит к ней, бывает, один сон, в котором его снова нет рядом; возвращается тревожным напоминанием и каждый раз застаёт врасплох, после мнимого пробуждения оставляя невыносимое ощущение недавнего присутствия близкого человека при том, что комната – пуста, а приоткрытая дверь – единственная надежда на следующую встречу… «Чудачка, отпусти, у меня рука занемела, - говорит он и обнимает её освободившейся рукой. – Холодина была та ещё, ты просто озябла». Он собирает ватные одеяла, сбившиеся на топчанах в щелястом сарайчике, их ночном пристанище, вдруг настораживается и что-то ищет на полу в стороне: «Эй, не видела, куда горошина закатилась?». Смеётся. Они выходят за порог. Утро согревает луга, скатывающиеся в низину с пологих склонов гор, и травы блестят талой изморозью. Солнцу подставив хребет, рядом залегла каменистая гряда, убелённая снегом. Терпким запахом мелиссы, тимьяна, шалфея веет над цветущими полянами. Проходя мимо пасеки, где пасечники спозаранку продают прозрачный мёд, при покупателе откачивая его из сот в медогонке, останавливаются, заворожённые. Она подбирает пальцем тугую ленту, наполнившую банку и легшую через край, пробует, отогревается сладостью мёда, щедростью света вокруг. Возле базы уже коптит, стрекочет старым движком автобус. Дорога неспешно раскручивается по горе, и недавний холод отступает, наконец, - в стороне белесой дымкой показывается море: наливается синевой, зажигается утренним солнцем. 1 Она вспомнит город, на который смотрела недавним июньским днём из окна высотной новостройки. Лубочно-открыточный вид: нарядные фасады, глянцевые блики поверхностей, серый росчерк улиц и чёткие ряды парков и бульваров, уходящих вдаль, как полки на построении. Смотрела и думала, что стремилась сюда когда-то и многое отдала бы теперь, чтобы освободиться от города, ото всего, им навязанного, от бестолковости одинаковых дней. Свет проникал в окно так, что бледное отражение городских домов и крыш на одном из стекол ложилось на громоздкое облако, и впечатление диковинного небесного града, приоткрытого взгляду разошедшимися хлябями, казалось ей очень точным: здесь был и обман, и красота, и желание быть обманутым ради этой красоты. 2 Самолюбие не позволяло Корягину дознаваться у Елены о причинах её ухода. Поначалу он думал: просто ссора, которых было немало, и нет причин для опасений, скорее наоборот - короткие размолвки были необходимой эмоциональной встряской, обещали обновление, а длительных он и не припоминал… Каждый новый поворот событий, в работе или любви, Корягин почитал за благо. Это помогало оставаться на плаву, остужало лишний пыл – перемены к лучшему или к худшему были только частью пути, на котором он должен был чувствовать себя уверенно. -Ничего, дойдёт до утки на третьи сутки, - говорил он Зайцеву, одному из «свиты». В «свите» народу хватало всякого: полезного и дармоедствующего были те, кто сопровождал Корягина, охранял, организовывал встречи и напоминал о них; были те, кто закупал и привозил продукты, доставлял в химчистку его костюмы, оплачивал личные и хозяйственные счета; также были те, кого Елена называла «благодарными слушателями». Например, Зайцев. Он часами мог высиживать подле хозяина, когда тот, бывало, в подпитии, в лирическом настроении высказывался «за жизнь». Зайцев был по-своему одарённой натурой – его лицо вовремя принимало нужное выражение: насмешливое, сочувствующее, одухотворенное, презрительное. Во всяком случае, каждый раз у Игоря оставалось впечатление, что разговор между ними получился. И не думайте, что это для него не имело значения: 2 если бы Корягин усомнился в собеседнике, можно было бы считать, что миссию свою Зайцев безнадежно провалил. Игорь ценил искренность в людях. Елена сменила телефонный номер, но не сам мобильный аппарат – и, конечно же, Корягин знал её новый номер. Наверное, кое-что между собой они всё же выяснили, потому что в одно будничное утро, в то время, когда в офисе в рабочем аврале жужжали процессоры, стрекотали принтеры, поминутно звонили телефоны и сновали работники, Зайцеву пришлось стать свидетелем нешуточного гнева начальника. Сидя на подоконнике и глядя через толстое стекло на медленно продвигающийся по улицам транспорт, на серые крыши плотно стоящих домов, Игорь цедил сквозь зубы: -Она уезжает, говорит – давно собиралась путешествовать. Говорит, что ялтинский дельфинарий ищет специалистов, и она для них вполне годится после своей ветеринарной академии… Смеётся она надо мной, что ли! Ленка – и будет работать?! Никогда ничего не делала, некогда было: выставки, театры, Париж, Флоренция... Глубокомысленно молчаливый, Зайцев уловил монотонный шум кондиционера и с этого момента не мог отделаться от назойливого звука. -Обидно, - продолжал после паузы Игорь, - столько вложено... Как же так? Кому достанется? Какому-нибудь небритому студенту, будут спать на рюкзаках в ночлежках, а днём спасать дельфинов. Он медленно подошел к столу, выбрал из двух телефонов наиболее увесистый, с металлическим корпусом, и неожиданно метнул его в стену, сбив экран для проекции видеоматериалов. Зайцев тоскливо взглянул на аппарат, холодно блестевший на полу. -Надо давать выход эмоциям, - объяснил Игорь, подбирая телефон и подкидывая его на ладони. – Надо же… Всё в порядке. Зайцев улыбнулся всем своим рыжевато-розовым лицом, отвечая на скупую улыбку Игоря, однако на этот раз ему показалось, что полного совпадения не получилось. Дом за городом Корягин построил недавно, по совету знакомых, разбиравших на лоскуты для своих угодий земли, где между двумя-тремя деревеньками ещё бежала речка мимо шёлкового луга и золотистого поля, а 3 из дальнего леса робко выступили и теперь то взбирались по склону, то прятались в лощине березовые и осиновые рощицы. Зимой здесь бывало темно, серо, скучно, только погожими днями горела на солнце снежная равнина, и уютно курились пахучим дымом избы в селениях. Сюда Корягин приезжал с гостями. Возле дома была сложена большая бревенчатая баня, куда работница из кухни носила блюда и кушанья, а возвращалась с тарелками и бутылками. Иногда крепкий парень из охраны, помогая ей, тащил коробку или ящик со спиртным. Гости оставались и жили порой по неделе. Сам хозяин, если того требовали дела, утром выезжал в город и после обеда, - когда обычно просыпались гости, во дворе жарилось мясо и топилась баня, - возвращался. К дому он почти привык, обжился. Зимой деревенские с любопытством наблюдали за гонками на снегоходах, благо заснеженное поле перед ними было как на ладони, - так же, как и высоко огороженный дом в три этажа. Для рыбной ловли у хозяина хранилось множество снастей, только дело до рыбалки доходило редко, разве что летом охранник любил с удочкой посидеть на берегу, заросшем осокой, где растянувшаяся в траве подле него овчарка, пригретая солнцем, вздрагивала лапами и нехотя поднимала голову, когда в ведре всплёскивала пойманная рыба. Соскучившись в доме, Елена шла к ним и тоже садилась в траве, раскрывая на коленях книгу. Василий брался за коробку с опарышами для наживки, и она с детским любопытством подлезала ближе, глядя с гадливостью и интересом, как пальцы с въевшейся в бороздки кожи грязью вынимали из шевелящихся опилок личинку и ловко насаживали её на крюк. Когда рыба, блестя и изгибаясь, выдёргивалась из воды натянутым удилищем, они с овчаркой одновременно подавались с места и разглядывали добычу – потом она отворачивалась, а Василий с хрустом доставал крючок из рыбьего кровоточащего рта. Уважая её чувства, однажды он решил избавить рыбу от мучений: вынул из старого кострища головешку, деловито оглушил плотву перед экзекуцией и, ожидая одобрения, взглянул на Елену, в её глаза, округлившиеся от ужаса… Маленькая расторопная лягушка карабкалась через осоку к воде. Елена, подтолкнув её краем раскрытой книжки, помогла завершить переправу. От дома по тропинке к ним спускался Корягин: светлая рубашка расстёгнута на груди, руки в карманах; он улыбался и щурил глаза. Вася положил удочку и поднялся. 4 -Ухи на вечер не желаете, Игорь Леонидыч? -Ухи? – Игорь взглянул на улов. – Вот уж нет. Это - котам на деревню. -Обойдутся, - буркнул Василий, - я мелочь в масле жарю: трущится, как семечки, за милую душу. -Пойдём, Лена, - Игорь уже стоял вполоборота и слушал вполуха. – А чего этот дебил здесь прохлаждается? – спросил, когда поднимались к воротам. -Тише, - оглянулась она. – Ты его сам отпустил. -А он спрашивал? -Ну конечно. -Тогда ладно. Ты куда убегаешь все время? – он обнял её за плечи, потянул к себе. -Скучно, - призналась Елена. -Да поедут уже скоро. Достали – проспаться не могут. -Эти уедут – новые приедут. -Ну давай сбежим в город – самому надоели… -А зачем зовешь? -А что здесь одному делать? – вырвалось у него. Игорь засмеялся, взглянув на её растерянное лицо. - Да ладно, вернемся в город. Не плачь. -Очень надо… -И мне не надо. -Что не надо? -Чтобы ты плакала… Давай, двигайся – там уже девки, наверное, во всю по хозяйству шуршат. Неудобняк. Ты ж хозяйка, как-никак? В гостиной было сумрачно: окна зашторены, слабый свет сочился к потолку из тяжелых медных бра, девушки возлежали на диванах, кто – перелистывая журнал, кто – сонно посапывая в хмельном забытьи. Тонкая смуглая Дина неспешно ходила по комнате, зажигая свечи на высоких кованных подсвечниках; в продолговатом зеркале оживали отражения мерцающего пламени, плыли, заключенные в тяжелую золоченную раму, как 5 в экзотическом озере… Проникая из невидимых динамиков под потолком, текла музыка – тягучая, вязкая, погружающая в оцепенение. -Длим афинские ночи? – весело поинтересовалась Елена, подходя к окну и разводя в стороны портьеры. Хозяйка она или как? -Ты что, хочешь, чтобы мы вспыхнули и исчезли? – лениво отозвалась Кристина. В этот раз она приехала с жилистым вспыльчивым дзюдоистом, сыном высокого чиновника. -Нет, хочу провозгласить зарю жизни. -Вот видишь, нормальные люди уже поправили с утра здоровье и хорошо себя чувствуют… - сказала Майя, приподнимаясь с толстого ворсистого ковра, где она дремала, подложив под голову диванную подушку. Она сопровождала именитого режиссера, по словам Игоря, приехавшего выпрашивать деньги на постановку. - А ну-ка, в баню всем!.. Спустя час в комнате отдыха рядом с источающей хвойные ароматы сауной она сидела в глубине скользкого кожаного кресла, обхватив колени и наблюдая за мельтешащими фигурами на экране телевизора. Мимо прохаживались девушки, за стеной гулко бились друг о дружку бильярдные шары. Алеся остановилась напротив, выгнула спину, оборачиваясь: «Смотрите, девочки, какая татушка. Розовая лилия – символ женского начала. Делал лучший мастер Амстердама». - «Прелесть», - пропела Кристина, приближаясь, чтобы рассмотреть рисунок. – «Что-то тебе символ женского начала с обратной стороны прилепили», - заметила Дина. – «Завидуй молча», - сказала Алеся. Или Кристина?.. Или Майя?.. Чувствуя дурноту от влажного тепла и парфюмерного хвойного духа, Елена выбралась во двор. Собака охотилась за воробьями, копошащимися в туях вдоль ограды. Навстречу, по дорожке, выложенной гранитной шероховатой плиткой, семенила кухарка с пизанской башней тарелок в руках. -Давайте половину… -Нет, - испугалась та, потом передумала: - Ладно… держи. Кокну – не расплачусь, а в кухне ещё конь не валялся. Всё поели, - доверительно сообщила она. – А вчерашнего сказали не давать. 6 -Вроде разъедемся скоро. -Ну и добро. -И я о том же… Но затянулось опять до вечера: и купание, и парение, и застолье на крытой террасе. Елена почёсывалась от комаров, гости шутили, девушки смеялись, повизгивая. Потом дзюдоист на кого-то обиделся, пробовали обернуть дело в шутку – оскорбился. Принялись уговаривать. Он смягчился, но ненадолго… Досматривать Елена не стала и, завернувшись в плед, пошла в дом. Игорь пришел за полночь, включил свет и, раздеваясь, принялся рассказывать, посмеиваясь и не переставая двигаться по комнате… Елена незаметно провалилась в сон. Когда проснулась утром – его рядом не было. Он уже был внизу, завтракал. Физиологическая особенность: быстрое восстановление. -А! Привет, - сказал он. – Нужно бежать. Работы валом, пора выбираться. Дорога к шоссе вела через деревню. Здесь, на повороте, стоял приземистый, потемневший дом с ветхим забором. Проезжая мимо, они часто видели сухонького чумазого деда, зимой и летом – в большой кроличьей шапке, иногда босого. Случалось, он сидел прямо у дороги на траве, положив рядом узловатую палку. Возвращаясь от Игоря после нескольких разгульных дней, гости замечали бедолагу, бывало, останавливались и совали ему денежку. Дед мычал, благодарил и, в благодарность же, неуклюже исполнял нечто вроде фигуры кадрили: опираясь на палку, поворачивался кругом себя, хлопал по здоровой ноге, - отрабатывал свою роль местного дурачка. Завидев приближающуюся машину, дед ковылял навстречу, пристукивая по земле тростью, словно выпрашивал, чтобы та притормозила. Так было и на этот раз. Возле калитки он соорудил скамью и теперь сусликом сидел, зажав коленями самодельную трость, - выжидал. Игорь ехал быстро, торопился. Старик, тоже торопясь, безрассудно двинулся навстречу, вытягивая перед собою палку. На землистом, щетинистом лице его была бессмысленная улыбка, глаза взволнованно моргали, в них читались испуг и решимость. 7 -Вот чёрт! – крикнул Игорь, подаваясь вперед от резкого торможения. – Прикормили… Дед лез к машине, кривлялся, выкидывая на ходу сухонькие ножки в резиновых чунях, выпячивал грудь и, мотая головой, тряс ушами шапки. -Что, старый бес, так на водку хочется? – Игорь вновь с досадой дал по тормозам. – Сейчас я тебя напою, урод. Он вывернул руль и резким движением направил машину в его сторону – старик, боязливо заверещав, отступил. Громада чёрного джипа рывками двигалась на него, каждый раз останавливаясь в последний момент, почти наезжая на перепуганного вусмерть старика, который суматошно отступал, отмахиваясь палкой – больше загораживался ею. Загнав деда на обочину, Игорь резко нажал на газ, и машина, оставляя завесу из песка и пыли, ринулась вперёд по дороге. Скоро автомобиль чуть сбавил темп: там, в кабине, отчаянно спорили – водитель и девушка рядом с ним. Она кричала, отбивая его руку, пытающуюся примирительно её коснуться, он недоумённо пожимал плечами. Игорь так и не придал этому дурацкому, по его мнению, эпизоду того значения, которое он имел для Елены. 3 Вещи выносили в глянцевых бумажных пакетах, в своё время оставшихся после рейдов по дизайнерским магазинам. В мраморном холле портье проводил девушек бесстрастным взглядом, нажав у себя за стойкой кнопку электромагнитного замка. -Спасибо тебе, добрый человек! – боком налегая на стеклянную дверь, сказала Назарова. Сосредоточенно глядя под ноги, она спускалась по гладким ступеням на невероятных, как водилось за ней, каблуках. Вслед за Леной тукал колёсами небольшой кожаный чемодан. Возле подъезда ждала машина такси, и при виде неё Назарова снова завелась: -А вот что тачку не забрала – смотри, пожалеешь… 8 Елена хмурилась и отмалчивалась. С помощью водителя загрузили сумки. -Отдохнули? – фамильярно поинтересовалась физиономия шофёра, возникая в зеркале заднего вида. И, покашливанием заполняя недобрую паузу, примирительно добавила: - Да ладно, обычная история. Так, летним утром, уверенно расчертившим город на свет и тень, таксист лихо катил по центральной улице элегантного района, и высокие дома горели на солнце стеклом и сталью, - ехали к окраинам, где Назарова нанимала квартиру. В конце недели Вика Назарова собиралась уехать в Тайланд. Уже не первый год Елена в подробностях выслушивала описания островов этого азиатского королевства, чьи названия в устах Вики звучали восточной музыкой – в интонациях она тоже поднаторела, бывая там не реже, чем дважды в год. Такое завидное постоянство не касалось выбора спутников для этих поездок, а ведь наличие спутника было обязательным их условием. Были времена, когда Назарова вешала ей лапшу на уши о роде своих занятий, выдавая очередного встречного за нового поклонника, готового везти её в круизы по дальним странам, оплачивать крупные капризы и мелкие радости, не говоря уже о хлебе насущном. Однако они менялись слишком часто, не оставляя о себе ни воспоминаний, ни тревог – разве что материальное подтверждение некогда бывших отношений: предметы разной степени экстравагантности и меры вкуса. Как правило, Назарова спешила обменять их на денежный эквивалент, но некоторые оставляла на память, не из сентиментальности, как казалось Елене, - просто нравилась вещица. На последних страницах модных журналов Елена не раз видела в «светской рубрике» фотографии девиц подобного толка. О знакомстве с некоторыми из них Вика с гордостью рассказывала ей, и все они назывались «светскими дамами» или «гостьями вечеринки». Вике не приходило в голову, что для кого-то может быть неприемлем тот образ жизни, какой она ревниво делила со своими товарками. Она верила, что почти достигла той вершины, куда каждого ведут его устремления, а если это не так – то лишь по причине его ущербности, невзрачности или скудоумия… Покуда длились отношения Елены с Корягиным, Вика всплывала то с одним, то с другим покровителем. Узнав Елену лучше, Назарова поняла, что та не осудит её, даже если впоследствии переместится в неприятельский стан 9 «супруг». Елена отдавала должное её упорству и дерзости - они срабатывали там, где скромность пасовала. Часто Назарова приходила на помощь тому, кто в этом нуждался, удивляя при этом бескорыстием. Она не унывала в любых передрягах, направляя луч своей энергии по кратчайшему пути к наилучшему исходу – такому инстинкту самосохранения можно было только позавидовать. Благодаря весёлому нраву Назаровой мужики шли за ней, как нитка за иглой, тянулись к атмосфере бездумной радости и, - вот уж воистину, - детской непосредственности, исходящей от неё, когда она того хотела… И вынимали кредитки, выворачивали карманы, торговали на биржах, повышали объёмы производства. Такой вот перпетуум - мобиле. Путешествия по многим странам стали для неё привычным, обыденным делом. Мечту о странствиях мужчины воплощали наряду с мечтой о весёлой ласковой спутнице, всегда готовой к любви и, зачастую, к рискованным затеям: уходили времена, когда застолья и возлияния утоляли жажду жизни, сопровождая путь к успеху: «сытая жизнь» уже не понималась так буквально. Нынче было модно быть здоровым и не обременённым проблемами, для этого считалось достаточным посещать психолога – для здоровья духа, а также диетолога и личного тренера – для телесного здоровья. Приходилось подстраиваться: и Назарова неплохо ныряла с аквалангом, умела управлять яхтой, играла в теннис, по её утверждению летала на параплане и прыгала с парашютом, а также бывала как-то на сафари в Африке и ловила тунца на Мадагаскаре. Это не говоря об остальных премудростях, нужных для досуга такого рода. Назарова не сетовала на судьбу, говорила: «Даром и прыщ не вскочит, сначала почешется». Только случалось и ей задуматься: что заставляет её мужчин постоянно испытывать себя, свои возможности? От чего бежали они, здоровяки и умники, ухватившие за хвост удачу, которая неслась очертя голову: слепая, как водится, - и нужно было либо лететь стремглав, держась мертвой хваткой, либо отпустить… - а ничего страшнее, вероятно, им представить не доводилось. Теперь, когда Елена оказалась в ситуации, которую Назарова привыкла разрешать «в рабочем порядке», случилось то, чего Елена боялась: у Виктории начали возникать мысли, куда и как её пристроить. - У тебя есть портфолио в интернете? – самым безобидным тоном поинтересовалась Вика, когда они вошли в квартиру. 10 - Зачем? Что за портфолио? - Вот посмотри, - Назарова открыла ноутбук и, пощекотав его в области, ответственной за передвижение курсора, пару раз щелкнула кнопками, вызывая нужное окно на мониторе. - Как тебе? Нужно признать, фотографии были отличными. - Мастерски сделано, - сказала Елена. - Ещё бы, - Назарова любовно разглядывала снимки: на некоторых даже нагота, мягко сиявшая тем же оттенком, который царил на снимке, была частью образа, и потому принадлежала уже не Назаровой, а искусству. Удивительно, насколько совершенными становятся средства для достижения вполне прозаических целей. Но этого Елена, конечно же, вслух не сказала. А сказала, что ещё не готова к сайтам знакомств, на что Вика ответила, что никто о сайтах знакомств и не говорит – покажи в социальных сетях, кто ты есть, чего ты хочешь, и тебя найдут те, кто тебе нужен. Честно говоря, Елена совсем расстроилась, когда услышала это и одновременно представила подобные снимки с изображением собственной особы. Кто она есть и чего она хочет?!. Чему стоило поучиться у Назаровой, так это точности формулировок. -Я нашла для тебя работу, - заявила Назарова поутру, - временную, конечно, но ведь жить на что-то надо. Одна знакомая недавно открыла салон для домашних питомцев… Ты же ветеринарную академию заканчивала? Ну вот, работа для тебя, по специальности. Стоя в задумчивости перед недрами шкафа, она собиралась в поездку – снимала с вешалки нечто цветастое, шифоновое, выуживала что-то сетчатое, блестящее… Пара пустых полок, надо полагать, предназначалась для Елены, на время постоя. -Вика, я не останусь надолго. Дозвонюсь маме, переговорю с квартирантами – и поеду к себе. И спасибо тебе за питомцев, я с удовольствием – хоть завтра. Назарова повернулась к Елене, посмотрела с сомнением: та понимала, у неё ещё есть возможность выбрать, по какую сторону баррикад остаться среди тех, кто открывает салоны, или среди тех, кто моет их питомцев, подстригает шерсть и когти, выводит случайных паразитов. «Подумаешь, это 11 временно, - сказала себе Елена. – И не так уж плохо. Со временем я найду настоящую работу». Мечта, по обыкновению тех явлений, когда душа устремляется к чемулибо безошибочно, родилась в детстве, в тот момент путешествия к морю, когда она очутилась в ялтинском дельфинарии. Так хороша была юная дрессировщица, каждое мановение руки которой ловили гладкие серые рыбы, скаля в улыбке острые зубы и лукаво глядя на зрителя блестящим глазом, так просты, так добры были они друг к другу, так великодушна была покорность дельфинов, что тающее в груди чувство восторга и глубокого, полного умиротворения, когда человек говорит себе «вот оно»: моё дело, моя любовь, - сохранилось надолго, вплоть до сего дня. Какие бы высоты не стремился ты покорить, каким бы искусством не жаждал владеть, какими бы лаврами не желал быть увенчанным, призрачный свет, которым мечта освещает жизнь, лишь поначалу кажется горением, потом напоминает ясный луч, намечающий некий путь, позже – неверное мерцание, гораздо позже – тление фитиля, готовое обернуться струйкой дыма… Так представлялось ей теперь. Немногий чудак сумеет позаботиться о том, чтобы сохранить этот эфемерный свет внутри себя, как бы темно не казалось вокруг. -Вика, о чем ты мечтала в детстве? – спросила она у Назаровой. -Я мечтала печь торты и быть водителем трамвая, - улыбнулась та. – Не депрессуй, всё утрамбуется. В салоне красоты для животных «Райские кущи» вдоль стен извивались декоративные золочёные ветви, там и тут свешивались хрустальные гроздья светильников, в огромном аквариуме шевелились огненного цвета рыбы, чета попугаев пощёлкивала и посвистывала в клетке под потолком, привлекая внимание упирающихся поначалу клиентов. Присутствие живых существ, видимо, должно было уверить бедолаг в том, что если другим не причинили здесь явного вреда, то и для них всё закончится благополучно. На рекламных листочках Елена прочла сообщение о дипломированном специалисте и о появлении новых услуг. 12 -Вы нам очень кстати пришлись, - сказала администратор. – Один из наших работников – музыкант, который оказался неплохим парикмахером, другая обучала детей литературе, правда, будучи заводчицей кошек редких пород. Вот вы за ними и присмотрите. -Интеллигентные люди должны быть гуманны к вашим подопечным,одобрительно кивнула Елена, и администратор взглянула пристальнее поверх очков в изящной оправе.– Я имею в виду… -Я поняла. С подопечными разберемся, вот их хозяева – это особь статья. Здесь нужен такт и терпение, потому что ни того, ни другого… сами понимаете. -Да, конечно. -И без иронии. Искреннее уважение к клиенту, понимаете, о чём я? -Да, конечно. -Вот, уже лучше. Если удавалось справиться со смехом, который разбирал её иной раз при виде мосек и сявок, одетых с тщательностью монаршей особы, с завивкой или начёсом, а также перманентом и татуировкой - оставалось подавить только жалость к ним, терпеливо превозмогающим докучные процедуры. Так она получила работу. Разговор с матерью Елена откладывала день ото дня. Иногда вечерами они обменивались короткими сообщениями по скайпу, где жизнерадостные смайлики артистичной жестикуляцией создавали ту невнятицу, которая теперь была ей на руку. Когда связь ещё не была настолько совершенной, что позволяла без труда и сколько угодно времени, а к тому же почти задарма разговаривать с человеком в любой точке мира, - в те времена, ещё недавние, ещё не остывшие в памяти, Елена нуждалась в этих разговорах и этом времени гораздо больше, нежели теперь. Но так уж вышло, что при бесконечных возможностях близкого общения ближе оно так и не стало. После гибели отца несколько лет мама проработала на закрытом предприятии, а когда в перестроечные годы из-за недостатка финансирования работа стала колом, один из папиных друзей-парашютистов 13 позвал её, авиаконструктора, консультантом в одну из первых частных авиакомпаний. Поначалу рейсы совершались на арендованных самолётах «Аэрофлота», но когда компания заимела несколько иностранных аппаратов, консультанта отправили на стажировку в Германию. Там, во Франкфурте-наМайне мама встретила Готтарда – бывший летчик, теперь он служил в администрации немецкой авиакомпании. К тому моменту, когда они наконец-то решили вступить в законный брак, Елена уже отметила совершеннолетие, была влюблена и слышать не хотела ни о каких переездах. Наоборот, неожиданно открывшаяся перспектива свободной во всех отношениях жизни воспринималась ею с радостью. Она проводила мать «замуж», вышла из здания аэропорта и впервые в жизни свалилась в обморок, точнее – стала медленно оползать прямо на асфальт, цепляясь за стальные перила. Странное это было чувство - словно душа не поспела за телом, воспротивилась ему. Вскоре пришла в себя: даже не понадобилась помощь, в чём она уверила сердобольных таксистов, которые наперебой предлагали свои услуги. Теперь она звонила матери и знала, что если скажет: «Я разошлась с Корягиным», мать услышит это как: «Я осталась на мели, потому что всё это время бездумно колесила по европейским столицам вместо того, чтобы быть благоразумной и дальновидной…» и так далее. Поэтому она сказала: -Мам, я нашла работу, и теперь хочу вернуться в посёлок, в нашу квартиру. Скажи, пожалуйста, я могу созвониться с квартирантами и попросить их подыскать другое жильё? -Ну конечно. А что Игорь? Вы поссорились? Ну вот, сейчас сказать, что всё окончательно, в принципе, уже и быльём поросло, что беспокоиться не надо… Да ничуть она не переживает. Рано или поздно всё бы к тому пришло. Нужна ли ему семья? Да кто знает, что ему нужно. В том-то и дело, что её это больше не интересует. Уверена ли она? Не уверен – не обгоняй. Ха-ха. Нет, ей не грустно. Много работы – да, по специальности. Ну, хоть это… действительно. Пока, мам. Пока! На квартире телефон не отвечал, и, дозвонившись соседке, Елена субботним утром выехала в поселок, рассудив, что в нерабочие дни шансов застать жильцов у неё будет намного больше. На худой конец, пока суд да дело – можно перекантоваться у бывшей школьной подруги, Марины Гордейкиной, или же вернуться к Назаровой. 14 4 Приехать и уехать в поселок, окруженный лесом, можно было по одной дороге: стало быть, случайных людей, чей путь лежал мимо, не водилось, и жили тесно, своим кругом. Одна школа, два детсада – для молодой поросли, и научно-исследовательский институт: институт Времени, как между собой его называли дети, чьи родители, инженеры и физики, закончив крупные университеты, устремились сюда для научной работы. Через спутник они наблюдали за вращением земли и определяли точное значение времени. Те сигналы проверки времени, последний из которых означал начало часа, те «шесть точек», известные каждому, кто когда-либо слушал радио, рождались, определялись здесь. Помните? «Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует пятнадцати часам московского времени. – Шестикратное «пик». - Говорит Москва. В столице пятнадцать часов. В Ашхабаде – семнадцать, в Караганде – восемнадцать, в Красноярске – девятнадцать, в Иркутске – двадцать, в Чите – двадцать один, в Хабаровске, Владивостоке – двадцать два, в Южно-Сахалинске – двадцать три часа, в Петропаловске на Камчатке – полночь»… Лес вокруг поселка был нешуточным, вековым. До сих пор помнилось, как в осеннюю непогоду, возвращаясь из школы по пешеходной дорожке, тянущейся вдоль леса, она всё ускоряла шаг, а потом, не стерпев, пускалась вприпрыжку, слыша, как старые разлапистые ели раскачивались и скрипели на ветру. Лишь с западной стороны - там, где в жалких низинках занималась речка, - лес редел, расступался, и до горизонта поднимались круглые холмы с березовыми и осиновыми перелесками по склонам. На возвышенности когда-то построился большой барин, чья усадьба побывала с тех пор и домом отдыха, и резиденцией руководства промышленного концерна. При усадьбе жила себе деревенька с давней церковью. В ней во времена её пионерского детства разместились художественная школа и кружок настольного тенниса каждый из них она посещала, - а теперь вновь был храм. Странными образами населяли детские мечтания и сновидения эти глухие, зачастую – бурей ломаные леса, с глубокими оврагами и 15 говорливыми ручьями, которые то скрывались под землей, то выпрыгивали наружу из очередного разлома и устремлялись по извилистому устью. -Не ходи, старый бабай, малых деток не пугай, - пела вечером бабушка, моей деточке не спится, моя деточка боится… Так вот «бабай», по её твердому убеждению, обитал в лесной еловой чаще где-то за одним из неприступных оврагов, рваные края которых осыпались землёй, грозя увлечь за собою. Бывало, кое-где через них ложилось поваленное дерево, толстое и замшелое: не иначе как по нему «бабай» по ночам пробирался в поселок. И ещё: - Несёт меня лиса за тёмные леса, за дремучие боры, по крутым бережкам, по высоким горам!.. – судя по всему, бедного Петушка, взывающего к Коту Котофеевичу, тоже угораздило очутиться в этих гиблых местах. Именно здесь во вторую мировую поворотили немцев и погнали от Москвы вспять. Бои, шедшие на крюковских, зеленоградских землях, называли «вторым Бородино». Заплутал враг в «темных лесах, дремучих борах»… Зато в погожие дни, особенно в зимние, лес оборачивался хрустальным дворцом. Выходными днями выбирались на долгую прогулку: сначала – по пешеходной дорожке, что вела вдоль леса к памятнику бойцам, павшим здесь в один из самых жарких, переломных моментов страшной войны, которая ещё во времена её детства была совсем рядом: в памяти близких людей, в песнях, праздниках, кинофильмах, любимых и ожидаемых всей семьёй и, конечно же, фантазиях. Неутомимой фантазёркой она была всегда – и, бывало, представляла себя в ладной гимнастерке, пилотке, чуть сдвинутой на лоб, с пропыленным солдатским мешком за спиной, возвращающейся домой оттуда, с огневого фронта, где враг разбит на голову: «на голову» - так вернее, а непобедимые «наши» живы-невредимы всем смертям назло… И, сдвинув брови, за обедом терла солью твёрдую горбушку под недоуменным взглядом бабушки: «отрезать тебе свежего-то?». Памятник тогда навещали часто - ветераны, невесты, пионеры; цветов было много, а в праздники – не счесть. Летом и осенью бабушка приносила сюда хризантемы, которые выращивала в палисаднике под балконом. 16 Так вот… Не доходя немного до памятника, сворачивали в лес – на протоптанные в снегу тропы, а то приходилось ей, высоко поднимая ноги в валенках, идти след в след за отцом, прокладывающим дорогу по нехоженому снегу. Рядом по сугробам прыгала Тайга, свесив набок из пасти розовый язык и весело блестя глазами,– эту овчарку дед привёз из Грузии ещё щенком. Некоторые из воспоминаний сохранили для неё образ отца: смутный, драгоценный, необходимый. Они были подобны обрывкам старой киноленты, по возможности склеенной там и сям, прилаженной, подогнанной - эпизод к эпизоду… Среди них был и такой: на залитой солнцем искристой поляне отец играл с овчаркой, такой же мускулистый и пружинистый, как Тайга, от возможности порезвиться во всю свою звериную мощь одуревающая, заливающаяся то и дело счастливым лаем. Бывало, Елена подолгу стояла и смотрела, смотрела кругом со странным чувством вдоль позвоночника… да и как без сладкой боли можно было видеть эту красоту: отягченные лежалым снегом еловые лапы, гладкие сугробы, налезающие на старое дерево, ветром выкорчеванное из земли с корнем, похожим на неряшливую, в космах, голову!.. И вытянутые к чистой синеве неба верхушки елей с заледенелыми шишками в просвете, где играет и лучится солнце, и прозрачную тишину, и зимний этот запах необходимо было запомнить, запереть в душе, унести с собой, как сказочное зелье. Удивительно, как важно для человека в его знании о себе воспоминание о том, к примеру, что кровать, в которой он засыпал и просыпался много лет кряду, стояла именно у окна, а на стене напротив были часы с чайкой, которые как-то раз сняли, чтобы прибить клопов, обосновавшихся за ними. И какая это малость, казалось бы, ничего не значащая, ничего не определяющая. А кто знает? И почему память опускает иногда важное, календарное, прямо-таки для человека эпохальное: свадьбы, вступления-выступления, достижения-награждения, - а эту мелочевку хранит, перебирает, прячет от лишних поползновений на свет Божий выудить… Так, например, у чувства усталости в конце дня, когда хочется уединения и в то же время на душе тепло оттого, что близкие люди - рядом, есть среди воспоминаний свой двойник: был у Елены любимый детский журнал, и мягкие страницы быстро изнашивались, приходилось склеивать липкой лентой; в одном из номеров – любимые стихи о глупом мышонке: «Спи, мышонок, сладко-сладко… Дам тебе я хлебной корки и огарочек 17 свечи». Свет - тёплый, чудный - наполнял картинку в книге, выкрадывал из тени мышиные морды, тонкую лапку, держащую плошку с толстым свечным огарком, - это был крошечный, карманный мир, очень живой, в который она вглядывалась с изумлением. У темноты, тревоги и страха были свои фантомы: озорная и злая старуха с тёмным бородавчатым лицом и мясистым носом, с хихиканьем скачущая в ёлках возле дома – прыгала, пряталась, хоть никто её не догонял, а потом обегала вокруг и принималась заново… Была Елена тогда, наверное, совсем крохой – ещё толком не отличая сна от яви, во время прогулки озадаченно разглядывала те самые четыре ёлки возле дома и всерьёз размышляла, каким образом попадает сюда по ночам. Встречая же дворничиху бабу Маню, маленькая Елена вовсе обмирала. Это была костистая высокая баба, всегда в старом мохеровом платке, которая ходила размашистым шагом по дворам, обутая в непомерно большие резиновые боты. Она пугала не меньше, чем разбойник с топором за поясом, пробирающийся по кустарникам в лощине. Про неё ребята говорили: ежели что не по ней - снимет свою огромную калошу и запустит в голову, а сама на метле даст дёру. Про метлу не верилось, но материлась дворничиха, как заклинала: то затихая, то с выкриками, помавая древком пресловутой метлы. Часто оставаясь у бабушки с дедом, Елена была к ним ближе, чем к кому-либо. Бабку Алевтину она помнила настороженной, немногословной, имеющей скверную привычку, волнуясь, сухо и мелко поплевывать сквозь презрительно поджатые губы. Вернее, помнила и такой. На самом же деле, и это был вроде как их общих секрет, - Алевтина была веселой, вдохновенно фантазировала, рассказывая внучке сказки на ночь. Кроме того, бабка была добытчицей – работая заведующей на продовольственной базе, привозила домой то бананы с апельсинами, то аппетитно перетянутые шпагатом батоны ароматной колбасы с прозрачными кусочками сала, которые Елена брезгливо выковыривала вилкой и выкладывала по окоёму тарелки. «Не солощая ты девка», - посмеивалась Алевтина, любовно глядя на внучкину жующую физиономию. Иногда прямо к дому лихо подкатывал грузовичок, и дюжий шофёр в синем халате с засученными рукавами, с ящиком или коробкой в руках шёл в подъезд следом за деловито семенящей завбазой. Дед оставался безучастным к проявлениям бабкиной рачительности, иногда хмурился, чаще - посмеивался: «Жулики», но колбасу ел, и пельмени ел. 18 Пельмени кушали по выходным всей семьей: из большой фарфоровой супницы раскладывали по тарелкам – со сметаной, с хреном, с чёрным хлебом. Бабка начинала с утра вертеть на тугой мясорубке свежее мясо, налегая полным телом на шаткий стол, пачкая мясным соком фланелевый халат и даже лицо. Когда она сощуривала глаз от брызнувшего с чавкающим звуком мяса, Лена со смехом утирала ей лоб краешком полотенца так же, как и горючие слезы, когда та перемалывала в мясорубке луковицы. Потом тонко раскатывалось тесто, и двумя рюмками из серванта Алевтина с Еленой выдавливали множество кружков – сколько поместится. Бабушкины пальцы виртуозно скручивали маленькие толстые пельмешки, которые у Елены расползались, хотя мясной начинки в каждый она брала меньше, а возилась дольше. Случалось, Алевтина, как всегда быстро и негромко, рассказывала о чём-нибудь из давней своей жизни в далёком Алтайском крае, у огромного и чистого озера Байкал. Пельмени в её детстве, вспоминала она, делали из медвежатины. «Ничего себе, - удивлялась Лена. – А где брали медвежатину?». - «Медведи по ночам под окнами бегали, как собаки, особенно к зиме». – «Фу, баба. Не ври. Зимой медведи спят». Бабка на секунду задумывалась. «Это здесь спят, а там медведь-шатун почасту бродит, свалки с мусором разворачивает, алкашей-полуночников пугает. Пока на пельмени не попадётся». Лена с сомнением смотрела на кособокий, неровно защипанный по краю пельмень в своих пальцах. «Что ж вы, баба, всех медведей там у себя съели?» - «Не, не всех. А как ещё? Попробуй алтайскую зиму перезимовать. Там и медведей, и белок, и…». – «Ба, пойду я фильм посмотрю», - просилась Елена, не дожидаясь подробностей. – «Там «В гостях у сказки» начинается, слышишь?» - «Иди, помощница, иди». Когда Елена стала постарше, она ощутила на себе в полной мере Алевтинин тревожный нрав. Той до всего было дело, и с ней не проходили отговорки, годившиеся для других. Жили на первом этаже, и застекленный, изнутри обшитый вагонкой балкон выходил в палисадник, окруженный кустами акации, где Алевтина хозяйничала, выращивая пионы, гортензии и «золотые шары». Туда Елену прибегал звать Ларионов, камешком кидая в стекло, на что сразу отзывалась овчарка, с лаем срывалась и летела из коридора к балкону. «Вон, гардемарины твои лазят, - нервно поплевывала бабка. - Не рано, нет? С них вся анафема потом». – «Да какая анафема, ба», отмахивалась Лена. – Я гулять». – «А я не спать?». – «Да кто тебе спать мешает? Не волнуйся». 19 Дружба с Сашей Ларионовым началась со случая, который вполне мог бы плачевно для неё закончиться. Возвращаясь после уроков домой, они с подружкой обнаружили преследование: она знала двух этих оболтусов; одного из них, в россыпи золотистых веснушек по круглой физиономии, вихрастого и крепко сбитого, как тугой резиновый мяч, она часто замечала в школе – на переменах, в столовой, в раздевалке. В основном, замечала по выходкам, целью которых, конечно же, было это внимание привлечь. Ей с детства нравились хулиганы, вот оно что… И теперь он, Сашка Ларионов, на пару с другом кидал вслед девчонкам шишки и сучки, бредя за ними по аллее от школы к жилым пятиэтажкам Октябрьской улицы. Она обернулась и тоже кинула шишку, попала Ларионову в лоб. В несколько прыжков тот догнал её и потянул за ручку ранца, висящего за спиной. Елена взмахивала руками и беспомощно пятилась под обидный хохот пацанов, потом подалась вперед, натужившись, чтобы вырваться. В этот момент гад Ларионов отпустил ручку ранца, и она, сделав неверный шаг, а точнее прыжок, не удержалась на ногах и плашмя рухнула на асфальт дорожки. Сразу же попытавшись подняться, Елена вдруг поняла, что не может дышать. Это было странно - она недоуменно взглянула на ребят, подбежавших к ней. -Эй, что у тебя с глазами? – поинтересовался рыжий Ларионов. Елена пыталась прорваться сквозь неподвижность, заключившую её в невидимый тугой кокон, - и, наконец, с шумным болезненным вдохом, прорвалась. Далее были несколько недель надменного безмолвия с её стороны и настойчивые попытки, вполне искренние, загладить вину со стороны рыжего обидчика. Иногда его стремление превозмочь собственную шкодливую сущность было столь явным, что вызывало уважение. Он выпрашивал её портфель, какое-то время понуро брёл рядом, понемногу отставая, и когда Елена оборачивалась с нарочной неприязнью во взгляде – Ларионов разжимал пальцы, портфель шмякался об землю, а его физиономия лучилась от удовольствия, в котором он не мог себе отказать. Когда она делала несколько шагов, возвращаясь за ранцем, Сашка подхватывал его и, мельтеша руками и ногами, уносился вперед по дороге. Он жил в деревни возле Старой церкви и добирался на автобусе – правда, никто не ждал его дома в оговоренное время, тем более – сразу после 20 школы, и часто, пока мама была на работе, они оставались у Елены или пускались в странствия по округе. Она отдалилась от девчонок во дворе с их «резинками», «классами», интригами и сплетнями, зато открыла куда более захватывающий мир, созданный мальчишеской фантазией. В составе исследовательской экспедиции они отправлялись на раскопки древнего кургана, которым стал заброшенный карьер у речки, - там до сих пор в песчаной почве шныряли доисторические ящеры; или по карте, найденной в разбойничьей землянке, разыскивали клады; в выходные дни возле здания телефонной станции, где при удаче можно было разжиться мотками цветной проволоки и отработанными микросхемами, они затевали действо, достойное киносъемок: называлось оно «шпион и разведчица» (либо «разведчик» и «шпионка»). А сколько раз ей приходилось раненого Ларионова вызволять из-под вражеского обстрела, подползать к танку, сжимая в руке бутылку, - с зажигательной смесью, конечно же, - не счесть… не счесть. Да уж, сердечный друг не родится вдруг. Становясь старше, они попрежнему были неразлучны. Возвращаясь из видеозала, открытого в Доме метролога, подростки разбредались по подворотням и подъездам. На кассетном магнитофоне, то и дело жующем пленку, слушали западную музыку, накуривались до тошноты дешевыми папиросами, тогда как за ухом заложена была поштучно купленная в киоске импортная сигаретка, по кругу передавали бутылку крепленого вина, а то и спирт, разбавленный напитком, - благо, этого добра было вдосталь в дешёвых лавках, щедро торгующих, как говорил дед, «обезьяньим товаром»: побрякушками, сластями, растворимыми напитками, чулками и лифчиками, а также спиртным и куревом на любой вкус и достаток. Хулиганистый Ларионов оказался до странности морально устойчив к новым веяниям. Уступая её любопытству, он неохотно тянулся следом за ней в беседку или, по его словам - просиживал штаны на подъездных лестницах. Между ними бывали короткие потасовки, когда она пробовала покуривать, и несколько раз чуть не случилось ей со стыда сгореть заживо после того, как Сашка терпеливо тащил её, несущую вздор и упирающуюся, после посиделок в беседке куда-нибудь в укромное место и ждал, держа за волосы и деликатно отвернувшись, пока она корчилась в отвратной судороге, а потом добросовестно высиживал рядом, пока Елена не принимала должный вид, чтобы отправиться домой, на милость бабки с дедом. 21 Дед, взъерошенный, красный от несвойственного ему гнева, путаясь в словах и плохо владея подёргивающимся телом, кричал, выходя в коридор: -Безобразие! Почему мы с бабкой должны бегать искать тебя по всему гарнизону? – «гарнизон» - это из его, дедова, бравого прошлого. В юности военный летчик, после войны он был переведён в Грузию, куда увёз бабку, пригревшуюся, расцветшую на юге, но и разделившую позже честолюбивое желание мужа отправиться ближе к столице. На беду свою, как говорила потом… -Халда, - вторила Алевтина, стоя в дверях за его спиной. – В кого такая халда, прости господи? – и, ловя красноречивый взгляд деда из-за плеча, отступала. – Ладно… Пусти её спать, Володя. Дед с бабкой дружны не были. Но в тревоге за внучку старики сближались, сходясь на почве её непослушания. Как потом, в тягостное и страшное время, положившее конец Ленкиному детству со всеми его дурачествами, станут ближе в последние дни бабушкиной болезни, когда после операции её вернули из больницы обездвиженную, маленькую, с отечным неузнаваемым лицом – тогда дед неловко ставил ей уколы, подолгу оставался у её постели, и она снова называла его: «Володя…». …Высаживаясь возле дома из такси, Елена озадаченно оглядела подъезд с выщербленными ступенями крыльца, казавшийся меньше и ниже, чем был раньше, детскую площадку возле дома, заросшую сорной травой в пояс. Деревья близкого леса будто подступили ещё ближе, с любопытством присматриваясь к людям. Соседка, ответив на домофон, открыла дверь. Лестница была выглажена ступнями изо дня в день снующих вверх-вниз жильцов до скользких скатов – приходилось придерживаться за перила, неверно подрагивающие под рукой; зияющие подпалины на месте почтовых ящиков наблюдали за восхождением. Раньше всё это казалось таким домашним, теперь – таким унизительным. Эльвира Робертовна, - когда-то она преподавала у Елены сольфеджио и музыкальную литературу - по сей день легкая, изящная в запахнутом наподобие кимоно халатике, вышла навстречу. 22 Елена не застала квартиранта, открыв дверь ключом, который взяла у соседки. Привычно она прошла в свою спальню, положила вещи и вернулась в прихожую, замявшись перед входом в гостиную, ставшей комнатой для жильца. Там она заметила перемены в обстановке, но лишь небольшие: было много книг, часть из них стопками лежала на письменном столе, часть – на полу у кровати. Двумя пальцами она с любопытством приоткрыла чёрный мешок из плотного полиэтилена – оттуда пахнуло смешанным душком бензина, машинного масла и ношенной одежды, видимо, приготовленной для прачечной. Её удивило появление современной и, вероятно, дорогой музыкальной установки: колонки были рассредоточены по комнате; среди дисков в стопке на серванте некоторые были с музыкой первых российских рок-групп, а также - альбомы классической и хоровой музыки. Повертев в руках коробки с дисками, Елена аккуратно сложила их в прежнем порядке и, выходя, плотно закрыла дверь в комнату, испытывая неловкость оттого, что потревожила покой чужих вещей, хранящих тепло хозяина. 5 Утром Елена шла на остановку, где автобус разворачивался, чтобы заново пуститься по маршруту, если только не направлялся до кладбища в Стеклово – иногда именно оно становилось конечной остановкой. В воскресные дни народ с цветами для тех, кого ехал проведать, во время стоянки заглядывал в двери и спрашивал у шофёра: «До Стеклова идёт?». Так по весне Елена с бабкой отправлялись на недавнюю могилу отца: собирали в мешок банку свежей краски, кисти, тряпичные перчатки – и на конечную до Стеклова, обновлять ограду, наводить порядок. Теперь же автобус направлялся в город: загодя выстроившаяся очередь плотно заполняла салон, и даже у очень крупной сердитой дамы, которая каждый раз занимала одно и то же место, предназначавшееся «для инвалидов и матерей с детьми», - благо в это жаркое время развоза на службу ни те, ни другие не рисковали сунуться в транспорт, и место с молчаливого согласия пассажиров оставалось за ней, - даже у этой дамы спросонья припухшее лицо казалось по-детски обиженным и беззащитным. После перебранки и утрамбовки людей в салоне автобус задорно фыркнул и покатил. 23 Каждый поворот, каждая исчезающая за углом дома или уходящая в лес тропинка готовы были напомнить свою историю. Из окна Елена смотрела на ускользающие дома, деревья, коробку футбольного, а зимой – хоккейного поля, на спуске к которому заливали пологую ровную гору и катались на заскорузлых от мороза листах картона так, что ветер свистел в ушах. Случалось им с Ларионовым забираться на запретные территории: Саня вольно бегал с утра до вечера по окрестностям, не зная препон; Елене же дозволялось гулять «до мостика», не дальше. Если на одном краю посёлка из покрытой цвелью заводи речка выбиралась еле-еле, то уже на другом, подгоняемая студёными ключами, весело перекатывалась по камням под уклон в низину, где были разбиты огороды с дощатыми постройками для хозяйской утвари. Здесь через неё и был перекинут мост. Однако настоящими хозяевами тут были чёрные псы Козьей ножки - согбенной старушки в бесформенных одеждах, чьи козы паслись по всей лощине, и огромные собаки охраняли их, при появлении незнакомцев поднимая жуткий лай и принимаясь сновать туда-сюда, по одной линии, боком, боком, не прекращая рычания и зубовного скрежета. Если остальные огородники хотя бы в зимнее время обретались в теплых квартирах в посёлке, то серый ветхий сарай был домом для хозяйки чёрных псов. Иной раз заваливало его снегом по самую крышу и, казалось, прямо из гигантского сугроба торчала чёрная труба, коптившая жидким дымком. Говорили, Козья ножка прихрамывала потому, что свои же собаки напали на неё однажды. Когда на школьной перемене, беспечно болтаясь вверх тормашками на турнике, Ларионов заявил приятелям, что проникнет в это гиблое место и в качестве трофея предъявит клюку Козьей ножки, Елена решила, что ослышалась. Ни за что бы она не согласилась участвовать в этой затее, если бы знала, в чём заключалась «гениальная идея», на которой базировался план Ларионова – речь шла о захвате заложника, а именно: одной козы из стада с помощью приспособления Робинзона Крузо; эту цепочку, позаимствованную, видимо, из чьего-то клозета, с прикреплёнными с обоих концов гирьками, Ларионов продемонстрировал Елене на подступах к неприятелю. Пощипывая траву, козы иногда забредали в осиновую рощицу неподалёку от моста, которого дети старались держаться ближе: мост был той гранью, какую собаки, как выяснилось после неудачных попыток захватить одну из коз, преодолеть не могли – видно, были этому обучены. В ходе операции пришлось разделиться. Пока Елена с отломанной осиновой 24 ветвью в руках, отвлекая собак, бегала вдоль противоположного берега речки, Ларионов метнул под ноги ближней козе самодельное лассо, угодившее в глухой кустарник, но не растерялся: ухватил её, чёрную и костлявую, и потянул за собой. Отчаянно вереща, животное рвалось из цепких рук Ларионова. Собаки тут же сиганули к ним, но Сашка, словно прилипнув к козьим рогам стиснутыми пальцами, кричал с перепугу, только вот козу не выпускал. Елена промчалась по мосту со своей веткой наперевес и, кинув её в сторону надрывающихся от лая собак, ухватилась за друга; треснула ткань рубашки, оставаясь у неё в руках. «Отпусти, дуралей!» кричала она, хватая его за ремень брюк и пятясь назад. Коза истошно блеяла, сучила ногами и пыталась крутить головой. «Да что же это такое!» услышали они. Через рощицу бежала, припадая на ногу, щуплая старушка в длинном, с мужского плеча, плаще. -Вы чего, пионеры, вовсе сбрендили? То в огород кидают чем ни попадя, то над животиной издеваются… -Это не мы… не только мы! - хрипло ревел Ларионов, который сумел, наконец, разжать руки. Псы побежали прочь, сгоняя испуганное стадо. Сашка шумно дышал, пускал носом пузыри и до сих пор держал растопыренными дрожащие пальцы. -Идём, - потянула его за собой Елена. – Извините нас. -А клюки-то и нет никакой, - вытирая рукавом лицо, сказал Ларионов. Женщина в плаще посмотрела озадаченно, поправила сбившийся платок на голове. -Вот что, пойдём-ка, дам вам молока козьего. Не бойтесь уже, что ли. К собакам лезть не боятся, а меня чудом-юдом сделали. Дом Козьей Ножки, снаружи ветхий и неопрятный, внутри был чистым и светлым, с крепкой мебелью и начищенной кухонной утварью – правда, только самой необходимой. Пока из эмалированного ведра она разливала в банки белое, остро пахнущее молоко, они осмотрелись. Сашка вдруг толкнул Елену, молча указывая на фотографию, прикрепленную к зеркалу у входа: это был групповой снимок военных лет, и одна женщина из трёх в верхнем ряду была вполне узнаваема: то же лицо с круглыми щеками и острым подбородком, брови – ровными полукружьями, только глаза другие: веселые и блестящие. 25 -Это вы, бабусь? – тихо спросил Ларионов ещё сиплым после пережитого голосом. -Я. -Лейтенант, да? Тут не видно… -Старшина. Мотострелковых войск. Разговорились понемногу, так началась их дружба – недолгая, правда. Узнали, что воевала Прасковья Семёновна до самой победы, а пресловутая хромота – последствие ранения. В своём сарайчике с козами и собаками оказалась, после смерти мужа оставив жильё в поселке: «сын и дочь разменяли квартиру, живут в тесноте», – рассказывала она. И зря, как оказалось. Потому что в ходе очередной операции выследив местонахождение родственников Прасковьи Семёновны, Ларионов раскокал несколько окон в принадлежавших им квартирах. «Это несправедливо – с матерью так поступить», - оправдывался он, когда при встрече Прасковья честила их на пару с Еленой на чём свет стоит. «Гляди, соплёй перешибешь, а уже умный, - ворчала Козья Ножка. – Справедливость – пусть будет для праведных. Не жалую я справедливость. Мы родителей не смогли от справедливости этой уберечь… А родители в то время – детей своих… Мне справедливость ни к чему. Мы пожили, когда слёзно и трудно, когда весело и хорошо, – пусть дети поживут». Со временем о том, что за отношения связывали Елену и Ларионова на самом деле, в посёлке стали ходить небылицы несмотря на то, что Елена ото всех подозрений на этот счёт открещивалась и даже пыталась выдумать какое-то запутанное родство, в которое, конечно же, никто не верил. Если случалось, что она отвечала взаимностью на чью-то симпатию, Ларионов терпел, но недолго. Выходило так, что незадачливый ухажёр отступался сам, а на синяк под глазом или на то, что с некоторых пор он стороной обходит не столько Елену, сколько прозорливого Ларионова, никто старался внимания не обращать. Бывало, что и Елену разбирали подозрения – больно уж Ларионов был целомудрен для своей грубоватой прямой натуры. Иногда до неё доносились слухи об историях, якобы даже о разбитых Ларионовым сердцах, при этом его рыцарская преданность ей тешила самолюбие, и ей нравилось изображать 26 из себя эдакую «собаку на сене», игнорируя завистливые взгляды возможных соперниц. В феврале ездили в город на премьеру нашумевшей ленты: фильма катастрофы о любви, где на протяжении нескольких часов на экране тонул легендарный лайнер, пока смерть не разлучала влюбленных. Елена вышла из кинозала в состоянии озарения, с потусторонним взглядом. Ларионов стал искать, где купить сигареты, и она слепо шагала за ним по расползающимся на льдистом асфальте пятнам отражённых фонарей. Когда ехали обратно, подпрыгивая на высоких сиденьях автобуса, - всегда забирались на те, что над колесами, - Елена, покосившись на него, сказала мечтательно: -Вот какой должна быть любовь. Все-поглоща-ющей. -И сия пучина поглотила его, - угрюмо пробормотал Ларионов. – Мыльная фигня. -Но ведь так было! – возмутилась она. -Вообще-то снято неплохо, - согласился он миролюбиво. -Нету вещей, способных тебя потрясти. -Не надо меня трясти, ты скажи – я и так всё сделаю, - широко улыбнулся он. Заканчивалось школьное время – впереди были выпускные экзамены и поступление в институт. Елена призадумалась. Разве не унизительна ограниченность сюжетов, имеющихся у судьбы, которая знает для их дружбы, по сути, два исхода: остаться вместе для настоящей, исчерпывающей близости, или расстаться, чтобы пойти дальше порознь? Это потом стало ясно, что все попытки найти лазейки или пробраться окольными путями оборачиваются более полным и окончательным торжеством провидения… Может быть, из противоречия, может быть, из давнего желания всё лучшее присвоить и сберечь в душе, припрятать в памяти, может быть, из настойчивой потребности испытать собственные чувства, - а скорее по причине того-другого-третьего,- она решила сделать тот самый шаг навстречу, которого безотчетно боялись оба. -Я скоро уеду, ты знаешь?- сказала Елена однажды, когда остановились у крыльца подъезда, где после её ухода он обычно дожидался, пока в окне слева не загорался свет, и она не приникала к стеклу, сплющивая нос и 27 сложенными у висков ладонями выкрадывая остров темноты, в которой могла его разглядеть. Но в этот раз она не торопилась. – Иди ко мне, позвала Елена. «Я скоро уеду, поехали вместе», - услышал он. И тоже шагнул, не сомневаясь. Утром Елена смотрела, пока он неторопливо закуривал, босиком стоя и покачиваясь на пороге в дверях балкона, и солнце с улицы зажигало прежнюю золотую краску в его потемневших русых волосах. Он выпускал наружу дым и поворачивался, рассказывая о своих наблюдениях: о том, как прытко поутру поселковый люд устремляется к магазину… Вот этот шрам под ключицей – память о давнем поединке: когда-то со стекловскими мальчишками фехтовали железными прутьями, увлеклись и чуть не покалечили друг друга… Она знала каждое следующее движение и угадала момент, когда он замолчал и, помедлив, обернулся: в его взгляде была неловкая усмешка - зависимая и вместе с тем признающая эту зависимость. В это блаженно тёплое, солнечное утро в небе над тихим, звенящим птичьими голосами посёлком легчайшей взвесью крошились насыщенные мягким светом облака, и не хотелось думать о неминуемой осени, о сиплой песне ветра и шуме дождя, когда мокрые бурые листья на дорожках напоминают мёртвых рыб, а с голых ветвей то и дело срывается россыпь холодной влаги. Туманный пасмурный день незаметно поглощается синими сумерками, и непроглядная темень вокруг воцаряется на добрую половину суток до тех пор, пока не выпадет снег. В такие вечера они всегда старались быть вместе, но она знала, что где-то есть и другие вечера, даже такой промозглой осенней порой, и ей хотелось их увидеть. Елена помнила стыд и обиду, когда накануне отъезда, в ответ на её попытки сгладить, заговорить ужас перед собственной жестокостью, - что не отменяло упрямой уверенности в правоте совершаемого, - Ларионов выпалил сгоряча: -Мне утешения были ни к чему, зря старалась!.. Пожалев об этом гневе как о слабости и не желая плохо расставаться, на другой день он понуро отправился к ней пешком, напрямик со своего Стеклова, не зная, что в это время от автобусной остановки поворачивает к его дому Елена… У ворот ей встретилась девчушка - щуплая, кареглазая, 28 она смотрела строго и выжидательно: так, что Елена не смогла не замедлить шаг. -Вы к Сашке? -Да. А что? Ты видела его? Она вдруг вспомнила: про эту девчушку Ларионов рассказывал что-то уморительно смешное, вроде как странное имя… ах да, звали её Люба, и фамилия её была Сплошная. «Вот уж назвали родители так назвали», веселились они как-то, когда на улице, в компании других детей, им на глаза попалась эта пигалица, которая в тот момент оставила игру и провожала их тем же долгим пытливым взглядом. -А, - улыбнулась Елена. – Тебя Люба зовут? -Сплошная Любовь, - уточнила девочка, и её слова прозвучали неожиданно веско, во всяком случае, смешными не показались. - Сашка ушёл и будет завтра. Он ушёл на рыбалку, далеко. Я видела, как он и Севка тащили к речке лодку. -Что ж, спасибо, - сказала Елена. Во дворе залаяла дворняга, но никто не вышел из дома. Так, разминувшись, они не виделись с тех пор. Теперь ей казалось, что очень многое зависит оттого, найдёт ли она Ларионова, какой будет эта встреча, что они скажут друг другу. «Я расскажу ему всю правду, - думала, торопилась она. – И я всё пойму… С ним рядом всегда всё было понятно». В чём заключалась эта правда – она не знала, и желание встречи было отчасти желанием узнать, понять эту самую правду. Ведь это был первый человек, с которым она начала разговаривать обо всём, что по-настоящему трогало её. И, проговаривая вслух свои мысли, находила отзыв: не всегда тот, который её устраивал, но этого и не нужно было! – она открывала для себя новую способность безболезненного, и даже приятного соприкосновения с миром. По правде говоря, для неё всегда сложнее обстояло дело с тем, как выбраться из пресловутой кроличьей норы, чем – как в неё попасть. Бывало, ещё до того, как он хотела произнести чтолибо, он угадывал её мысли и отвечал на непрозвучавший вопрос; Елена замирала, думая, как это у него получается, - и хотела уже спросить чтонибудь нарочно, чтобы он ответил невпопад, но Ларионов, щурясь от удовольствия, угадывал снова, Елена злилась – он хохотал. 29 Может быть потому, продолжая гораздо позже эти беседы в воображении, попросту болтая по душевной необходимости с вымышленным собеседником, она привычно видела на его месте Ларионова, пусть не всегда мудрого, но обычно чуткого друга. Так, получалось, что расстояния, возникшего между ними после её отъезда, она не чувствовала в той степени, в которой ощутил он. Для него её отъезд стал предательством, крахом: оглоушенный, он приходил в себя молчаливо, терпеливо, с верой в то, что всё заканчивается рано или поздно – закончится и эта боль. Это она поняла значительно позже, даже не поняла – приняла как знание вместе с теми переменами, которые наступили в собственной душе… А пока она вспоминала эти разговоры и продолжала их в воображении, не замечая, что, как и прежде, слышит только себя. 6 Первыми клиентами в тот день были белая с коричневыми ушами собачка породы папильон – теперь он за ширмой беззлобно потявкивал на попугаев, - и персидская кошка, томная дива, которую нужно было подготовить к выставке: этим занялись Елена с Лютиковым. Неторопливыми и точными движениями Вадик проделывал все манипуляции: со специальной пудрой прочёсывал длинную шерсть, деликатно чистил глаза, нос и уши, подпиливал когти… Елена привычной мягкой хваткой придерживала животное – кошка уже оставила слабые попытки улизнуть с места экзекуции и молча терпела, продолжая искоса ощупывать взглядом ситуацию. И Елене почему-то подумалось, что с тем же выражением лица человека, спокойно углубленного в своё дело, Лютиков выполнял бы любую работу, которой бы ему пришлось заняться: может быть, возился с саженцами, или лечил зубы, если бы умел, или разучивал новую пьесу, как он это делал, будучи пианистом и руководителем группы молодых музыкантов, общими силами создавшими независимый камерный оркестр. Она вдруг вспомнила слова матери, когда у них как-то случился разговор на тему «куда пойти учиться», о том, что и «лирики» бывают толковыми, так же, как и «физики» - безрассудными: мол, форма тут не определяет содержание. 30 Мимо зала прошли работники со стремянкой – продолжался ремонт в будущем кабинете для ветеринара. «Никакой оранжереи с птицами, - просила Елена. – Всё необходимое, кафель, застекленные шкафы». -До десяти вечера всё расписано, - сетовал Вадик, после работы аккуратно раскладывая щётки по местам. – Пока я доберусь до своего Выхина – пора будет обратно ехать. -Из Выхина ездишь? – ахнула Елена. -На Камергерский ещё не заработал, - улыбнулся тот. -Да я теперь сама пилю за сорок кэмэ – из посёлка. -Колоритный посёлок? -Ага. Добавил контрастов в мою жизнь, - призналась Елена. -Это хорошо… А музыку в твоем посёлке любят? Мы бы приехали, поиграли. -Да ты что, про вас говорят – вы в Европе с концертами бываете, какой там… Ты представляешь себе – поселок за МКАДом, места дремучие. -Если ты не против – я заеду как-нибудь, гляну. Есть у меня свой интерес, я на гонорары не рассчитываю… в этом случае. -Опыты ставить будешь, что ли? Не думаю, что найдутся ценители, сразу говорю. -Заинтриговала, - решил Вадик. Но отвлёкся на хозяйку папильона: с дробным цокотом каблучков она спешила за своим питомцем, протягивая к нему руки с яркими ногтями на растопыренных пальцах: -Пуся! Манюнечка моя дорогая… Вы видели красавишну? Нереальная прелесть. Мы теперь от солнышка оденем нашу модную панамку… - девица, зажав пса под мышкой, продела собачьи уши сквозь отверстия в розовой шляпке с блестящей пряжкой и, по пути щедро всем улыбаясь, пошла к выходу. - ««Вот оно какое, Подмосковье!" - сказала блондинка, спустившись в метро...», - пробормотал Вадик, стоя с полотенцем в руках у раковины напротив окна, за стеклом которого барышня с собачкой юркнула в громоздкую машину. Елена невольно подошла ближе: так и есть, за рулём был Корягин собственной персоной. 31 -Ну и вкус у вас, Лютиков, - сказала она ревниво. – Стыдитесь. Вечером она возвращалась в посёлок. Автобус бежал в потёмках по хорошо знакомой дороге, где стояла пара тусклых фонарей на километр. На подъезде к институту Времени дорога делала поворот столь крутой, что, не зная о нём, – запросто можно было вылететь в лес; и даже те, кто знал, вылетали, особенно в осеннюю слякоть или зимнюю гололедицу. 7 Когда по возвращении Елена зашла в квартиру, ей показалось, что навстречу непременно кто-то выйдет. Нечто носилось в воздухе: недавнее движение, рассеянное тепло, тревожный запах… неопределимо. Она шагнула в комнату – а ведь дверца шкафа не была приоткрыта, и стопка книг переместилась на другой край столешницы… или кажется ей? Она заглянула в кухню – безразличная тишина. Вернулась – песок скрипел под подошвами резиновых тапок на вымытом с вечера полу. Поелозила снова шлепанцем: так и есть, кто-то топтался в обуви, пару раз прошёлся тудасюда. Надо было оставить записку квартиранту… Но что ж, не видел он её сумку в прихожей? вещей в ванной комнате? Значит, к ночи вернётся. Этим вечером Елена договорилась встретиться с бывшей одноклассницей Гордейкиной. Асфальтированной дорожкой через перелесок, там и сям оживлённый муждусобойчиком вокруг пня на поляне, она вышла к дому Марины. Хотелось повидаться - впервые за эти несколько лет. И между делом, если повезёт, услышать что-нибудь о Ларионове. Открыл дверь высокий детина со сдобренным жирком мускулистым торсом, на котором повисла застиранная майка. Это был муж, имени она не помнила. -О! здорово, - он по-свойски ощупал её взглядом, кинул сумку на полку с обувью и приоткрыл дверь справа, сотрясающуюся под чьим-то напором. -Место! – услышала Елена непривычный бас маленькой Гордейкиной. -Заходи, - позвал муж, - а то выскочат в коридор и обратно фиг загонишь… 32 Она вытянулась у двери, невольно распластав руки – к ним тянулись две или три, а на какой-то жуткий миг ей показалось, что, возможно, и пять, и десять гладких собачьих морд, жарко дышащих, блистающих глазами. Собаки нетерпеливо перебирали лапами, их когти гремели по голому полу. -Фу! – орала Гордейкина. – Здравствуй, моя хорошая, - она потянулась за поцелуем поверх собачьих голов. Несколькими тычками муж отвадил собак, и те, после пары минут визгливой сумятицы, улеглись за диваном. Их было две на самом деле – редкой красоты, какой-то редкой породы, ещё молодых, подрагивающих всем телом от переизбытка силы, радости движения и множества других эмоций. Пока они выпивали и закусывали, - Гордейкина заранее тесно уставила стол разной снедью, - собаки взглядывали, улыбаясь, и отводили глаза, будто им было неловко за бестактность жующих в их присутствии людей. У Гордейкиной в запасе было множество историй о тех, кто был «роднёй по юности» – всё больше несчастливых, но попадались и весёлые. Неприятной была одинаковость этих судеб, а через какое-то время уже и слух резало: этот, пьяный, угорел; тот, напившись, утонул; а эта, хоть с двумя детьми, не просыхает – и муж туда же. Зато Светка Золотарёва вышла замуж за австралийца, Людка – за канадца, а вот Танька-манекенщица, бестолочь, хоть и отработала пару сезонов в Париже, а выскочила за местного барыгу, всё мясо на базарах по округе – его, и гоняет он её теперь и в хвост, и в гриву: люди видели, что бегает она зимой по посёлку с разбитой губой и в дарёной шубе в пол, а под нею – голая… Елена и надеялась на упоминание о Ларионове, и боялась его. Потом сама спросила – Гордейкина кивнула: мол, поняла, не дура. - Не видела, Лена, его. Говорили, что уехал учиться и, вроде бы, даже работать заграницу. А другие говорили, что и он бухает. Это они, может быть, так, за компанию его в свои ряды зачислили. Но самого не видела – не знаю. Зачем он тебе, Лен? В семье у него всегда было неладно. Да ну, путо и есть путо. -Мы дружили… -Да понятно всё. Дружили. Ты лучше расскажи: как ты? Чего приехала? «И правда, - подумала Елена. – Зачем?» 33 -Хочу пока у себя пожить, - сказала коротко. – Жилищный вопрос. -Ну ясно, - Гордейкина рассеянно разглядывала её лицо. «Дочитывает между строк», - с усмешкой подумала Елена. Снова оказавшись в прихожей, она заметила странный мерцающий свет, льющийся из полуоткрытой двери в конце коридора. -Батя бродит… Когда-нибудь дом спалит, - ворчливо пояснил муж Гордейкиной. -Что, пьёт? – шёпотом спросила Елена. -Да лампады палит сутками напролёт… Спасается!.. Из кухни, с обёрнутой полотенцем кастрюлькой в руках, показался седой мужчина в фартуке. В комнате собаки сорвались с места; ухнула дверь, за которой лязгал остервенелый лай. -Я когда-нидь дверь-то не прикрою!.. - крикнул муж Гордейкиной вслед отцу, рысью пробежавшему мимо и скрывшемуся за дверями комнаты, где теплился слабый свет. Квартирант не появился и вечером, а невольное ожидание прогнало сон. Елена села на подоконнике; в свете фонаря выступающие из мрака деревья казались частью по-домашнему мирного пейзажа, и не хотелось думать о тёмных глубинах, полных своей таинственной жизнью. В своих ранних сновидениях она увлеченно фланировала по окрестностям посёлка и помнила, например, как, углубившись в лес за магазином на горке, набрела на поляну, где увидела людей в лёгких одеждах: кто-то из них переговаривался между собой, где-то слышался детский смех; светлые силуэты виднелись за деревьями, различимые в синем мраке. Казалось, их было очень много, она пробовала заговорить – её не слышали, но порой она ловила на себе чей-то взгляд, насмешливый или равнодушный… Они исчезали постепенно: устремлялись вверх россыпью бледных звёзд, запутавшихся в частых стволах, что прочертили подобные прутьям линии на картинке её сновидения. Елена почти не удивилась, узнав, что несколькими годами раньше в том самом месте рухнул самолёт, недавно покинувший столичный аэродром. Поляну, которую она видела во сне и узнала потом наяву, они с Сашей 34 Ларионовым не преминули обследовать: было жутковато, но нестерпимо любопытно найти что-нибудь, оставшееся от катастрофы. Ничего они не нашли и, конечно же, никого не видели… Долго потом отголоски этого сна тревожили её, приводили тяжкие мысли, новые мучительные сны. Жить было просто, естественно, радостно; смерть казалась ошибкой, по чьему-то злому умыслу закравшейся в уравнение, с тех самых пор неумолимо стремящегося к нулю… Как часто ей снилось, что в дверях, только что распахнутых ею, поспешившей на звонок, стоит отец – с извиняющейся, немного смущенной улыбкой: мол, ошибка, брат… а вы думали, что меня потеряли?.. Он входил в дом - крепкий, подвижный, и она помнила запах кожаной куртки, плотно сидевшей на его мускулистых покатых плечах, и обветренное лицо, всё в едва различимых русых веснушках, смешливые умные глаза, седеющие виски… Конечно, ошибка! С радостным облегчением она поднимала от подушки голову… В комнате было пусто – так пусто, как никогда не бывало раньше, - отчётливо клацал механизм часов на стенке, и - ничего, кроме чувства присутствия близкого человека, шлейф которого ощущался до сих пор, когда растерянному спросонья взгляду явлена лишь пустая комната и приоткрытая дверь в тихий коридор. 8 Воскресным днём Елена решила проехаться «до конечной», в Стеклово. Она хотела бы ощутить «светлую грусть», сидя возле могил деда, отца и бабки Алевтины, но только обида почему-то щекотала нос, подтягивая за собой на подножку одиночества гнусавую семейку: жалость к собственной особе и даже упрёк – вы там, мол, все вместе, а я тут, как перст, одна… И смех, и грех. Потом, повзрослев, она думала, что незадавшиеся, а порой и трагические судьбы родни стали частью её силы, а не слабости; её гордости, а не стыда. Она спиной своей, позвоночником чувствовала несколькими поколениями накопленный опыт сопротивления многим горестям и печалям… Кроме сострадания трагической гибели отца, неожиданной болезни и ранней смерти бабушки, унизительному сумасшествию деда, в недавней прошлом – летчика и красавца, - кроме сострадания пришла 35 благодарность за их жизнь, за их любовь к ней, живую ещё в этом мире и, не иначе как продолженную там, за его переделами. На обратном пути от кладбища к автобусной остановке она невольно приглядывалась к чахлому пейзажу: скучному полю, перечерченному высоковольтной линией, кустарнику вдоль дороги, бревенчатым домам – серым, потемневшим, всё глубже врастающим в землю, где-то – по самые мутные оконца, полузавешанные узорчатым тюлем, с геранькой на рассохшемся подоконнике. На поленнице у забора лазали, играли пропыленные насквозь котята. Всё это виделось отчётливо, как если выйти на улицу после долгой болезни – осознавая каждый момент жизни вокруг и жизни в себе… Быстро же всё сглаживается, притупляется, становится само собой разумеющимся. Прежде старая церковь, оштукатуренная и покрашенная в тёмнозелёный цвет, лишенная креста, но не маковки, выглядела диковато среди деревенских домов – словно перекочевала из восточных земель, из сказки о Маленьком Муке, незадачливом страннике. Службы тогда шли в крохотной часовне, пристроенной с тыла. Крест вернули, стены забелили, и церквушка ожила, заблаговестила колоколенка в роще крепких высоких берез. На пыльной площади из автобуса высаживались люди. Подойдя к остановке, она невольно обернулась вслед проскочившему мимо мотоциклисту: он свернул на тропу, ведущую к храму. Под деревьями оставив мотоцикл, быстрым размашистым шагом направился к крыльцу, поднялся по ступеням, приостановился… Автобус, исходя зловонным дымком, ожидал, пока новая порция пассажиров заберётся в салон. Парень, сутулясь, ступил за порог церкви, и Лена, укорачивая путь, сбежала с пригорка, быстро пошла, уверенная в своей догадке. Несколько минут она наблюдала за ним, как он привычно склонялся к иконам, ставил свечи, крестился скупым и точным движением: в колеблющемся теплом свете выступали скулы, темнели глаза, тени ложились на сильную, напряженную шею. В этом худощавом, коротко стриженом человеке в кожаной куртке и высоких ботах Елена узнала своего квартиранта. Выйдя в простенок между дверями храма, она стала дожидаться возле киоска с церковной утварью. Вскоре он прошел мимо, совсем рядом – и она стушевалась, настолько был он выше ростом, чем казался, да и веяло от него чем-то тревожным, небезопасным. С сомнением вспомнив слова матери: 36 «Приличный такой молодой человек, тихий, вежливый… уехал из города, от суеты», она вышла следом: -Извините… Не останавливаясь, он шёл к мотоциклу. -Стойте, пожалуйста! – волнуясь, она лихорадочно вспоминала имя. – Коля! Да как же тебя… Костя! Когда она подбежала, он уже надевал шлем. -Что вы кричите как на базаре? – спросил, неприязненно глядя. -Да я – хозяйка квартиры, где вы не появляетесь, между прочим, с неделю уже. -Неужели? А что это вы делаете в арендованной мной квартире? Пропадут вещи, к примеру, с кого потом спрашивать будем? Не догадываетесь? -Перестаньте. У меня так сложились обстоятельства. Нужно поговорить… расторгнуть… Мне жить негде, - переводя дыхание, сказала она. -Ого, - глаза в прорези шлема сузились. – Ну, садитесь, поехали в нашу квартиру… разбираться в обстоятельствах. Я там уже был сегодня, видел ваши корзины-картонки. Вид транспорта не смущает? Спешно и неловко усаживаясь на мотоцикл, Елена озиралась в поисках чего-либо, за что можно уцепиться на скорости. Костя смотрел через плечо на эту возню, потом завёл за спину руку и, без лишних церемоний поймав её ладонь, прижал к своему боку. -Держись давай, хозяйка, пока я добрый. Мотоцикл задрожал под ней, словно от дробного смеха, весело тронулся, покатили. Дома они быстро пришли к соглашению, что пока не найдут для Кости новое жильё, вполне могут соседствовать в двухкомнатной квартире, тем более, что жилец отсутствовал часто, да и всё это время довольствовался лишь гостиной – так удобнее было: всё под рукой. «Я бы на кухне жил, сказал Костя на полном серьёзе. - Но там звук убитый получается, акустики нет». 37 Он сварил крепкий кофе, и они разговаривали, сидя в комнате на полу, на диванных подушках, поставив чашки на низкий столик перед собой. Здесь теснились - правда, в довольно строгом, каком-то геометрическом порядке книги, ноутбук, журналы на автомобильную тематику, теперь вот – их чашки с дымящимся кофе. Елена спросила, сколько он собирается оставаться в посёлке, на самом деле внутренне задаваясь вопросом: каким ветром его сюда принесло? Костя неопределённо пожимал плечами, взглядывал на неё, морща лоб, словно раздумывая, о чём именно можно этому человеку поведать? и, главное, о чём не стоит. -Но ведь рано или поздно ты уедешь отсюда? – спрашивала Елена. Домой, в город, он твёрдо решил не возвращаться, хотя был уверен на этот раз, что кошмару последних лет не повториться: конец тягостному бессилию перед всякого калибра «дурью» - вплоть до чистого «герыча», возражений не терпящего… Это он понял, пока мотоцикл мчал его из города, огибая машины в постепенно редеющем потоке, когда ощупывал взглядом встречные указатели, а внутри нечто настойчиво требовало: «прочь, прочь»… Через несколько десятков километров увидел поперечную трассе дорогу, уводящую в лес, взглянул на указатель: «Ломоносово», свернул. На ночной дискотеке в местном клубе, где в чёрном многолюдном зале зеркальный шар, лениво вращаясь, разбрасывал брызги света, хрипела музыка и под ногами катались порожние бутылки, он познакомился с девушкой – бухгалтером, не только влюбчивой, но и великодушной, как выяснилось потом. Она помогла найти недорогое и приличное жильё, представившись хозяевам квартиры его невестой, и хотя отношения не заладились – до сей поры по-приятельски опекала его. Также легко нашлась работа в шиномонтажной мастерской у таджиков – мигрантов, процветающих за счёт постоянной клиентуры: жителей коттеджей, облепивших бывшую помещичью усадьбу на возвышенности. В свою очередь, Елена не ожидала, что так легко расскажет этому человеку обо всём, что за последнее время с ней приключилось. А он, выслушав, промолчит, не рассуждая, верно ли она поступила или, напротив, была не права – и это будет именно то, что нужно. Всё, что было, вдруг отдалилось, пустопорожние размышления растворились в наступившей после её рассказа тишине. 38 Эта небывалая откровенность, которую они взяли как единственно возможный тон общения друг с другом, была свойственна Косте. Потом Елена зачастую в мыслях возвращалась к этим разговорам: в такой вызывающей искренности было отчаянное стремление быть собой, страх изменить себе в чём-либо, и всё же страх… ощущение из-под ног ускользающей почвы, по которой нужно было ступать, чтобы жить среди людей. Если бы раньше Елена услышала, что кто-нибудь рассуждает на подобные темы так свободно, то сочла бы того человека позёром, в лучшем случае – чудаком. Но была у Кости такая способность, а вернее – потребность безобидную поначалу беседу накалить, взвинтить до предела, до той остроты, когда она-таки начинала представлять для него интерес. Совсем немного она встречала людей, способных с искренностью, со всей прямотой отдаваться общению; часто – в ущерб себе, с риском вызвать чувства самые противоречивые. И если даже в безобидной болтовне наедине с собой она порой не могла раскрыться, примеряя маски, увиливая от саморазоблачений, то Костя стремился к беспощадной точности, к тому, чтобы передать мысли со всей ясностью – пусть сиюминутной, иначе говоря, такой, какими врасплох застал эти мысли случившийся разговор. Так, до темноты не включая дома свет, проводили они эти вечера. Початая бутыль красного вина и несколько яблок на подоконнике. Негромко звучала музыка: чаще, чем остальное - «Зима» Вивальди. Эту музыку и то, как он слушал, она запомнила. Она видела сбоку его лицо – напряженное, болезненно сосредоточенное, сопереживающее некой тайной муке, которую и Елена слышала в этой музыке, тревожной и пронзительной, ведомой дрожащими голосами скрипок, чья интонация была то просительной и увещевающей, то обличительной и гневной. Сомнение, сопротивление природы приближению гибельного сна разрешалось уверенным, минорно-трагическим торжеством неотвратимого итога. И такая нежная жалоба в завершение, пронизанная надеждой на воскрешение жизни… Тогда, глядя на него, она подумала о боли, о напряжении всех чувств, о бесстрашии, схожем с отчаянием, которые испытывал, должно быть, творец этой музыки. Испытывал ли он страдание или счастье – во всем была мука души, спешащей высказаться, излиться, дозваться. Он слушал, слышал так: за всем стоял некто бесконечно одинокий, преодолевший немоту силой страдания, о котором он что-то знал. 39 Рассказывал Костя быстро и тихо, иногда даже трудно было уловить слова. …-Был у меня друг, жили в соседних домах – помню, как он в армию уходил, весело провожали. Так, срочником, и попал в Карабах. Я-то через пару лет в универ поступил, историю изучать… Он тоже изучал: сначала в Карабахе, потом – в Чечне. В Чечню уже пошел добровольно, в составе внутренних войск. В армии-то всё понятно, а здесь думаешь одно, видишь другое, а делать приходится третье. Многие тогда, попав на войну, оставались на ней до конца – войны или собственного… Только вот Рустамчик там на мине подорвался, ноги отняли. А здесь что? дела нет никому ни до чего, боли фантомные, лекарства дорогие. Он на гитаре играл неплохо, стал в электричках, переходах петь. И я, бывало, шёл с ним – стыдно было за своё благополучие, без дураков… правды хотелось… В этих людях – в нём, в тех, кто приблудился к нему на вокзалах, полустанках, - видел правду. Злоба разбирала… А наркота – дело такое. Под неё философию подвести – раз плюнуть. Ну, вроде как «живи быстро – умри молодым», вроде как общество человека подминает, а при этом хватает цинизма вести рекламные компании о здоровом образе жизни; снабжает дешевой аптечной наркотой, на этом лапу греет, а по телеку трубят: «Выбери жизнь»... Выбери ипотечные платежи и стиральные машины, выбери новые автомобили, выбери сидение на софе перед ящиком, жуй хрустяшку и отгадывай викторины. Выбери смерть в собственной постели под присмотром эгоистичных, бестолковых ублюдков, которых ты породил на свет. Выбери жизнь… А то, что я эту бодягу отвергаю, они воспринимают как намек на то, что сами сделали неверный выбор. Так я думал тогда. …-Сейчас много таких, чей лозунг: "Торчал, торчу и буду торчать!». Так и я залипал. Когда перекумаривался – неприятно мне было, знаешь, странное такое удовлетворение в глазах Рустамчика, будто я какую его правоту подтвердил. Вроде как - помочь не смог, так хоть судьбу разделил эту неприкаянную… а ведь это значило самому пропадать. Вот как было. Но, видно, я гордым оказался: всегда, как бы ни мутил, словно со стороны себя видел и презирал, и знакомцев своих стал презирать. По ту сторону баррикад очутился, где быть не хотел; раньше жалел, протестовал – теперь осуждал: и чалдонов этих, и себя, слабость свою. Нету там правды. Свинство сплошное. …-Завязывал сам. Мать пыталась класть в больничку – только там не лечат никого, хорошо, если крепче не подсадят. Там свой дербан: поставка, сбыт – всё налажено. В лучшем случае: прокапают – и свободен. 40 …-Прибежал ко мне как-то раз пацанёнок, с нашего двора или соседнего… Нарики с одной округи все друг друга знают. Спрашивает - как быть? Зависали в каморе какой-то, там я и увидел этого кукушонка, с обглоданными до колен ногами. Замотали ему малолетки ноги целлофановыми пакетами, а под ними… Много чего видел, но такого… Не встречал раньше тех, кто сидел на коаксиле. На нём долго и не просидишь. Его в аптеке можно было купить даже детям – продавали без рецепта, зато оборот какой – хлеще, чем у героиновых барыг. Ну, они таблетки разбодяжат – и по вене. Отвезли мальца в больничку, там ему отпилили, что от ног осталось. Вот и всё. Та же война. - Я видела тебя в церкви… - Что, странно меня там видеть после того, что я порассказал? - Да нет, скорее, закономерно. - Так и есть. Я – мрачный тип. Я не могу в дерьме быть позитивным. Не могу уйти в себя, захлопнуть дверь и в таком уютном безразличии отмотать мне данный срок… Я эти буддистские мульки не хаваю: эдакая сказочная дорожка сквозь тернистый лес, топает себе человечек, глазки долу - и все знают, что закончится всё хорошо... Нет, здесь мне ближе наше, кровное пускай помучается человечек, а потом «добро пожаловать»… -А что, мучаться обязательно? -Ага. Вот встаю утром и думаю, над каким несовершенством мира сегодня помучаться… Присылаю долю в общий котёл - для мировой гармонии. Тут даже не о поступке идёт речь порой… Поступок – само собой, конечно. Только что у нас за поступки? Скоро в хрестоматии для нравственного назидания включат рассказы типа: «Как я пропустил пешехода» или «Как я отговорил ребят поджечь бомжа». В Костиных словах многое привлекало, многое отталкивало. Мысли Елены редко шли дальше общепринятого, общедоступного. За ним же чувствовалось некое право толковать эти вещи так, а не иначе - право, данное мрачной и гордой волей человека, живыми клетками напитавшего свою правду, далёкую от умозрительных истин, которые, как готовое платье, примеряли те или другие, выбирали по вкусу, как это делала она сама. Так складывался человек, и с него не снимешь, как с деревянной чурки, парудругую годичных колец. Человек отважился на путь, по которому идёт, не 41 кривя душой, не торгуясь – посильным ли он окажется. Может быть, потому есть за ним право на горькое слово? …-Бог человека создал, а тому оказалось – мало. Ему дали веру, дали надежду на жизнь вечную, на спасение. Так нет – подавай здесь, теперь, всё сразу. Пусть отдаст тот, кто имеет, а не отдаст – отымем. Мы сильные – у нас бомбы, техника всякая… Правда, падает иногда, или взрывается объевшимися наркотой шизоидами, калечит тех, кто ни сном - ни духом… кто тащит в норку свою травинку, жуёт её там потиху. Сами ведь сделали всё, своими руками, и причём потом «слеза ребёнка»!?.. «Как же ты, Господи, допускаешь?». А что он поделать-то может? Только что разнести всю эту халабуду однажды – и я его пойму при этом, может, и спасибо скажу. Сейчас каждый это прочухал, и на одном страхе всё держится. Но только мы не Бога боимся – мы самих себя боимся! По сравнению с тем, что мы сами можем друг с другом сотворить, Богу место в песочнице: построил, тяпнул лопаткой – и снова, глядишь, есть простор для творчества. У нас подругому… мы друг над другом издеваемся вдохновенно, с наслаждением.… Разве же мы отличаем добро от зла? То ли яблоки были хреновые, то ли на всех не хватило. По-любому, какой-то перекос. …-Что такое смерть для человека? Строгий поводок, колючая проволока под напряжением, смирительная рубашка. На минуту представь, что было бы, развяжи любому из нас руки – такие, знаешь ли, бессмертные руки, безнаказанные руки… Жить человеку трудно: справляться с собственным телом, мириться с неудобствами, голодом, холодом, страхом за близкое существо, - внутри него, бывает, всё вопит: да на кой ляд тебе это сдалось? Ради двух-трёх удовольствий – любви к родным, любви к женщине или мужчине, ради солнышка-травки, книжки-фильма… немало, но и здесь же сплошь нестыковки. У меня вот: отец бухает, мать рада была радёшенька, когда я свалил к дребеням, девушка растворилась в офисном планктоне, вышла замуж за клерка – и верно сделала, спаслась! мы – почти друзья. Когда невмоготу, я прихожу клянчить деньги. Вот и получается: умирать – страшно, а жить – унизительно. Но страшно тому, кто не понимает, в чём фишка. Что смерти нет, а есть черта, нарисованная мелом, как для муравьев… Вот нарисуй муравьям черту – и они её не переступят. -И ты не переступишь, - убеждённо сказала Елена. Костя, видимо, неверно расценил эту интонацию - убеждённости - в её голосе. И вдруг выпалил не без вызова: 42 -Ну, ступать-то не обязательно, можно пересечь… на скорости! Зажав рукояти воображаемого руля, он накренился, издавая утробный звук, схожий с ревом разгоняющегося мотоцикла. Вялый электрический свет в комнате стал меркнуть, словно кто-то прикрутил фитиль, полумрак сгустился до темноты. Она сморгнула, веки судорожно и сладко сжались, как у человека, томимого бессоницей. Она увидела нечто внизу – в цветных лоскутах, стремительно увеличивающееся. Синева, обступающая её, яркая, пронизанная солнцем синева будто бы поддерживала тело, властно утягиваемое вниз. Чувство полёта сменилось ощущением падения. Снизу равнодушно смотрела земля; ничего не менялось в её равномерно дышащем, шелестящем благостном покрове. Он близился, готовый поглотить. Она вздрогнула, с усилием разомкнула глаза, услышала собственное тяжкое дыхание. Костя молча, с интересом, смотрел на неё. -Даже если ты прав, - тихо сказала она, - не нужна мне такая правда. Он усмехнулся и кивнул, будто бы соглашаясь. Что она могла сделать? Чем помочь? К этим вопросам Елена привыкла. Она помнила, что когда погиб отец, ей хотелось знать, что произошло, ей хотелось говорить об этом, хотя было всё предельно ясно: техническая неисправность, не раскрылся парашют – не цветы выращивал, был парашютистом-испытателем, сыном военного лётчика… Но горе запечатывало рты – в том числе, и ей, несмышлёной ещё, болтливой, но отчаянно жалевшей всех, кто вместе с ней осиротел: мать, Алевтину, деда… Эти вопросы кружили над ними, молчаливыми в то время, опустившими руки, поникшими, оглушёнными этими «что можно было сделать?», «как уберечь?». Томясь неясной тревогой, Елена, честно говоря, вздохнула с облегчением, когда Костя нашёл жильё на соседней улице и съехал. Иногда они созванивались, и каждый раз странное ощущение пустоты и безотчётное чувство вины, собственного бессилия оставалось у неё после разговора. Елена звонила реже, первым Костя не звонил никогда. Покружив по опустевшей квартире, она поняла, что уже не в силах справляться с безотчётным беспокойством, которое и погнало её на новые поиски по прежнему пути: Елена помнила, где жил Саня Ларионов, и решила разыскать этот дом. 43 9 С одной стороны, был страх услышать плохую новость, с другой – была уверенность, что все эти истории понапрасну растраченных судеб, о которых принято сокрушаться и которые редко трогают по-настоящему, - не про него, не про Саньку Ларионова. Среди заметно обветшавших стекловских домов этот был выкрашен свежей синей краской, крыт новой кровлей и окружен крепким забором. В глубине сада виднелся сруб из светлого кругляка – видимо, пристроили баню. Кто-то копошился в огороде, двое мальчишек выскочили из приоткрытых ворот, когда Елена подходила к дому. Удивлённо обернувшись, она услышала несущийся им вслед окрик на нездешнем языке, вошла и направилась к женщине, на самом угреве склонившейся над грядами. Выяснилось, что половину дома у Ларионовых снимает большая таджикская семья. А сын с матерью живут на другой половине, вход на которую - с обратной стороны дома, через веранду. -Сын – Сашка? – нетерпеливо спросила Елена. -Не Сашкя, - покачала головой женщина. – Другой сын. Участок земли с другой стороны дома устилала плотно росшая, не полотая клубника. На веранде по лавкам валялась какая-то ветошь; клонился на бок хромоногий стол, крытый заскорузлой клеенкой; из щелей лопнувшего дерматина на двери выбивались лохмы утеплителя. На стук быстро открыли – перед Еленой стоял светловолосый парень, в котором она не сразу признала Севу Ларионова, младшего брата. Он нетвёрдо, словно нехотя, стоял, опираясь на выставленную ногу и придерживаясь за притолоку, вяло смотрел голубыми глазами из-под бледных век и был похож на тряпичного паяца, набитого ватой, лишенного каркаса и какого-либо выражения плоской физиономии. При этом черты лица у него были удивительно правильными, и внутренняя невыразительность даже наделяла это лицо особым шармом: вероятно, парень слыл местным Казановой. Сева взглянул мимо неё - за спину, потом – на боковую дорожку возле дома. «Ждёт кого-то», - догадалась Елена. -Здрасьте, - сказал он. - А вы кто такая будете? -Ты меня тоже не узнал, Сева? 44 Он состроил многозначительную гримасу – вроде «да что вы, как я мог» и посторонился, пропуская её. -Сева, расскажи мне, пожалуйста, что с Сашей? Где он? – спросила Елена, едва войдя в комнату. -Да не части, пройди, пройди, Лен. Садись вон… куда-нибудь. В неприбранной комнате стоял затхлый запах, несмотря на то, что окна с обеих сторон были открыты в сад – недавно, должно быть. Елена осторожно села на край дивана, застеленного лоснящимся в свете дня покрывалом. -Расскажи мне, - просила она, держа на коленях сомкнутые руки и не давая воли раздражению, закипавшему под этим снисходительным мутным взглядом. -Нечего рассказывать, - сказал Сева. – Уехал он сразу после тебя - в Питер, выучился на компьютерщика… как их там называть-то… и уехал в Штаты работать. Вот и всё. Женился вроде. Не знаю… Звонит иногда, интересуется: живы мы здесь ещё или как. Надо же, такая тяжесть и такое облегчение – оттого, что всё благополучно, как она и предполагала, и ничто не мешает ему жить полно и деятельно… а что она думала, в самом деле? Значит, осознавала, что может разрушить вдребезги, сделать что-то непоправимое, зная его хорошо, зная его душу? И делала по-своему, «гни свою линию», закон жизни, закон джунглей. Он справился, выстоял, вероятно, стал сильнее. И что же? Неужели разочарование? Куда ты хотела вернуться, Елена? в точку отсчёта? Застать его страдающим, утешить? наградить собой? Гадость. Не думать об этом… Так и есть. Она не думала о нём: ни тогда, ни теперь. А вот он о ней – думал. Воистину, дай женщине волю поступать так, как она считает нужным – и она вовек тебе этого не простит. У калитки Елена разминулась с парнем, шедшим к дому: угловатые движения, капюшон чёрной мастерки на голове. Таджичка тоже смотрела ему вслед с кислым выражением осуждения и гадливости. -Э-э, этот - плохой брат, другой – хороший, - вдруг сказала она, словно бы и не к Елене обращаясь. -А вы знаете другого? 45 - Знаю, почему не знаю. У него дом большой, хороший, на горе за церковь, детки, жена хороший. А этот брат больной, и мать больной. Сашкя им помогает, но все бестолку, куда только деньги деют? Им фрукты даем, овощь даём, деньги за дом даём, а они такими словами говорят, что стыдно слушать их. Баре без штанов. Глу-упые люди, лени-ивые, ничего не ценят. Она быстро оглянулась на дом, махнула рукой и снова пошла к грядкам. -Вы ничего не путаете? – спросила Елена, но та ещё раз махнула рукой, не оборачиваясь. Елена знала, что не путает – почувствовала. 10 После окончания питерского ЛЭТИ, факультета компьютерных технологий и информатики, Саню Ларионова забрала к себе нижегородская компания: представительство известной международной корпорации. Многие знакомые, знавшие его в школьные годы озороватым и не особенно прилежным парнишкой, были удивлены: престижный ВУЗ, откуда знания? да и не так близко от дома – куда понесло? Как ни странно, в школе именно точные науки давались Ларионову легче всего, и компьютером он заинтересовался рано, благо повезло с учителем: Воробышком Евгением Евсеичем, маленьким, вёртким, сметливым - полностью со своей фамильей созвучным. Тот заметил, что алгоритмы, логарифмы, системы счисления, гипертекст – весь этот кошмар гуманитария был для парня настолько своей стихией, что считался им занимательной зарядкой для ума, чем-то вроде шахмат, программку игры в которые он составил в выпускных классах, опять же для собственного досуга. Евсеич нашёл в Сане собрата по увлечению и вдохновенно разбирал с ним заковыристые задачки, пока Елена перед поступлением усиленно штудировала биологию и химию. После отъезда Елены перепробовав множество анестезирующих способов, Ларионов отверг тяжёлый физический труд: поначалу вместо вступительных экзаменов пошёл на стройку каменщиком; но работа шла, а голова была пуста, и в ней ворочались беспощадные мысли; отверг и лёгкие деньги, постояв вышибалой возле комплекса отдыха - ресторана и сауны: пары мордобоев хватило, чтобы выплеснуть ядовитую желчь, и стало скучно. 46 Тогда он поменял свой домашний старенький комп на более совершенный и продолжил ковыряться, составляя простенькие программы, воплощая некоторые свои догадки по поводу возможностей умной машины, но уже с целью приобретения профессии, которая прочно завладеет его помыслами и устремлениями. Время учёбы в университете только укрепило Ларионова в его выборе. Когда известная компания шерстила по крупным ВУЗам в поисках специалистов, Саня поучаствовал в конкурсе и в итоге получил контракт на работу в представительстве. Через год предложили поработать в американском городе Санта-Клара над совместным проектом, он дал согласие и отправился домой «на побывку» - повидаться с родными и друзьями. В Штаты он уехал: вся поездка запомнилась единым рабочим днём. За серой перегородкой, у окна стоял его стол; по дороге на квартиру он заходил в китайскую закусочную, брал свои коробки с ужином и съедал их содержимое на пути от входной двери до постели. Он купил хороший фотоаппарат и в воскресные дни гулял по окрестностям, прицеливаясь то к одному, то к другому любопытному эпизоду. Пожалуй, всё. Так могло бы длиться сколь угодно долго, но через пол года Ларионов собрался домой: из посёлка оповестили, что Люба - смешная соседская девчонка, с которой он заново познакомился спустя годы на дне рождения приятеля, - уже заметно беременна, вестимо – от кого, но боится, вероятно, навязать себя и будущего ребёнка Ларионову… «Ты совсем, да? С катушек съехал? – говорил ему Гена Пахтин, какимто образом добравшийся в Штаты из Абакана. – Ну вообще… О таком шансе люди мечтают. Тяни её сюда, бабу твою, пусть здесь рожает. Семьям молодых талантливых специалистов препятствовать не станут. Чего ты головой мотаешь, как баран?». – «Не хочу, - смущённо объяснял Ларионов. – Скучно». – «Ну ты дибелоид! А там что весёлого?..» - «Там все мои – всех-то я не перевезу… Дом с баней поставлю». – «Пролетарий ты недоделанный: дом поставлю, в колхоз пойду… Здесь ставь – здесь работа. А там что?». Но Ларионов упёрся, попросил расчёт у нанимателей, - а так как числился стажёром, то и проблем особенных не возникло, - и с рюкзаком за спиной покатил обратно. Так и вышло, как хотел: женился на Сплошной Любе – у сотрудницы ЗАГСа округлились глаза, когда читала имя-фамилию перед похихикивающими и покашливающими гостями. Невеста живота не стеснялась и отплясывала на свадьбе, отмахиваясь от замечаний Ларионова: «Ребенка оставь в покое… Вытрясешь мне сейчас парня… Девчонки, уймите 47 вашу подругу!». Денег у него скопилось порядком, так как за время работы не успевал тратить – самой крупной покупкой за весь период был обратный билет из Америки (билет «туда» оплачивала компания). Так что начал строить дом и за полтора года управился. Идея наладить работу на расстоянии, сообщаясь с заказчиком через интернет, давно бродила в сознании Ларионова. Таким образом он подрабатывал во время учёбы, но понимал, что одно дело – сорвать заказдругой в качестве приработка, а другое – поставить на поток; волком, которого, как известно, ноги кормят, шерстить по сайтам для фрилансеров; быть готовым на любую срочную работу от постоянного работодателя, чтобы не прерывать сотрудничества. Бывало, вылезал со своего «чердака», как называл кабинет в мансарде, глубоким вечером, а звонкам друзей, весело собирающих законную пятничную попойку, велел жене давать отбой. Писал софт, вёл контекстные рекламные компании, занимался поисковой оптимизацией, созданием сайтов, завёл сеть специалистов от дизайнеров до контент-менеджеров и копирайтеров. Утром он вышел в кухню, достал из холодильника кувшин с компотом, стал пить – и через окно увидел Илюшку, раскопавшего между грядами с зеленью ров, который теперь наполнял водой из огородной лейки. -Сына, ты что делаешь? – открыв створку окна, Ларионов высунулся наружу. -Плотину. -М-м. А Катя где? -Дрыхнет ещё. Он поставил на место кувшин и, в салфетку завернув пару холодных котлет и горбушку хлеба, вышел во двор. -Пойдём, что ли? -В лес? – Илья встал навстречу, деловито отряхнул коленки. -В лес, в поле – куда хочешь. Только маме свистнем, что ушли. Одним движением они поднесли ко рту подковкой сложенные пальцы, большой и мизинец закладывая между губами. У Ларионова-старшего свист получился острый, короткий, который так нравился младшему – тот выдал слабый сиплый звук, однако с отцовским независимым выражением лица и всей позы встретил маму, чья встрёпанная голова всплыла в верхнем окошке: 48 -Мы - гулять!.. На свист также отозвалась овчарка, привезённая соседомтаможенником с пограничного питомника, – рыжая с чёрными подпалинами, по имени Дульсинея, или Дуня в домашнем обиходе. Илья хлопнул по ноге, как обычно делал отец, призывая собаку. Дуня заволновалась, поскуливая, перебирая лапами, но зад от земли пока не отрывая. Ларионов обернулся, тихо сказал: «Вперёд», и овчарка, забуксовав на миг задними лапами, ринулась с места. Вместе вышли за ворота и по грунтовой дороге направились к просёлочной, ведущей к лесу. Навстречу выплыл луг, по рослым травам которого ветер катил шёлковую волну, и движение это продолжилось в душе. Углубились в лес, где сухой шелест осинника слышался по сторонам, и под ногой мягко пружинил бархатный мох, изумрудный на солнце. На прогалинах, нагретых солнцем, тесно кружили пчёлы над цветами зверобоя и вереска, кипрея и лютика. Он протянул руку в сторону, чтобы мальчик пригляделся, понял, не растревожил пчёл. Разглядев землянику в траве, Илюшка громко говорил: «О!», и в этом возгласе были удивление и удовлетворение; он прицеливался и осторожными пальцами медленно обрывал ягоды, протягивал отцу, чтобы тот к его удовольствию собрал их с ладони губами со звуком и жадностью пылесоса… В глухих местах огибая бурый сухой ельник, они нашли широкую тропу и шли теперь под нежно-зелёным сводом из листвы тонких и высоких берез, которые склонялись друг к другу, образуя живую арку. Иногда Илья останавливался, проверяя носком ботинка, нет ли сыроежек в стелющейся вдоль колеи овсянице. Дульсинея трусила впереди, оборачивалась время от времени, улыбаясь и свешивая длинный влажный язык. Деревья становились реже, ниже, над головами разливалась ясная синева неба – вот и подлесок, где было у них заветное место: тут, в лещине, к осени созревали орехи. Теперь они были ещё зелеными, с мягкой скорлупой и травянистой на вкус мякотью. Лес всё редел, виднелся уже серебристый тальник, поблёскивающий у заливного озерца в пойме речки. Здесь на берегу лежала коряга, одним концом нависающая над водой. Илья взобрался на неё, уверенно дошёл до середины и для забавы сделал ещё несколько несмелых шагов, пока бревно не начало подрагивать, балансируя. Не дожидаясь, пока оно нырнет в речную заводь, Ларионов подхватил сына 49 под мышки и поставил на землю, вручил хлеб с котлетой для перекуса. Дуня, якобы отвернувшись, всем видом изобразила отчаяние - поделились и с ней. Так они молча сидели на берегу и жевали, глядя на пучки водорослей, клубящихся в быстрой воде… Вчерашнее утро было другим. Едва позавтракав, поспорили с женой: та звала Ларионова на юг, на морское побережье. -Хочешь – поезжай, - великодушно предложил он, надеясь налегке «проехать» эту тему. -Что значит «поезжай»? А ты? Работать ты сможешь и там, можно выбрать отель с крытым бассейном, с кондиционером в номере, если тебя пугает солнце… -Меня пугает совместное поглощение пищи как минимум дважды в день бок о бок с неизвестными мне и, возможно, неприятными людьми. А также лежание рядом с ними голым и беззащитным… И необходимость общения меня тоже пугает. -…возможность общения, Саша! Мы сидим тут, как сычи… -Я думал, нам хорошо, как никому. Ты хочешь встречи с большим миром? Я пригляжу за детьми. Она помолчала. Молчание было укоризненным. -Ты несовременный, Ларионов. Люди колесят по миру, публикуют фотографии в социальных сетях, ну и прочее… -Мне и так хорошо. -А мне? -И тебе хорошо. И ты знаешь об этом. И мотаешь мне нервы ради острых ощущений. Когда дети будут старше, мы сможем на машине поехать по европам, останавливаться там-сям… это ещё - куда ни шло (при условии, что я буду работать, а не кататься по югам). Но от столовки к пляжу и обратно – это мера наказания, а не отдых. -Но это полезно для детей. -Детям полезно в трусах бегать под солнцем, чем они здесь и занимаются днями напролет. 50 -Я поеду на море. Не хочешь ты – поеду с мамой. -Аллилуйя! А после полудня, когда он встал из-за стола, чтобы по обыкновению трижды сбежать вниз по лестнице и подняться обратно, дабы кровь не застаивалась в мозгах и чреслах, внизу увидел брата Севу, томно прислонившегося к дверному косяку с банкой пива в руках. -Здорово, младшенький. Видно, ветер был попутный и, судя по всему, неслабый. Как там родовые плантации? Плодоносят? -Ничего, дают стране угля. Клубники принёс вам… на кухне вон! Попёрла, ты знаешь, клубника в этом году… попёрла так попёрла. Саш, поди-ка сюда… -А чего мать не пришла? – спросил Саша, пока шагали к беседке. -Захворала она, Сань, немного. -Ничего, развяжусь слегка с работой – всех вас вылечу… в один присест. -Вылечишь, Сань. По развязному и, вместе с тем, заинтересованному выражению братней физиономии, голубоглазой и приторно-смазливой, он понял, что Севка пришёл не порожняком, а с козырем в рукаве, но хвастать им не торопится, зная, что брат непременно заведет речь о том, как допекла уже их с матерью круговая порука: мать отказывалась жить в семье старшего сына, сетуя на бедовость младшего, Севка в свою очередь каждый раз обещал приглядеть за матерью – на деле же оба они потворствовали друг другу, и этот развесёлый тандем, обслуживаемый расторопными таджиками, озадачивал Ларионова. Он не желал становиться врагом близким людям, но был не в состоянии махнуть рукой на эти, белыми нитками шитые, объяснения. И как только Ларионов, гася обречённые интонации в голосе, подступился к привычной теме, брат перебил: -Да погоди ты! Знаешь, кто приходил к нам?.. Ларионов прямо взглянул ему в глаза, мыльное выражение которых сменилось выражением скабрезного азарта. Он понял. -Ленка, - продолжал брат. – Спрашивала о тебе долго и настойчиво. Я не сдал – кто знает, чего ждать от неё? Любка явно не обрадуется. 51 В полуденной жаре даже кузнечики стихли, только пара капустниц петляла над грядами. На соседнем участке, где мужики с утра гремели досками и лязгали кровельным железом, настилая крышу, тоже затихло, и слышался звон посуды - на террасе, наверное, - шум воды и кряхтенье: кто-то плескался, обдавался водой на дворе. -А может, нужно было сказать? Так и так, царица наша троянская, приходи погляди: дом – полная чаша! Зря вы нами побрезговали… -Рот закрой, Сева. Ты всё? Закончил? Я тебя услышал… -Будешь встречаться с ней? – жадно спросил брат. -От любопытства кошка сдохла. -Да, - глубокомысленно протянул Сева, поднимаясь из-за стола, - имеем – не храним, а потерявши – плачем. -Ну чего ты гонишь, в самом деле? – вспылил Ларионов.- Кто плачет? Она плачет? Не про неё это. Что ты понимаешь вообще… Что она говорила? Но брат, повернув лицо затем, чтобы видна была понимающая ухмылка, кривившая его рот, уже шёл к воротам пружинистой неверной походкой – точь в точь отец, когда, бывало, тот под окликами матери уходил со двора, косясь через плечо: чуть что готовый припустить мелким бесом, если мать вдруг бросится вдогонку. …-Ты нервничаешь? – спросил Илья, устремляя на отца тревожный взгляд круглых карих глаз. – Не переживай, я попрошу маму, и мы возьмём тебя на море. -Что значит «возьмём»? -Ну, я спросил вчера: поедем ли мы? Она говорит – поедем, только папу не возьмём. Но ты не расстраивайся. Мы с Катькой попросим, и ты поедешь с нами. -И ты, Брут, - Ларионов пальцем нажал на поднятый к нему козырёк маленькой синей кепки, потом поддел её с головы сына и, размахнувшись, закинул в траву: - Да что же это такое… Вы же шапками закидаете! За кепкой тут же припустила овчарка, Ларионов кинулся наперегонки, сделал бросок и, валясь в траву, всё же вытянул над собой руку с зажатой в ней шапкой. 52 -Пап, ну ты чего, как маленький? Дурачишься, да? – Илья тоже поднялся и теперь топал следом, как обычно – неторопливо и деловито. – Ну вот, кидает тут… сейчас Дуня обслюнявит… Когда они возвращались, солнце уже поднялось над деревьями, но с этой стороны лес ещё лежал в тени, зато луг на его фоне будто светился изнутри, каждой трепещущей метёлкой мятлика, каждой пронизанной солнцем травинкой. Ларионов оборачивался – глаз не уставал впитывать эту красоту, изумляться каждодневному чуду, и снова шагал следом за своими, домой. 11 Деревья вокруг были высоки, их крепкие стволы звонко долбили шустрые маленькие дятлы. На ветру гудели проволокой металлические шесты для знамён, укрепленные в бетонных основаниях. Когда-то в праздничные дни на них поднимали разноцветные флаги, их легкий плеск был виден издалека и напоминал о теплом ветре, лете, близости каникул… Поляна, где расположился летний театр, заросла высоким папоротником и лопухом. Навес в виде ракушки над сценой обветшал, покосился и снаружи был изрисован граффити. Скамьи заменяли бетонные полукружья, уже порядком вросшие в землю, большую часть досок из сидений повыдергали, оставшиеся рассохлись в щепы, крашенные некогда зелёной краской. Лютиков озадаченно осматривал эти руины. -Хорошо,- наконец сказал он. Елена взглянула на него с недоумением. -Да, это будет хорошо смотреться на афише концертов по Европе. Помнишь, я говорил тебе: нас пригласили в Дрезден, Вену и Лион? Подвязались к толковому менеджеру, он организовал для нас гастроли. Попросил «изюма», чего-то нашего, колоритного, программа интересная – классика и авангард. Шопен и Шнитке, Брамс и Стравинский. И мне нужны персонажи для съёмки – самые обыкновенные местные люди, которые ни сном ни духом об этом знать не будут… Пусть придут послушать музыку. Мы честно отыграем. У меня тут есть пачка плакатов с нашим анонсом, надо определиться с датой, временем, наклеим поверху и налепим по поселку, по всяким экзотическим местам – возле гаражей, на плешке, у булдырей всяких… -А почему такой… странный образ? 53 -А какой есть, - Лютиков пожал плечами. – Я же не устраиваю постановочные съемки. Позовем людей на концерт, денег не возьмём. Что не так? Или фотографы, чьи снимки матерей с убитыми детьми на руках побеждают на выставках, спрашивают позволения запечатлеть их образ? Кроме того, мне нужен символ возрождения – если человеку не чуждо искусство, не всё так плохо для него, для всех нас. Концерт для струнного квартета и фортепиано назначили на пятничный вечер, была тихая и тёплая погода, в просвете между деревьями разливалось солнце, которому ещё далеко было до заката, но уже наскучил долгий путь от края неба до края, и теперь оно томилось, зависнув над речкой. Сцена была заранее выметена, сиденья кое-где - покрыты фанерой, а фиолетовый люпин, окруживший сцену по бокам, казался декорациями сказочного леса, полного цветущих трав и тайн. Подходя к Дому метролога, Елена замечала людей, которые направлялись туда же. В трикотажной кофточке и легкой юбке, постукивая каблуками, шагала буфетчица из магазина на горке – это была мать одной из одноклассниц Елены, в прошлом – проводница поездов дальнего следования, о ней говорили, что у неё было восемь мужей, причём официальных. Едва ли будучи поклонницей классической музыки, она была заметно взволнована неожиданным событием, которое подобно маленькому, но увесистому метеориту грянулось в их посёлке: именно на место происшествия она и торопилась теперь. Туда же, видно, следовала таджикская семья, все одного роста: муж с женой и трое мальчишек, гомонящим клубком катящихся перед ними. В красивом высоком старике, шагающем по другой стороне улицы, Елена узнала бывшего директора музыкальной школы – на нём был почти новый, даже щеголеватый костюм давнишнего покроя и шейный платок за воротом рубашки. К удивлению Елены, уже и перед сценой зрителей было немало. Лютиков привёз осветителя – тот поставил в глубине сцены пару софитов и теперь устраивал самый большой из них в проходе между скамьями. Здесь же она заметила фотографа: он с интересом присматривался к прибывающему люду, делал пробные снимки. Смущаясь и на всякий случай кивком головы здороваясь с каждым, кто попадал в поле зрения, Елена прошла ближе к середине – и неожиданно узнала в женщине, рядом с которой присмотрела 54 свободное место, свою учительницу, Полянскую Надежду Ивановну. Эта фамилия-имя-отчество запомнились теперь уже на всю жизнь, как «дважды два – четыре». Конечно, она выглядела и была гораздо старше, чем её помнила Елена, но что-то неуловимое в её облике осталось тем же и вызывало множество неожиданных чувств: теплоту, уважение, восхищение… добрых, прозрачных чувств и воспоминаний, от чего защекотало в носу, когда она заглянула в лицо Надежды Ивановны и булькнула: «Здравствуйте!». Рядом застрекотал фотоаппарат – фотограф делал снимки. Разглядывая тех, кто сидел в первых рядах, Елена заметила дворничиху бабу Маню – увидела не с прежним ужасом, а с удивлением, потому что не чаяла встретить наяву персонажа своих детских кошмаров и потому, что была бабуля, которой уже и лет не считано, по-прежнему весьма крепка и даже резва: выставляя вперед то одну сухонькую ножку в большом мужском ботинке, то другую и теребя полы вязаной кофты, оглядывалась по сторонам и прищуривалась на новые лица. Позже она видела эту афишу: Лютиков за фортепиано и струнный квартет в раковине сценической площадки среди романтичных зарослей люпина и папоротника, а на переднем плане - портреты случайных лиц в зале: здесь была и баба Маня, вопросительно поднявшая бровь, видимо, в ответ на какой-то затейливый пассаж музыкантов, и улыбчивые лица таджиков, и сосредоточенное, обрамленное волнами белоснежных волос лицо Надежды Ивановны… Были также лица, вовсе неожиданные для афиши такого толка: например, дяди Кузино раскисшая ряха с красными плутоватыми глазами. Возвращаясь из магазина, он удивился слаженному движению людей в направлении клуба, - когда в последний раз было такое! И в кадр попал со скупой слезой на печёной щеке и рукой, прижатой к сердцу поверх спрятанной за пазухой бутылки. Настороженным взглядом пустых глаз в объектив глядели из-за баррикады колясок с младенцами, показывающими розовые пятки, сдобные мамаши в спортивных костюмах. …«Дельный человек, этот Лютиков», - думала Елена, получая особое удовольствие от сочетания талантливого исполнения и тайного созерцания мимики, жестов, движений людей по соседству – такой она и досталась фотографу, запечатлевшему её строгий профиль с любопытным, широко распахнутым глазом. После концерта подошла Эльвира Робертовна. 55 -Леночка, я слышала, ты уезжать собираешься. У меня знакомые едут сюда, прицениваются к квартире – я им прежнюю цену называю, верно ведь? -Так ведь Костя приедет! – сказала Елена. – Пусть живёт, как жил, ему нравится наша квартира. Эльвира Робертовна посмотрела испуганно, поняв, что ей придётся быть печальным вестником: -Леночка… А ты не слышала? Разбился он вчера ночью, на повороте перед Институтом. Вылетел с дороги – и прямо в дерево, говорят. Я думала, ты знаешь. А-а, ну конечно, они по документам сразу к родителям обратились, наверное. Может, придут ещё… Я ведь потому и решила узнать у тебя, как быть. 12 Перед отъездом Елена перебирала вещи, раздумывая, что взять с собой. Аккуратную стопку Костиных книг так и оставила на столе, взяла только верхнюю мягкую книжку в клеенчатой обложке, хотела перелистать – оттуда выпорхнула страничка, вырванная из тетрадки, где чётким почерком, каждая буква, как печатная, на особицу, - было выписано: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И пришед находит его незанятым, выметенным и убранным; Тогда идет и берёт с собою семь других духов, злейших себя, и вошедши живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого». Неспешно наступал вечер, Елена сидела напротив окна, слепо глядя на мельтешение деревьев – ветер разыгрался, что ли… Только к ночи, когда уже всё кругом погрузилось в темноту, она встала, быстро закончила сборы и по телефону вызвала машину, намереваясь утренние часы скоротать на вокзале, а если повезёт – успеть на поезд. Однако в отпускное летнее время билетов не оказалось даже в общем вагоне, нужно было ждать, а ждать не хотелось. И нашёлся билет на автобус до Ялты. 56 …-Здравствуйте, сумку помочь закинуть? Искоса взглянув на незнакомца, Елена хотела поблагодарить, но смекнула, что потом доставать вещи сверху в одиночку будет неудобно и тяжело - поэтому не проще ли поставить под ноги?. -Не волнуйтесь, я сниму, когда понадобится, - сказал парень, отвечая на её мысли, и водрузил на полку сумку и свой плотно утрамбованный рюкзак. – Вы до Ялты едете? И, не дожидаясь ответа – только в глаза взглянув: -Я тоже. Это было похоже на забавную игру и её правила были Елене знакомы. «Простое совпадение, - подумала она. – Простое, но хорошее». -Не такое уж простое, - улыбнулся её сосед, тогда как лицо Елены невольно застыло, и только на разгоне фразы с трудом пробирающейся по проходу грузной женщины она уловила её окончание: - Казалось бы – простое дело: разместить багаж, и то не могут сделать как следует… …- Да, кстати, Алексей, - парень протянул ладонь, осторожно пожал её руку. - Елена! – быстро и излишне громко объявила она, опасаясь новых неожиданностей. - Нет, всё же Алексей, - сказал он, вроде как задумавшись на секунду. Елена отвернулась к окну, пряча улыбку. - Не смешно? Ладно, обещаю в следующий раз придумать что-нибудь получше… Нам тут нешуточно времени коротать. «Болтун», - подумала Елена. -Я не болтун, - запротестовал сосед. – Но когда смущаюсь, наступает обратная реакция. Обычный человек замыкается, а я вот весь перед вами – совершенно беззащитный… Вздрогнули, попятились серые здания; слоганы и вывески лавок и закусочных проследили призывным взглядом; муравьиный бег людей по тротуарам замедлился и безнадежно отстал. 57 Над уплывающим городом тусклое солнце висело в грязно-жёлтом смоге подступающих пожаров, лениво обгладывающих леса ближних земель, и кондиционер нового автобуса не спасал от едкого духа. У вокзала густое варево с искрами сварки чадило в огороженном полосатыми лентами провале; слух терзал лязг отбойника, перегуд машин, здесь несколько потоков сливались в один, и лоснящиеся туши внедорожников хладнокровным напором соперничали с угловатой прытью «жигулей». Город, полный многоголосого гула и подземного железного рокота, тяжёлой поступью двигался вспять – или же они, притормаживая и трогаясь с места, снова притормаживая и снова трогаясь, в тесном потоке машин покидали его… И так же, как теперь в полудрёме шорох шин оборачивался шелестом каменистого морского берега, также усталость и отчаяние уступали уверенности, что и сейчас, и каждый раз силы продолжить путь найдутся вновь, - так же верно, как неизбежная приливная волна, придут в своё время. 58