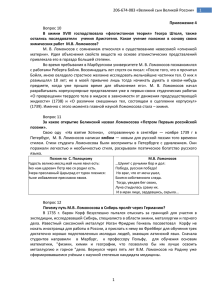(.doc) - Ломоносов 300 лет
advertisement

Сизова М.И. Михайло Ломоносов: Повесть. – М.: Молодая гвардия, 1954. – 373 с. Сизова М.И. Михайло Ломоносов О росс! О доблестный народ! Единственный, великодушный! По мышцам ты неутомимый, По духу ты непобедимый, По сердцу — прост, по чувству — добр, Ты в счастъи тих, в несчастъи бодр. Г.Р. Державин Часть первая В Архангельском порту Ненастный вечер заставил жителей Архангельска раньше обыкновенного зажечь огни. Слабые и дрожащие, они протянулись разорванной цепочкой вдоль его единственной большой улицы и временами заволакивались густым туманом. Холодный полунощник нагонял его с моря. Но рыбаки, входя в порт на тяжелых карбасах, радовались и этому слабому свету, издали указывая на него друг другу: — Гляди, Пахомыч! У тебя в избе светильню затеплили! Пахомыч, прикрывая глаза от ветра и от мелких брызг козырьком ладони, всматривается минуту в мерцающий огонек и решительно отвечает: — Не у меня то светится, а вовсе у Савватьича. — У Савватьича и есть! — поддерживает его дружный хор голосов, и усталые поморы, приближаясь к причалу, уже делятся друг с другом предположениями касательно Савватьича: говорят о том, что по случаю ненастья на его постоялом дворе народу будет мало, а тем, кому далеко до дому — так, пожалуй, можно и заночевать; говорят другие, что, напротив, мол, загонит непогода столько народу под его гостеприимный кров, что и поужинать не скоро дадут. Тем временем наполненный рыбой карбас подходит к самой пристани и звонкий голос кричит из тумана: — Эй, там, па сходнях! Прима-ай канат! Причалива-ай! Постоялый двор старого Савватьича стоял на главной улице Архангельска и был известен далеко за пределами города, являясь своего рода клубом и местом сборища самых различных людей. Выстроен был он прочно, внутри был просторен, и верхние горницы приспособлены для ночлега тех гостей, которые почище. «Старый Савватьич», несмотря на такое свое прозвище, был еще совсем не старым, но рано поседевшим, весьма крепким и бодрым, домовитым хозяином, который зорко следил за всем, что происходило вокруг, в нужные минуты только подмигивая проворной хозяйке. И кого только не бывало за столом старого Савватьича! Поморы и рыбаки, шкиперы и капитаны иностранных кораблей, пришлые механики, русские старообрядцы, голландские рабочие и норвежские скупщики сырого товара и просто жители Архангельска — все знали просторное крыльцо его дома и безошибочно находили его в самые темные ночи. Полунощник — северный ветер, дувший с утра, разгонял широкой струей дым, к запаху которого примешивался соблазнительный запах жареной трески. Хозяйка Савватьича вошла в общую комнату с пестрым фаянсовым блюдом в руках и кликнула мужа. Но так как его обычное место за стойкой было пусто, она оглядела все столики и увидала, что он сидит, беседуя с двумя гостями; по отдельным долетевшим до нее словам она сразу поняла, что рассказывает Савватьич гостям свою любимую историю о том, как приезжал в Архангельск царь Петр. Всегда с одинаковым волнением рассказывал Савватьич о том, как старался царь Петр до всего доходить сам, как любил он морское дело и какие большие надежды возлагал на Архангельский порт, и как однажды, спасаясь от непогоды, зашел царь Петр на его постоялый двор. – Дождь лил с него в три ручья, а он хоть бы што! — веселый был и вошел в дом смеясь: «Ну, — говорит, — где тут хозяин? Показывай свой дом, показывай свое устройство, как ты тут живешь!» Все осмотрел, во все горницы заглянул, а потом спросил можжевеловой водки – согреться, и, выпив, хлопнул меня по плечу и сказал: «Хороший у тебя дом, хозяин! И дело свое ты, я вижу, хорошо ведешь! Надобно, чтобы каждый свое дело крепко любил!» Да-а, не человек, а огонь царь наш Петр! — Такими словами заканчивал обыкновенно старый Савватьич свой рассказ. Историю эту хорошо знали все его гости, что не мешало им каждый раз выслушивать ее с интересом, а ему — рассказывать с удовольствием. После того как Савватьич окончил ее и отправился за стойку, где ждали его распоряжений по хозяйственной части, старший гость с длинной седой бородой обратился к крепкому и плечистому молодому помору в куртке из грубой кожи и такой же зюдвестке: — Что ж, Василий Дорофеич, второй раз нонче наведываемся, а Денисова все нет. Возгордился, видать, Илья Денисыч али запамятовал, что ждут его. Он говорил, сильно окая и неспешно. — Не может того статься, — решительно возразил Василий Дорофеич и, взглянув в окошко, громко сказал: — Прибыл! Новый гость быстро вошел в дверь и направился к стойке, здороваясь с хозяевами. Это был еще не старый человек, с быстрыми и решительными движениями, энергичным лицом, умными, проницательными глазами. Увидав его, Савватьич с поклоном пошел ему навстречу, а краснощекая девочка, помогавшая в доме по хозяйству, быстро схватила оловянную тарелку, намереваясь поставить ее перед новым гостем. Но хозяин удержал ее за руку, незаметно покачав головой: он помнил, что это был человек «старой веры» и не принимал еды из чужой посуды. За вошедшим старый слуга тащил дорожный поставец со своей утварью: — Илье Денисычу! — С приездом! Редко кто из архангельских жителей не знал Илью Денисовича. Он поздоровался со всеми и трижды, по старому обычаю, «поликовался» с ожидавшим его стариком. — Заждались, я чай, меня нонче? — приветливо спросил он усаживаясь в подставленное ему служанкой деревянное кресло. — Тут, неподалеку, у голландского мастера задержался. Сейчас все дела и решим. Ну как, Василий Дорофеич, зачнем уговор-от? — Зачнем. — Допрежь того кваску нашего отведайте. Слуга налил пенистым квасом три кружки, вынутые из поставца. – Ну-ко, и ты, Аким Петрович, отведай! — Денисов протянул кружку старому раскольнику. – Из морошки? – Из морошки, — кивнул Денисов и вынул бумагу для записей. Договорившись быстро о сроках доставки в Архангельск дерева и смолы, о ценах на рыбу, он обратился к старику: — Теперь, Аким Петрович, и с тобой потолкуем. Пошто меня видеть хотел? Сказывай. — Насчет книг я к твоей милости. — Аким Петрович тоже достал лист бумаги и протянул его Денисову. — У тебя в Выговской пустыни, говорят, от книг шкафы ломятся. Продай, какие можно, мы ничего не пожалеем. — А каких нужно? — Древлие книги надобны, Илья Денисыч, древлие. Наперво служебники, по коим службу старого чина правят, а после того и требники и жития. За ценой не постоим. — Насчет книг и я просить хотел, Илья Денисыч, — сказал смущенно Василий Дорофеич. — Ты с которых же пор-от грамотеем стал? — удивился Денисов. — Не грамотей я, Илья Денисыч, и как жил без грамоты, так и по сей день без нее живу. Да хозяйка моя, Алена Ивановна, книжку просила достать священного писания. Она у меня из звания духовного, Матигорского дьякона дочка. Ну, от него и научилась буквы разбирать. Может, говорит, вспомню да разберу кое-чего из писания-то. А мне грамота не нужная. — Вот и плохо, что не нужная-то, — укоризненно сказал Денисов. — Кабы ты грамотеем был, большим бы человеком стал! — Так когда же, Илья Денисыч, книги-то у тебя забрать? — спросил опять старик. Денисов откинулся в кресле и ласково, но твердо ответил: — Вот что, други, скажу я вам: книг древлего писания боле мы из пустыни давать никому не можем. А дабы книги сии и числе умножить, учинили мы с братом у себя мастерскую переписную. Там любую книгу заказывай, и по малом времени будет она тебе готовая. – Бери весь список, Илья Денисыч, заказываю все! Старый раскольник протянул Денисову листок бумаги. — А мне бы, Илья Денисыч, — вставил свое слово и Василий Дорофеич, — токмо библию жене подарить. — А иконы древлего благочестия где нам взять? — нетерпеливо перебил Аким Петрович. — А мы и иконописные мастерские с братом установили. — Да-а, — промолвил задумчиво Василий Дорофеич, — немало дел вы у себя с братом сотворили. Вечно должны за царя Петра Алексеевича бога молить. — И то сказать, как снял запрет со старопечатных книг да стали мы по ним службу править, так и пустыни стали расцветать, — добавил Аким Петрович. — То верно, дядя Аким, — Денисов нахмурил густые брови, — но и то возьми в толк, что сложил с нас государь двойной подушный оклад, тем и руки нам развязал. А они, гляди, в короткое время столько наработали. Насчет трудолюбия народ наш никто не обессудит, у нас на севере работу справляли не из-под плетки, а по доброй воле. Здесь народ спокон веков труд любил, а неволю не жаловал. Да и не знали мы ее, слава те боже, неволи-то. Дал бы господь еще годков пятнадцать потрудиться — и не узнаешь наш северный край. Теперь вот насчет постройки мостов придется с голландцами потолковать: они, слыхать, мосты возводить мастера, а в мореходстве и мы нонче не хуже других. Плавали мы тоже и до Груманта. Да што Грумант? Почитай, чуть не до самой Америки дошли. — Слыхать, горный завод становить хотите? — с любопытством спросил Василий Дорофеич. — Держим на уме. Да мастеров-то горного дела покудова не хватает, земля-то наша больно богата, много в ней скрыто всего. Немец тут один был — так тот на Повенец не поехал. Бился я с ним долго, а он ни в какую. — Ох, Илья Денисыч, — вздохнул старый раскольник, — неужели нам без иноземцев-то не справиться? — Мы и так немало трудов несем; кое-чему и у других народов поучиться не грех. На то нам государь Петр Алексеевич и порт наш Архангельский утвердил, что здесь всякого флота суда пристать могут и свой интерес иметь: профит, значит, по-ихнему. Они нам нужны, а мы — им. — Наживаются шибко на нас иноземцы-то! — жалобным голосом промолвил Аким Петрович. Ему ответил целый хор одобрительных и сочувствующих голосов: — Это что и говорить! На том стоят! — Погодите, други, — уверенно сказал Денисов, — скоро и в этом наш верх будет. Вот поглядите, на Баженинских верфях сейчас иноземных мастеров немало работает. А как подучатся наши, глядишь — и голландцев перешибут. Будет тогда у нас наш русский человек первым во всем. — Правильно говоришь, Илья Денисыч, — отозвался Василий Дорофеич. – Коли справлять все вместе, так и торговлю не хуже иноземцев превзойдем. Надлежит токмо друг за дружку держаться. Вот и мне — даром что маленький человек, а трудновато одному-то. – Ну, теперь тебе по малу времени и помощник будет, меньшой Ломоносов, — похлопал его по плечу Денисов. — Сыну-то сколько миновало? — Скоро год будет, — горделиво говорит Василий Дорофеич, и суровое лицо его озаряется улыбкой. — На него вся надежда. — А насчет того, что народ наш плетку не жалует, — усмехнулся дядя Аким, — это ты истинно сказал. Народ здесь вольнолюбив. Еще мальчишкой слыхал я, как у нас в старину мореходцы да кормщики друг дружку в обиду никакому начальству не давали. Бывало, как тронется лед, карбасы сготовят — и клятву дают за каждого стоять, не боясь ни тюрьмы, ни закона. Во как! — И верно. Ну, значит, за книгами по первопутку приезжайте к нам, поглядите на наше житье. — Давно хотел, Илья Денисыч, — радостно закивал старик, — жди нас с первым снегом. Ты как, Василий Дорофеич? — Приехать можно, — ответил Ломоносов и встал прощаясь. — Что так скоро? — удивился Денисов. Но Ломоносов протягивает свою широкую руку Денисову и, прощаясь с остальными, говорит: — Домой надо, в село. Давно не был. Как они там без меня-то, и не ведаю. Он глубже нахлобучивает зюдвестку и выходит в ненастную ночь, где все еще дует крепкий норд и где на темной воде у самого причала покачивается его карбас, вернувшийся из дальнего плавания. В домах уже не горели огни. Спали жители Архангельска. Но когда Ломоносов проходил мимо одного окошка, оттуда явственно донесся плач ребенка. Василий Дорофеич на минуту задержал шаги, и обветренное, суровое лицо его опять осветилось улыбкой, словно он вспомнил о чем-то очень ему дорогом. В крайней избе Метель бросила еще охапку снега в слюдяное окно. Декабрьский студеный ветер качнул ставень, прогремел железным болтом и протяжно загудел в трубе. Потом он взметнулся вверх, к облакам, и стал гнать их во все стороны, расчищая прогалины в ночном темносинем небе. Свежевыпавший снег быстро твердел, хрустко скрипя под валенками. Василий Дорофеич подошел к крайней избе и поднялся по крепким ступеням широкого крыльца. Хозяйской рукой он потрогал войлок у двери, хозяйским глазом окинул крыльцо и, взяв лопату, смахнул снег, набросанный первой вьюгой к самому порогу. Потом согнулся и вошел в дверь. В доме — тишина, теплота. На толстых бревнах просторной, крепко сложенной избы, колеблясь, мигают отсветы тусклых лампадок. В красном углу — огромный, с темными ликами святых киот. Свет жировой светильни падает на женскую руку, мелькающую над работой. Проскрипели в сенях половицы, стукнуло дверное кольцо. Хозяин не спеша переступил порог. Женщина встала со скамьи. — Вечерять будешь, Василий Дорофеич? — Нет, — сказал он, медленно снимая полушубок с широких плеч. — у соседа, у Дудина, повечерял. Заметель, слышь, шибко мела. — А сейчас будто стихла? — Стихла! Мороз забирает к ночи-то. Вызвездило — и тихо. Пора и на покой. Он прошел в темный угол, где висела подвешенная к потолку большая люлька, и, раздвинув занавески, заглянул в нее. — Спит? — шепнул ом. — Спит. Отец наклонился ниже. — Смотри, Алена Ивановна, во все глаза глядит! Алена Ивановна подошла к колыбели. — И то! — покачала она головой. — Ты что же это, сынок, гуляешь? Али время свое забыл? Сейчас время ночное, позднее, спать пора, Мишенька! Из колыбели смотрели широко раскрытые темные глаза. — Михайло, а Михайло! Сынок! — Рукой, загрубевшей от морского ветра и от холода соленой волны, отец трогает мягкий шелк детских волос. — Спать, слышь, время. Ишь, разгляделся... Шу-устрый будет! — говорит он одобрительно Алене Ивановне, укладываясь спать. Мать закрыла ребенка поплотнее одеялом: «Сейчас-от заснет», — и погасила светильню. Из полуприкрытого ставня начинал постепенно пробиваться в горницу свет, колеблющийся и неясный. Мгновеньями он вспыхивал ярче, точно отсвет далекого пожара, потом потухал и снова разгорался. Из темного угла, из люльки, детские живые глаза, не отрываясь, смотрели на переливчатые лучи северного сияния. Родина раскинулась вокруг снежными полями, просторами, полными то тишиной, то порывами буйного ветра В октябре, после Покрова, метель уже кружит над селом, запевая свою древнюю песню. Она проносится над деревенской широкой улицей, над городом Холмогорами, пролетает вдоль Двины и кружит над болотами у края елового бора. Из замерзающей трясины торчит оглобля увязнувшей осенью телеги, да у самых корней обледенелой осоки темнеют оленьи рога. Суровый, холодный край. Зимой, когда кончались покруты и тяжелые, просмоленные карбасы поморов отдыхали от мощного течения широких северных рек и от холодных волн северного моря, в селе наступала непробудная тишина. Бесконечными казались долгие вечера, озаренные дрожащим светом жировой светильни. Изредка, пробираясь через высокие сугробы, забредет сосед к соседу, потолкует о ценах на рыбу, о купцах-норвегах, скупщиках морского зверя и меха. И топотом сообщит, боязливо поглядывая на окна, что в олонецких лесах, где скрывались от властей сектанты-самосжигатели, снова видели люди большие дымы. В одной только молельне с полсотни самосжигателей, запершись, приняли огненную смерть. Потом надевал гость, крестясь, полушубок, кланялся в пояс, уходя: «Хозяевам — за хлеб, за соль!» И опять — тишина. Дома, как большие сундуки, крепко заперты на засовы. Сполохи к весне загораются реже. Над снежными просторами разливаются багряные вечерние зори. Алыми скатертями покрываются белые поля, и все дольше не потухают вечерние отсветы, все медленнее падают сумерки. И вот поздним вечером весенний ветер впервые пахнет откуда-то влагой. И уже охватит мощным дыханием всю окрестность. Закачаются тяжелые ветки соснового бора, стряхивая с себя снега, и согнутся тонкие вершины. Помчится к реке и загуляет над ней не одну ночь и не один день, будто неугомонный гуляка, весенний хмельной ветер. А когда обнажится от снега крутой берег над Двиной, послышится вдруг откуда-то снизу шум и зазвенят голоса быстроногих мальчишек, которые сломя голову побегут по крутому пригорку вниз к реке: «Идё-оть! река идё-оть! Лед пошел!» Голоса их разносятся далеко вдоль берега. И бегут, догоняя мальчишек, мужики и бабы, на ходу натягивая на плечи зипуны и платки, а ветер рвет их из рук... Книга Стояла ясная, погожая осень. Солнечные лучи в середине дня еще обдавали летним теплом. Но к вечеру прозрачный воздух дышал холодом и темнело рано. Слабые огоньки светилен долгие часы мерцали в окошках. В избе Ломоносовых в двух глубоких плошках горит желтоватое пламя, от которого сумерки за окном кажутся еще темнее. На чистом половике на полу лежит подушка, рыжий кот, убрав голову в лапы, спит около нее безмятежным кошачьим сном. Маленькому мальчику, сидящему на подушке, давно надоело играть деревянными чурбачками, которые лежат у него на коленях и заменяют ему игрушки. Ему хочется взять кота на руки и поиграть с ним. А потом, когда кот встал, выгнул спину и с лавки перепрыгнул на печь, мальчик решил заплакать: кот исчез! Но заплакать он не успел. Он только хотел начать, да так и остался с разинутым ртом: на столе, на чистом полотенце он увидел большую книгу. Она была раскрыта, и сбоку поблескивали отстегнутые металлические пряжки толстого переплета и голубая закладка. Мальчик решительно двинулся к книге, стараясь ступать потверже на своих еще не крепких ногах. Но едва только он протянул руку к занятному предмету, как раздался голос матери. Она сидела у окна за работой, время от времени всматриваясь в сумрак за мутной слюдой: Василий Дорофеич уже с неделю был в городе по делам. — Мишенька, — сказала она тихо, но с необычной строгостью. — Не трожь этого, сынок. С этим не играют, Это — книга. И даже звук ее голоса изменился при этом слове. Так говорила она иногда, зажигая лампадку: «Зажечь надо, завтра праздник». И он понимал, что праздник — это что-то важное и большое. А теперь выходило, что таким же важным было и это самое: книга! – Кни-га, — выговорил он с трудом еще непослушным языком и еще решительней потянулся за странным предметом. — Мишенька, али не слыхал? — повторила громче мать. — Ведь экий настойчивый! Нешто можно книгой играть? Она встала и убрала книгу в киот к иконам, где ничего, решительно ничего нельзя было трогать. Но сын ее так легко не сдавался. Он уцепился обеими руками за край киота и во второй раз приготовился решительно и горько заплакать. Он уже закинул голову, но тут дверь с шумом распахнулась, и долгожданный, большой, с громким голосом отец шагнул в горницу. Василий Дорофеич поздоровался с женой, бросил шапку на лавку и, нагнувшись, поднял сына высоко в воздух. Он поднес его лицо к своему и, всматриваясь в живые темные глаза, на которых еще не высохли проступившие слезинки, спросил: — О чем плакал, сынок? Морякам да поморам плакать не след. Так-то, — закончил он твердо и поставил сына на пол. — Книгу захотел взять, библию, — вот чего ему надо, — усмехнулась Алена Ивановна. — А ты что же, не дала? — Да как же дать-то, Василий Дорофеич? Ведь это не игрушка. Вот подрастет —тогда и посмотрит, а малому нельзя. Через год маленький Мишутка уже бегал по двору, и Алена Ивановна, усмехаясь, поглядывала на него из окна: «Ишь, всех мальчат в беге опередит! Рослый он у меня да на ногу легкий!» И домой его не загонишь: вечер уж, звезды проступают на холодном небе, а темноглазый ее мальчик все еще бегает безустали и по двору и по широкой улице села. Но вот однажды среди ночи потянул морской ветер и закрыл ясное небо тяжелыми облаками. Утро глянуло в окно невеселым, пасмурным глазом и глухо, протяжно загудело чуть свет в трубе. Дым стлался низко по земле, и печи не растапливались. Это значило, что над Двиною дует порывистый «полунощник», а в море гуляет взводень. Быстроногого Мишутку рано привела мать домой. Бегает по горке над самой рекою, а ветер такой, что и большого с ног снесет, да и ей около ребенка веселее. К вечеру ветер затих, мелкие капли застучали дробно в окошки, — зачастил в темноте косой осенний дождь. Он ровно бил в окна и нагонял па сердце уныние. Алена Ивановна подошла к киоту и достала тяжелую книгу, ту самую, которую отец ее, дьякон маленькой, небогатой церковки, читал бывало вслух в ненастные вечер, приучая дочь к трудному в те времена искусству грамоты. Она поправила светильню, бережно положила кнгу на чистый стол и отогнула застежки переплета. В то же мгновенье маленькая крепкая рука ухватила ее за руку; и около стола она увидала оживленное лицо сына; его глаза с любопытством смотрели на эту новую игрушку: у нее были блестящие застежки и яркоголубая лента закладки. — Ишь ты, шустрый какой! — засмеялась мать. – Oпять книгой играть захотел? Ну, что тебе в ней — застежки? На, гляди. Вон какие... Но когда этого оказалось мало и мальчик с усилием: потянул книгу на пол, где лежали у него и чурбачки и самодельные игрушечные лодки, сделанные наспех отцом, Алена Ивановна молча отняла у него книгу, а он ей в ответ закатился громким плачем, заглушая дождик, неустанно стучавший в окна. Тогда мать взяла его на руки и, посадив на колени, раскрыла перед ним книгу. — Ну вот, — сказала она, — глупый ты, гляди: видишь — буквы это. Вот большая, узорчатая. А написано здесь священное писание. Нешто этим можно на полу играть? Но так как он не унимался, она на минуту положила руку на его плачущий рот и шепнула, указывая на темные окна: — А вон как дождик-то стучит в окошко, слышишь? Это он плакать не велит. Поди играй, сынок, а я буквы вспомню да, может, что прочитаю. Но это было уже слишком: ей можно, а ему нельзя! И упрямый мальчик заплакал еще громче. Алена Ивановна наклонилась к сыну и шепнула, глядя на него строгими глазами: — А ты знаешь, что бывает с теми, кто не слушает? Вот в книге-то что сказано: не слушали люди бога-то и не слушали, и послал он им дождик, вроде как вот сейчас. Мальчик затих и посмотрел на мать. Дождь шумел за стеной, и слышно было, как струя воды стекала в большую кадку, стоявшую у крыльца. Он прислушался к дробному шелесту. — Слышишь, как шумит? Вот так же и тогда — послал бог дождик, и шел он сорок дней и сорок ночей. Вот тут про что написано. Будя плакать-то, сядь тихонько, я те расскажу, что сама слыхала из книги этой. Раскрыв широко глаза и затаив дыхание, слушал мальчик голос матери, рассказывавшей ему страшную повесть всемирного потопа. История о том, как строил Ной свой ковчег и плавал в нем по глубоким водам, была ему понятна. — Как он плавал? — спросил он мать. — Как тятя? — Во-во, как тятя, — ответила она успокоительно. Но все же история была очень страшная. И, увидав, что он испугался, мать сказала ему, утешая: — А потом, Мишенька, стала вода убывать, и пристал тот ковчег на мель... — Как лодья? — Как лодья, сынок. А мель та была высокая гора, именем Арарат, и выпустил Ной одного голубя на волю... — Моего голубя, — шопотом сказал он. — Нет, Мишенька, у него свой был. И воротился тот голубь на седьмой день, и нес он во клюве ветвь зеленую, с молодыми листиками, а была та ветвь от масличного дерева. — От какого? — перебил ее сын. — От масличного, Мишенька, а уж какое оно — и не ведаю, должно, в чужих краях растет. Тут понял Ной, что вода сошла, а на земле весна красная. И все зазеленело, и распустились деревья по всей земле... Дождь все шел и мягко шумел за стеной, слегка постукивая в окошко. Было так уютно слушать его, засыпая в теплом углу. Но мгновениями вдруг становилось страшно: не будет ли и этот дождик лить так долго, что зальет все село и придется им строить ковчег? Нет, они поплывут тогда на тятином карбасе и пристанут к высокой горе... Дождик барабанит по крыше. В теплом углу засыпает темноглазый мальчик. Буква «Aз» С тех пор маленький сын Алёны Ивановны не старался больше стащить тяжелую книгу на пол, к своим чурбачкам. Но как только он видел, что мать не хлопочет по хозяйству, а садится покойно с работой, он тащил ее за платье к киоту, где хранилась книга, и упрямо повторял: «Читай!..» В конце концов мать покорялась и, взяв книгу, садилась с ним поближе к свету. В долгие летние дни, когда солнце почти не уходило с неба, они устраивались у открытого окошка. Отсюда были видны и островки на Курополке, и ее заливы, и ельник на высоком берегу. Свежий ветерок веял влагой с реки; плескались весла в вечерней воде, и протяжный голос пел вдалеке заунывную песню. Но мальчик не слышал ни плеска весел, ни песни: голос матери, передавая то никогда не слыханные, то понятные слова книги, рассказывал ему удивительные вещи. Он сидел, не шевелясь, и никогда не уставал слушать одно и то же. Его поражало, что матери, хотя и с трудом разбиравшей эти черные узоры на желтых страницах, они все же говорят так много! Когда он смотрел на них, они были немыми, как стол, на котором лежала книга. И он подолгу всматривался в эти черные знаки, заглядывая на них и сбоку и снизу, из-под руки матери. Она смеялась над его любопытством и однажды, шутя, показала ему один значок. — Ну, гляди, допытливый. Видишь, какая буква узорная, красной краской обведенная. То буква «аз», первая изо всех букв. Этот знак он запомнил. И каждый раз, когда открывалась перед ним книга, он искал и находил знакомую букву, безошибочно указывая на нее пальцем. — Аз, — повторял он решительно и хлопал руками по столу. — Верно, сынок, — говорила Алена Ивановна, а отец, проходя мимо, бросал ему на ходу: — Ну-ка, ты, грамотей, пойдем к Савраске в стойло, корму задать. Савраской звали большую старую лошадь, с которой мальчик очень дружил. И бывали случаи, когда Савраска все-таки брала верх и переманивала его от занятных историй к себе в стойло, где пахло сеном и теплом и где было так весело, сидя у отца на руках, смотреть, как кормят Савраску. Он подрастал, и книга, которой ему не давали, все сильнее привлекала его внимание. Он требовал, чтобы мать показывала ему все новые и новые знаки, а однажды вечером, убирая со стола, Алена Ивановна сказала мужу: — Намедни, почитай, полдня Мишутка буквы в книге глядел — все хотел разобрать. Не миновать нам его к дьячку Никитычу по осень весть — грамоте учиться. — Ну, еще чего! — заворчал отец. — И без грамоты сгодится. Добро бы в чернецы шел, а то, слава угодникам, хозяином будет. Делов и без букваря хватит. – Все-таки, Василий Дорофеич, с грамотой сподручнее. Счета весть, либо что записать — гляди, как ладно! За починкой сетей В иной вечер, под праздник, соберутся бабы и девки у кого-нибудь в избе, соблюдая очередь, и за починкой сетей для весеннего лова поют и новые и старинные поморские песни. За бревенчатыми стенами, за маленькими окошками — морозная звездная ночь. А в избе и тепло и весело. Семилетнему сыну Алены Ивановны Ломоносовой весело, потому что он слышит, как поют песни и как мать его подпевает хору негромким, мягким голосом. Так приятно слушать этот голос, положив голову к ней на колени и стараясь не поддаваться дремоте, которая, несмотря на то, что ему весело, вот-вот сомкнет его глаза! Что это они поют?.. Он вслушивается в песню с чувством какого-то непонятного волнения, невольно запоминая ее слова: Отчего у нас начался белый свет, Отчего у нас млад светел месяц? Отчего у нас звезды частые? Отчего у нас ветры буйные? Он поднимает голову. Ему кажется, что это он сам спрашивает — так похожи эти слова на те, которые часто встают в его детском сознании. — Отчего это? — спрашивает он у матери, которая тихонько смеется ему в ответ. — Ты про что это, Мишутка? Спи-ко лучше, чем спрашивать! Песня эта старинная, давно ее сложили-то. Спи! Он опять послушно кладет голову на ее колени и засыпает. Но пройдет немного времени, и те же вопросы встанут в его детском сознании: отчего у нас звезды частые? Отчего у нас ветры буйные? Верещит за огромной печью сверчок... А за окошком, за тусклыми кружочками из полупрозрачной слюды, дрожит, переливаясь, сполох. Гигантские лучи его разбросались веером по морозному небу. К утру они угаснут, и перед самой зарей вспыхнут большие звезды. Первый урок Дьячок Никитыч был уже стар и слаб памятью, но грамоту он знал крепко. Жил он возле церкви, в двухэтажной избе под тремя высокими елками. И был он великий любитель старинных книг и икон «правильного письма». В небольшом садике Никитыча осыпались деревья. Багряные, золотистые и бурые листья устилали всю дорожку, протоптанную от забора к крыльцу. Выйдя утром к ранней обедне, Никитыч увидал, что густой слой листьев лежит на ступеньках ветхого крыльца, а все деревья обнажены. Когда он возвращался домой, старуха Ниловна, правившая нехитрое дьячково хозяйство, еще на крыльце сообщила ему, что его ждут. — С требой пришли? — спросил он. — Пущай обождут малость, ежели не батюшка послал. — Да не с требой они! — сказала строго Ниловна. — Хозяйка там ломоносовская с сынком тебя ждут. Ломоносовы были семьей, уважаемой на селе. Никитыч даже испугался: не случилось ли чего с Василием Дорофеичем? Но тихое лицо Алены Ивановны было покойно и весело. Она держала за руку своего крепкого, рослого сына и, встав с лавки, поклонилась дьячку в пояс. — Привела к тебе, Никитыч, сына Мишутку. Возьми в ученье — не откажи. Он понятливый. Никитыч одобрительно поглядел на мальчика. — А год-то ему который? Запамятовал я. — Осьмой пошел, — ответил сам Мишутка твердо. — Добро, добро, — сказал Никитыч и не без удовольствия посмотрел на разную снедь, принесенную Аленой Ивановной в виде задатка. — Что же ты, сам захотел грамоту-то узнать? Али Василий Дорофеич наказал? — Сам, — сказал мальчик, с любопытством глядя на большие книги, которые были разложены по всем лавкам. Самым счастливым днем для начала ученья Никитыч почитал четверг. А так как на другой день был еще только понедельник, то пришлось три дня ждать первого урока. В четверг Никитыч пропел молебен святому Науму, покровителю всех наук. Потом он сел в красный угол, под двумя большими иконами, и велел своему новому ученику сесть на лавку напротив. На столе перед Никитычем лежали букварь и указка. Но он еще не открывал букваря. Он откашлялся и, посмотрев в пристально устремленные на него глаза, сказал: — Ну, отрок Михайло, приступаем мы ныне к трудному, но многими радостями украшенному пути учения. А ведомо ли тебе, сколь многое надлежит нам изучить, и где есть начало, и где есть конец оного пути? Ученик молча посмотрел на большие книги в кожаных переплетах, разложенные на лавках. — Взираешь ты, как вижу я, на книги сии. И правильно делаешь, отрок. Понеже в книгах сокрыта бездна, имя же оной — премудрость. Человек, разумеющий все, что в книгах написано, становится светильником разума и светит, яко свеча в нощи. А к тому итти надлежит не сразу, но восходя со усердием и страхом божиим по ступеням сей лестницы, коя есть великий труд учения. Так-то... — закончил Никитыч и придвинул к себе букварь. — Теперь гляди сюда, — сказал он, взяв в руки указку. — Букварь сей есть первая ступень оной лестницы. Когда ведомы тебе будут буквы, научишься ты оные слагать, а посему и именуется получаемое «слогами». Сие есть вторая ступень. На третьей ступени будем мы с тобою, отрок, разбирать уже не слоги, а слова, сиречь слово божие. Одолев слова, совершишь ты великое дело в учении, а посему, паки испросив помощи у преподобного и святого отца нашего Наума, перейдем мы к первой книге, именуемой часослов. — Это та, что с застежками? — быстро спрашивает мальчик. — Бывает и с застежками, — отвечает Никитыч и с довольным видом смотрит на ученика. — А после часослова, Михайло, приступим мы к великой книге, именуемой псалтырь, псалмопевца царя Давида. К чтению оных псалмов прилагай, отрок, особое усердие, понеже настоятель наш, он и Митрофаний, зело любит ясное и раздельное чтение шестопсалмия за всенощным служением. Шестопсалмие же надлежит читать с особою приятностью и ломкостью в голосе. – Это котора книга? — спросил ученик, поглядывая на лавки. – А вон она, по правую руку от тебя, на самом первом месте, – указал Никитыч на старую, уже потрепанную книгу, переплет которой был закапан воском. — Псалтырь же открывает врата к изучению библии, сиречь Ветхого и Нового Завета. Но о том с тобой говорить еще не приспело нам время. — А я из библии разумею, — говорит неожиданно ученик: — и про потоп знаю, и как Ной ковчег воздвигал... — Добро, добро, — повторяет удивленный Никитыч. — Вижу, что будешь ты изрядным учеником. Пожалуй, и «Азбуковник» одолеешь? — А там про что? — А там, отрок, изъяснение дней недели имеется, и месяцев в году, и многое такое, чего уж я и не упомню. То ученые люди ведают. — Какие ученые? — спрашивает настойчиво ученик. — К примеру тебе сказать, монахи киевские, предостойные Епифаний Словенецкий и Арсений Сотоновский, кои прославились переводами из древнего бытия народа эллинского. Они же и беседы вели евангельские и апостольские, рассуждая о сокрытом в них учении. И слыхал я, опричь того, про книгу, где о целебных свойствах и врачевании недугов человеческих написано, а имя той книги есть «Прохладный Вертоград». Но о сем и аз, грешный, не ведаю. Сие открывается в возглавии лестницы, именуемой учением, а нам с тобой, Михайло, надлежит иа оную токмо взойти. А посему, благословясь, приступим. Но ученик посмотрел на толстую, лежавшую около него книгу и, положив руку на кожаный переплет, неожиданно спросил: — Это в ней про все написано? Мне такую книгу надо, где про все написано. Никитыч остановился на полуслове и посмотрел на детское серьезное лицо. — Это про что же... про все-то? — повторил он строго. Но сын Василия Дорофеича весело взглянул в строгие дьячковы глаза. — Про зиму... про лето... и где край земли есть... и зачем звезды не падают... про все! Никитыч выпрямился. Постепенно взгляд его из строгого становился суровым, из сурового — неумолимым. — А кто же это дозволил смертному созданию про все то знать? Кто тебя сей ереси научил, а? Ты кто есть? Ответствуй: кто? — Михайло, — ответствовал ученик. Голос Никитыча задрожал. — Не Михайло, а прах земной, персть и пыль, понял? Дунуть — и нет тебя! Что в шестопсалмии сказано? «Человек яко трава, дни его — яко цвет сельний, тако отцветет». Разумеешь? А ты что возомнил? Что все знать можешь! По средам и пятницам скоромное ешь? — неожиданно меняя тон, спросил он. — Рыбу едим, — ответил Михайло. — Отныне не токмо рыбы, но и молочного не вкушай по сим дням, доколе не сыму с тебя запрета. Понеже гордыню мысли в зачатке надлежит истреблять и разум соблюдать в смирении. Аминь, — закончил он сурово. Букварь раскрыт. Указка Никитыча останавливается около буквы. — Веди... — говорит он строго. — Глаголь... Старые ели роняют иглы, склоняясь, и трутся ветвями о старые стены. Догорает короткий осенний день. С сухим шуршанием носятся желтые листья по единственной дорожке, протоптанной от забора к крыльцу, и устилают землю золотеющим багрянцем. Учение продолжается Ивана Афанасьевича Шубного на селе побаивались, особенно мальчишки. Жены у Ивана Афанасьевича не было, и старая тетка управляла его домом, соблюдая во всем строгость и тишину. Иван Афанасьевич находился все больше в отъездах, будучи чем-то вроде посредника между своими поморскими поставщиками рыбы и пушнины и иностранными скупщиками. В таких делах без грамоты шагу нельзя ступить, и Иван Афанасьевич грамоту знал лучше всех односельчан: и чтение, и письмо, и цифирь. Однажды зимним вечером, устроившись около жарко натопленной печки, он занялся своими счетами. Глухая тетка понесла во двор чадившую головешку и, оставив дверь незапертой, не слыхала, как кто-то стукнул дверным пкольцом раз и другой и, подойдя к внутренней двери, постучал рукой о косяк. Иван Афанасьевич, не поднимая голову от своих записей, сурово бросил: «Ну, что там еще?», и так как ответа не было, он решил, что ему просто послышалось, и погрузился опять в свои счета. – Дядя Шубный! Это уже не послышалось. Он поднял голову и увидел перед собой…мальчишку! Одного из тех, которые любят орать на всю улицу и которых он за это гонял подальше от своего дома. Иван Афанасьевич уже открыл рот, чтобы сказать свое грозное «поди прочь!», но мальчик стоял тихо, с видом такого напряженного ожидания, что Иван Афанасьевич невольно спросил: «Ты чей?» — и, вглядевшись в обращенное к нему взволнованное лицо, нерешительно ответил сам себе: — Уж не ломоносовский ли? Словно как я тебя видал. Но он часто бывал в разъездах, а мальчишек по селу бегало много, и так быстро появлялись новые, что Иван Афанасьевич хорошенько их и не помнил. Мальчик кивком головы подтвердил его догадку и продолжал стоять, искоса с любопытством поглядывая на горницу, в которой было немало вещей, привезенных хозяином из его многочисленных поездок. — Тебя отец, что ли, спосылал? Иван Афанасьевич встречался с Ломоносовым не раз в деле и сообща с ним брал однажды казенный подряд. Что-нибудь, значит, занадобилось. — Чего тебе? — спросил он уже мягче. — Зачем пришел-то? — За грамотой я. Грамоту узнать. Отважный гость, дав такой странный ответ, низко опустил голову, но стоял решительно и упорно. Здесь Ивану Афанасьевичу, впервые при встрече с мальчишкой, захотелось улыбнуться. Но он не сделал этого, а строго спросил: — Это как же? — Никитич в ученье до «мыслете» дошел и хворый залег... А мне теперь не с кем... учиться-то. Иван Афанасьевич все понял. Он сдвинул бумаги с лавки и, указав на освободившееся место, коротко сказал: — Садись. — Потом, посмотрев на Михайлу, важно спросил. — Ты что же это, хочешь, чтобы я тебе грамоту дальше «мыслете» показал? — Покажь, дяденька Шубный! — умоляюще сказал гость. — Ну это, брат, тоже подумать надо. Это дело большое. Услыхав такие слова, Михайло прочно уселся на лавку, с которой ноги его еще не доставали до полу, решив ждать хоть до ночи, пока кончит думать хозяин. Вдруг он заметил на стене, прямо перед собой, невиданную вещь. На стене висела не икона, а нарисованное красками лицо неизвестного ему человека. Человек был в темнозеленом кафтане. Голубая лента была перекинута через плечо. Темные волосы слегка вились над высоким лбом. Бороды у него не было, а были маленькие черные усики и совсем живой взгляд неотвязчивых глаз: куда бы Михайло пи повертывал голову — они все равно смотрели на него в упор. Он передвинулся на лавке, а глаза, как живые, следили за ним. — Кто это там у тебя, дядя Шубный? — наконец решился он спросить, не отрывая глаз от удивительного лица. — Государь наш Петр Алексеевич, вот кто, — с важностью ответил Шубный, и опять, во второй раз, ему захотелось улыбнуться, глядя на своего незваного гостя. — Государь Петр Алексеевич... — медленно повторил Михайло. — Дяденька Шубный, а можно на него поближе поглядеть? — Можно и поближе, — сказал Шубный. Михайло подошел к портрету, став сбоку: глаза попрежнему смотрели с полотна на него и больше ни на что не обращали внимания. Но это было еще не все. На высокой табуретке, крепко сколоченной и украшенной резьбой, помещалась сделанная из белой глины небольшая человеческая фигура. Вся ее посадка, поворот головы, и лицо, и длиннейшая в крупных завитках борода, даже складки одежды и в этом малом размере, казалось, были полны величия, и Михайло решил, что это святой. Но он не видал такого ни на одной иконе. Он растерянно переводил взгляд с непонятной фигуры на лицо царя Петра. — Ну что, чай, не видал такого? — спросил Иван Афанасьевич. — Сей статуй снят искусным мастером с большого статуя. А тот, большой статуй, вырезал из камня превеликий мастер: жил он в теплой стране, в земле римской, именем был Михайло, по прозванию Анжелов. А статую сему имя есть Моисей. Никогда не думал Иван Шубный, что он будет говорить все это мальчишке. Но он видел перед собой жадные детские глаза, обращенные на него с таким волнением, что ему доставляло непонятное удовольствие отвечать на их немые вопросы. – Тебя как звать-то? — спросил он своего гостя. – Михайло. – Ну вот, брат Михайло, Моисей этот заповеди на скрижалях дал; вот вырастешь — узнаешь. – А я знаю. Мне мать сказывала про Моисея. Его маленького в корзинке нашли в речке и царю отдали. — А ведь верно! — сказал, усмехнувшись, Иван Шубный. — Я, брат, об этом что-то запамятовал. Ну, так вот, Михайло: за то, что ты мне сие писание на память привел, я тебе грамоту, так и быть, покажу. Михайло попал в удачное время: в ту зиму до самого рождества оставался Иван Афанасьевич дома. И когда поправился от долгой болезни Никитич, а по селу залегли сугробы крепкого снега, доходившие до верхних окон двухэтажных северных изб, Михайло уже знал не только все буквы, но и слоги и, таким образом, прошел и первую и вторую ступени той лестницы, которая, как говорил Никитыч, вела к премудрости. И тогда старый дьячок раскрыл перед своим учеником застежки часослова. Вслед за льдинами У берега реки, по которой, сталкиваясь и обгоняя друг друга, быстро несутся льдины, стоит толпа. Она все растет: даже старики бредут посмотреть ледоход. Крестясь, стаскивают они шапки с побелевших голов, со степенной важностью поглядывая па реку: — Тронулась, матушка! — Кормилица наша... — Пошли тебе, господи, рыбный урожай! Обветренные непогодой, смелые и суровые, старые и молодые лица обращены к реке. Темные воды широкой Двины все быстрей убегают к холодному морю. Народ понемногу начинает расходиться. — Пора покрут снаряжать! — говорит громкий голос. На голос оборачиваются молодые поморы: — И то пора: набирай покрутчиков в плаванье! Молодежь подходит к высокому человеку, который с самой верхушки горы деловым хозяйским глазом посматривает на карбасы, лежащие на берегу, и на полноводную Двину. — Гляди, Василий Дорофеич, в два дня очистит реку-то. Собирай на покрут, мы с тобой идем! Отвечая, степенно поглаживает бороду Василий Дорофеич: — На новом корабле покрутчиков поведу. — Неужли готов? — спрашивает молодой помор. — Намедни на верфи был, — говорит Василий Дорофеич. — Почитай, ден через пять оснастим корабль. А звать его буду уж... как сын мой накажет. Не видал его здесь? Молодой помор окинул взглядом народ и ватагу любопытных мальчишек, бросавших палки и камни на быстро плывущие льдины. — Кажись, нет его тут. Белобородый старик подвинулся к говорившим. — Слыхать, Василий Дорофеич, парнишка твой грамоту одолел. Что ж, может, коли просветит господь, и дьячком будет? Лицо Василия Дорофеича сразу темнеет. — А мне дьячок в дому не надобен! Мне сын-хозяин надобен. Михайло! — кричит он строго, оглядывая толпу бегущих на гору мальчишек. — Михайлы нету, дядя Василь! — отзывается на бегу быстроногий мальчонка. — Я и сам вижу, что нету, — с суровой важностью обрывает его Василий Дорофеич и идет от реки. Поморы смотрят ему вслед. Пройдя несколько шагов, он оборачивается к белобородому старику и решительно заканчивает: — На покрут нонче и парнишку с собой возьму — пущай привыкает. Десять годов минуло, пора и в плаванье с отцом, в зуйках послужить. — И то пора! — говорит старик и, кряхтя, поднимается в гору. Берег быстро пустеет. Сумерки покрывают реку. Влажное дыхание предвесеннего ветра сгибает тонкие ветлы на берегу и гонит льдины в открытое море. На Баженинской верфи Стук молотков и топоров рассекает тишину свежего утра. На большой корабельной верфи идет горячая работа. Старый корабельный мастер, дядя Еремей похаживает вокруг строящихся корпусов, то и дело покрикивая на рабочих: — А ну, ребята, не зевай! Большое судно, сделанное по новому образцу — с двумя мачтами, с круглой кормой и плоским днищем, — стоит в сторонке, почти совсем готовое и не похожее на своих соседей, на тяжелые простые поморские карбасы. Старый мастер берет понюшку табаку и, поднося ее к носу, критически оглядывает прищуренным глазом художника весь корабельный корпус. — Хорош, — говорит он, наконец, и кладет руку на плечо мальчика. Мальчик высок ростом и широк в плечах. Движения его быстры и решительны, а живые темные глаза с любопытством следят за всем, что делается вокруг. — Хорош гукор! — повторяет корабельный мастер и треплет мальчика по плечу. — Плыви па нем хоть на край света — выдержит! Новоманерное судно, первое такое в наших местах, у твоего отца-то... Мальчик внимательно всматривается в отдельные части корабля. — Дядя Еремей, — говорит он, любовно проводя рукой по корпусу корабля, — не запамятуй шпангоуты суриком смазать поизряднее, не то загниет. Дядя Еремей молча подмигивает в ответ: нас, мол, не учи. — А клямсы поставлены знатные, — продолжает мальчик, ударяя маленьким, крепким кулаком о дерево. — Этот дуб, что твой камень. А как его при боковой качке-то весть, дядя Еремей? — А это опять как ветер. Ежели он тебе супротивный зачинает, ты на руль шибко не налегай. Вот примерно с норду ветер: тот спокон веку крутой... — Дядя Еремей, — перебивает его мальчик, — а вот бы корабль так знать, чтобы все его части в нутреном виде на бумагу перевесть, а? Поглядел — и разобрал!.. — На то есть ученые, — говорит дядя Еремей. — Есть? Дядя Еремей, вправду есть? — Ну, я тебе говорю — есть, — и дядя Еремей угощает свой нос понюшкой табаку. Но мальчик пс оставляет его в покое. — Дядя Еремей, а вот ежели бы погоду загодя узнавать, чтобы все на корабле наперед подготовить, вот бы знатно корабли ходили, а? Старый мастер почесал затылок. — Слыхать, царь Пётра наш за такой наукой за море ходил. Мальчик восторженно посмотрел на корабельного мастера: — Вот это царь! Верно, дядя Еремей? — А то как же? От царя-то Петра у нас, слыхать, ученье пошло, у меня вон деверь с Москвы был. По указу царскому сына грамоте учиться отправили. Да еще, говорит, кто поумней, то и за море царь посылает: заморскую грамоту учить. — Заморскую-у?.. — протянул недоверчиво Михайло. — И очень просто, — решительно сказал дядя Еремей. — А про науку-то эту я слыхал, а вот что слыхал — не припомню. Токмо и книжка такая есть. — Есть? — Да уж ты мне поверь! И знатная, я тебе скажу, книжка. В ширину-то в ней немного будет, а в толщину, почитай, два вершка. В той книжке, надо быть, и про новоманерный корабль есть, Эх, хорош гукор! Еще денька три — и готов. — Я и то вижу — готов! — говорит за ним кто-то третий, Оглянувшись, оба увидели Василия Дорофеича. Он поглаживал бороду и горделиво посматривал на корабль. — Как назовем корабль-от, Михайло? — кивнул он головой мальчику. — «Чайкой», — быстро ответил тот. — Ну вот, на этой «Чайке» через мало дён в большой покрут уйдем — почитай к самому морю. — И я уйду, тятя? — замирая от радости, говорит сын. — И ты. Дядя Еремей со снисходительной улыбкой смотрит на Михайлу, своего давнишнего приятеля. С тех пор как начали строить для его отца гукор, мальчик не раз наведывался к нему на верфь — от Холмогор было до нее верст двенадцать. Он приплывал на отцовской лодке и, привязав ее среди множества суденышек, бежал прямо туда, где виднелась плечистая фигура и слышался громкий распорядительный голос дяди Еремея. Старый мастер давно уже обещал поводить его по всей верфи. И теперь, видя, что Василий Дорофеич собирается домой, Михайло подошел к дяде Еремею и дернул его за рукав, — Дядя Еремей, а помнишь, обещал ты, когда будет готов гукор, все показать. Запамятовал? Дядя Еремей усмехнулся:. — И до чего ж у тебя, Василий Дорофеич, паренек допытливый! Ничего в покое не оставит: все ему покажь! — А мне, дядя Еремей, поглядеть занятно. — Ну, коли занятно, пойдем. И ты пойдем, Василий Дорофеич, коли желаешь. Утро было серенькое, но к полудню прояснило и в голубых просветах проглянуло солнце. В его блеске засеребрилась чешуйчатая рябь воды и засверкали кое-где металлические части корабельной оснастки, принесенные работными людьми на берег. Мелькали в разных местах полосатые вязаные куртки голландских мастеров. Михайло вглядывался во все, что делалось вокруг. Его занимали слова иностранной речи, и говор работников, и готовые корпуса кораблей, их прочные мачты, издали такие тоненькие, кренившиеся в заводи под сильным ветром с моря. И вот, как темногорбые чудовища, поднялись перед ним огромные корпуса двухъярусных кораблей. Дядя Еремей провел Михаилу с отцом в обширные бараки, где в мягком полусвете, среди штабелей досок, среди инструментов, ходили, попыхивая трубочками, невысокие, крепкие голландцы, отдавая приказания на непонятном языке. Михайло вслушивался в эти быстрые, четкие слова, смотрел на уверенные движения рабочих рук, вдыхая запах свежего дерева, смолы и клея, и от вида этой кипучей, трудовой жизни его наполняла огромная беспокойная радость. Теперь дядя Еремей повел их к новой лесопилке. Не только Михайло, но и Василий Дорйфеич был поражен этим изобретением. Вода приводила в движение колесо, а колесо — огромные пилы, под зубцами которых падали доски и ровно ложились на землю. Потом они осмотрели парусный завод и канатный. За постройками верфи, на горе, виднелись высокие сосны. Дядя Еремей посмотрел в ту сторону, где поднимались их зеленые верхушки, и сказал: — Там дом стоит хозяйский. Самих сейчас нету, в отъезде оба Баженины, а отсюда, из сада, поглядеть можно. Такого дома Михайло еще никогда не видал. У него была железная крыша с флюгером, каменное основание, широкий крытый балкон и окна со стеклами! Против двух больших окон дядя Еремей остановился. — Вон гляди, Михайло, — сказал он, повертывая голову мальчика к дому: — в этой горнице сам царь Петр гостил! Баженины и хранят до сих пор все, как при нем было. А вон на том островочке махоньком Петр Алексеич самолично два дерева посадил. Вон они, видишь? растут! — Вижу... — шопотом ответил Михайло. — А зачем он тут гостил? — спросил он, повернувшись опять к дому и стараясь разглядеть то, что было за стеклами. — Как зачем? у Бажениных был для ихнего почета, за верную их службу. И кубок подарил им знатный и бумагу на все права дал, чтобы все дела они правили. И назвал их «именитыми людьми гостиной сотни» и благодарил — чуешь? Во, паренек, до чего человек своим трудом дойти может. И таких людей, Михайло, у нас немало найдешь. Зато и любит наш край царь Петр. Так-то. Лодка прошла заводь, осторожно пробираясь между суденышками и большими судами, и вышла на чистую воду. Михайло усердно работал веслами. Он старался не отставать от отца и грести не хуже его. Он чувствовал себя сегодня очень сильным и крепким — еще сильнее, чем все-гда, и вместе с этим ощущением своей силы росло в нем стремление к каким-то большим делам. Серенький день переходил в безоблачный вечер. Им встретилась легкая лодка, которую вел голландский матpос. — Тятя, — спросил Михайло, — а пошто у нас голландцы работают? — Затем, что работать умеют. — И мы умеем. — Умеем, да не все. – Зачем не все? — Затем, что не всякому делу учены. — А пошто не учат? Царь Петр велел всем учиться. — Да будет тебе, сынок, пристал: зачем да зачем. Значит, учиться негде... Не зачерпывай веслами-то глубоко, греби поверху. Но Михайло налег на весла и непокорно ответил: — И нам надлежит... чтобы не хуже голландцев. Сумеем! — Ладно, ладно, — усмехнулся Василий Дорофеич. — Небось, руки-то зашлись? — Ничего не зашлись, — упрямо ответил сын и глубоко погрузил весла в воду. Он почувствовал себя вдруг обиженным за всех своих холмогорских и куростровских друзей. Он привык с уважением относиться к их мужеству и ловкости, и вдруг они в чем-то оказались неумелыми! Сумеют, коли занадобится! Вода была прозрачная, как небо, и, как небо, окрасилась желтовато-зеленым холодным светом. Река уходила за далекий горизонт. Уходила туда же бескрайная равнина. За ней — знал Михайло — протянулись поля, леса, города. И жили в суровых просторах крепкие, сильные люди, упорным трудом добиваясь каждой поставленной себе цели. Без матери Ему шёл одиннадцатый год. Он был сильный и рослый не по летам. Но все же, если б была жива мать, она упросила бы Василия Дорофеича подождать еще годик, не брать его в море. И он бы ей уступил. Суровый и сильный, он слушался ее мягкого голоса и уступал ей во всем. Она умела успокаивать его гнев, когда рассердится Василий Дорофеич на хитрых купцов, наезжавших в Холмогоры за товаром, или на работника, порвавшего новую сеть, или на маленького сына, упорного в своих детских желаниях, как отец в своих. Это она настояла, чтобы отец позволил отвести семилетнего Михайлу к старому дьячку для обучения грамоте. И это по ее настоянию взяли в дом девочку Машутку с соседнего двора, когда утонул ее отец в осеннюю бурю и она осталась круглой сиротой. Восьми лет маленький Михайло впервые плавал с отцом по Двине. То была легкая охота за простой мелкой рыбой — и плавали они недолго, всего две недели. А вернувшись, дом нашли холодным и неприбранным. Хозяйка, Алена Ивановна, десять дней не вставала на ноги. Сырой весенний ветер, видно, прохватил ее на берегу, когда уходил в плавание ломоносовский широкий карбас, а она все смотрела с горки на удалявшуюся фигуру маленького Михайлы, твердо стоявшего на корме. Это была их первая разлука. А скоро пришла и вторая. Сквозь огневую завесу жара и бреда она еще увидала, узнала родные лица мужа и сына. Она еще погладила испуганное лицо мальчика немеющей рукой. И простилась с ним во второй и последний раз. Когда ее хоронили, стояли ясные теплые дни. Солнце почти не уходило с необъятного небесного свода. Легкий ветер трогал чуть заметной рябью светлые воды Двины и шелестел в кладбищенских березах. Михайло не верил, что се больше нет. Не верил, что все живое, теплое и греющее, что заключалось для него в ее образе и в слове «мать», уничтожено без остатка, исчезло, ушло, как теплое дыхание лета. Он смотрел на небо и видел, как исчезают в нем, растворяясь, легкие облака. Смотрел на воду, сверкавшую между деревьями кладбища, и думал о льдинах, растаявших весною в воде, как облака в небе. И ему казалось, что мать, как весенняя льдинка или как облако, растворилась во всем, что его окружало, и осталась с ним. Через две зимы отец привел в дом новую жену. Запущенное хозяйство быстро наладилось под властной мачехиной рукой, но для Михаилы и Машутки настала плохая жизнь. Они мешали мачехе Арине Семеновне, и даже постоянные старания Машутки быть полезной в доме не меняли дела. На Машутку она кричала с утра до вечера, а Михайле запретила возиться с букварем да с книгою, которую он, наконец, достал из киота. «Работать время!» — говорила она, увидав у него в руках книгу, и посылала его то за водой, то за дровами. «Десять годов, слава те, боже, минуло, уж не маленький». — Гляди, Василий Дорофеич, — говорила она мужу весной, когда готовились поморы к плаваньям. — Сын-то у тя растет да крепнет. Грамота его от работы оттягивает, а ты возьми-ка его с собой в плавание — в зуйки, он к делу-то скорей привыкнет. И Василий Дорофеич решил взять Михайлу. Но где-то глубоко шевельнулась мысль: «А мать бы, думается, не пустила: далече ведь, к самому морю уйдем!» На пустыре за домом стоял старый сарай, где хранились соль и сушеная рыба, где лежали всю долгую зиму большие паруса и сети. Его темные от непогоды стены так промерзали за зиму, что в самые жаркие летние дни в нем стоял пронзительно сырой, холодный воздух. Там, в углу, на перевернутом ящике лежит старая псалтырь. Грошовая восковая свеча горит маленьким дрожащим пламенем. Когда ветер дует в щели сарая, стараясь погасить слабый огонек, чья-то рука бережно прикрывает огарок. Огонек выпрямляется, и тогда видна потемневшая страница ветхой книги и над ней — склоненная голова непокорного сына Василия Дорофеича. Здесь Михайло не боялся сердитых окриков мачехи, которая прогоняла его с книгой из теплой избы. — Будя книжку-то сосать! — кричала она, замешивая тесто на шаньги сильными белыми руками. — Гляди, насосался, одурел, я чай. На улицу поди! Он вставал и покорно уходил из избы. Но, уходя, забирал с собой и книгу, взятую у Никитыча. укрывшись от криков мачехи, он погружался в чтение. Но сколько непонятного было в ней! «Воспойте его на гуслях и органах, воспойте его в кимвалах и тимпанах...» Гусли он видел однажды на ярмарке у заезжего человека. Но что есть «орган»? И что «кимвалы»? «Превыше звезд поставиши его и солнце положи под нози его...» Непонятные вовсе слова: что может быть выше звезд? Их чуть видать! Старый дьячок не знал о том ничего. И на вопрос Михайлы сурово сказал, что думать об этом — великий грех. Солнце удалено от ока смертного, и помышлять о нем не должно, токмо взирать и величатися духом. Свеча меркла в сыром воздухе сарая. От села доносился унылый лай собак. Над старой книгой пытливо склонялась голова десятилетнего мальчика, старавшегося понять мудреные слова псалтыри. Прямо от дома, с горы открывался вид на водную ширь Двины. Где-то за ней, за весенними туманами катило свинцовые волны холодное море. Перед домом, во дворе, Михайло помогает отцу чинить рыболовные снасти, работает споро; сильными руками пробует, надежен ли канат. — Ну, теперь все, — говорит отец, — можно и на воду спущать гукор. Снасти готовы, и люди ждут. Михайло с удивлением посмотрел на отца. Он говорил об этом с полным спокойствием! А в его сердце эти слова вызывали глубокое волнение и радость. Он скоро уйдет в далекое плаванье вместе с настоящими, закаленными в северных бурях рыбаками, которых он и любил, и побаивался, и суровые песни которых он мог бы слушать без конца. ...Когда судно спускали на воду с ближней верфи, весь Куростров собрался смотреть. Такого корабля не было еще ни у одного помора! Но куростровцы смотрели на него, не завидуя Василию Дорофеичу. Они привыкли к тому, что во всяком деле был он впереди всех, знали его решительность и несокрушимую волю. В долгом плавании Они вышли в плавание ранним утром. Когда вся рыбацкая команда собралась на палубе, Василий Дорофеич, слегка подтолкнув Михаилу в спину, поставил его перед артелью. — Вот вам и зуек будет! На всякую подмогу сгодится. — И то ладно, — одобрительно сказали рыбаки и занялись каждый своим делом. Обязанности зуйка на покруте известны Михайле. Обычно зуйков бывает двое. Пока один чистит рыбу на уху, другой разводит костер. Один носит воду, другой — хворост и мох. Со всем этим Михайле нужно будет справляться одному. Но он не боялся работы и не боялся оставаться один на берегу в ожидании рыбаков с добычей. Неизменный его собеседник — книга была с ним везде. Если б у него был только простой словарь то понятных, то полузнакомых слов, и тогда он давал бы ему нескончаемую пищу дли размышлений. А у него была старая, истрепанная книга «Жития святых», также вынутая им самовольно из отцовского киота. В этой старой, потрепанной книжке попадались удивительные места: «В древнем Риме в правление цезаря Нерона родился у одного купца сын...» Михайло останавливался и дальше не читал. Он думал о том, каков был этот Рим и почему он так назывался? И какие там жили люди и сколько лет прошло с тех пор? И что вначит «цезарь» и чем торговали в риме купцы? Были их лавки завалены рыбой и солью или пестрыми набойками, которыми так шибко торговали на холмогорской ярмарке заезжие коробейники? Гукор стоял у острова в одном из рукавов Двины. Он стоял здесь уже несколько дней, и два карбаса, сопровождавшие его, каждый вечер привозили рыбаков к берегу, где они разбирали улов. Вечер потухал. Ночь близилась теплая и безветренная. Все обязанности зуйка на этот день были исполнены: рыба вычищена, уха сварена... Михайло придвинулся ближе к огню и вытащил из-за пазухи потрепанную книгу. Вернувшись к позднему ужину, голодные, наработавшиеся за день поморы большими ложками опустошают котел с ухой. Михайло уселся около старого норвежца, известного в Холмогорах под именем «дяди Томаса». Ложка мальчика реже других пускается в котел: ему интересны рассказы норвега. — Дядя Томас, а где твой город? Старый норвежец усмехнулся. — Далеко! За морем. — За морем... — Михайло смотрел туда, где сливается с морем широкая Двина. — И много, говоришь, там книг? — Книг много. Ложка Михаилы уплыла в котел. Он недоверчиво смотрит на своего собеседника и с сомнением переспрашивает: – И школ много? — И школы есть, — не спеша повторяет дядя Томас и достает спою короткую трубочку. — Дядя Томас, — говорит Михайло, — а чьи же там города? — Разны города: шведский, голландский, английский... — А за ними? — А за ними опять море. И дядя Томас пыхнул дымком раскурившейся трубки прямо в лицо любознательному собеседнику. Но Михайле не терпится все узнать. — А за морем кто? Тут уж дядя Томас рассердился: — Кто, кто... Америка есть. И, вынув изо рта трубочку, решительно улегся около костра. — Америка... — медленно повторяет мальчик и долго смотрит вдаль. Но через несколько минут он осторожно придвигается к норвежцу и тихонько произносит: — Дядя Томас, а дядя Томас! Старик отвертывает край своей куртки, которой закрылся было с головой. — Ну что тебе, мальшик? Живые, полные напряженной мысли глаза Михайлы смотрят в упор в смеющиеся глаза норвежца. — Дядя Томас, а игде край земли приходится. Где бы про все то узнать? Дядя Томас укладывается снова и ласково и ворчливо говорит: — Где, где... В книжка узнать, в школа узнать! Вот где. И решительно натягивает свою толстую куртку на голову. Немного погодя мальчик нагнулся над курткой и тихо спросил: — Дядя Томас, а за Америкой-то кто? Молчание. Словно пеленой подернулось небо. Море — седое и суровое — плещется где-то там, вдали. Легкая зыбь здесь, у высокого берега, разбивается белою пеной. Михайло долго смотрит в ту сторону, где за широким устьем реки начинается Белое море и куда завтра выйдут они на отцовском гукоре. Он увидал его впервые — неоглядное, неугомонное море—в пасмурный день. Птицы с криком носились над гукором и исчезали в сумрачном просторе холодного неба. Чуть заметной тонкой чертою отделялось оно на горизонте от моря. Если прищуриться, черта исчезала: казалось, что вода постепенно переходит в воздух. Дыхание захватывало от этого необъятного простора и от ветра, который уже посвистывал над головой в тонких мачтах. Михайло стоял у самого борта. «Чайка» уверенно скользила с волны на волну. Птицы летали так низко, что одна из них задела крылом волосы Михайлы. Он посмотрел на птиц, на пасмурное небо, подставил на минуту ветру лицо и звонко крикнул вниз, в маленькую каюту: – Тятя! Глядя, шибко полунощник задувает! Василий Дорофеич вышел на палубу и вместе с норвежцем оглядел море и сгущавшиеся облака, гонимые сердитым нордом. И вот рванулись паруса и вздрогнуло судно. Высокая волна, набежав откуда-то издали, точно с самого горизонта, ударила в левый борт и пеной обдала всю палубу. Шторм налетел, как молния, и, словно пробуя новый гукор, начал бросать на него волну за волной. Василий Дорофеич посмотрел наверх, где склонялись и выпрямлялись высокие мачты, посмотрел — и ахнул: большой парус сорвало ветром, и полотнище его хлопало, как большое крыло, в воздухе. И вдруг он увидел, что сын его быстро снял с себя непромокаемые высокие сапоги и, стоя под мачтой, смотрел на ее далекую верхушку, примериваясь глазом. Василий Дорофеич ахнул еще раз и крикнул: — Мишка, не смей! В эту минуту гукор сильно накренило волной, а когда он выпрямился и Василий Дорофеич смог подбежать к мачте, сын его уже карабкался по ней, цепляясь за ее выступы крепкими босыми ногами. Холодный пот выступил на лбу Василия Дорофеича, когда, стиснув зубы, глядел он наверх, где Михайло уверенной рукой крепил оторвавшийся край паруса. Он только теперь понял, чем был для него этот шустрый упрямец. И когда мальчик благополучно спустился вниз, Василий Дорофеич перевел дыхание и, молча проведя заскорузлой рукою по волосам сына, тяжело сел на связку канатов. Гукор, борясь с ветром, старался держаться своего курса. После бурливого моря многоводная река казалась покойной. Они плыли к дому, и Василий Дорофеич, стоя у кормы рядом с сыном, спрашивал его уже во второй раз: — Ну, чего же тебе, Михайло, за твою помочь дать? Хочешь, тулуп олений к осени обряжу? Михайло смотрит в лицо отца немного смущенным взглядом, но твердо говорит: – А мне, окромя книг, ничего не надобно, все есть. Весело смеются поморы, и хмурится Василий Дорофеич. — Книги дома у тебя есть, и псалтырь и часослов с дьячком прочитал. — Не такую, — перебивает мальчик. — Дай мне такую, где все написано... обо всем. Еще громче смеются поморы, посматривая на Михайлу кто сочувствующим, кто удивленным взглядом, но вовсе мрачным становится лицо Василия Дорофеича. — Эва! — говорит он сурово. — Такой книги и на свете нет, а кабы и была, так я тебе не дал бы, потому время тебе не книгами, а делом отцовским заниматься. Так-то. Михайло неподвижно стоял у кормы. Там, за туманной чертой еле видного моря, были большие города и неведомые страны. Они уходили от него все дальше, по мере того как вырастали перед гукором знакомые берега Двины, ее излучины и островки. Упавший ветер чуть трогал волосы над широким лбом мальчика, и к морю был обращен его упорный взгляд. О том, что нужно народу Загодя, еще в морозы, заходили к Василию Дорофеичу быьалые, суровые с виду поморы столковаться о весеннем плавании. Больше всего любил Михайло, когда заходил к ним кормщик Семен Мохов с младшим братом. Если, бегая по горе над рекою, завидит он в сумерках широкоплечую фигуру Семена, идущего с развалочкой по пустынной деревенской улице, немного отставая от невысокого, легкого на ногу брата, — никакие игры и никакие товарищи не могли удержать мальчика. Он стрелой мчался к дому, чтобы там, засев где-нибудь в уголке, в молчаливом нетерпении ждать, когда начнут о чем-нибудь рассказывать братья Моховы. А рассказывали они обязательно, вспоминая пережитое. Брат Семен — о плаваниях в суровом Белом море, а брат Саввушка — о зверином своем промысле. Младшего Мохова все звали Саввушкой. Так звал его старший брат, который заменил ему рано умерших отца и мать и привык смотреть на младшего, как на маленького. Старая бабка охраняла его в отсутствие старшего брата, когда уходил он в море. И из каждого плавания что-нибудь привозил братишке Семен. Пробовал он много раз и младшего брата приучить к морю, но Саввушка в море скучал, любил сухопутное житье и сумрачную чащу еловых лесов, где к концу лета поспевала янтарная морошка, а болотистые луга покрывались осенью яркокрасной россыпью клюквы. Там, бродя с ружьем по лесной глухомани, приохотился он к лесному промыслу, а в иное время занимался домашним крестьянским делом, нередко помогая в нем и Василию Дорофеичу. К брату Семену он был горячо привязан и почитал его умнейшим и ученейшим из людей, потому что знал Семен множество вещей: он умел обращаться с морским инструментом «маткой», который указывал путь кораблям; умел по звездам узнавать, куда заплыл на своем гукоре, не боялся никакой бури и знал Белое море не хуже, чем Саввyшка ближний лес. Только грамоту не знал он, но в последнем плавании от купца узнал и буквы и, вернувшись домой, показал их брату. Саввушка был невысок ростом, худощав и жилист и неутомим в лесных странствиях. Он знал голоса всех птиц и повадки всякого лесного зверя, и маленький Михайло, наслушавшись его рассказов еще до того, как стал учиться у Никитича, долго не мог решить — кем будет, когда вырастет: кормщиком, как Семен, или охотником, как Саввушка, и был полон детской гордостью за окружавших его людей — сильных и не знавших страха, страстно желая быть таким же. Запомнился ему один вечер долгой и снежной зимы, завалившей весь Куростров и все островки и пригорки такими глубокими снегами, что старики боялись небывалого паводка весной. После долгого снегопада выдался, наконец, ясный вечер, и, выйдя на крыльцо, Михайло увидал в небе такое множество чистых, сверкающих холодным блеском звезд, что, начав считать их, путался в счете до тех пор; пока не признал это дело невыполнимым. Счет он знал только до ста, а звезд было, пожалуй, во сто раз больше. Тут Василий Дорофеич кликнул его ужинать, и он вернулся в теплую избу, размышляя о том — не загорится ли к ночи на небе непонятный, всегда поражавший его своей красотой огонь сполоха. Вот в этот-то вечер и пришли неожиданно братья Моховы, когда еще не успели убрать со стола. В руках у Саввушки было шесть беличьих шкурок, и когда он разложил на лавке этот пушистый нежный мех — даже мачеха залюбовалась и принесла гостям по тарелке горячего. — Вишь, — сказала она, искоса поглядывая то на Михайлу, то на Василия Дорофеича, — вот тебе и доход в дом-от. Вот бы и нашего парня к этому делу приспособить, и был бы толк. Книжки-то читать — не велика прибыль! — Ну, это ты, Арина Семеновна, брось! — неожиданно вступился Василий Дорофеич. — Толку от мальчонки в моем деле не мало. И карбасы смолить подсобляет, и всю снасть корабельную знает, два раза в зуйках ходил... Да мало ль еще чего делал! А что по книжкам сохнет — так это уж наша с матерью его, покойницей, вина. Сама его к Никитычу отвела для ученья, не кто-нибудь. Вот он и приохотился их читать, книжки эти. — Верно говоришь, Василий Дорофеич. — твердо прозвучал густой бас Семена Мохова. — Я вот кормщик и свое дело знаю. А и то скажу: мальчонка твой к морю приспособлен, и в морском деле годика через три-четыре так в силу войдет, что заместо меня куда хошь любой гукор проведет. Ну, насчет книжек-то — это дело потруднее будет. Неужто сынишка твой буквы знает? — Он и поболе того знает, — усмехнулся Василий Дорофеич, поглядывая на сына, который молча сидел на лавке, подле беличьих шкурок, поглаживая небольшой, но уже загрубевшей рукою нежный мех. — Он и книги читает. — Неужто разобрать может? — широко раскрыв глаза, спросил Семен. — Какую хошь разберет, — махнул рукой Василий Дорофеич. Молодой кормщик подошел к Михайле и неторопливо положил руку ему на плечо. — Вот что, паря, скажу тебе я, неученый человек, а со мной вместе и все наши так скажут: грамота да ученье всякое, по наукам разным — то самое большое есть дело, великое дело, потому как народу нашему ныне ученые люди крепко нужны. В тот вечер не рассказывал Семен ни о плаваниях, ни об опасной ловле китов. Он сидел за столом задумчивый и немногословный и, потолковав недолго с Василием Дорофеичем о сроках и путях для весеннего большого покрута, поднялся с лавки. Саввушка оставил шкурки, попросив старого Ломоносова показать их в Холмогорах, куда ехал Василий Дорофеич на другой день, и братья, поклонившись хозяевам, взялись за шапки. Но прежде чем уйти, Семен Мохов еще раз остановился около мальчика. — Ну, малец, бывай здоров, — ласково сказал он. — Ты упорный, я знаю. Ты до всего можешь дойти, учись, сынок, учись, милый, да неси все, что узнаешь, народу. Он тебе за то великое скажет спасибо. Навсегда запомнились Михайле эти слова. Он верил в них, чувствуя всем сердцем их правду, и в редкие минуты усталости от непрестанной борьбы говорил себе, что знания его нужны народу, связанному с ним неразрывно. Соседская девочка Машутка! Вот она какая: стоит на крылечке в домотканном стареньком своем сарафанишке, и вечерний холодноватый ветерок играет русыми прядками ее волос. На детском лице ее нетерпеливое ожидание. Но нот за обрывом показались мачты гукора, а через минуту доносится с пристани и звон якорной цепи и шум многоголосой толпы. Ноги Машутки мгновенно срываются с места и мчат ее под гору, к реке. Там она вмешивается в толпу и проскальзывает к самому берегу. И когда рослая фигура Василия Дорофеича появляется на берегу и уже видно ей обветренное морским воздухом лицо Михайлы, Машутка подпрыгивает на одном месте, и веселый голосок ее безустали повторяет: «Пришли домой! Пришли домой!» И даже строгий голос мачехи не может нарушить ее неудержимую радость. — А я тебе рубаху вышила! — говорит она, поглядывая на Михайлу снизу вверх синими глазами. — Ишь ты! — покровительственно улыбается мальчик и высыпает ей на ладонь полную горсть мелких морских ракушек. Машутка радостно смеется и, крепко зажав ракушки в руке, мчится обратно домой, где уже накрыт стол и подходят в печке горячие шаньги в честь благополучного возвращения с покрута хозяев. И несмотря на сурово сдвинутые брови и грубоватый бас Василия Дорофеича, не боится его Машутка и привыкла к нему, как к родному, хотя Василий Дорофеич иной раз за целый день ей слова не вымолвит. Но, не имея никого из родных на всем белом свете и взятая в дом по круглому ее сиротству, Машутка рада уж тому, что никогда не бранит ее Василий Дорофеич, вели что и сделает она не так. Зато от Арины Семеновны доставалось по-всякому. А Михайло скоро хозяином будет; но для Машутки он товарищ детства и единственный в свете заступник перед строгой мачехой. «Живая стрелочка» Шли годы, и хозяин постоялого двора Савватьич заметно постарел. Посеребрились и черные волосы его хозяйки. Заезжие купцы и матросы попрежнему любили зайти под гостеприимный кров и потолковать о всех новостях с Савватьичем. В одно раннее весеннее утро, когда еще не было гостей, к стойке подошел Василий Дорофеич Ломоносов и поздоровался с хозяином. Старый Савватьич пожал ему руку и увидал за его широкой спиной мальчика. — А ну-ка, — сказал Савватьич, — покажь себя, паренек — маленький Ломоносов! — и подозвал жену поглядеть на сына Василия Дорофеича, в первый раз в жизни приехавшего с отцом в город. — Вот пристал ко мне: возьми да возьми его в город, порт с кораблями поглядеть! — сказал Василий Дорофеич, слегка подталкивая Михаилу вперед: — Он у меня с восьми лет в зуйках ходит: смышленый! Когда Михайло уселся вместе с отцом за стол, он очень обстоятельно и просто рассказал хозяевам о своем непременном желании увидать Архангельский порт и большие корабли. «Те, что в иных землях бывали», — пояснил он Савватьичу. И хозяйка, зная, что у мальчика нет матери, принялась с особым радушием угощать его творожными ватрушками, пока Василий Дорофеич вел с ее мужем деловой разговор. Наконец Михайло отодвинул от себя ватрушки и важно сказал, вставая и кланяясь в пояс: — Хозяевам — за хлеб, за соль, — как полагалось благодарить в его семье. Хозяева засмеялись, а старому Савватьичу так понравился сын Василия Дорофеича, что он решил в следующий его приезд самолично показать ему Архангельск. Большая горница постоялого двора начинала наполняться. Один за другим входили матросы и шумно рассаживались за столом. У Василия Дорофеича везде были знакомые, и он часто останавливался по пути потолковать с кем-нибудь из встречных. Едва только вышли они к самой набережной, как ог- ромного роста человек, перед которым даже Василий Дорофеич казался невысоким, в кожаной широкой куртке и в старой зюдвестке, лихо сдвинутой на один бок, ударил его по плечу и пробасил хриплым басом: — Хорошей волны, попутного ветра! Откудова-куда, Василий Дорофеич? Не признал своего старого попутчика? — После этого он ударил Василия Дорофеича по другому плечу. — Ну, как не признать? — отозвался весело Ломоносов: — вместе на Мурман ходили, да не признать?! — Мы с тобой не токмо на Мурман — быть ему не ладно, — так нас там потрепало! — мы и в море немало покачались! Будешь наново покрутчиков собирать — бери меня! С тобой хоть сейчас куда хошь. – А что ж, и возьму! — посмеивался Ломоносов. — Как лед тронется, приходи сговариваться ко мне на Курополку: авось тебя там льдиной не сшибет! Михайле вспомнилась их малая безобидная речка Курополка, впадавшая в Двину, и, слушая громкий смех взрослых, засмеялся и он. На этот детский веселый смех обернулся басистый великан и только тогда заметил мальчика. — Что за парнишка, уж не сын ли? — спросил он Василия Дорофеича. — Сын. — Видать, шустрый паренек! — Чего другого, а этого хватит, — с напускной строгостью проговорил Василий Дорофеич. — До кораблей охоч: все на верфь бегает. — До кораблей охоч? — с довольным видом загрохотал великан и сдвинул свою зюдвестку совсем на ухо. — Так ему ж перво-наперво надлежит мой гукор глядеть! Пойдем, малец, я тебе покажу, что такое есть настоящее поморское судно. Не только Василий Дорофеич, но даже Михайло уже повидал немало поморских судов на своем веку, но басистый великан не дал им времени на раздумье: он попросту крепко взял мальчика за руку и потащил его в самую гущу толпы, где толкались, сновали взад и вперед, кричали и спорили русские корабельщики и кормщики, норвеги, закупавшие на месте товар, английские шкипера, бородатые раскольники и невесть какой архангельский, и пришлый, и заезжий народ. — Ну, Степан, — сказал Василий Дорофеич, поднявшись на палубу и став на крепких, по морской привычке широко расставленных ногах: — показывай парнишке моему, чем такое твоя посудина знаменита? Я и то вижу: построен гукор изрядно. И мачты знатные, и паруса такие, что никакой полунощник не страшен! — А я што ж говорю? — весело ответил Степан. — А вот я што еще покажу пареньку-то: у нас каюта имеется, как на большом корабле! Глядите! Эта маленькая каютка, «как на большом корабле», чрезвычайно понравилась сыну Василия Дорофеича. у нее было круглое оконце, которое дядя Степан назвал «иллюминатором». В ней был маленький откидной стол, вделанный в стену. Но самое замечательное показал ему басистый великан под конец осмотра, когда, подойдя к маленькому стенному шкафчику, вынул оттуда предмет, бережно завернутый в чистую тряпицу, и, хитро подмигнув Михайле, пробасил: — А ну, гляди сюда, малец: видал ты когда-нибудь такую штуку? Ее у нас, у людей морского дела, «маткой» зовут, потому как без нее в море пропадешь, как дите без матери... Видишь ты стрелочку, что, как живая, дрожит? По стрелке этой всегда узнать можно, где холодный край земли приходится и откуда, братец ты мой, солнце встает! Уже уходя, Михайло заметил книгу, на переплете которой был нарисован корабль с распущенными парусами. Это была первая нецерковная книга, которую он видел в своей жизни. Когда Михайло возвращался домой, он чувствовал себя небывало богатым. Карманы его были полны гостинцев и для Машутки и для Савраски, а голова — воспоминаниями обо всем, что он видел. Он думал и о хозяевах кабачка и об очень многих вещах, но больше всего, неотвязней всего — о книге с кораблями и о живой стрелке, дрожавшей под стеклом. Стрелка эта знала, откуда приходит зима!.. Через несколько лет За шесть лет многое может измениться в жизни большого города. Но над тихим Куростровом шесть лет пролетели неслышно, разросся ельник за краем села. Отросли косы у Машутки, и сама она давно выросла из всех стареньких своих сарафанов. Обломились и сменились новыми ступени ломоносовского крыльца. Совсем одряхлел старый дьячок, учитель Михайлы. А сам Михайло? Сам Михайло... Ведь вот подумать надо: был бы первым на селе женихом и хозяином. Дом — полная чаша. А зоркий глаз Василия Дорофеича не перестает наблюдать за всеми делами сразу: и в дальнее плавание — на Матку — снарядить покрут, и вырыть пруд за домом для разведения рыбы, и соль закупить для осеннего улова, и отправить в богатую Ижму или на сумрачный Мурман товар... Богатый сооед зашел как-то под вечер к Василию Дорофеичу. Хозяйка в то время хворала. Машутка одна собирала на стол. Отужинали рано. И сидели, потягивая квас, степенно поглядывая то друг на друга, то в раскрытые створки маленького окошка. За окошком в теплом летнем воздухе светлого северного вечера еще гудели пчелы. Далеко с реки доносилась рыбацкая песня. Гость откашлялся, исподлобья поглядел на Василия Дорофеича. — А где же хозяин-от молодой? — А я его нопче с товаром послал. — Та-ак. Дело хорошее. Видать, хозяином будет изрядным Михайло-то... — Полагать надо, — немного уклончиво отвечает Василий Дорофеич. Гость придвигается ближе и, подмигивая одним глазом, говорит: —А не пора ль, Василий Дорофеич, и о хозяюшке подумать? Наше дело стариковское, речь веду без утайки: дочка у меня, сам знаешь, на выданьи. — Зна-аю, знаю, — отвечает с расстановкой Василий Дорофеич. — Дело ясное. Я против этого не иду. Токмо сын-от у меня от этого дела в сторону гнет. — Это как же? — От женитьбы к дьячку бежит и к книгам. — И горькая усмешка, скользнув по губам, спряталась где-то в густой бороде. Гость широко раскрывает глаза. — Что же, вроде как не в себе парень-от? А ведь какой видный! Другого такого здесь и нету. — Не-ет, зачем не в себе, — поморщился Василий Дорофеич. — Так это он, блажит. Да вроде как и не поймешь его иной раз. То по всем делам разумен, а то невесть что сотворит. В эту весну великим постом у исповеди не был по нерадению. А мне перед настоятелем отцом Митрофанием ответ держать: ты, мол, отец, а сын твой сызнова, видать, к беспоповцам гнет! К грамоте привержен больно, я и не рад, что обучил. Сам без грамоты прожил и, дай бог всякому, живу, да, вишь, мать его упросила: отдай да отдай к дьячку. Ну и отдал. Вон он теперь все книги дьячковские, кажись, знает, а больше и узнавать нечего. — Это правильно, — говорит сочувственно гость. — Выше себя не прыгнешь. А дочка у меня, не отцу сказать, всем взяла. – Верно, что так, — одобрительно говорит Василий Дорофеич.– Намедни ото всенощной шла, повстречалась: хороша! – Так как же, Василий Дорофеич? – А вот как приедет по осень, я ему скажу, — заканчивает хозяин, вставая. — Он хоть у меня и упрям, ну, а я еще поупрямее буду. Дома Осень надвигалась неслышно — с частыми дождями да с туманами. По утрам река была закрыта густыми дымчатыми клубами. Солнце к полудню закрывалось облаками. Последние стаи птиц улетели к далекому югу. — Машутка, — сказал вечером Василий Дорофеич, вставая от ужина и крестясь на большой темный киот, — ты утром поране Михайлову камору оправь, завтра к вечеру вернется, надо быть. — Чего там оправлять, — говорит хозяйка, — не архирея ждем! Пол вымоет, и ладно. Заря чуть занялась над краем леса, а Машутка, стоя на коленях, уже терла старательно пол в полутемной каморке Михаилы. От усилия лицо ее порозовело и косы растрепались по спине. Время от времени Машутка поднимает голову и прислушивается: не кричат ли на пристани, не встречает ли кто карбас, который может прийти и поутру. Но пристань безмолвна, безмолвно тихое село, и только ельник за домом шумит сухим шелестом. Утром молодые елки сгибались низко и шумели, роняя иглы, и по реке шла волна. А к вечеру большие волны уже стаями мчались с моря и ветер гулял над рекой и над пустынным берегом широкой Двины. Василий Дорофеич дважды выходил на берег, всматриваясь в темную даль. Нет, ничего не видно, сквозь завесу дождя только смутно проступали хилые кустики по берегам. В доме старый дед — отец мачехи, давно уже не слезавший с печки, — велел затеплить лампадки — «за души утопших». — Дедушка, — со страхом спрашивает его Машутка, — это кто же утоп-то? — Эх ты, ворота! Нешто мы про то могим знать! Ты гляди на реку-то, и на ней страшно! А в море каково? Смекаешь? Машутка приникла лицом к слюдяному окошку. За ним, за сетью несущегося с ветром дождя, темнота, непроглядь. Она накинула на плечи рваную шубейку и выбежала на крыльцо. Здесь все-таки легче, чем в избе, около деда. Но чернота ненастной ночи обступила ее со всех сторон. И вот сквозь шум дождя и ветра доносится до нее другой, заглушённый гул: звон якорной цепи и голоса с реки. В то же мгновенье сбегает Машутка с крыльца и мчится под гору, вниз к реке, не обращая внимания ни на дождь, бьющий холодными каплями в лицо, ни на ветер, захватывающий дыхание. В толпе, стоящей внизу, зоркие глаза ее издали различают Михайлу. Вот он! Как всегда неутомимый и сильный, чуть-чуть угрюмый среди толпы и сурово-ласковый с ней, Машуткой. Она берет его крепкую руку, и они вместе идут домой, где на крыльце ждет сына Василий Дорофеич. — Потрепало карбас-от? — дружески спрашивает он и пытливым взглядом окидывает загорелое лицо сына, всю его рослую, крепкую фигуру. — Потрепало изрядно, — говорит Михайло и не спеша докладывает отцу о проданной рыбе, о купленной соли и о карбасах, приведенных им в бурю исправно домой. Василий Дорофеич сегодня доволен сыном. И, указывая на него мачехе глазами, с затаенной гордостью говорит: — Как скажешь, хозяюшка, — не плохой помощник подрос? — Давно пора, — отвечает мачеха и встает от стола. — Ну, Михайло, ноне спать иди, я чай, устал немало. А завтра будет у нас с тобой беседа — всурьез говорить буду. Слышь, што ль? — Слышу, тятя, — не сразу отвечает Михайло и, опустив голову, уходит в камору. От вопроса к вопросу Михайло встал на заре и, тихонько отперев тяжелую дверь, вышел на крыльцо. За ночь разошлись все тучи. Вдали, на холодном западе, еще громоздились последние остатки дождевых облаков и восходящее солнце бросало на них нежные отсветы. Он всмотрелся в глубину неба. Потом оглядел знакомый берег, и дальний лес, давно облетевший, сквозивший тонкими ветками на темной синеве хвои, и речку в холодном тумане, и землю, белую от первого заморозка. В ту ночь первый иней пал на зеленую траву, и трава вся блестела в каплях росы от растаявших хрупких льдинок. Он смотрел, как тепло солнечных лучей постепенно меняло картииу, выпивая и туман и росу. И, как всегда, мысли его побежали обычным путем — от вопроса к вопросу, не находя никогда ответа. Тепло и холод, темнота и свет— привычные для всех явления каждого дня — для него скрывали в себе вереницы загадок. Каждый помор, плавая под парусом, узнавал безошибочно ветер, гулявший над волною: был ли то сельдяной ветер, или мягкий шелонник, или более суровый норд-вест. Но ни один помор не мог ему сказать, что такое ветер и почему меняются его пути. Каждый помор знал времена морского прилива и отлива, но никто не знал, почему бывает прилив и отлив. И яркие сполохи, мерцающие в небе разноцветным пламенем в морозные ночи, не занимали ничьих мыслей: погорят и потухнут. Где же источник этого холодного пламени и почему загорается оно в самые морозные ночи и, погаснув, сменяется синеющей тьмой без дна и предела, роящейся переливчатыми звездами? В осенние ночи из этой синей бездны внезапно вырывались сверкающие звезды и падали за горизонт. Почему именно в осенние ночи падали они с неба, как созревшие плоды? И куда они исчезали? Он побежал бы на край света, чтобы своими глазами увидеть упавшую с неба звезду! Дьячок, его учитель, говорил, что край света за морем. А приезжавшие в Холмогоры скупщики рыбы уверяли, что земля не имеет конца. Бывали дни, когда вся природа казалась ему неразрешимой загадкой. Он шел тогда к дьячку и вновь раскрывал все те же старые книги — часослов и псалтырь — и закрывал их, не найдя в них ответа. Эти книги, выученные им давно наизусть, ничего не знали об окружающей его жизни. Они не отвечали на его вопросы, и ум его бился, как птица в клетке, ища выхода. Но где-то глубоко в сердце Михаилы теплилась малым огоньком надежда на то, что этот выход когда-нибудь он найдет. Неожиданная находка После обеда Василий Дорофеич велел сыну надеть праздничную рубашку и новую оленью куртку. — В гости пойдем, — сказал он коротко, смазывая свои высокие сапоги тюленьим жиром. — К кому пойдем-от? — К Христофору Игнатьичу, к Дудину. У Дудиных, видимо, их ждали. Стол был накрыт по-праздничному; осеннее солнце бросало золотистые полосы на узорчатую скатерть. Усевшись за стол, Василий Дорофеич завел не спеша речь об осеннем улове, о делах на корабельной верфи, о норвежских купцах. Старый Дудин, заезжавший по торговым делам в разные места, и в ближние и в дальние, рассказывал о том, что все не утихает у старообрядцев пря о вере и не видно ей конца. Но о чем они ни говорят, глаза обоих внимательно поглядывают то на Михаилу, то на Парашу, хозяйскую дочь, отчего и без того румяное ее лицо вспыхивает до корней волос. Лицо это кажется Михаиле приятным, и причина праздничного приема ему ясна. Вот так же может и он прожить всю жизнь, как Дудин и как отец. Параша будет вести хозяйство, а достатки возрастут вдвое. В зимние вечера будет и он толковать о новой цене на рыбу, а по весне уходить в покрут и брать с собой старшего сына, как отец брал его. Гукор «Чайка» уйдет в. дальнее плавание... Он сам вместе с сыном поведет корабль... Разве плохая будет жизнь? Чем нехороша Параша, сидящая напротив в розовом сарафане и ожидающая — он видел это — с надеждой и волнением его ласкового взгляда? Его жизнь будет ясна и бездумна, как ясны и бездумны глаза девушки, обращенные на него. Но никогда не узнает он ответа на томящие его вопросы, никогда не утолит сжигающей его жажды познания мира!.. Когда он подумал об этом, страх охватил его сердце. Но вместе со страхом, побеждая его, зазвучали в сердце старый зов и старая надежда. И он отвел свой взгляд от ясных глаз светловолосой девушки. Он понял: путь его другой. — Михайло, — говорит Данило, старший хозяйский сын, — а нам отец лошадь купил. Ну и конь! Пойдем в стойло, поглядишь. — Подите, подите, — одобряюще говорит сам хозяин. — А ты, Прасковья, хлеба снеси коню-то. Проходя сенями вслед за Парашей и ее братьями, Михайло разглядел в полумраке старинный угольник без дверки, похожий на киот, заставленный не иконами старого письма, а настоящими книгами размером и побольше и поменьше. Он остановился, с жадным любопытством всматриваясь в толстые кожаные корешки. — Ежели желаете поглядеть — возьмите! — любезно сказала Параша. — Это батюшка иной раз привозит, а нам они ненужные. Но она скоро раскаялась в своей любезности. Найдя среди больших томов библии, часослова и «Жития святых» небольшую книжечку в разрисованном переплете, молодой гость раскрыл ее — да так и остановился, забыв обо всем. В полутемных сенях с каким-то непонятным девушке волнением он перевертывал страницы этой книжки, всматривался в строчки, читал, и снова перелистывал, и снова читал, – до тех пор, пока голоса звавших его хозяйских сыновей не вернули его к действительности. Войдя в сени, оба остановились, и Алексей с удивлением спросил: — Это чего ты здесь нашел в отцовском угольнике? Мы тебя коня глядеть звали, а ты где? — Книжку он, вишь, нашел, — ответила несмело за Михайлу Параша. — Эко дело! — тряхнул головой Данило. — Какой с нее толк? — Да вы поглядите, какая у вас книга-то! — взволнованно проговорил их гость, указывая на рисунок обложки: — Видите? «Арифметика!»— произнес он с таким выражением, что Данило переглянулся с Алексеем и в глубоком изумлении спросил: — А это чего? — Да ведь тут обо всем прописано, что на свете есть! И про ветры разные, и про морские приливы, и про луну — и число всему есть! Отдайте мне ее! — настойчиво и умоляюще он смотрел то на Алексея, то на Данилу. — Да уж отдайте, на што она вам-то? — опять робко вступилась Параша. Но Алексей и Данило молча уставились сначала на Михайлу, потом на книжку в его руках. Они почувствовали, что можно поторговаться. — А что дашь за нее? Михайло смотрел на переплет книги с четко написанным небывалым словом, которое скрывало в себе целый мир, невидимый и странный: «Арифметика»! Это была первая книга, говорившая о том, что так страстно хотелось ему знать. Он перевернул несколько страниц и смотрел с бьющимся сердцем, не веря своим глазам: здесь, в конце книги, было написано... о странах света, да, о странах света, о которых думал он всю жизнь, и о движениях воздуха, порождающих ветер и несущих перемену погоды! Значит, можно загодя узнавать погоду, чтобы не гибли так часто корабли от неожиданной бури... Он прижал книгу крепко к груди и спросил хозяйских сыновей: — Книгу отдадите? Што хотите берите за нее — ничего не жалко! — А что у тебя есть? — Да будет вам, — говорит Параша, — пущай так берет. И, застыдившись своих слов, она ушла в дом. Торг шел горячо. Михайло предлагал все свое имущество: олений новый тулуп, и старую книгу — часослов, и собранные им на покруте большие морские раковины... Но они отвергали все это, пока Данило Дудин не спросил внезапно: — А живого моржонка достанешь? — Достану. — Ну, коли так, бери книгу. Да уж так и быть, добавим одну, какая приглянется. Этой второй книгой, приглянувшейся Михаиле так, что он и ее выучил наизусть, была «Грамматика» Смотрицкого. Огневица Хозяева провожали их до крыльца, как почетных гостей. Оглянувшись, Михайло увидал Парашу: она стояла позади всех в бархатной, накинутой на плечи короткой полушубейке, и, почувствовав на себе ясный взгляд ее глаз, он отвернулся и крепче прижал к себе книгу. Нынче же вечером итти нужно на верфь, к дяде Еремею. У того по всему берегу до Мурмана — все знакомые. Попросить бы кого насчет моржа — может, помогут достать. Он отслужит, все равно чем. Или взять тайком отцовский карбас и плыть самому наудачу — может, где и повстречает рыбаков с морским зверем. Токмо их в апреле берут, не по осень. И далеко берут, самому не доплыть. — Ну, сын, — внезапно прервал его мысли Василий Дорофеич, — сказывай-ка мне, который тебе год пошел? Запамятовал? Михайло со сдержанной усмешкой поглядел сбоку на отца. — А то не знаешь? Люди бают — осьнадцатый. Василий Дорофеич тоже усмехнулся. — А не бают люди, что не по закону живешь? Михайло остановился и посмотрел в лицо отца упрямым, отцовским же взглядом. — Это как — не по закону? — Понеже сказано в законе: нехорошо человеку одному быть. Али забыл? — Не-ет, не забыл, — говорит Михайло и опускает голову.– Учиться мне надобно... Вот что. Густые брови отца сурово сдвинулись. – Tа-ак, — сказал он медленно. — В монахи хочешь? А то, может, в дедову ересь, к самосжигателям пойдешь? Иди, иди, токмо мне на глаза не кажись! Он расстегнул ворот зипуна, словно вдруг ставший ему узким, и зашагал куда-то вбок, один, в сторону от дома, в сторону от сына. Но сын не дал ему уйти. — Тятя, — позвал он его, — а тятя! Василий Дорофеич остановился и ждал, не глядя на сына. — Погоди малость: до рождества погоди, а после крещенья я те перечить не стану. Отец строго взглянул на него исподлобья. — Ну, помни, Михайло: последний даю тебе срок. Ученье из головы выбрось: дьячок всему обучил. А после крещенья бери в жены Прасковью и хозяином становись. Грамоту превзошел, счет товару ведешь, поморское дело наше не хуже других ведаешь. А боле и знать нечего. Запомни! — А я хочу про все знать, — упрямо говорит его непокорный сын. — Это про чего же, про все-то? — усмехнулся Василий Дорофеич. Михайло закинул голову и поглядел в чистое небо: тонкий, еще прозрачный серп новолуния начинал тихо светлеть в холодеющем воздухе, и на темной стороне неба проступали, дрожа, осенние звезды. Земля лежала темная, затихшая в ожидании снега и покоя зимы. Он протянул руку и широким движением обвел и небо, и сумрачный берег свинцовой Двины, и дальние туманы, где сливалась она с морем. — Вот, — сказал он твердо, — про все, что ни есть в свете: и про небо и про землю, на коей стоим. Василий Дорофеич посмотрел на сына: он показался ему каким-то новым и словно чужим. «В кого это он, прости господи, уродился? — подумал он. — Не было у нас таких-от, почитай, ни у кого». Так он подумал, а сказал иначе: — Ну, стало, на том и порешим, так и мачехе скажем: посля крещенья дурь из головы бросишь и оженишься, а я буду внука ждать, у нас вон, гляди, дом-от хорошим хозяевам под стать! Он с гордостью посмотрел на дом, к которому они подходили. Дом, последний с краю, на высоком месте. Крепко слажены крупные бревна. Над подновленной крышей вьется дымок. Дом выше других, чище других, с палисадом перед широким крыльцом, с узорчатой резьбою пестрых наличников. А в доме — чистота, тишина, ровно теплятся цветные лампадки. И покрикивает мачеха на покорную Машутку, пробегающую неслышно по чистым половикам... Машутка встретилась им у крыльца с двумя ведрами воды на коромысле. — Дай я подсоблю, — говорит Михайло и одним легким движением снимает тяжесть с ее полудетских плеч. Мачеха вышла к ним, молча, с любопытством всматриваясь в их лица. Василий Дорофеич весело окрикнул се с порога: — Ну, хозяйка, посля рождества будет вас двое: гляди, все хозяйство в исправности молодухе сдай! — Слава те, господи! — сдержанно говорит мачеха. — Стало быть, поладили? — Дело за парнем, они хоть сейчас готовы. Парень просит до крещенья не играть свадьбы; ну, впоследок я ему поблажку дал. А верхнюю горницу готовить будем для молодых. Машутка стояла в сенях. В раскрытую дверь с похолодевшего неба заглядывал новорожденный месяц. Ей показалось вдруг, что тонкие острия его серпа вонзились ей в сердце и оттого забилось оно так, охваченное непонятной жгучей болью, какой она не знала никогда. Два раза в детстве лежала она в огневице. Тогда у нее болела голова и ныло все тело. Потом схватило однажды горло от студеной воды. И еще — нарывал как-то палец на правой руке. Девять ночей не могла она заснуть ни на минутку от острой, дергающей боли, и рука стала у нее тогда, как чужая. Эта же боль была ни на что не похожа, и непонятно, отчего она вдруг — неужели от слов Василия Дорофеича? — прошла через всю Машутку, охватив и сердце и голову и сделав бессильными руки? К непонятной этой боли долго ночью прислушивалась Машутка, лежа на своей узенькой лавке. Нто же такое случилось? Словно бы и ничего: ничем она не больна, и Михайло, заступник ее, спит за стеною в каморе. Но словно холодом каким дохнуло ей прямо в сердце, и все внутри онемело, как от мороза... Нет, лучше уж огневица, и легче, когда болит горло, и даже от нарыва так не ныла рука, как заныла душа Машутки неведомо отчего. «Звездам числа нет...» У заказчика на верфи, приезжавшего к дяде Еремею с северного беpera, достал Михайло маленького моржонка. Он отработал за него четыре дня, покрывая краской новый большой карбас и выводя затейливый узор на корме. На пятый день купец, торгующий морским зверем, подарил ему Абрамку, как звали поморы моржовых детенышей. Абрамка был юн, но очень неуклюж и тяжел, и тупо тыкался круглой мордой во все стороны в поисках холодной воды. Поздно вечером, взяв тайком отцовскую лодку, доставил его Михайло сыновьям Дудина, ждавшим на берегу. А еще через несколько дней в большом сарае, в лохани с пресной водой, умер бедный Абрамка, оторванный от родной стихии. Но книга была у Михайлы. Он прятал ее тщательно от всех взоров, и никто в доме ее не видал. Все же сыновья Дудина остались в убытке: ни книги, ни моржа. И, повстречав как-то вечером Михайлу, которого дьячок вызывал в церковь читать часослов, они заговорили о новой оплате. — А что, Михайло, за книжку ту на могиле колдуна переночуешь? — спросил Данило, кивком головы указав на дальний угол кладбища. Глаза его брата застывают от ужаса. Там похоронен давно умерший колдун, умевший заговаривать скот от разных болезней, останавливать кровь и предсказывать судьбу девушкам, прибегавшим к нему со всего Курострова. Вся округа боялась, как чумы, его могилы, из которой, по слухам, выходил он по ночам. Но Михайло только вздохнул и просто сказал: — А то што же? У Ломоносовых ложились рано. Дождавшись того часа, когда из задней горницы раздалось мерное похрапывание Василия Дорофеича, когда перестал кряхтеть и охать на теплой печке дед, Михайло осторожно приоткрыл дверь каморы. В большой горнице горела, мигая, одна лампадка. Машутка, свернувшись, спала под теплым платком. Михайло дотронулся до ее плеча. — Машутка! — позвал он тихонько. Она мгновенно проснулась и села на лавке. — Ты чего? — отозвалась она шопотом. — Дверь замкни за мною, я к утру ворочусь, как тяте встать. Машутка, накинув платок на голову и стараясь не скрипеть половицей, пошла к дверям. — Куда идешь-от? — спросила она. — На погост, — ответил он, приоткрывая дверь. Машутка замерла. — На пого-ост... — повторила она с ужасом.— А на што он тебе, погост-от? — Стало быть, нужно, — сказал он только и уже за дверью, обернувшись, добавил: — Дело такое есть. Токмо ты молчи, ладно? — Ладно, — тихо говорит Машутка, чувствуя, что с ним, пожалуй, даже на погосте, где спят мертвецы, ей было бы не страшно. У поворота дороги ждали его Данило с Алексеем. Они хотели видеть и убедиться, что он без обмана, на самом деле, останется на погосте один. — Михайло, — шепнул Данило, — неужели не забоишься? Так и заночуешь? — Раз сказал, значит заночую, — говорит Михайло, быстро удаляясь, и что-то в голосе его убеждает обоих братьев, что он их не обманет. Они подождали. Наплывали тяжелые осенние, облака. Небо потемнело, и беззвучна была темная земля. Братья испуганно взглянули друг на друга и молча побежали прочь. Шелест сухих листьев баюкал его, точно тихою песней. Потом и он затих. Наступило глубокое безмолвие, даже собаки не лаяли во дворах. Елки над его головой покачивали тихонько ветвями, посыпая землю старыми иглами. И под их мерное качанье Михайло заснул. Проснулся он от холода уже глубокой ночью и поднял голову: в неизмеримой бездне сверкали и переливались осенние звезды. От блеска бесчисленных oгней захватывало дыхание. — Звездам нет числа... числа нет звездам... Он долго искал слов. Ему хотелось, чтобы они звучали, как песня. Слова бились в голове и в сердце, но это были не те слова, которых он ждал. И вдруг, точно упавшие откуда-то сверху, вспыхнули и запели те, которые были ему нужны: «Звездам числа нет, — пел в нем какой-то голос, — бездне — дна». Когда на ранней заре в легко наброшенном на плечи полушубке Михайло бодрым шагом шел домой, осенний утренний холод пьянил его, как хмельная брага, глаза горели от радости, а губы шептали по-новому родившиеся в нем слова: Открылась бездна звезд полна. Звездам числа нет, бездне — дна. ОН еще не знал законов стихосложения, но эти две строки, слившиеся спустя много лет с другими, дали ему впервые живое ощущение поэзии и власти слова. Гость из Москвы Кончен ужин. Потушены светильни. В тишине отчетливей слышно, как бушует за толстыми стенами пурга. Машутка еще не спала, когда кто-то постучал в окошко, залепленное снегом. Она накинула платок и вышла в сени. Теперь стучали в дверь, и она узнала голос старого дьячка. Когда Машутка впустила дьячка в сени, она увидала, что он не один. За ним вошел высокий седобородый старик, запорошенный снегом, как и Никитыч, с головы до ног. — Подь, Машутка, скажи хозяевам — постояльца я на ночь привел, гостя из Москвы. Василий Дорофеич вышел в сени. Дьячок рассказал, что гость ехал через Холмогоры и попали они с ямщиком в пургу, сбились с дороги, а теперь до утра и тронуться никуда нельзя. Засветили снова огонь, подали, по гостеприимному северному обычаю, горячее на стол. Гость от усталости дорожной или от позднего часа был за столом немногословен. Поговорили о холмогорской ярмарке, да пожаловался Василий Дорофеич на оскудение города после страшного пожара. Почитай, большая половина города переехала после того в Архангельск, а Холмогоры теперь только и оживают, что в дни ярмарки. Василий Дорофеич встал от стола. Никитыч, отужинав и прочитав молитву, нахлобучил поглубже свою старую оленью шапку, готовясь храбро шагать под пургою в обратный путь. А Михайло, взяв светильню, пошел проводить приезжего в верхнюю горницу, которую вытопили на случай гостей. Немногословный гость, войдя в горницу, оглядел ее из-под седых нависших бровей и остановил внимательный взгляд на Михаиле. — А как тут, паренек, насчет икон? — осторожно спросил он. — У Никитыча много старых икон хранится. — У дьячка я видал. Те мне сейчас не надобны. Ищу я, паренек, новогородского письма. И книги старые. Смекаешь? Михайло молча кивнул. — Книги мне нужны писаные и не петровские. — А это какие же петровские? — А какие царь Петр у нас на руси завел да из-за моря выписывал. Мне божественного откровения писания нужны и древнего благочестия книги. Я вот и думаю: на ярмарке-то промеж купцов пушным товаром, может, у кого и книги и иконы есть? — Есть. Отец покажет. А петровские книги у вас есть? — А тебе насчет чего? Михайло на минуту задумался. — Да мне бы про науки про всякие... Про земли и про моря, про корабли... — Про корабли одна книжица есть у меня, токмо не с собою, а на Москве. — А школ на Москве много? — Школы есть. Навигацкая есть школа — насчет мореплавания — это что у Сухаревой башни. А еще духовная школа Заиконоспасского монастыря, Академия прозывается. А тебе на што? — Так спросил... И Михайло ставит светильню. Но в дверях он оборачивается и очень тихо говорит: — Вы мне на бумажке... пропишите, прошу я вас... про школы про те. — Это что ж написать-то? — Где они там... на Москве-то... И как их найти... — еще тише говорит Михайло. Гость достает клочок голубой бумаги, пишет на нем несколько слов и протягивает Михаиле. — Ты что же, никак на Москву собираешься? Михайло в нерешительности стоит на пороге. — Нет, это я так, — наконец говорит он, — меня отсюда отец не пустит. — Еще бы! Нелегкое дело — отпустить от своего дому такого молодца! Но и то помни, отрок, — медленно и словно размышляя, сказал гость, — жажда познания есть великое дело и к цели своей надлежит неуклонно итти. После этих слов гость пожелал Михаиле спокойного сна, и Михайло ушел. В темных сенях он бережно свернул полученную бумажку и так же бережно спрятал ее за подкладку кафтана. За толстыми стенами попрежнему бушевала вьюга. Над сонным безмолвием гудели ее голоса, и крутни сухого снега вплетались все выше над темным селом и над домом, точно припавшим к земле. Отец и сын Утро было безмятежно-тихое. Над снегами встало морозное солнце, зажигая ослепительные блестки на белых полях, на пышных сугробах, поднявшихся до вторых этажей. Михайло провожал отца, уезжавшего в Холмогоры, и помогал таскать в кибитку дорожную поклажу, устроив все, он подошел вплотную к усевшемуся в санях Василию Дорофеичу и спросил: — Тятя, а ты меня отсюда никуда не отпустишь? Василий Дорофеич посмотрел на сына и нахмурился. — Это куда же, к примеру, пустить-от? На какой такой предмет? Чего тебе тут не хватает? — Ты знаешь. Василий Дорофеич гневно оглядывает сына с головы до ног и, как ножом, отрезает: — Сто раз тебе сказано и напоследок говорю: ученья было тебе досыта. По моей воле никуда отсюда не уйдешь, разве потайно, а в том я не волен. А не хватает тебе, парень, доброй жены, и я — вот те крест! — коли ты супротив пойдешь, силком тебя оженю. Так и запомни! Сани отъехали. Они легко мчатся по свежему, но крепкому снегу, и вот скрип полозьев затихает вдалеке. Михайло глубоко вбирает воздух широкой грудью и долго смотрит, как исчезает вдали кибитка в снежной блестящей пыли. — Михайло, поди во двор, лошадь убрать надо, — говорит Василий Дорофеич, вернувшись с ярмарки к вечеру. — С приездом, Василий Дорофеич! — мачеха встает и кланяется в пояс мужу. Михайло вышел из дому, распряг и убрал лошадь и внес в дом сундучок. Мачеха нетерпеливо откинула крышку. — Ох, и хорош будет сарафан! — сказала она, просияв и вынимая из сундука цветистую ткань. — Там, под ней-то, и для Машутки есть, пущай и себе справит. Лицо мачехи темнеет, и она недовольным глазом косится на мужа. — К чему бы ей-то? Чай, не невеста! — Как знать, может, и заневестится. Михаилу окрутим, а там и о ней помыслим. Михайлето я кое-что привез. Он теперь жених. Себя обряжать надлежит ему статно. Ну-ка, вынь! Мачеха вынула из сундучка меховую пышную шапку и шелковую, расшитую по вороту рубаху. — Благодари отца-то, — говорит она завистливо, передавая подарки Михайле, — все он об тебе помнит, ни коли не забудет. — Да как же мне об нем забыть, — примирительно усмехнулся Василий Дорофеич, — чай, у меня, окромя его, ни детей, ни помощников нету! Вот еще малость повременю, а там все дела ему передам. Михайло отвернулся к окну, и что-то похожее на гримасу от боли пробежало по лицу его. Потом он подошел к отцу и, вдруг обняв его, чего никогда не водилось в суровом поморском быту, дрогнувшим голосом сказал: — Спасибо. Василий Дорофеич взглянул на него, и на минуту встретились глаза их, одинаково упорные, одинаково смелые и живые. Взгляд Василия Дорофеича смягчился, посветлел и совсем просто, подружески вдруг он сказал: — Кабы ты у меня не один был, я бы тебе, может, и перечить не стал: иди учись, куда хошь. А теперь, Михайло, силой тебя держать нет моей такой воли: хочешь — иди, а токмо без тебя один я, как перст, на земле. Михайло стоял молча, низко опустив голову. Потом он сложил в ларец отцовские подарки и, не глядя на отца, быстро вышел. Стояла необычайная тишина прозрачного вечернего часа, и слышно было, как далекодалеко в лесу кто-то рубит дерево. Огромным рубином пламенело морозное солнце. Старый бор чернел на вечернем небе, и кружились в алом свете птицы над Двиной. Да, такой он хотел сохранить ее в своей памяти — родину. И таким, каким был он сегодня, запомнить отца. В Николин день Николин день — самый почитаемый праздник у поморов и, несмотря на непогоду, церковь полна народу. За решетчатыми окошками проносятся белые вихри снега. На паперти, когда разошелся народ, остановились два человека в длинных тулупах с поднятыми воротниками. Тот, что постарше, с лицом острым, как лисья морда, наклонился к другому: — Слышал, как ноне Мишка Ломоносов голос выказывал? — А ему и похвалиться больше нечем: книг-от старых не разумеет. — Ну, ты не очень тому верь, — говорит старший. — Сказывают, знает получше нашего. — Зато и спеси набрался: я, мол, начетчикам не чета... — А спесь очень просто сбивают... — Старший начетчик оглянулся на расходящуюся по домам толпу. Метель, закрутив снежинки, бросила их, словно рассердившись, вслед двум удаляющимся фигурам и понесла дальше — вдоль деревенской улицы. В парадной горнице Василия Дорофеича, освещенной жировой светильней, накрыт стол для гостей и стоят две еще не зажженные сальные свечи. Ветер задувает сквозь щели лампадку и порывами бросает пригоршни снега в мутное окно. Старый дед наблюдает, свесив голову с печки, за Машуткой, которая старательно накрывает на стол, напевая какую-то нехитрую песенку. — Для меня отдельно положь, — говорит он ей строго. — Ты мотри, который гость новой веры, тому хозяйску миску не ставь: опоганит. — Дедушка, — говорит Машутка, — а как же его узнать-то, какой он веры? — Эх ты, ворона! — гудит сверху дед. — Правильна вера двуперстного креста, старого. А кто в три перста крест кладет, тот и веры неправильной. Чуешь? — Чую. — Ну, вот и гляди ему на персты. — И, дав такой совет, дед начал было устраиваться поглубже на печи, но сильный порыв ветра, прогремев ставнем, остановил его. — Не пойму, какой зачал ветер-от: сельдяной али еще какой... Ох, не скоро теперь шелонник подует! — Зачем не скоро-то? — спрашивает Машутка. — Ну, вона, спросила невесть чего! Тот ветер теплый, с реки Шелони идет, с дальнего Новогорода. Нешто он до весны дует! — ворчливо говорит дед, вытянув голову и прислушиваясь. Взгляд его падает на готовую потухнуть лампаду. — Машутка, — зовет он сурово, — светильню оправь! Она оправляет фитиль и стучит в дверь каморы. — Дядя Василь! Гости стукают, велено вам вставать. Входят, внося с собой поток морозного воздуха, первые гости. Отряхнув снег с полушубков, не спеша крестятся на темный киот и мнутся у порога, поглаживая смазанные маслом затылки. — Иван Пахомычу, будь здоров — говорит сосед Иван Банев, кланяясь деду. — А мне здоровье не надобно, мне помирать пора. Двое крепких стариков с лицами, сожженными ветром, останавливаются на пороге. — Ты что же это, Иван Пахомыч, допрежь нас помирать спешишь? — щуря на печь острым глазом, весело бросает один из них. — Мы еще, гляди, по весне с тобой на Матку за морским вверем в покрут пойдем. — Не-е, отходился я, — словно нехотя, отвечает дед. — Как на Онегу за белухами сходил, так больше мне и ходу нету. — Честь да место, — говорит, выходя к гостям, Василий Дорофеич, И хозяйка, внося горячую уху, добавляет: — Просим на лавки. Усаживаются, крестясь и поглаживая бороды, и Василий Дорофеич встает со своего места навстречу входящему Дудину. — Ну, гости дорогие, — говорит он, подставляя ему лавку, — шаньги да уха, да беседа неплоха. Говорят о погоде, о заметели, набросавшей глубокие сугробы, поздравляют друг Друга с праздником, а хозяина с прибылью. Но вот новый гость, расправляя пальцами длинные волосы, подходит с поклоном к столу. — А-а, отец Никитыч! — говорит хозяин. — Садись, прихлебай. Никитыч читает короткую молитву и усаживается за стол — Во благопотребие прихлебну, — говорит он. — Погода малость утихает, и усмотрел я в небесах просветление. — Это к морозу, — отвечает хозяин. — К морозу и есть, — кивают гости и принимаются за треску. Никитыч старыми, уже подслеповатыми глазами оглядывает присутствующих. — Удивления достойно, что не токмо за трапезой, но и вовсе в дому не примечаю. Михайлы. Отрок сей, — поясняет он гостям, — ученик мой есть наилучший, понеже и часослов и все писание аз, многогрешный, не лучше его ведаю. Слова эти вызывают громкое одобрение всех присутствующих, за исключением хозяйки. — Не крестьянское дело это, отец Никитыч, — говорит она вздыхая. — Набаловался с книгами-то, теперь и осепениться пора. Ему намедни дед наш изъясняет, где край земли приходится, а он ему сдуру-то: земля, говорит круглая! — А это, хозяюшка, уж не нам судить, — говорит сосед Банев. — Насчет того и я слыхал, — поддерживает его светлоусый рыбак. — Ну, а тебе-то не все одно — круглая али не круглая? — обернулся к жене Василий Дорофеич. — Пущай болтает, он зато всем, кто ни попросит, бумаги составляет. Это тоже, Арина Семеновна, понимать надо. Василий Дорофеич посмотрел на дьячка. — А нешто он за вечерней-то у тебя не был? Я так полагал, что с тобой придет. — И не токмо был, но по настоянию моему псалтырь читал с клироса, — с явной гордостью говорит дьячок, — и ушел от меня во благовремении, стопы направив под отчий свой кров. Полагаю, что... Но он не кончил: дверь быстро открылась, и Михайло, без шапки, с разорванным воротом полушубка, предстал взорам гостей и родных. — Нате вам, каков заявился! — гневно восклицает мачеха. Подозрительным взглядом осматривает сына Василий Дорофеич. — С кем дрался? Гляди, волосья-то все в снегу! Шапка-то игде? Али жарко? Михайло, не отвечая, стряхииает рукавом снег с головы и продолжает стоять, не глядя ни на кого. — Кто бил, спрашиваю? — повторяет Василий Дорофеич, — Беспоповцы, — отвечает, наконец, сын и направляется к себе в камору. Но отец останавливает его, явно смягчаясь. — Сколько? — спрашивает он кратко. — Двое. — Ну и как же — ты их, али они тебя? — уже усмехается Василий Дорофеич. — Допрежь они меня, а наконец я их, — слышится спокойный ответ, и Михайло проходит к себе, сопровождаемый общим гулом одобрения, в то время как отец не без гордости говорит гостям и больше всего Дудину: — Уж, кажись, в третий раз его беспоповцы бьют: зачем от них ушел да в церкви псалтырь читает. — Злобствуют на отрока сего, — добавляет Никитыч, усмехнувшись. — Вот и лают, яко псы, за преуспеяние в изучении писания. Любопытство гостей возбуждено в сильнейшей степени, и Банев, положив широкую ладонь на стол, решительно обращается к Василию Дорофеичу: — А ну-ка, хозяин, уважь гостей, прикажи сыну-то показать нам ученость. Это дело не простое, великое дело! Его поддерживают все. Молодой светлоусый помор говорит Никитычу: — Сами-то мы грамоту не ведаем, а уж грамотеев любим, нечего сказать. — Да уж прикажи, Василий Дорофеич, — говорит и Дудин. Василий Дорофеич не прочь похвастаться перед гостями, но из приличия отнекивается: — А я что ж, я в том не волен. Вот отец Никитич пущай накажет ученику. Никитыч громко возглашает: — Михайло! И когда ученик его выходит к гостям, он говорит решительно: — Отрок Михайло, понеже желательно гостям дома сего поучиться у тебя премудрости, выдь на середку горницы и читай. — А чего читать? — спрашивает Михайло, послушно став в стороне от стола. — Реки нам, отрок Михайло, пресветлого мужа, сиречь Симеона Полоцкого, писание касательно любови к премудрости. Симеона Полоцкого знал Михайло наизусть. Он смог бы прочитать им другие его вирши, которые любил повторять про себя, поражаясь складностью речи этого первого сочинителя, открывшего ему начала поэтического языка в рифмованной, переложенной в стихи псалтыри. Но те, о которых говорил Никитыч, были легче для слушателей, и он прочел, слегка смущенный присутствием Дудина: Ходяй при водах — всяко омочится, Приседай к огню — тепла исполнится. Тако читаяй книги божественны,\ Аки по нужде, будут умудренны. Гости поражены и складностью речи, в которую уложились мудреные все же слова, и знаниями Михаилы. А учитель, вдохновленный успехом ученика, добавляет; — Зело умно муж сей о розге писал!.. Ну-ко, отрок Михайло! И отрок Михайло послушно читает: Жезл тверд плевелы от пшеницы отбивает, Розга буйство из сердец детских прогоняет. — Правильно! — говорят гости. — Это начисто сказал, — одобряет и Василий Дорофеич. И только мачеха сухо говорит Михаиле: — Ну, садись к столу, хватит грамоты-то, я чай. Дудин одобрительно поглядев на Михаилу, обернулся к Василию Дорофеичу. — А слыхал ты, Василий Дорофеич, как он книжку у моих сыновей выслуживал? Потеха, я тебе скажу! — говорит он, не замечая, что лицо Михаилы бледнеет и брови хмурятся. — увидал он у моих парней книжку — Прасковья сказывает, что она им и не нужная, — и зачал ее просить. А парни мои видят, что он за нее на все готов, и давай блажить: «Ночуй, говорят, за то на могиле колдуна». Так что же ты думаешь? Заночевал ведь на погосте-то и книжку получил. Вот ты что скажи, Василий Дорофеич! Но громкий голос деда прерывает рассказчика: — Осквернился, значит, мальчишка и скверну в дом-от занес! — Да нет, Иван Пахомыч, — пытается успокоить его Дудин. — Я к тому сказываю, что упорен он на своем-то, не моим парням чета, и за то его хвалю. — Михайло, — повышает голос Василий Дорофеич, — при честных гостях говорю, покажь книжку! Не то худо будет. Игде она, спрашиваю? — Он в каморе все книжки хранит, там ищите, там! — протягивает дед с печки костлявую руку. Михайло взглянул на своего старого учителя, как на последнюю защиту. Но Никитыч сказал: — Ну, отрок Михайло, давай. Тогда он подошел к полушубку, вынул запрятанную за подкладку книгу и молча подал отцу. Василий Дорофеич передал ее Никитичу. Старик взял ее обеими руками и поднес к самому огню. — Что сие — не разбираю, — произносит он, наконец, в недоумении, — восьмой десяток аз, многогрешный, по земле хожу и все наблюдаю, а такой книги не видал. Воцаряется недоуменное молчание, и взоры гостей обращаются к Михайле. — Что за слово? — спрашивает дьячок, протягивая книгу Михайле и указывая на ее заглавие. — Арифметика, — произносит, наконец, Михайло, и от страшного этого слова, как от удара, все вокруг приходит в движение. — Кто сочинитель, сего? — грозно спрашивает отец. — Магницкий сочинитель, — угрюмо глядя в сторону, отвечает Михайло. И после размышления объявляет всем громко Никитыч, возвращая книгу Василию Дорофеичу: — Книжка сия не духовная. Не часослов, не псалтырь и не писание, еже от отец наших дано. — В огонь ее! В огонь! — замахал руками дед. — От книг погибель идет человеку! Еретики пишут, им же сам дьявол рукою водит! Накликает сия книжка несчастья на дом! — Ой, батюшки! — вскрикивает мачеха крестясь. — Сжечь ее, окаянную! Михайло бросается к отцу, протянув руки за книгой: — Жечь не дам! Неожиданный возглас Машутки обращает на нее общее внимание: — На што жечь-то хотите? Верните ему! — говорит она дрожащим, но все же решительным голосом, подняв на грозного деда лучистые глаза. — Вона и заступница сыскалась! — посмеиваются гости. Но отец, отведя руку Михаилы, говорит решительно: — Книгу Никитичу дам, на разгляд. — Не трожь ее, Никитыч, не трожь! — зловещим голосом кричит дед. — Арина, оберни ее полотенцем с иконы да ко мне на печь положь, — приказывает он хозяйке. — Да не суй ее ко мне близко: в ноги, под валенки положь. Поутру сожжем порождение дьявольское. — А на самом-то деле, — вдруг твердым голосом заговорил Банев, — книжка-то эта, может, для ученых написана, для вольготных людей. Какой в ней вред? Парня тоже уважить надо. — У нас, слава те боже, — неторопливо промолвил и Дудин, — на севере-то и с Москвы вольготных людей немало бывало. Грамотеи, бывало, про все разъяснить могли, шли сюда не своей волей, — царской да боярской. А как обжились — так и север стал мил. Верно я говорю, Иван, как по-твоему? — обернулся он к задумавшемуся Баневу. — А как же, Христофор Игнатьич, — встрепенулся тот: — у нас и раскольники спасались и опальные от царского гнева, — из тех, что правду любили. Но звонкий голос Машутки внезапно покрывает все голоса. Она указывает на щель приоткрывшихся ставней и со страхом повторяет: — Сполох! Сполох! — Эка дура, — отзывается мачеха, — сполоха испужалась! Чисто не видала никогда. Но Машутка, словно в первый раз увидев северное сияние, продолжает, не отрываясь, смотреть в узкую щель. Тогда Василий Дорофеич широким движением раскрывает ставни, и переливчатые алые волны океаном света врываются через слюдяное окно. — Эка сила огня-то, — говорит Василий Дорофеич. — Такого и я давно не видывал. — Словно все небо распадается! — шепчет мачеха. Никитыч угрожающе произносит: — Се колесница огненная во устрашение человеков! Трепещем бо и ужасохомся... — Все, все сгорим! — мрачно гудит дед. — Сгорим, яко столпы огненные, и претворимся в прах и пепел! Старый помор берется за шапку. — Пойдем до дому, покуда не погасло! — Не-ет! — уверенно заявляет молодой светлоусый рыбак. — Этот долго не погаснет. И гости начинают расходиться. — Мне нонче сполох-от кстати, — говорит Дудин прощаясь. — Нонче у меня обоз с рыбой в ночь на Москву идет. — Хозяевам за хлеб, за соль низкий поклон! — кланяются гости и один за другим уходят в морозную ночь, мерцающую холодным пламенем. Оставил все Ставни плотно закрыты. Мигает тускло светильня. Потом и она гаснет. Спит Машутка и не видит переливчатых волн света, играющих в темном морозном небе. Не видит, как открывается дверь каморы и осторожная тень входит в горницу. Но вот чья-то рука тихонько касается ее плеча. Она наполовину просыпается. Узкая полоска яркого света падает ломаной линией на стену и на пол, и сквозь сон слышит Машутка знакомый голос, который торопливо шепчет ей в ухо: — Машутка! Слыхала? Обоз идет на Москву! — Пущай идеть, — шепчет Машутка и закрывается плотнее тулупчиком. — И я уйду... за ним... Эти слова мгновенно вырывают ее из сна. Она быстро садится за лавку, стараясь разглядеть лицо Михаилы, сказавшего эти страшные, еще не понятные ей слова. В первую минуту подумала Мангутка, что он опять идет на погост, как в ту осеннюю ночь. Но вот он стал в полосу света, и ей ясно видно, что он одет, как в дальнюю дорогу; на нем теплая шапка, высокие валенки и маленький мешок за спиною. Лицо его серьезно и решительно, и что-то новое, упорное и непреклонное видно в глазах, обращенных на Машутку. — Чегой-то ты говоришь-от? — переспросила она с испугом. — Уйду, говорю. Встань тихонько, дверь за мной замкнешь. — Куда уйдешь? — На Москву. — На Москву-у!.. — протянула Машутка. — А игде она? — Далече. Итти долго надо. Хлеба мне собери в узелок, а это вот тяте отдашь поутру. Он протянул ей лист грубой серой бумаги, потом подумал и оставил его у себя. — Ладно, не надо. Ивана Данилыча попрошу. Отец простит, — сказал он совсем тихо, — он знает. Тогда только поняла Машутка, что он в самом деле уйдет и уйдет сейчас, сию минуту. — Уходишь? — всплеснула она руками. — Потайно? Хватятся — чего я скажу? А мне как же теперь без тебя-то? Она заплакала — беспомощно и горько, как плачут дети, испугавшиеся темноты. — Не плачь, — сказал он с обычной своей ласковой суровостью. — Мне учиться надобно, а здесь чему меня научат? Книжки жечь? — Про чего учиться-то? — спросила Машутка, глядя на него сквозь слезы, застилавшие ей глаза. — Про все, — ответил он твердо: — и про то, отчего сполох в небе играет зимою, и про то, как бурю загодя узнавать, и про землю, и про звезды... — Про звезды?.. — повторила Машутка недоверчивым шопотом. — Про все, — сказал он еще раз и обернулся на печь, откуда доносился мерный храп деда. — Где она у него? — произнес он в раздумье. — Кто? — испуганно спрашивает Машутка, — Книжка, — шепчет Михайло и неслышно подходит к печке. Машутка в ужасе закрыла глаза: что будет, если дед проснется? — Не трожь! — еле слышно говорит она, окаменев от страха. Но Михайло одним быстрым движением выдергивает книгу из-под валенок деда и, переводя взволнованно дыхание, останавливается у двери. — Вот она, книжка моя! — говорит он с торжеством и бережно кладет ее в мешок. Машутка дрожащими руками положила туда же хлеба и кусок пирога. Ну вот, все готово. Он оглядывает еще раз крепкие бревенчатые стены, и киот, и угол, и большую лавку, и Машутку, которая сидит на лавке, уронив голову на стол, и плачет тихим, надрывным плачем. Острая жалость кольнула его сердце, и что-то на минуту затуманило глаза. Он подошел к Машутке и, наклонившись, погладил ее по густым волосам. — Не плачь, Машутка, — ласково сказал он, — я ворочуся. Она подняла к нему лицо, и глаза ее мгновенно загорелись лучистым блеском. — Воротишься? Когда? — Через пять годов, — говорит он тихо. — Через пять годов! — повторяет Машутка. Потом он делает шаг к двери и, обернувшись, говорит: — Ну, теперь прощай. — Путь добрый, — шепчет она. Они вместе поднимают тяжелый засов. На мгновение только, когда открывал он дверь, прижалась русой головой Машутка к его широкому плечу, а когда он сошел с крыльца — ей показалось, что душа ее ушла вместе с ним. В дальнюю дорогу Иван Банев, сосед, чья изба, после ломоносовской да Шубных, была самая складная на селе, служил когда-то писарем в Куростровской волости и пользовался даже в Холмогорах всеобщим уважением. Но не любил Бапев писарского дела. Был он прирожденный крепкий помор и скоро вернулся к своему исконному занятию — к рыбному промыслу. С ним вместе не однажды Михайло в плавание ходил и любил умного, энергичного помора, видавшего немало на своем веку. Вернувшись вечером от Ломоносовых, Иван Данилыч закрыл покрепче ставни, запер дверь и, осмотрев дом, пошел спать около жарко, по-северному, натопленной печи. Но не успел он снять валенки, как кто-то довольно решительно постучал в ставенй. Удивляясь позднему гостю, Иван Данилыч посмотрел в щель ставня, но ничего не разглядел. Тогда он отпер дверь и увидел Михаилу. — Так вот, Иван Данилыч, все теперь тебе поведал я. Что расписку ты мне даешь, за то тебе великое спасибо. Пиши токмо, родной, скорей! Не то мне обоз не догнать будет. С небольшим узелком за плечами, у стола, на котором горит маленькая церковная свеча и лежит бумага, стоит Михайло. Инан Данилыч выслушал его рассказ и теперь задумчиво пощипывает гусиное перо, готовясь писать. — Ладно, парень, — решает он наконец, взглянув на взволнованное лицо своего гостя. — Теперь вижу, на што ты просил меня паспорт схлопотать в воеводской канцелярии. Бери-ка его, ноне на Москве беспаспортных кнутом бьют. — Знаю, — кивнул головой гость. — Мне о том бывалый человек в Холмогорах сказывал. — Какой такой бывалый человек? — покосился на гостя Банев. — Уж не тот ли учитель, какого потом архирей с Холмогор согнал? — Он самый, — усмехнулся Михайло: — архирей его за вольные слова прогнал, а учитель, тот правду говорил — о нужде народной да о грамоте. Он мне и про школу московскую сказывал. Там, говорит, научат. Шибко, говорит, там латинская грамота нужна. — Та-ак. Ну что ж, письмо твое я завтра Василию Дорофеичу снесу и расписку тебе дам. Токмо обещай мне накрепко: не для ради баловства такое дело сотворить, а для пользы своей и роду своего, ради учения. — Пиши, Иван Данилыч, — говорит твердо Михайло,— и слову моему верь. Банев встретил еще раз взглядом твердый взор, полный мольбы и напряженного ожидания, и, обмакнув перо, написал: «Тысяча семьсот тридцатого года, декабря седьмого дня, отпущен Михайло Васильев Ломоносов к Москве и к морю до сентября предбудущего тысяча семьсот тридцать первого года, а порукою по нем в платеже подушных денег Иван Банев, сосед, расписался». — Во-от, — сказал Иван Банев, присыпая бумажку песком, — так оно и ладно прописано: «к морю», — затем, что не один раз ты, парень, в неуемное наше море уходил. Над дорогой, над глубокими снегами стоит гулкая, звенящая тишина. Не так давно проскрипели по дороге полозья санного обоза и, проскрипев, ушли в снежную даль. И новый легкий звук нарушил тишину: скрип шагов одинокого пешехода, бодро идущего по той же дороге. Он идет ровным шагом сильного человека, и расстояние между ним и караваном все уменьшается. Ему уже видны темные движущиеся точки последних саней. Вдали под высокими елями чуть светит тусклое окошко первого постоялого двора. Теперь можно остановиться и посмотреть назад. Далеко-далеко, за промерзшей осокой болота, за островками и оврагами, за вечнозеленой верхушкой Курострова, поросшей густым бором, чуть видны другие темные точки — избы родного села. Он смотрит на пригорки и ложбины, занесенные снегом, под снегом угадывая знакомые до мельчайших подробностей очертания протоков и маленьких островков на покрытой льдом реке, стараясь запомнить все, что видит, и унести это в памяти навсегда. И оттого, что все это уже становилось смутно-далеким, его охватило вдруг чувство одинокого, холодного сиротства. Он покидал свой дом, где прошли его детство и юность, покидал теплое довольство родного угла, отрывая от сердца все, все... И подумалось на минуту: но как же возможно оставить все, что до сих пор было его жизнью, с чем связан он телом и кровью, чему он сам принадлежит? Он поднял глаза. Высоко над ним еще дрожали в небе алые и оранжевые волны, и выше зеленоватые лучи еще переливались, мерцая над головой. Скоро они погаснут, и в черносиней бездне засверкают бесчисленные огни великой, неизвестной ему вселенной. Он смотрел, и чувство одиночества исчезало из его сердца. Нет, его домом была не только родная изба да село над Двиной: вселенная — вот его дом, и все, что в ней есть. Сияние северных ночей, и солнце, и земля, покрытая глубоким снегом или весенней травой, — все это его, ибо все это может и должен познать его разум, разве не открыт перед ним весь мир? Из трубы еще далекой постоялой избы потянуло поверху дымком: всему обозу варился там ужин и, наверно, уже сидели за столом поморы, ожидая горячих щей. Он ускорил шаги и бодро пошел на дымок. Поздним вечером следующего дня Василий Дорофеич сидел за столом. На столе лежал перед ним кусок грубой бумаги, на котором славянским шрифтом было написано несколько строк. Сосед Банев, зашедший поутру, прочел ему это послание: сын его, единственный сын и будущий хозяин, оставил свой дом и его, уже стареющего отца, ради ученья, ради какой ни на есть московской школы, ради все той же, погубившей его грамоты. Он написал, что в Матигорах достал себе пашпорт. Значит, задумал свое дело не день и не два назад. Иван Банев расписался в том, что сын его Михайло отпущен к Москве и к морю до будущего года. Нужно платить подушную за него, за сына единственного и наследника, как за беглого... За Михайлу — как за беглого! Будут теперь все показывать на него пальцами... Опустеет его крепкий, надолго сложенный дом. Для кого копил, для кого хранил добро? Один остался: бездетный теперь, стало быть. Светильня чадила в углу. Молчание тяжело нависло над домом. Так. Видно, у каждого свой путь. Семужка вот, рыбка несмышленая, а и та свое любит: в бурю осеннюю токмо и любит играть в волне. Так и человек иной уродится: покоя ему не надобно. Да. У каждого свой путь. Путь рыбного обоза кончался. В солнечное морозное утро подходил он к подмосковной дороге. Прозрачный зимний воздух открывал горизонт. Там, впереди, под ясным солнцем сверкнули вдруг золотистые искры... Это на далеком Кремле утреннее солнце зажгло купола соборов. Москва была перед ним. Михайло, жмурясь от яркого солнца и снега, смотрел жадными глазами туда, где на семи холмах раскинулся великий город, где ждали его книги, школы и новая жизнь. Вот она, Москва! Часть вторая Беглый паренек Простившись с обозом, Михайло один шел по городскому предместью. Москва просыпалась рано. В утреннем морозном воздухе уже раздавались звонкие голоса торговцев ручным товаром, и крики ямщиков, и гулкие удары церковных колоколов. Степенно шли бородатые купцы в кафтанах и шубах, спешили подьячие. По бревенчатой мостовой, сглаженной крепким снегом, проносились сани с богатой упряжкой. Огромный город со своими огородами, садами и угодьями раскинулся широко, пестрея деревянными просторными избами, многочисленными церковками и домами. Михайле, с любопытством смотревшему по сторонам, казалось, что Москва в этот день была полна: какого-то особого, праздничного движения. Он окончательно убедился в этом, когда, миновав предместья, очутился на большой улице. По ней проходил отряд пехотинцев, мчались конные в треуголках, со шпагами на боку, и провезли куда-то медную пушку. Наконец он увидел широкую площадь, украшенную флагами. — Эй, эй, — закричал сердитый голос, — повороти назад! ИI прежде: чем Михайло, собиравшийся перейти через площадь, сообразил, что слова эти относятся к нему, два стражника преградили ему дорогу. — Ты что ж, не слышишь? Здесь нынче проходу нет! — А что здесь нынче будет? — Вона! — усмехаясь, поглядел на Михайлу усатый стражник. — Да ты откуда, паренек? Эй, Семен, спроси у его бумаги. Семен протянул руку за бумагами подозрительного паренька и, оглядев протянутую Михайлой записку с подписью Ивана Банева, коротко сказал: — Айда со мною в Сыскной приказ. Нонче, брат, дни не простые, а в коронацию велено нам всех бродяг и неведомых странников в приказ весть. Там разберут. Сыскной приказ помещался недалеко от Китайгородской стены. Михайло покорно шел за стражей. Он был так долго в пути, что ничего не знал о коронации новой императрицы российской — Анны Иоанновны. Наконец стражник провел его в большую избу и там сдал с рук на руки другому. Тот внимательно оглядел пришельца и, отобрав его бумаги, ушел. Михайло не мог в точности вспомнить, сколько времени он просидел на узкой лавке в избе с низким потолком и крохотными окошками, где сидели и лежали на земляном полу неизвестного звания люди. Он почувствовал вдруг непреодолимую усталость и, прислонившись головой к бревенчатому углу, заснул крепко и безмятежно. Проснувшись оттого, что кто-то сильно тряс его за плечо, он открыл глаза и увидел перед собой стражника, которого звали Семеном. — Ты откуда? — крикнул стражник. — Говори прямо. Будешь врать — не выпущу! Какиетакие Холмогоры у тебя в бумажонке прописаны? — Город Холмогоры, Архангельский край. Дозорный почесал затылок и повторил: — Холмогоры... Холмогоры... Кто-то у нас был оттудова... Л, верно, что был! Идем, парень, со мной к Дутикову, к подьячему, он разберет, врешь ты или нет. Дутиков-то у нас тоже из Архангельского края. Уже смеркалось, когда они вышли. В зимних сумерках кое-где забрезжили в окошках слабые огоньки. Чужой, казавшийся бесконечным, город шумел и волновался перед глазами Михайлы, который от усталости не различал дороги и молча шел за своей стражей. А на улицах уже зажигались плошки, и мальчишки оглашали воздух резкими звуками свистулек в ожидании вечерней иллюминации. Но, обогнув стену Китай-города и подходя к Кремлю, главы которого поднимались величаво в сумеречное небо, Михайло со своей охраной попал точно в другой мир: здесь было тихо, усиленные отряды стражи не пропускали с этой стороны народ, и в тишине на башнях перекликалась стража. Здесь, прижавшиеся к каменной стене, стояли деревянные домишки подьячих Сыскного приказа. Дым из труб расходился в чистом воздухе. Стынули высокие березы, неподвижные в белом морозном инее. — Ну, парень, — сказал стражник, — ежели ты нам набрехал – держись. Плохо будет. Михайло ничего не ответил и молча взошел на крыльцо. Московский подьячий В большой избе подьячего Ивана Дутикова — тишина послеобеденного сна. Январский морозный день уже начинал понемногу бледнеть и гаснуть, а подьячий все еще храпел на лежанке. Петька, сын его, свесил ноги с печки, собираясь спрыгнуть на пол, когда Настасья Ивановна подошла к лежанке. — Господи, твоя воля! — сказала Настасья Ивановна, поправляя на голове сбившийся платок. — Видать, скоро к вечерне вдарят, а Петрович никак не проснется. В эту минуту за окном действительно гулко ударил большой колокол, и не успел еще замереть его звук, как загудели ему в ответ кремлевские колокола. Настасья Ивановна перекрестилась и довольно решительно потрясла мужа за плечо. Петрович открыл глаза, выругался и быстро сел на лежанке. — Что? Из приказу прислали? — спросил он торопливо, еще не понимая, в чем дело. — Да и пришлют, очень просто. До вечерни, слышь, доспал. — Настасья Ивановна опасливо поглядела в окно. — Кабы не приключилось чего. Петрович, не отвечая, посмотрел на печь, с которой свешивались, болтаясь, Петькины ноги. — Петька, — сказал он строго, — сбегани в сенцы за квасом. — Ну да, — отозвался ленивый голос. — Я, гляди, босый, а в сенцах холодно. — Я те дам холодно! — крикнул Петрович. — Набаловался при матери-то? Гляди, скоро в ученье отправят, там живо к рукам приберут. Петька спрыгнул с печки, сунул ноги в валенки и исчез в сенях. Настасья Ивановна всплеснула руками. — Ба-атюшки, да на што ж так пужаешь ребенка-то, Петрович? Какое такое ученье? — Ребенка, ребенка! — передразнил ее Петрович. — Этот ребенок, гляди, как бы в бабки тебя вскорости не вывел, а меня в деды. Который ему год-то? — Всего шестнадцать годков Петюше, — ответила Настасья Ивановна. Петька в это время уже принес большой жбан с квасом и стоял перед отцом, нечесаный и заспанный, в рубахе навыпуск, без пояса. Дутиков оглядел своего единственного наследника с головы до ног и сурово промолвил: — На что похож! Чисто свинья немытая. Настасья Ивановна перекрестилась. — Грех тебе, Петрович! Чай, он по образу и подобию божию сотворен!.. — Вот наведут на него скоро и образ и подобие в школе-то. Указ вышел: всех недорослей поотбирать и отдать в ученье. А которых не отдадут, тех бить плетьми и насильно в увоз брать. — Маманька-а! — завыл Петька, бросаясь к матери, которая в безмолвном ужасе смотрела на Петровича. Она обхватила косматую Петькииу голову обеими руками и крепко прижала к себе. — Маманька, не отдавай... — тихо скулил Петька. Дутиков встал И так крепко ударил кулаком по столу, что квас пролился на стол, а глаза Петьки сразу высохли. — Будя блажить-то! — гаркнул зычно Петрович. — Сразу не поведут, наперед подучиться надобно. Куды такого дурня весть? Третий год не может грамоту одолеть! Нонче праздникам конец, опосля сего принимайся, Петр, за азбуку, и чтобы реву не слышно было. Подавай, мать, на стол? В эту минуту так сильно постучали в дверь с крыльца, что даже Петрович с испугом обернулся. — Ну, так и есть, — сказал он, всматриваясь сквозь тусклое слюдяное окошко, — должно, за мной из приказу ктой-то стучит непутём. Петька, отомкни! Приказы-то наши уж давно позаморскому коллегиями именуются, да мы по старинке зовем. Петька не без опаски покосился на стражника, пропуская его вперед. — Ишь, вам без меня в приказе-то, видать, скушно! — проворчал Петрович, увидав стражника. — А я не за тобой, Иван Петрович. Я к тебе паренька одного завел. Входи, што ль! — прокричал стражник в сени. — Ко мне? — удивился Петрович. — Чей таков? — Обожди, — сказал стражник, — запамятовал я прозванье-то его. Ты, парень, чей есть? — Из Холмогор я, Василья Дорофеева Ломоносова сын, — ответил Михайло, переступая порог. Петрович всплеснул руками. — Ломоносова? Василия Дорофеича сынок? Да кто ж его нe знает в Холмогорах?! Он там и в мое время, гляди, какими делами ворочал, а уже теперь-то и того боле. Знаю Ломоносова, знаю: хозяин крепкий — и казенные подряды брал и свои промыслы имел. — Ну вот, — сказал стражник, которому, видимо, не хотелось вести беглого обратно, — значит, парень не сбрехал. А звать его Михайлой. — Садись, Михайло Васильич! Настасья Ивановна, ложку ему давай! Петька, лавку-то оботри, тут гость сядет. Петрович смекнул сразу, что сын такого зажиточного человека не без денег же в Москву прибыл и, наверно, по отцовским делам. — Сымай полушубок-то, Михайло Васильич! Петька, положь полушубок на лавку! Когда стражник, напившись квасу, ушел в приказ, Петрович усадил гостя и придвинулся к нему поближе. — Я так полагаю, — начал он осторожно, — что Василий Дорофеич в эдаку даль сынка без большого дела не пошлет. — А я по своему делу, не по отцову. — По своему? Да чего ж тебе здесь самому-то надобно? — Хитрые глаза Дутикова совсем сощурились. — Учиться. Услыхав такой ответ, Настасья Ивановна всплеснула руками. Но Петрович только кивнул. — Та-ак, – сказал он, — Стало быть, Василий Дорофеич по указу сынка отдал? — Нет, я сам. Мне в школу надобно. — Есть, есть у нас школы. Вот за Иконным рядом у нас школа стоит изрядная, прозывается Академия. Туда из дворянского да из духовного звания и берут. Сына подьячего могут взять. — А иных не берут? — Никак! А то еще на Сухаревой башне школу учинил господин Магницкий... — Это который Магницкий? — быстро перебил Михайло. — Тот, что арифметику прописал? — Уж не знаю, чего он там прописал, а слыхал я, что он у нас самый первый ученый и за то государем Петром Алексеевичем почтен был. При мысли о том; что Магницкий, с книгой которого он никогда не расставался, существует в действительности и живет где-то тут и можно увидеть его, Михайло мгновенно забыл про свою усталость. — Где школа та? Сухарева башня где? — спрашивал он, в волнении встав из-за стола. — Да ты погоди, Михайло Васильич! Никак ты к ночи итти готов? В той школе цифири учат да навигации, сиречь морскому делу, и берут токмо грамотных. — Грамотный я, — сказал Михайло и потянулся за полушубком. — Грамотный? — Петрович с почтением посмотрел на Михаилу. — Во, Петька, гляди на него! — А чего мне глядеть? — отозвался лениво Петька. — Я чай, родитель-то немало денежек дал тебе, Михайло Васильич, на ученье-то? Михайло посмотрел прямо в испытующие глаза Дутикову. — Нет. Пашпорт выдал, а денег он мне не дал... и не даст. Я у соседа на дорогу три рубля взял. Дутиков отшатнулся от своего гостя, и лицо его мгновенно утратило всю приветливость. — Во-о как! — произнес он насмешливо, оглядывая Михайлу с головы до ног. — Ты, стало быть, здесь и без денег и без отцова благословения? Зазорно, парень, зазорно... Петька, на што ты его узел на лавку положил? Убери прочь! Михайло молча надевал полушубок. — Куда ж теперь? — спросил Дутиков сердито. — В школу... к Магницкому, — ответил Михайло твердо. — Ну, иди, иди, — усмехнулся Дутиков. — Посиди там на своем коште-то. Но в ту минуту, когда Михайло уже взял в руки свой узелок, новая мысль осенила Дутикова. — А то, слышь, парень: оставайся-ка у меня, коли ты и впрямь грамотный. Петьку моего грамоте подучишь и в доме подсобишь. Куда тебе, без денег-то? Все одно — деваться некуда. А я вас потом обоих и пристрою, куда ни на есть, учиться. Петька, услыхав такие слова, на всякий случай пододвинулся поближе к Настасье Ивановне, со злобой и страхом поглядывая на Михайлу. Но предложение Дутикова не соблазнило гостя. — Нет, — ответил он решительно, — мне в школу надобно безотложно. Где она, Сухаревато башня? — Где, где! — сердито отозвался Дутиков. — Спросишь на улице, там укажут. Берегом вышним Неглинки иди. Петька, дверь за ним замкни. — Хозяевам за хлеб, за соль, — сказал Михайло, повторяя знакомые с детства слова, которыми всегда прощались на его родине уходившие гости. И от этих простых слов точно теплом далекого родного края повеяло на него, и на минуту он почувствовал себя одиноким и брошенным всеми. Он молча по-своему, по-северному, поклонился хозяевам и пошел искать Сухареву башню. Ради учения Через несколько дней после коронации, когда новая повелительница россии отбыла в санктпетербургскую столицу, в Москве начались настоящие морозы. Солнце вставало в красном тумане, и чем яснее становились дни и безоблачней небо, тем крепче забирал мороз. Дутиков вышел из приказа, крякнул и обеими руками надвинул поглубже ушастую шапку. От мороза перехватывало дыхание. Запрятались даже галки и воробьи, во множестве летавшие обычно над московскими улицами. Дутиков почти бежал домой. Треуголку, парик и туфли с пряжками — принадлежности введенной Петром формы для служилого сословья — нес он в узелке, в руках, надев по случаю мороза привычные валенки, а на голову меховую шапку. Вечерело. В ясное небо изо всех труб поднимался прямыми струями дым. Сухой крепкий снег звенел под ногами. Иван Петрович добежал, наконец, до дома, без стука открыл дверь и подошел прямо к лежанке, оттолкнув дремавшего на ней Петьку. Петрович был в плохом настроении: он озяб, и сердила его досмерти петровская форма. — Ишь, на человека не похож стал обличьем, чисто куцый бес, — ворчал он, стаскивая с себя шубу. — Кохта эта европская — узкая-преузкая. Как сядешь послободнее — по всем швам треск!.. А на голове — копна, ну ее к бесам! Он с сердцем бросил парик на лавку. Настасья Ивановна только покачала головой. — Что это ты, батюшка? Не успел в дом войти, а все про бесов! Волосья-то твои давай на гвоздик повешу. Завтра я их мучкой свеженькой посыплю. — Мука сия называется пу-де-ра, дура! Петька, башку- то пригладь! Гость нонче будет. И в ответ на испуганные взгляды жены и сына Иван Петрович сообщил, что встретил утром отца Варсонофия из Заикопоспасского монастыря и что есть у того дело до Сыскного приказа, о котором придет он потолковать. — У него ко мне дело, а у меня — к нему, поелику он при школе Заиконоспасской в начальстве состоит. При слове «школа» на лице Петьки отразился ужас. — Ну, чего рты раскрыли? Петька, гляди, ворона влетят. Постой, никак стучат? Пойду сам встречу. Действительно, кто-то стучал в оконный ставень. Дутиков вышел и через минуту вернулся, с поклонами вводя отца Варсонофия. Это был сухонький старичок, с редкой бородкой и добродушным лицом. Он помолился на иконы в красном углу, благословил хозяев и снял свой клобук. Петрович усадил почетного гостя поближе к печке, велел Настасье Ивановне подать рыбки, моченых яблок и только после того обратился к гостю с вопросом: — Что сие за нужда, святой отец, по коей посетить изволил нас, грешных? — Дело важное, — ответил отец Варсонофий. — Тому назад пять дён, убоявшись учения, сбежало от нас два отрока неразумных, из класса фара, сиречь из первого класса, и отец наш, архимандрит Герман, по сию пору в великом гневе обретается. — Вишь ты, дело-то какое!.. — покачал головой Дутиков. — Жалость имею до отроков сих, ибо безумны они и пользы своей не разумеют. Стук в дверь прервал отца Варсонофия. Петрович велел Петьке посмотреть, кто там стучит. — Время-то уж позднее, — опасливо сказала Настасья Ивановна. Все с удивлением обернулись к дверям в семи, из которых раздался громкий Петькин голос: — Парень это, который беглый! Отец Варсонофий растерянно посмотрел на хозяина, а хозяин смотрел в сени. Из темноты выступила широкоплечая фигура того самого паренька, которого несколько дней тому назад приводил к нему из приказа стражник. На нем уже не было теплого нагольного тулупа. В такой мороз, когда и тулупа-то одного мало, на нем было надето лишь китайчатое полукафтанье на вате. За несколько дней, миновавших со дня его первого появления в этом доме, лицо паренька осунулось и побледнело. Он поклонился с порога и, сняв шапку, стоял, не решаясь войти. — Ты это откуда? — спросил насмешливо Дутико-в. — Ведь ты хотел в школу навигацкую итти? Что ж, али не нашел? — Нашел, — тихо сказал Михайло. Дутиков обернулся к Варсонофию. — Вот, святой отец, погляди на его: парень сей есть Михайло, сын Ломоносова Василия, человека мне знакомого, хозяина всеми чтимого, а Михайло этот, будучи единым его сыном, дом свой спокинул да из Архангельского края, от Холмогор до Москвы, домахал без родительского благословения. Лицо отца Варсонофия стало строгим. Он оглядел Михайлу с ног до головы и сурово спросил: — Как же ты помыслил, недостойный, нарушить заповедь божью о почитании родителей? Михайло прямо взглянул в строгие глаза монаха. — Отец мой знал, что я уйду. — Не может того быть, — возразил решительно Дутиков, — понеже, будучи человеком денежным, отпустил он тебя на Москву без единой копейки. — Того ради и денег не дал, чтобы мне на Москве несладко жилось и домой бы я воротился. — Чудно мне, — медленно промолвил монах, продолжая пристально вглядываться в лицо Михаилы. — Обличье имеет сей отрок пристойное, и речь его разумной мне является. Чего же ради решился он на сие? Михайло помолчал и потом просто ответил: — Ради ученья, святой отец. Отец Варсонофий не мог сразу поверить этим открытым словам, хотя строгость уже сбежала с лица его. — Удивления достойно, — обернулся он к Дутикову, — таковое стремление к грамоте в сем отроке. — Да грамотный он, — ответил хозяин. — Затем и пошел в навигацкую школу на Сухареву башню, что ему, дескать, одной грамоты мало. Что ж, в школе-то али круто пришлось? Тулуп, видать, продал? — Продал. — Так. А до самого Магницкого не дошел? — Дошел. Хворает он, Магницкий, и учениками более не ведает. — Да-а, — закончил Дутиков, подмигивая отцу Варсонофию, — видать, школа-то плоха. — Школа не плоха, — ответил Михайло, — а токмо мне сие не надобно. Полагаю так, что навигации, сиречь делу морскому, на море учиться надлежит, а не на башне Сухаревой. Добрые морщинки смеха побежали по лицу отца Варсонофия. Он уже ласково посмотрел на Михайлу и, скрыв в бороде усмешку, спросил: — Где же ты, отрок, грамоту превзошел? — У дьячка да у соседа нашего. – Та-ак, — сказал Дутиков. — А нашто ко мне пришел? Михайло поглядел на Петьку. — Сказывал ты мне, — обратился он к хозяину, — что вместе с сыном сведешь меня учиться, ежели я его грамоте обучу. Вот для того и пришел. Дутиков вдруг решительно встал и направился к полке, где хранилась у него старая псалтырь. — А вот мы тебя сейчас при отце Варсонофии и разглядим, грамоту твою на свет и выведем, — сказал он, доставая книгу и сдувая с нее пыль. — Ну, сымай шапку, скидавай кафтан, — обратился он к Михаиле. Михайло положил шапку и подошел к столу. Подозрительность подьячего вызывала в нем легкую усмешку. Он стоял, как на допросе, перед монахом и ждал. — Ну-ко, грамотный, — громко сказал Петрович, — покажь нам свою грамоту-то. Псалтырь можешь разбирать? — Псалтырь я и без книги, на ум помню. Услышав такой ответ, отец Варсонофии широко открыл глаза и, не мигая, уставился на странного отрока. — Врешь, — сказал Дутиков. — Правда. — А коли правда — читай без книги псалтырь. Который псалом можешь? — Который надо. — Да ты очумел! — закричал Дутиков. Отец Варсонофии мягко сказал: — Ну, отрок, читай кафизму, коя есть в воспоминание о субботе. И, уже не переводя дыхания, слушал он Михаилу, который, не торопясь и уверенно, читал псалом: — «Аз рех, сохрани пути моя, юже не согрешити ми языком моим: положи устом моим хранение, егда восстати грешному предо мною. Онемех и смирихся, и умолчах от благ. Согрелося сердце мое во мне, и в поучении моем возгорелся огонь...» — Стой! — закричал Дутиков.— Стой, говорю! Это что же такое? Сыплет на ум, как другой по книге не разберет! А? Отец Варсонофий, а ну, поспрошайте его еще какой ни на есть псалом! И отец Варсонофии спросил: — Ведом ли тебе, отрок, псалом Давида, «Кафизма нищего» именуемый? Голос Михаилы зазвучал, как когда-то на родине: — «Исчезоша яко дым дние мои и кость моя яко сушило соссохшеся. Уязвлен бысть яко трава и иссуше сердце мое во мне, яко забых снести хлеб мой...» Дутиков снял кафтан. — Это что же такое? — бормотал он. — В пот вогнал меня парень! А часослов видал? — подступал он к Михаиле. — Я и часослов на ум помню. — А тропарь Егорию, московскому святителю, слыхал? Михайло откашлялся и ответил с той особою приятностью и ломкостью в голосе, которая вызывала зависть холмогорских начетчиков: — «Пленных свободителю и нищих защитителю, немоществующих врач, царей поборниче, победоносче велико-мучениче Георгие, подвигом добрым подвизался еси и мучителей обличил еси нечестие жертва же благоприятна...» — Сто-ой! — перебил его Дутиков, вытираясь полотенцем и глядя с изумлением па отца Варсонофия. — Сроду такого парня не видал! Отец Варсонофий, да ведь его хоть сейчас в Успенский собор в дьячки возьмут! — Возьмут, — уверенно отозвался отец Варсонофии. — Батюшки, чего ж ему еще учиться-то? — шепотом спросила Настасья Ивановна, не сводя глаз с Михайлы. — Неужли еще какие науки есть? — Ду-ура, — шопотом же ответил ей Дутиков, — наук на свете пребывает шесть, всех же не знает никто. — Нам такой ученик в Заиконоспасской школе зело надобен, — задумчиво произнес отец Варсонофии. — Возьмите меня в школу, батюшка, — умоляюще посмотрел па него Михайло. — Школы-то, брат, не для всякого понастроены, — усмехнулся Петрович. — Ты, к примеру, чей сын? — Ломоносов, — ответил его гость. — Знаю, что Ломоносов. Я про подать тебя спрашиваю. Подать-то не несете? — Несем. — Стало быть, крестьянин? — Крестьянин. — Ну-у, парень, — протянул Петрович, махнув рукой, — тогда плохо твое дело: школы тебе не видать. — Зачем не видать? — побледнев, спросил паренек. — Вона! Да нешто крестьянских детей в школы берут? Взглянув после этих слов на крестьянского сына Ломоносова, Петрович увидал, что тот очень хорошо его понял. Паренек этот схватился за голову обеими руками и стоял так, покачиваясь, словно от сильной боли. Отец Варсонофий встал и, подойдя к Михаиле, покровительственно положил руку на его плечо. — Вот что, Иван Петрович: возьму я, грешник, еще один грех на душу, но полагаю, что сей грех на страшном судилище мне прощен будет, понеже доброе дело хочу сотворить. Дам я, недостойный, перед начальствующими лицами Академии нашей подтверждение, что ведомо мне рождение сего отрока, согласно чему есть он дворянский сын. Михайло снял старческую руку, лежавшую на его плече, и поцеловал. И ему показалось в эту минуту, что все трудное теперь пройдено им и что с этого дня начнется для него новая жизнь, полная того познания, о котором он думал столько лет. — Старее нашей школы, отрок, сиречь Академии, на Москве нету, – с гордостью сказал отец Варсонофий. — Скоро уж ей полвека минет, и сам царь Петр ее жаловал и посещал, учись в ней со усердием, и будешь милостию взыскан. — А Петька-то как же? — спросил Дутиков. — Петька мой уж, почитай, два года за грамотой сидит. — Пущай сей Михайло и сына твоего наставит в грамоте, — сказал отец Варсонофий, берясь за свой клобук. — А после сего веди их ко мне обоих: отрока сего разумного и сына твоего. А я завтра же по вечерне с архимандритом нашим, отцом Германом, потолкую. Петрович пошел — за поздним временем — проводить отца Варсонофия. Настасья Ивановна, бросив на лавку для Михайлы старый бараний тулуп и велев им с Петькой ложиться, в раздумье ушла в маленькую горницу, служившую опочивальней. Петька сидел на лежанке и, болтая ногами, смотрел на Михайлу. — Учи-и-тель тоже! — фыркнул он. — А мне на эти навуки наплевать! Для меня все они — вот это самое, во-о, гляди! — Он плюнул на пол и дерзко поглядел на своего будущего наставника. – Дурак ты и есть, — спокойно ответил наставник и отошел к своей лавке. Но этого Петька уже не мог снести. Он подскочил к Михайле и, сжав кулаки, шопотом спросил: — А в морду желаешь? — Давай! Петька не мог в точности сообразить, как это произошло, но только не успел он приступить к выполнению своего намерения, как довольно чувствительно был отброшен в дальний угол, откуда с некоторым уважением поглядел на гостя, потирая ушибленные места. — Ты чего же это дерешься-то? — произнес он наконец. — А я не дерусь, — ответил гость: — я учу тебя. Это наш первый урок. Понял? — Понял, — сказал Петька и молча полез, для большей безопасности, на печь. — Ну и мороз! — сказал Петрович, вернувшись. — Ты, Михайло, как встанешь, дров со двора принеси, протопить надо поране. Хошь ты и для грамоты приставлен, но надлежит тебе и по дому, где занадобится, подсобить. Потому я никому даром хлеба-соли не даю. А в школе должен ты будешь все за Петьку справлять. Уразумел? — Ладно, — коротко ответил учитель. — Я чай, Василию Дорофеичу-то без тебя теперь трудно, — милостиво сказал Дутиков, остановившись около Михаилы, который уже лежал под тулупом. — Ходит он нонче в плаванье али нет? — У моего отца теперь свой гукор есть, на нем в море ходит. Петькина голова свесилась с печки. — Тятя, это чего такое — гукор? Дутиков с усмешкой покачал головой. — Ишь, ничего не знает. Гукор — это... как его... — Это корабль такой, — пояснил Михайло, — на новый манер оснащен. — Ну вот, вот, — сказал Иван Петрович с важностью и, оправив фитиль в лампаде, ушел в опочивальню. В темноте, в сонной тишине сухо потрескивал за печкой сверчок. В морозном безмолвии перекликались на кремлевских стенах ночные дозорные. Под бараньим тулупом лежал на лавке странный паренек и, подперев голову ладонями, упорно размышлял о чем-то. Заиконоспасское училище Под низкими сводами полутемного класса стоит несмолкаемый гул голосов. «Фара» — первый класс Славяно-греко-латинской Академии — готовит урок латыни. Доверчиво прижавшись головою к «Страшному суду», нарисованному во всю стену, безмятежно спит Петька Дутиков, опрокинув чернильницу на латинские спряжения, В маленькие окна с решетками бьется холодный апрельский дождик. В тусклом полумраке отчетливее светится ровное пламя лампадки. Примостившись около нее так, чтобы свет падал прямо на тетрадку, сидел Ломоносов. Он в последний раз пробежал взглядом мелко исписанную страницу и встал. Внезапно проснувшись, Петька подбежал к нему. — Ты выучил? — Выучил. — Спроси меня вокабулы, не то сызнова мне на горохе стоять! Коленки-то у меня в чирьях — во, гляди. — Ну, отойдем к сторонке, — сказал Михайло и, усевшись на подоконник, начал спрашивать заданный по латыни урок. Петька путал окончания, забывал слова, но с помощью Михайлы кое-как добрался до конца и, сказав вместо «спасибо» «ладно», удалился на свое прежнее место в невеселом раздумье. Но не успел Михайло взяться за тетрадку, как на него наскочила целая ватага учеников различного возраста. Наступая со всех сторон, они дергали его за кафтан и кричали хором: Верзило, верзило, Латинское рыло... — Эй, братва! — надрывался один плотный паренек, наскакивая на Михайлу со сжатыми кулаками. — Вали его на земь все разом! Михайло стоял посреди этой толпы, посматривая поочередно на ее главарей и только отмахиваясь от самых назойливых. Плотный паренек в накинутом на плечи тулупе, подскочив неожиданно к самому лицу его, сказал: — Выходи со мной на кулачки. Подумаешь — латынь он знает!.. У него, робята, небось, дома жена плачет! Рев смеха покрыл его слова. — Правильно, Семка! Дай ему погорячей!.. Братва, расступись! Выходи один на один! Вокруг Семки и Ломоносова быстро образовался круг. Семка сбросил с себя на пол полушубок и, выставив правый кулак с особо загнутым, как полагалось в драке, большим пальцем, бросился на Михайлу, целясь ему прямо в лицо. В ту же минуту Семка перестал что-либо видеть и слышать: ом: барахтался в собственном тулупе, который Михайло накинул ему на голову. Потом Семка почувствовал, как его крепко стягивают чем-то поперек тела и куда-то несут. Михайло, высоко подняв отбивавшегося ногами Семку, взвалил его себе на спину, как мешок, и, отворив дверь, под гиканье и свист «академиков» прошел темным коридором и, выйдя на крыльцо, положил свою ношу около ступенек, где было сравнительно сухо. После этого он прошел тем же путем обратно, молча открыл и закрыл дверь класса, оглядел притихшую толпу и вернулся на свое место под свет лампады. Ученики тотчас рванулись было к дверям — узнать, что с Семкой. Но путь им неожиданно преградил надзиратель Петухов, отставной солдат. Он оглядел ребят и строго сказал: — Владыкой разрешено по случаю воскресного дня, кто ежели кончил зубрение — может выйти на прогулку в монастырском саде, соблюдая благопристойность. Сдержанный гул довольных голосов был ему ответом. Надзиратель Петухов, окинув всех суровым взглядом, прокричал, покрывая все голоса: «Роо-та, тихо!» — и вышел. В полузакрытую дверь донесся из трапезной запах грибных щей. Ученики переглянулись, и тощий юноша в заплатанном кафтане, вскочив на скамейку, возгласил: — Эй, робя! Всей «фарой» айда на базар, покуда не закрылся, калачи мять! При слове «калачи» Петькина голова отделилась от «Страшного суда». Он бросился вперед, но остановился, увидев неподвижно сидевшего в углу Ломоносова. — Ты чего ж сидишь? — спросил Петька. — Нонче не пойду я, — ответил, не поднимая головы от своей работы, Михайло. — А как же я один? Пойдем? — Сказано, не пойду. Убедившись в том, что просить напрасно, Петька побежал догонять «фару», затянувшую негромко и протяжно: Ох ты, доля сиротинская, Монастырское житье! Ты славянское, латинское И различное битье... «Мять калачи» на языке школьников значило таскать калачи и баранки у базарных торговок. «Балакающий» должен был отвлекать их внимание разговором, притворяясь покупателем. Остальные в это время тащили калачи и связки баранок, после чего вся добыча честно делилась вечно голодной паствой Академии. Оставшись один, Михайло поправил фитиль в чадившей лампаде и, взяв в руки гусиное перо, наклонился над бумагой. Рука его уверенно и четко выводила славянской скорописью: «Его преосвященству архимандриту Герману ученика Славяно-греко-латинской Академии, класса первого, именуемого «фара», Ломоносова Михаила всенижайшее прошение...» Из грешной «фары» в грешную «инфиму» Архимандрит Герман был строг в обращении и взыскателен к вверенной ему пастве. Он был горячим сторонником греко-латинского образования, полагая изучение древних языков за основу всякой учености, заботился об умножении заиконоспасской библиотеки и приобретал сочинения древних авторов, будучи сам их великим знатоком. Архимандрит Герман чтил букву закона и стремился воспитать в учениках Заиконоспасской Академии строгое соблюдение школьного устава. Но, будучи доверчив от природы и чрезмерно занят делами церковными и просветительными, он поручал воспитание школьников своим помощникам, которые в определенные сроки давали ему и ректору Стефану полный отчет о делах Академии. Он никогда не кричал на учеников и не давал волю гневу в случае их провинностей. Он только сдвигал свои густые брови и негромко говорил отцу Варсонофию или отцу Стефану: «Покарать по уставу». И мертвая тишина водворялась в сводчатом коридоре, когда в конце его появлялась высокая фигура архимандрита и медленно шествовала к своим покоям. Покои настоятеля Германа были обращены окнами к саду и расположены по соседству с библиотекой. В них топили печи даже в летние свежие дни, ибо отец Герман был родом южанин, из теплых степей Украины, и был весьма зябок. Апрельское солнце бросило яркий луч через глубокую нишу и осветило худощавое лицо и темный клобук отца Германа, сидевшего в большом кресле у окна своей кельи. Перед ним сидел ректор отец Стефан, тучный и неподвижный, сложив руки на животе и глядя на бумагу в руках архимандрита. — Случаев подобных в школе у нас не бывало и в уставе оные не предусмотрены, — сказал, наконец, отец Герман и посмотрел на отца Стефана. — Не предусмотрены, — согласился отец Стефан. — Но и отроков, кои в три месяца преуспевали бы в изучении того, на что иным целый год надобен, тоже, отец Стефан, не бывало, И ректор опять повторил: — Не бывало, отец Герман, не бывало. — И ежели ученик сей, — как бы беседуя с самим собою, продолжал отец Герман, — дерзает свидетельствовать, что класс «фара» в три с половиной месяца им превзойден, и просит учинить ему в том экзаминацию, то не надлежит ли нам оное усердие поощрять, понеже отроков усердных ко учению по сей день видим мы весьма мало? В ответ на это отец ректор только выразительно покрутил головой. — Но устав, отец Стефан! — вздохнул архимандрит. — Устав обходить не пристало, а по уставу надлежит отрокам нашим в классе «фара» годовое пребывание. Отец Герман задумчиво вертел в руках листок бумаги и, еще раз взглянув на него, сказал: — Удивления достойна и грамотности отрока: написано прошение сие с соблюдением устава, буквы четки и начертаны уверенной рукой. — Слыхал я, отец Герман, что еще во время домашнего его жития доводилось отроку сему составлять бумаги и прошения для отца своего неоднократно. — Отец его иерей или диакон? — строго спросил архимандрит. — Записан сыном дворянина. — А каков он, отец Стефан, на твой взгляд: поведения достойного? — В предосудительном замечен не был, — с расстановкой ответил отец Стефан. — Но в мышцах зело силен и к квасу пристрастен. Окромя того, замечен в большой склонности к работным людям да к мужикам. Где ни увидит — всенепременно расспросы зачнет: где и как живут. Чудной отрок! Впрочем, не токмо сам преуспевает отменно в учении, но и остатным ученикам, как слабым в разуме, безотказно вспомоществует, особливо Дутикову Петре, понеже сей Петра голову имеет набитую неведомо чем. Архимандрит внимательно слушал отца Стефана и сидел молча в своем кресле, обернувшись к окну, откуда пробивался уже вечереющий солнечный свет, ложась решетчатым узором на чисто вымытый пол. Помолчав, он встал и, передавая бумагу с прошением отцу Стефану, промолвил: — Скажи, отец Стефан, ученику сему, Ломоносову, что на прошение его благоугодно нам ответить согласием и экзаминацию ему учинить. Для того, отец Стефан, оповести отца Никодима, что надлежит ему испытать ученика Ломоносова в науке счисления. По латыни опрашивать его буду я самолично, а остатные проверки учини ты, отец Стефан, вкупе с отцом Варсонофием. Ректор поклонился и подошел под благословение. Когда он уже уходил, архимандрит позвал его: — Отец Стефан, мне сейчас надлежит ехать. Скажи, чтобы кучер Кузьма поторопился. Да отпусти учеников в сад на малое время. Пущай после зимы-то на солнце поглядят. Токмо со всей благопристойностью. — Они, владыка, в прошедший-то воскресный день вместо саду на базар бегали... — На базар? — гневно переспросил отец Герман. — Что полагается за оный проступок по устану? — Полагается всенощное либо суточное сидение в холодной, без пищи и пития, что я и применил, — ответил отец Стефан. — Так что же, владыко, сотворили грешные сии ослушники? Покуда у меня вся «фара» с «инфимой» в холодной пребывали на покаянии, вся «философия» паки на базар тайно устремилась и после того узников сквозь окошко умудрилась и калачами и баранками оделить. Солнце так весело сияло на золотых ризах в углу, что отец Герман на этот раз почему-то не вспомнил про устав. Он только поправил клобук и задумчиво промолвил: — Удивления, отец Стефан, достойно, как умудряются неразумники сии, имея единый алтын в день на пропитание, приобретать еще и баранки и снедь! На этот вопрос отец Стефан предпочел ничего не ответить. Не хотелось ему приводить в расстройство отца архимандрита своими догадками насчет того, какими способами и грешная «фара» и грешная «философия» добывали себе баранки. Не предусмотренный уставом ученик — Более опросов не имею! — сказал отец Герман и, довольный, откинулся в кресле. Да, такой ученик не был предусмотрен уставом. За четыре месяца занятий латынью он знал не только то, что проходила в течение года «фара», но успел заглянуть и в курс «инфимы»: латинские спряжения и склонения изучил так, что старенький отец Варсонофий, гордившийся оным учеником, словно он был творением рук его, сиял, как именинник. Теперь оставался только экзамен по цифири — науке счисления. Отец Никодим, преподававший в младших классах арифметику, а в старших — алгебру и геометрию, почитал свой предмет не менее важным, чем архимандрит латынь, и доводил учеников до седьмого пота, задавая им мудреные . вопросы непостижимой для разума многих науки. Острый, сердитый взгляд отца Никодима становился в такие минуты неумолимым. Желчное лицо багровело, и на лбу вздувалась жила. Самые отважные школяры дрожали, отвечая ему, и прятали за пазухой листок с молитвой «Живый в помощи», а после его урока половина класса стояла иной раз коленками на горохе. Он не давал пощады даже собственному сыну, золотушному отроку, третий год сидевшему в «инфиме». Но отец Никодим па этот раз сам дошел до седьмого пота. Проверив письменное счисление экзаменуемого ученика Ломоносова и не найдя в нем ни единой ошибки, убедившись в присутствии отца Германа и остальных в том, что Ломоносов без запинки знает цифирь, отец Никодим смерил ученика свирепым взглядом. — Да ты, может, и допрежь того арифметику знал? — И допрежь того знал, — ответил ученик. — А кто же тебе ее изъяснил? — Книжка изъяснила: «Арифметика» сочинителя Магницкого, — ответил Михайло. — Ого! — сказал отец Никодим, недоверчиво глядя на ученика. — Да ведь книжка сия, — обратился он к архимандриту, — и в «инфиме» у нас не постигается, понеже почитаем мы ее трудной сугубо, реки нам, отрок, какую часть сей книжки ты уразумел? — Все части. — И геометрию? — И геометрию. Отец Никодим пришел в необыкновенное волнение, услыхав такой ответ. Он привстал со своего места, потом опять сел, потом засучил рукава своей рясы и, наконец, зычным голосом крикнул: — Реки все части! Михайло с удивлением посмотрел на своего экзаминатора. Посмотрели на него с удивлением и остальные. Архимандрит решительно сказал: — Так негоже, отец Никодим. Опрашивай отрока по чину и порядку. Но волнение отца Никодима было столь велико, что ни чина, ни порядка он уже не мог соблюдать. Он начал забрасывать Михайлу вопросами то из арифметики, то из геометрии, желая сбить с толку ученика, подобного которому еще не видел он в Заиконоспаоской школе, и от волнения сам совершенно сбился в порядке вопросов. — Что есть мультипликация? — кричал он, наклоняясь всем телом вперед и не спуская с лица Михайлы пронзительного взора. — А что — субстракция? И что радиксом именуется? Отец Варсонофий испуганно поглядел на Михайлу и сразу успокоился, услыхав уверенный голос: — Мультипликация есть умножение. — Про субстракцию изъясняй! — Субстракция, сиречь деление в долях... — Ладно! — прерывает отец Никодим. — реки про радикс! — Радикс есть число, — медленно ответил Михайло, уже начиная сердиться, — яковое четверобочные либо равномерные фигуры или вещи един бок содержаще. И того ради радикс, или корень, именуется, зане от него все пропорции всея алгебры зачинаются или рождаются. — Отменно, — промолвил тихо отец Герман. Отец Варсонофий сиял. Но, казалось, только входил в азарт отец Никодим. Он одну минуту подумал и, сощурив лукаво глаза, зловещим шопотом произнес: — А како придет суперфиция в колесех? Даже отец Герман, замерев, с интересом ожидал ответа и удивленно поднял густые брови, услышав негромкий и спокойный голос ученика Ломоносова: — Егда умножим цимкурференцию, сиречь окружение, через Архимедов диаметр и произведение разделим через четыре, то по разделении придет суперфиция. Отец Герман облегченно вздохнул и решительно поднялся во весь рост. Он посмотрел на испытуемого ученика с явной ласковостью во взгляде и сказал не ему, а его мучителю: — Отец Никодим, понеже вопросы сии и задачи подлежат изучению токмо в старших классах, а не в классе «фара», а испытуемый показал и в оных свое разумение, то считать надлежит экзаминацию оконченной, и весьма отменно. Ну, отрок, — обратился он уже к Михайле, — учись от сего дня в классе «инфима». Голова у тебя создана на славу божию. расти, учись и возвышайся, готовя себя к принятию сана. — Владыко, — сказал ученик, — благословите в библиотеке нашей книги брать невозбранно. — А кто же возбраняет тебе брать их? — Отец библиотекарь выдает токмо единую книгу от воскресного дня до воскресного дня. — А тебе, что же, целой книги на единую седмицу мало? — с легкой усмешкой спросил архимандрит. — Мало, владыко, — сказал Михайло. — Хорошо, я скажу отцу библиотекарю. Ступай! Михайло, подходя под благословение поочередно ко всем экзаминаторам, приблизился к отцу Никодиму. Отец Никодим на минуту задержал свою руку над склоненной перед ним головой и полушепотом быстро спросил: — А како именуется прибор, страны света указующий? — Кумпас, — ответил громко Михайло и вышел из покоев архимандрита. Отец Герман, взглянув на отца Никодима, укоризненно покачал головой и, обращаясь ко всем, сказал: — Грядущее нам, смертным, неведомо, но полагать можно, что и в «ипфиме» недолго пробудет отрок сей, а учение окончив, может составить славу Академии нашей. Имею на него виды в рассуждении принятия сана священнослужителя и полагаю, что достигнуть может сей Михайло весьма высоких степеней. Прошу за стол, к трапезе, — закончил он, увидав, что служка уже песет тарелки в соседний покой — в трапезную архимандрита. В коридоре перед трапезной, где в этот час кормили учеников щами, ждал Михаилу Петька Дутиков. — Ты пошто латынь пропустил? — У отца Германа был, — коротко ответил Михайло. — А к завтрему работу справил? — Мне теперь не ту работу надлежит писать. Петька с удивлением раскрыл глаза. — А какую же? — Ту, что в «инфиме» проходят, я теперь там учиться буду. Михайло хотел пройти к трапезной, ибо запах грибных щей был ему чрезвычайно приятен после экзамена, но Петька ухватился за кафтан его обеими руками. — В «инфиме» будешь? — горестно воскликнул он. — А я-то как же? Кто за меня теперь счисления будет делать... и писания? Михайло посмотрел на слезы, оставлявшие следы на грязном Петькином лице, и, усмехаясь, сказал: — Я буду. Как делал, так и вперед буду, раз обещал. — Будешь? — переспросил Петька, еще не веря в свое спасенье. — А то отцу скажу! Но на ато Михайло ничего не ответил. Он освободил из Петькиных рук полу своего кафтана и, вздохнув, пошел к стойке, за которой монах разливал всем большой ложкой дневную порцию грибных щей. Из библиотеки на речку Неглинку Солнце уже совсем по-весеннему согревало Москву, и высокие берега Неглинки зеленели свежо и ярко. Но под низкие своды Заиконоспасского училища солнечные лучи проникали скупо. Зато библиотека, окна которой, обращенные на запад, были самыми широкими во всем здании, в часы заката была залита светом и в лучах солнца носились бесчисленные пылинки. Книги помещались тут и в шкафах, и на полках, и просто лежали высокими столбиками на некрашеных столах. Сквозь толстые стены не доносилось пи единого звука. В тишине гулко раздавались шаги читателей, проходивших вдоль шкафов и смотревших книги на столах. Читателями главным образом были монахи, изредка ученики двух старших классов: философы и богословы. Тогда в тишине отчетливо скрипели гусиные перья в руках философов и богословов, делавших выписки из больших книг на латинском и греческом языках. Но ни один философ и ни один богослов не были такими упорными посетителями библиотеки, как ученик класса риторики Ломоносов. Его крупная голова с волнистыми волосами склонялась здесь над книгой во все свободные часы. Таких часов было у него не очень много, ибо, пройдя за один год три класса, он должен был немало времени отдавать наукам и латыни. Кроме того, верный обещанию, данному им подьячему, он тащил Петьку на плечах, как бурлак свою лямку, выполняя за него все письменные работы, проходя с ним его уроки, и, будучи назначен аудитором, обязанностью которого была регулярная проверка приобретенных за неделю познаний, много раз спасал Петьку от субботней порки. Михайло дочитал последнюю страницу богословского трактата и, вздохнув, закрыл книгу. Он прочел их уже немало — и славянских и латинских, но ни в одной не обрел того, чего жаждала его душа. От года к году росло в нем и не давало покоя стремление к реальному, опытному, а не схоластическому познанию мира. Он мечтал и думал об этом изо дня в день в полном одиночестве, не имея около себя ни одного человека, который понял бы его тоску. Никто не мог разделить ее, даже Виноградов, друг неизменный и преданный. И, точно отвечая его мыслям, кудрявая голова осторожно заглянула в щелку тяжелых дверей библиотеки. — Будя читать-то! — сказал Виноградов шопотом. Михайло поднял голову от книги и усмехнулся. — А, Митрий! Пошто за мной пришел? Задумал в поход собираться? — Да не в поход, Михайло, а погулять время! Гляди, скоро темнеть начнет. — Виноградов огорченно посмотрел на луч света, в котором кружились пылинки. – Только и погулять что летом, а ты все тут торчишь, скамью просиживаешь. Нсшто можно столько читать? — А я не читаю, а думаю, — продолжая улыбаться, промолвил Ломоносов. — А пошто столько думать? — А вот гляди, — стал вдруг серьезным Ломоносов, — в солнечном луче кружение пылинок сколь явственно обозначается! — Ну и что с того? — нетерпеливо спросил Виноградов. — Ты их считаешь, што ли? Пылищи-то здесь хватит. — Не о том я. Ты гляди, Митрий, сколь ни малы пылинки сии, а и они громадны сверх всякой меры подле мельчайших частичек, из коих на свете все сотворено. — Да будет тебе! — сказал Виноградов. — И движение пылинок сих, — продолжал Ломоносов, словно не слыша, — подобно тому движению не видимых нами частичек, каковые, думается мне, зачинают и свет и тепло. Я тут нынче такие две книжицы нашел, что диву дался: по физике одна, а другая по математике. Да чтото в них латынь не нонешняя, — еще не все разобрал, но порешил нынче половину разобрать и изложить кратко — для памяти — в письменном виде. — Пойдем-ка лучше на волю. У ректора пироги пекли. Я сам слышал, как луком пахнет. Пойдем, попытаемся у трапезника — не даст ли? — Какие там пироги при одном алтыне в день! — А мы не на деньги, Михайло. Может, поменяет на што? — Эх ты, купец! — рассмеялся Михайло и большой сильной рукой похлопал по худенькому плечу Виноградова. — Пойдем, што ль. Он убрал книгу на полку и хотел уж уходить, когда Виноградов вдруг схватился за свой карман. — Стой, друже! Запамятовал я: письмо ведь тебе есть. На, погляди-ко! — Неужли? Не от отца ли!? Михайло быстро взял толстый серый конверт из рук Виноградова и отошел к окну библиотеки, уже пустой в этот час. Нет, это не от отца: сосед Иван Банев, когда-то давший ему расписку при уходе из дому, писал о тамошних делах. Михайло читал с жадностью, нетерпеливо вглядываясь в неразборчивые места. Кончив, он облокотился о косяк решетчатого окна и молча смотрел в монастырский сад. — Ну, чего тебе там прописали? — спросил, наконец, Виноградов. — Все ждут, я чай, что домой воротишься? — Не-ет, уж не ждут боле, — медленно ответил Ломоносов. — Сосед Банев пишет, что шибко тужил отец. Дескать, сын у него токмо единый, и тот обманул, родной дом на ученье променял, и все хозяйство, кровавым потом нажитое, ноне прахом пойдет... Дочка у него родилась, сестренка моя. Марьей назвали. А Машутку — сиротку, что в дому у нас жила, — крепко мачеха забижает. Теперь, небось, и вовсе в няньки подрядит, к дочке-то. Он помолчал. — И Никитыч, дьячок, учитель мой первый, об эту осень помер. И опять помолчал. — А та, что в невесты мне прочили, Параша, за Шубного, за соседа, вышла... Ждала, ждала, да за старика и вышла. Толковый он. Самый у нас ученый. На Красную Горку свадьбу сыграли. — А тебе жалко? — тихонько спросил Виноградов. — Жалко? Нет, я не жалею, — ответил Ломоносов. — Вот отца жалко... и край наш. Он хошь и суровый, а вольный край. Он продолжал стоять, не шевелясь, глядя на высокие деревья и отвернувшись от Виноградова. — Михайло, — сказал тот, и живые глаза его сощурились в лукавой усмешке, — про тебя намедни Любаша спрашивала. — Что спрашивала? — Почему не видать тебя нигде, гулять на берег зачем не ходишь. — А ты что же? — А я сказал: он, мол, у нас умен зело. Книги шибко любит. А она и говорит: «Ежели, — говорит, — он у вас умный, надлежит ему не книги, а девушек любить, так, — говорит, — и скажи». До того она шустрая, Михайло! — засмеялся уже громко Виноградов, откинув кудрявую голову и показывая белые крепкие зубы. — Ну что ж, пойдем на Неглинку, на берег, погуляем и с Любашей, токмо наперво за пирогами. Живот подвело! — То-то и есть! — сказал, торжествуя, Виноградов. Но трапезник был неумолим: он не дал пирогов даже за ремешок, служивший Ломоносову поясом. — Вот дьявол гладкий! — проворчал Виноградов, уходя от ректорского домика, подальше от запаха пирогов. — Да-а, зело скареден отец трапезник, — согласился Ломоносов, потуже затягивая свой ремешок. — Ну, нонче паки и паки наляжем, Митрий, на квас. — На ква-ас! — печально протянул Виноградов. — От него токмо утробу пучит. Нет, видать, завтра после уроков судьба нам с тобой на базаре калачи мять. Отдашь свой пояс-то? — А чего же его жалеть? Подпоясаться и веревочкой не грех! — уже весело отозвался Ломоносов и, поглядев сбоку на своего друга, негромко затянул: Ох ты, доля сиротинская, Монастырское житье! И оба зашагали к берегу Неглипки, где гуляла молодежь и где по вечерам раздавался нередко звонкий девичий смех. Громче всех смеялась Любаша, веселая дочка пономаря. Над Москвой потухал золотой вечер. Последние его отсветы гасли на облаках, дрожали на куполах Кремля, и на старом камне стен и башен четко проступала кружевная листва берез. Остановившись и глядя туда, где среди каменных островерхих башен и золотых куполов, отражаясь в неподвижной реке, зеленели деревья, Ломоносов задумчиво сказал: — Велика есть красота Кремля московского! А токмо народ здесь против северного намного трудней живет. Нагляделся я здесь и наслушался. — Как же это ты нагляделся, в Академии сидючи? — спросил Виноградов. — А у меня на то глаз поморский, вострый. Он не токмо в Академии, он в темноте видит. Последняя нить Деревья в заикопоспасском саду еще один раз покрылись листвой и облетели. Опять занесло снегом дорожки сада и широкие ухабистые дороги деревянной Москвы. В эту зиму снегу намело на Москву видимо-невидимо. Первопуток справили не хуже, чем в Холмогорах, — раньше Михайлова дня. И вьюги носились над старой столицей российской, словно над краем Архангельским. В большой комнате с низкими сводами, служившей спальней старшим ученикам, по утрам было холодно и темно. Гулко звонил монастырский колокол, возвещая начало учебного дня; у торопливо одевавшихся учеников клубилось паром дыхание. Надзиратель Петухов с большим ведерком в руках появился на пороге. — Ну вы, рота! — раздалось его утреннее приветствие. — Кто ежели встал, умылся, богу помолился — подходи за квасом. К нему немедленно потянулись руки с оловянными кружками. Получив свою порцию кваса, ученики распивали его большей частью тут же, на своих койках, и, наскоро закусив черным хлебом, бежали на краткий ежедневный молебен, после чего уже расходились по классам. В старшем классе не спеша рассаживались голодные «философы». Они доедали на ходу горбушки хлеба и раскладывали около себя па столах гусиные перья и осьмушки грубой шероховатой бумаги, приобретаемой по уставу на собственные средства. Сегодня отец Герман самолично начинал излагать школярам учение Аристотеля. Ломоносов подышал па озябшие пальцы, как привык делать дома, в своем сарае. Да, метет так, что и на улицу не выйдешь в худых-то валенках. А сапоги он давно уже выбросил: совсем износились. Ну, да ничего! Нонче, сразу после уроков и щей, — в библиотеку. Засесть там надо до вечера. Щей нонче дадут, а хлеба Виноградов купит на двоих: у него валенки покрепче. Воет в трубах-то, будто в родном селе! Вот закрыть глаза — и кажется, что дома он. И сейчас крикнет сердито мачеха, гремя посудой: «Люди за дело, а он сызнова книжку раскрыл!» И старый дед, протянув костлявый палец, зловеще прокаркает с печки: «От книг погибель миру идет! Еретики сочиняют!» У-у, как воет в трубе... Запаздывает что-то отец Герман, уж служка принес из библиотеки большой том Аристотеля в кожаном потрепанном переплете и положил его на стол архимандрита. Этот потрепанный том хорошо знаком Ломоносову: Аристотеля он уже прочитал дважды. Припомнилась ему слышанная в библиотеке беседа двух монахов о некоем философе Картезиусе: сей философ будто бы с учением Аристотеля в спор вступил. Спорить философам полезно. понеже в спорах твердеет собственное разумение, но ежели бы возможно было вкупе с суждениями философскими и опыт учинять! Сколь великая произошла бы от этого польза наукам! Вошедший ректор, отец Стефан, прервал в эту минуту его размышления. — Владыка наш, отец Герман, спешно отозван. А посему урок его нонешний отменяется. По повелению отца Германа оповещаю, что вести себя надлежит с полною благопристойностью, памятуя устав. А Ломоносова Михаилу отпускаю на малое время в приемную, понеже прибыл к нему посетитель. По уходе отца Стефана школяры устремились в трапезную, надеясь выпросить полагающуюся в этот день порцию щей пораньше. А Михайло, волнуясь, бежал в худых валенках через двор к другому флигелю, где помещалась приемная для весьма редких в школе гостей. Ну и метелица! И кого бы это к нему бог послал? Ни разу еще у него гостя не было, кроме Дутикова, забегавшего проверять, помогает ли он Петьке в учении. Но Дутиков ходил прямо с заднего крыльца, через кухню. Нет, это должен быть настоящий гость. Не об отце ли худые вести? Это был Дудин, Парашип брат. Его первый гость, первый человек с родины за пять лет! Он стоял спиной к окну, и свет падал прямо на Михаилу, который, открыв шумно дверь, с разбегу остановился, всматриваясь в посетителя. Он узнал Дудина с первого взгляда, хотя изменился и возмужал сильно Алексей за эти годы. Но Алексей не протягивал руки и даже слегка отодвинулся в глубину окна, удивленно и недоверчиво всматриваясь в рослую фигуру и в лицо Ломоносова. Перед Дудиным стоял высокий юноша в старом кафтане не по росту, не по широким плечам, рукава были коротки, из них торчали кисти озябших рук. Лицо носило явные следы голода, а в глазах застыло выражение какой-то упорной, всепоглощающей думы. — С приездом, гость дорогой, честь да место! Михайло произнес обычные на севере слова приветствия, и Алексей Дудин широким жестом протянул обе руки: да, .это был сын Василия Дорофеича! Потом он еще раз оглядел Михаилу и, покачав головой, промолвил: — Эх, Михайло, Михайло!.. Они сели рядом на узеньком жестком диване, стоявшем пышности ради в приемной, и рассказал ему Алексей все новости: о том, что открывают они с братом вскорости свое дело либо в Архангельске, либо в Москве; о Параше, уехавшей с мужем в Архангельск; о том, что обижает шибко Машутку мачеха Арина Семеновна и самого Василия Дорофеича держит в руках. И о том, как растет и хорошеет Машутка, старательная ко всякой работе, и что хотят ее Дудины к себе в дом у Василия Дорофеича отпросить. А у избы их ломоносовской надо бы по весне крыльцо поправить. — Вот ты и вертайся-ка, Михайло, домой, все хозяйство примешь, обрядишь все, как положено быть. Когда учению твоему конец-то? — О тот год весной, — ответил Михайло, и в голосе его явно для Дудина послышалась тоска. — Стало быть, к лету тебя и ждать через год? Михайло, ничего не ответив, молча качнул головой. Алексей, онемев от великого изумления, смотрел в похудевшее, изменившееся лицо. — Не воротишься? — топотом спросил он. — Нет, — ответил с трудом Михайло и отвернулся к окну. Дудин сокрушенно вздохнул. — Эх, Михайло, словно испортили тебя! От всего довольства, от невесты сбежал — а на што? Что тебе ученье-то дало? Кафтан рваный да валенки, что у нас и работник не обует? А ведь пять годов миновало, как учат тебя тут, а чему научили — и не видать! Дома-то у нас за эти годы сколько бы добра нажил! А здесь тебе с голодухи живот подвело. Неужели тебе ученье здешнее так полюбилось? — Нет, ученье здесь не то, что мне надобно. — Не то?! — Глаза Алексея стали совсем круглыми от удивления. — Так на што сидишь здесь? — Я и в Киев ездил, — сказал сумрачно Ломоносов, — и там не то ученье. Опять сюда воротился. — Ну, Михайло, бог тебе судья, а я своим умом того не разумею. Чтоб этакую муку да по своей воле на себя ради ученья принять! А кончивши здесь страду — куда пойдешь? В попы? — Нет, не пойду. Я и то было решался, дабы с господином Кирилловым в експедицию на реку Орь уехать, да не вышло. Бумаги затребовали о духовном происхождении. Спасибо, здесь без бумаг верят. — Так чего ж тебе надо, опомнись, Михайло! Чего ищешь, видать, не знаешь сам. — Нет, знаю, — уже улыбаясь, посмотрел на гостя Ломоносов. — Искать буду того ученья, которое мне надобно. Гость встал и, качая укоризненно головой, смотрел на своего странного земляка. — Как мне про все про это Василию Дорофеичу сказать — уж и не знаю. И Машутка все про какие-то пять годов поминала, что воротишься ты. Что им расскажу? Михайло помолчал, потом, встав, твердо ответил: — Отцу моему, Алексей, поклонись, скажи, чтобы простил меня старик, разные у нас с ним дороги вышли, хоть и схожи мы по упрямке нашей: что он, что я. А Машутка... Машутке вскорости надо замуж итти. — Так и сказать? — пристально поглядел на него Дудин. — Так и скажи... Когда, простившись с товарищем своей юности, Алексей Дудин вышел за монастырские ворота, Михаиле показалось, что последний кусочек родной земли оторвался от него и медленно исчез в метели. Он стоял у ворот без шапки и долго смотрел, как удалялась высокая фигура Алексея, статного и хорошо одетого. Вот он повернул за угол Никольской улицы... вот глубокие следы его валенок забрасывает снегом... вот их замело совсем. Нежданно-негаданно Он ушел от всех в библиотеку: ему не хотелось ни с кем говорить сегодня, даже с Виноградовым. Призвав и Петьку и Виноградова, засевшего было за зубрежку цицероновых эпистол, он по-братски поделился с ними высохшими лепешками, привезенными в гостинец Дудиным, и теперь сидел, догрызая свою долю, над Аристотелем один. «Ежели отец библиотекарь даст нынче вторую книжку, всенепременно у него книгу про философа Картезиуса попрошу». Ломоносов перевернул уже не один раз прочитанные страницы. Вот и вечер. Служка засветил две масляные лампы в двух концах библиотечного покоя. В тишине легонько похрапывал задремавший в углу монах, да поскрипывало перо монастырского переписчика редких книг, состоявшего на постоянной службе у отца Германа. Сегодня что-то утомительна была латынь и время поворачивалось медленно, как тяжелый жернов. И вдруг под сводами длинного коридора послышались частые звуки неурочного колокола, созывающего учеников в общий зал. Это бывало только в случаях особо важных, когда нужно было объявить о событии, касающемся всей Академии. На этот раз в общий зал были впущены только старшие классы, начиная с «грамматиков». Отец Герман оглядел собравшуюся паству, затихшую, как только он слегка поднял худую руку, и громко возгласил: — Оповещаю вас, отроки, о чрезвычайном событии. По указу Правительствующего сената из Санкт-Петербурга надлежит нам, грешным, отобрать из вас двадцать наилучших учеников, дабы отправить в Санкт-Петербургскую Академию наук для дальнейшего в науках преуспевания. А посему, благословясь, приступим мы к сему отбору незамедлительно и учиним для всех письменное испытание, расходитесь с миром по кельям, а вскорости по решению нашему приступайте со усердием к оной работе по латинскому языку. Они долго не могли заснуть. Глубокой ночью Виноградов приподнял голову со своей койки. — Михайло, — сказал он тихо, — будешь ты вскорости в Санкт-Петербурге, вот дела-то! — Отчего я буду? Кто решил? — Вона, кто решил! Да уж раз лучших отбирать будут, хошь бы и не всех двадцать, а двоих всего — так и тогда тебе не миновать: ты у нас изо всей школы первый есть и лучший, и нечего про то толковать. — И ты поедешь, Митрий! — уверенно отозвался Ломоносов. — Давай бог! Вот дела-то!.. — повторил Виноградов, укрываясь тулупом. — Неужли кончилась она, заиконоспасская жизнь? Ломоносов не отвечал. Он стоял у маленького решетчатого окошка, за которым все еще бушевала вьюга и прорывался временами мутный лунный свет сквозь бегущие снежные тучи. Виноградов не видел его лица, когда, помолчав, друг его сказал голосом, в котором дрожало не то волнение, не то восторг: — Неужли... неужли сбудется, Митрий, великая моя надежда?! Решительный день На другой день с утра вся школа гудела, как потревоженный улей. Слух прошел, что сверять работы будет вместе с заиконоспасским начальством и некий ученый, приехавший из Санкт-Петербургской Академии наук. Он прибыл к вечеру вместе с отставным прапорщиком Поповым и остановился в покоях ректора. Через день была назначена проверочная работа. Отвели ради торжественного случая большой зал и выдали казенную белую бумагу. Рано утром Дутиков вызвал Михаилу в коридор. Около отца стоял Петька, физиономия его опухла от слез: школа хором говорила, что уж кто-кто, а Ломоносов будет взят в Петербург. — Михайло! — строго сказал Дутиков, поглядев, нет ли кого в коридоре и отходя в самый темный угол. — Ты старое добро помнишь? — Помню. — То-то, «помню». А в Петербург уедешь, что с Петькой станется? — В том я не волен, — спокойно сказал Ломоносов. Дутиков прошептал ему на ухо: — А ты не пиши. Откажись, Михайло, слезно тебя с Настасьей Ивановной молим! Петькуто извели совсем. На коленях чирьи! А Настасья Ивановна тебе харчи будет из дому носить — токмо Петьку не оставь. Не пиши, Михайло. — Что ты, Иван Петрович! Как такое можно сделать? — невольно отшатнулся Михайло. — Как сделать?! — уже раздраженно повторил подьячий. — Как дома жениться не хотел, сумел себе болезнь притворить, сам сказывал. Притвори и теперь. Ну? Согласен, што ли? И, видя, что Михайло отвернулся от него, он добавил: — По алтыну в седмицу давать буду. Чего тебе еще? Притворишь болезнь? — Нет, — ответил Ломоносов резко и, не глядя, ни на подьячего, ни на Петьку, который стоял молча, прячась за отцовскую спину, пошел в зал, уже наполнявшийся взволнованной толпой. — Ну, погоди ж ты, самозванец! — Дутиков со злобой посмотрел ему вслед. Прибывший из Санкт-Петербурга ученый был еще молодой человек, состоявший переводчиком Академии. Господин член Академии в сопровождении всего Ученого совета вошел в зал, оглядел учеников и на чистейшей латыни оповестил их о том, что каждому ученику надлежит изложить в письменном виде, какие науки проходил он в Заиконоспасской школе. Далее — о каких философах он слыхал, и творения каких узнал самолично, и каковые из них почитает он изрядными. Изложено должно быть все сие связно, толково, без ошибок и удобочитаемым латинским языком. Ученики расселись на узких скамьях и усердно заработали перьями, ученый совет заседал в безмолвии. Но по прошествии часа ректор Стефан встал. — Надзиратель Петухов, понеже все притомились, — заявил он, — мы перейдем на малое время в трапезную. Посмотри, вкупе с господином Поповым, за тишиной и поведением отроков. Наипаче всего — чтобы не списывали нерадивые у разумных. Ученый совет удалился, но тишина не нарушалась. Слишком велико было напряжение. А пока ученики в поте лица трудились над составлением сочинений, надзиратель Петухов присматривался с интересом к прапорщику Попову, сопровождавшему петербургского гостя, и, наконец, решил обратиться к нему с вопросом: — Это куды же вы, к примеру, наших учеников заберете? — Как такое — «куды»? — с важностью ответил Попов. — В Де-Сьянс Академию. — Куды-ы? — переспросил Петухов. — Академия наша прозывается Де-Сьянс, — повторил Попов. — Название чудное весьма, — с сомнением покачал головой Петухов, набивая нос Табаком. — На што лучше наша: Академия Заиконоспасская! — Да нешто нашу сравнить с вашей? — возразил гость. — К нам высокие персоны ездят, у нас окна-то в мой рост, из чистого стекла, а не то, что здесь. Народ — все большой учености. Порусски-то и говорить не умеют, все по-непонятному. — А харчи у вас казенные? — Харчи казенные, и пиво есть. — Ишь ты! — с новым сомнением ответил Петухов. — Нет, у нас такого обзаведенья по науке во всей Москве нету. — Это как есть! — сказал Попов. — Наше дело столичное. Петухов задумался было над преимуществами столичной науки, но поглядел на столы с наклоненными над ними головами и, увидав, что одна из этих голов уже поднялась от бумаги, сердито крикнул: — Ломоносов Михайло, раз коичил — вставай! Нечего там сидеть, лавку просиживать, дуракам списывать давать! Ломоносов встал со своего места и отошел к окну. Но ни один из блюстителей благопристойности не заметил, что он уже передал ближайшим соседям выпрошенные ими черновики. Отец Герман, вернувшись в сопровождении ученого совета, взял у Ломоносова первую оконченную работу и передал ее петербургскому гостю. Один за другим начали подходить школяры к столу Ученого совета, подавали свои работы и принимали благословение отца Германа. Пересмотрев листы, архимандрит объявил экзамен оконченным, ученый совет удалился на совещание. Грех отца Варсонофия На другой день отец Герман отслужил молебен, после чего члены ученого совета прошли в зал, а толпившиеся в коридоре ученики прислушивались через закрытые двери к их голосам. — Высокочтимые отец Герман и отец Стефан, — начал петербургский гость, кладя перед ректором Стефаном четко исписанный лист. — Как я уже имел честь изъяснить вам, в работах, поданных учениками вверенного вам училища, не усматриваю я ни единой, коя может равняться с работой сего ученика... ученика... — он наклонился к листу, чтобы прочитать фамилию. — Ученика Ломоносова, — поспешил подсказать отец Варсонофий. — Именно так: Ломоносова, — повторил гость. — Из работ, прочитанных мною, отметить еще надлежит Виноградова изложение, толково весьма составленное и со знанием латинских оборотов, а из остатных усматриваю я едва ли десять работ, составители коих могут быть допущены к дальнейшему изучению наук. — Ломоносов у нас весьма в науках преуспевает, — сказал отец Герман, — и, поступив к нам уже не в малых годах, в единый год одолел три класса. — Он и вирши латинские с первого года слагать начал, — добавил с гордостью отец Варсонофий. — И подвизаясь на публичных диспутах, кои у нас ежегодно совершаются, читал нам свои переводы из древнего сочинителя Вергилия и весьма прекрасно о нем говорил. Учитель наш, отроков латыни обучающий, светского звания человек, Постников Тарасий, полагает дарования отрока сего Ломоносова — отменными. — Из описаний его вижу, что весьма он усерден в чтении философских творений, — закончил господин член Санкт-Петербургской Академии и попросил ректора отца Стефана впустить учеников. — Надзиратель Петухов, — громко сказал отец Стефан, — ввести испытуемых! Они вошли гурьбой и, став перед начальством в заплатанных кафтанах и в изношенной обуви, жались друг к другу, ожидая решения своей участи. Ректор Стефан обратился к ним с краткой речью и только собрался называть фамилии учеников, как с грохотом распахнулась дверь и подьячий Дутиков ворвался в зал Ученого совета. — Владыка святый! Господа ученый совет! Дозвольте сообщить наиважнейшее дело! — прокричал подьячий. Отец Герман грозно смотрел па Дутикова и не мог поверить своим глазам. — Как дерзнул ты вторгнуться в зал сей! Поди вон! — проговорил он наконец, указывая посохом на дверь. — Я уйду, я уйду, отец Герман, токмо дело мое есть наиважнейшее и неотложное, касательно ученика вашего Ломоносова Мишки. Услыхав эту фамилию, беспокойно шевельнулся на своем месте отец Варсонофий, удивленно, тревожно переглянулись отец Герман и ректор Стефан и с интересом посмотрел на подьячего петербургский гость. — Излагай с поспешностью! — крикнул отец Никодим. Дутиков перевел дыхание и, взглянув с торжеством на Ломоносова, который стоял, побледнев и сжав руки так, что пальцы его побелели, громко сказал: — Ученик сей Ломоносов Михайло не может состоять учеником не токмо СанктПетербургской Академии, но и здешней, понеже он есть самозванец. — Изъясняй вразумительней, — сказал сурово отец Герман. — Облыжно именуя себя сыном дворянским, обманом вступил он в училище сие, ибо Михайло сей есть не дворянский, а простой крестьянский сын. В зале стало так тихо, что слышно было тяжелое дыхание тучного отца Стефана. — Но сие надлежит доказать! — сказал, наконец, петербургский гость. — Касательно происхождения ученика сего имеем мы свидетеля, — произнес отец Герман. — Отец Варсонофий, изложи нам, что тебе ведомо. — Отец Варсонофий обман сей покрыл, — быстро докричал Дутиков, — по моей же грешной просьбе, каюсь, по моей, понеже жалость возымел я к сему отроку! Отец Варсонофий, не взглянув на подьячего, поднял глаза на отца Германа, и старческий голос его звучал спокойно, когда он ответил: — Отец Герман и отец Стефан! За долгую мою жизнь единый токмо раз согрешил я обманом. Но совесть моя и по сей день меня за то не корит, ибо отрок Михайло, преуспевая каждодневно в науках, оправдал грех мой. Отец Герман поднял кверху длинные сухие руки. — Нарушителем устава учинился ты, отец Варсонофий, на старости лет! Что скажешь нам на грех сей? — Скажу вам, отец Герман и отец Стефан, те слова, кои господь наш сказал про нарушителей закона субботнего: «Не человек для субботы, а суббота для человека». И сказав это, умолк отец Варсонофий, опустив свою седую голову. — Напоминаю ученому совету, — тихо промолвил петербургский гость, — что, кроме Ломоносова, повеличаться в Академии будет вам некем. Отец Герман обратил, наконец, грозный взор в сторону Ломоносова... — За таковое нарушение устава подлежит он суровой каре, — произнес он громко. — Опросить надлежит, владыко, ученика Ломоносова самолично, — сказал петербургский гость. — Мы в вашей воле, — ответил ректор Стефан. — Ведомо ли тебе, нечестивый, что за сокрытие сословия надлежит тебе по уставу ссылка в дальний монастырь? — сурово спросил отец Герман, когда Ломоносов подошел к столу ученого совета. — Ведомо, — коротко сказал ученик. — Как же решился ты на сей злостный обман начальствующих над тобою духовных лиц? В зале было тихо, и хотя Ломоносов ответил очень негромко, слова его раздавались отчетливо. — Решился... по простоте своей, — сказал он и, впервые подняв глаза на отца Германа, закончил: — И по великой любви к учению. Наступила минута общего молчания. Господин член Санкт-Петербургской Академии наклонился вперед, внимательно всматриваясь в побледневшее лицо юноши, в его темные глаза. — Скажи нам, Ломоносов, — медленно произнес он, — к чему имел ты наибольшую склонность от малых лет? — К учению, от ребяческих лет до сего дня. И от тех годов до сего дня, — повторил Михайло, и голос его зазвучал сильнее, — нет у меня окромя ничего. Петербургский гость продолжал всматриваться в это смелое лицо, и глаза его все светлели. — Кто же тебя из дальнего твоего края привез? — спросил он. — Я сам ушел. — И шел всю дорогу? — Всю дорогу. — Ежели учиться тебя отпустим, — сказал ректор Стефан, глядя в глаза Ломоносова неумолимым взором, — то житие твое, во внимание к содеянному преступлению, весьма не легким будет: работа во весь день, а пища — токмо хлеб с квасом. — Согласен ли ты будешь на сие покаяние? — перебил отец Герман. Михайло поднял голову. — Господа ученый совет! — уже своим обычным звучным голосом сказал он. — ради учения не токмо не жалею я об оставленном мною довольстве, но и самой жизни не пожалею, понеже жить без учения али помереть — для меня едино. А остатное все мне не страшно. Крестьянский я сын, тело у меня крепкое и руки сильные, родина моя — суровый край, стужу да зимнюю бурю ребенком знал я и не боялся. И нонче боюсь не суровости жизни, а токмо жизни, лишенной познания всего, что ни есть на свете. Он умолк. Господин член Санкт-Петербургской Академии встал, закинул голову свою в напудренном парике и сказал так звонко и ясно, что даже толпившаяся в коридоре «фара» услыхала его слова: — Господа ученый совет! Ученик Ломоносов Михайло первым из всех взят в Академию. Кончилась Заиконоспасская жизнь Разгоралась румяная морозная заря первого дня рождества. К крыльцу Заиконоспасской школы подали пару саней. Крепкие монастырские лошади должны были довезти учеников до ближайшей почтовой станции, откуда двенадцати заиконоспасским питомцам в сопровождении отставного прапорщика Попова уже надлежало ехать в почтовых кибитках. По случаю великого праздника обедня была поздней. Накануне, в сочельник, вся школа отстояла всенощную, после чего, в виде исключения, учеников пустили в трапезную: разговляться лапшой с солониной. Двенадцать отъезжающих были допущены к отцу Стефану и к отцу Герману. И отец Стефан и отец Герман говорили напутственные речи. Отец Варсонофий ничего не сказал. Он молча обнял своего любимца и, благословив, незаметно для всех сунул ему в руку сбереженный на черный день серебряный рубль. Когда Михайло целовал его сухонькую руку, что-то горячее и нежное подступило к его сердцу и, не совестясь ни перед кем, он вытер глаза рукавом нового, только что выданного кафтана. В морозном воздухе пахло горячими пирогами, которые пекли в доме ректора. Виноградов, усаживаясь в санях поудобнее, подмигнул Михайле: — Помнишь, отец трапезник-то летом и за ремешок не угостил? А нонче — гляди сюда: сам пирогов дал. — Да где ж они у тебя? — спросил не без интереса Михайло, посматривая на пустые руки Виноградова. — А я на них для верности сел, чтобы до времени никому повадно не было. Ломоносов звонко рассмеялся и сел рядом с Виноградовым. — Храни, храни! Ишь, уселся, что наседка на яйцах. Как в поле выедем, наделяй всех. — Ясное дело! — охотно согласился Виноградов и в последний раз оглядел и сад, и двор, и здание школы, и учеников, толпившихся на крыльце. Наконец ректор Стефан махнул рукой и громко сказал: — Ну, благословясь, трогай! Сани дрогнули, заскрипев по снегу, и быстро покатились к монастырским, раскрытым настежь воротам, «фара» повисла на задках санёй. Но кучер Кузьма при помощи кнута быстро освободил себя от лишней поклажи. Деревья заиконоспасского сада в белых кристаллах инея четко стыли з голубевшем небе. Высокие главы монастыря еще раз выглянули из-за угла. Вот опять видны его деревья... Еще один поворот — и все это стало уже прошлым. И поплыли в прошлое улицы утренней Москвы, с бородатыми купцами в русских кафтанах и шубах, с подьячими, с верховыми в треуголках, со шпагами на боку. Останавливались иные прохожие, с удивлением поглядывая на сани: «Куда это бурсаков повезли»? — и, постояв, шли дальше. Когда они подъезжали к заставе, солнце уже совсем взошло — морозное и красное, рождественское солнце. И разом ударили большие и маленькие, ближние и дальние колокола. Они празднично гудели, и поспешно отпирались окопанные железом двери в церквах и церковках. Ученики ехали молча, пока не замер в отдалении звон последнего колокола и не слился с голубоватой далью блеск последней золотой маковки. Де-Сьянс Академия Вдали из тумана поднимались к небу высокие столбы дыма. Жидкие сосны и елки росли на плоской равнине. С горизонта наплывали одна за другой темносерые тучи и поливали талую землю холодным дождем. Мокли под ним московские студенты и удивлялись, вспоминая, что оставили за собой всего семь дней тому назад морозную, покрытую хрустящим снегом старую столицу. Санкт-Петербург встречал их не очень приветливо. Но они были молоды, впереди их ждала новая жизнь, и они вступали, вернее, въезжали в нее доверчиво, полные надежд. Их веселил дождь первого января, посреди зимы, в самый день Нового года, и радовал вид открывшихся, прямых и широких улиц — петровских «першпектив» — и деревянные мостки, по которым спешил какой-то иной, не московский вовсе, народ. Но вдруг Ломоносов приподнялся и стал так пристально смотреть вперед, что Виноградов, сидевший с ним рядом, спросил: — Михайло, ты что? Там, за высокой крышей строящегося здания, возвышалась мачта, настоящая мачта зазимовавшего в порту корабля, и сердце помора дрогнуло в груди Михаилы. И вот долетел откуда-то влажный ветер, и лицо Ломоносова расплылось в радостной улыбке. Он ловил этот ветер ртом и, с наслаждением вдохнув его полной грудью, весело толкнул в бок снова задремавшего Виноградова. — Митрий, морем пахнет, чуешь? И ветер задул норд-вест, прямо с моря! У нас эти ветры в конце лета ходят. Ты подставь ему лицо-то! – говорил он радостно: — Хор-ро-ший, брат, ветер! — Ну, значит, приехали! — громко сказал Виноградов и окончательно проснулся. И в самом деле приехали. Возок остановился перед большим каменным зданием, «весьма изрядного вида», как успел заметить Ломоносов. Оно стояло на набережной широкой полузамерзшей реки и хмуро, строго смотрело своими большими стеклянными окнами на заиконоспасских учеников. Ученики выходили из возка, доставали свои узелки, разминали ноги, шлепая валенками по лужам. Перед ними была Академия наук, создание Петра. И Ломоносов с волнением подошел к ее тяжелым дверям. Де-Сьянс Академия открыла свои двери перед двенадцатью московскими бурсаками. Их накормили, и провожатый Попов велел им привести себя в порядок, перед тем как явиться к ученому секретарю Академии, а затем и к ее правителю — Шумахеру. Попов объяснил им, что ученого секретаря надлежит называть не просто «Минц», а «герр Минц», а правителя канцелярии никак не называть, но всемерно проявлять почтение. Минц оказался весьма сухощавым немцем высокого роста и в высоком парике. Манеры его были величественны и сдержанны. Когда двенадцать новых студентов отвесили ему поясные поклоны и выстроились шеренгой на блестящем полу, с сомнением посматривая на свои валенки, герр Минц высоко поднял руку и тонким голосом произнес: — Also, вы имеете быть в российская наук Академия, ich gratuliere! Я поздравлял с приездом! Он поочереди приветствовал каждого и каждому пожимал руку кончиками длинных пальцев далеко вытянутой вперед руки. И, отвечая на его рукопожатие, Виноградов, в совершенстве изображавший всех своих московских учителей и монахов, поступил совершенно так же: он вытянул руку во всю длину и приложил кончики своих пальцев к холодным пальцам ученого секретаря. Слегка удивленный, герр Минц величественно попятился назад на прежнюю позицию и шаркнул туфлями. Отступил и Виноградов, шлепнув валенком о валенок. Но когда ученому секретарю понадобилось высморкаться и он совершил это при помощи тонкого носового платка, двумя пальцами поднесенного к носу, а Виноградов тем же жестом достал из-за пазухи красную тряпицу и прижал ее к своему носу тоже двумя пальцами, — Ломоносов весьма чувствительно ущипнул его за мягкое место. Минц сообщил новым ученикам, что их ожидает в своем кабинете repp Шумахер и что герр Шумахер предпочитает в разговоре немецкий язык. Но, принимая во внимание, что московские студенты еще не имели возможности его изучить, он будет на сей раз беседовать с ними порусски. После этого герр Минц предложил студентам следовать за ним. Вступив в темный коридор, Виноградов с такой точностью повторял его походку, вытягиваясь на носках сношенных валенок и взбив кверху свои кудрявые волосы, что даже Михайло не мог не смеяться, прикрывая рот обшлагом рукава. Герр Шумахер сидел в кресле около горевшего жарко камина, среди книжных шкафов, и просматривал лист какой-то рукописи, попивая из тонкой чашечки черный кофе. При появлении герр Минца с дюжиной учеников, заполнивших сразу весь кабинет, герр Шумахер обратил к ним свое лицо — еще не старое, но бесстрастное и сухое — и оглядел будущих учеников Академии.. — У кого есть сопроводительное письмо? — спросил он, кончив свой осмотр. Он говорил по-русски довольно хорошо, лишь с небольшим акцентом, но голос его скрипел, как сухая половица. Письмо было у Ломоносова. Шумахер прочитал и передал Минцу. — Так, — сказал он. — Мы ожидали двадцать студентов, но прибыло двенадцать. А который есть Ломоносов? И который Виноградов? О вас прислана особая апробация. Оба ученика «с особой апробацией» отвесили ему поясные поклоны. — Also, morgen — то-есть завтра, вы начинаете занятия. Нонешний день — день Нового года — полагаем мы праздничным днем. Завтра вы будете иметь шесть часов занятий. Между ними, через три часа, вы имеете обед. Программа обширна весьма. Занятия начнутся с изучения немецкого языка. Затем следуют авторы латинские, география, математика, риторика, всеобщая история, рисование и танцы. Когда, уходя от правителя Академии, ученики возвращались темным коридором, Ломоносов задумчиво сказал, обернувшись к своему другу: — Сдается мне удивительным весьма, что в российской Академии наук танцам и немецкому языку обучают, а русский наш язык, историю нашу отечественную, видать, почитают ненужными. В ответ на это Виноградов только махнул рукой. Но вечером, а общежитии, усевшись с оловянной кружкой в руках перед печкой, он превратился в очень скрипучего Шумахера. После чего явился перед зрителями герр Минц и в одних чулках, со взбитыми кверху кудрями обошел всех присутствующих, протягивая всем по очереди кончики пальцев вытянутой в виде палки руки и сморкаясь в красную тряпицу. Веселье, вызванное в зрителях этими двумя явлениями, поощрило лицедея к показу явления третьего – из недавнего прошлого. И вот на широкой скамье с подушкой на животе уселся он, сложив худенькие руки и, тяжко отдуваясь, изнемогая от тучности, обратился к присутствующим с одной из речей ректора Заиконоспасского училища, отца Стефана. — Далее! — басил он густым, жирным басом. — Особливо памятуйте, что все тайное явным содеется. Да не толкайте друг дружку в бока-то! Словам моим внимать надлежит с благопристойностью — и внимайте! Обнаружено отцом библиотекарем, вкупе со мною, — здесь ректор Стефан тяжело вздохнул, — что на катехизисе, взятом учениками для зубрения, на самом первом листу некий нечестивец умудрился чертей изобразить: как хвостатых, так ровно и рогатых. Это вы умеете! Кто нечестивец сей? — ректор Стефан оглядел своих слушателей строгим взором, но слушатели ответили ему таким дружным взрывом звонкого молодого смеха, которого, наверное, еще не слыхали холодные залы Санкт-Петербургской Академии наук. И смех был совсем не лишним. Во-первых, несмотря на праздничный день, накормили их неважно, во-вторых, темные коридоры и холодные пустынные комнаты, в которых дуло и в щели окон и в щели дверей, наводили уныние на москвичей, уныние наводила и непонятная многим иностранная речь, и вид туманных пустынных улип, открывавшийся из окон, и тихий бой курантов, падавший откуда-то сверху, как капли холодной воды. В городе Петра В первые дни москвичи бродили по всем залам пустынной Академии. Они изучили во всех подробностях уже приходящую в упадок кунсткамеру Петра, рассматривали монстров в спирту и часами простаивали перед гигантским шаром — знаменитым Готторпским глобусом, который имел одиннадцать футов в поперечнике и показывал движение небесного свода. Больше всего обрадовала Ломоносова библиотека, где он нашел, наконец, сочинение незнакомого ему философа Картезиуса. Но учение... учение пока давало мало удовлетворения. Можно было подумать, что о них забыли. Им до сих пор не выдали ни сапог, ни платья, и в наступившие вскоре морозные дни приходилось по этой причине часто сидеть безвыходно в общежитии, пропуская и без того весьма редкие лекции профессоров. — Что там эконом наш размышляет столь долгое время о выдаче сапог студентам? — спросил однажды Шумахер секретаря Минца. — Герр фельтен, — ответил поспешно Минц, — уже давал им рубашка и вакса и делал распоряжение в кладовая, но кладовая имеет десять сапог, и все на правый нога. Виноградов сокрушенно поглядел на свою левую ногу: — Ишь ты, дело какое! Кабы не было ее, были бы мы, Михайло, обуты! Но порядки академические ругать не разрешалось. Об этом предупредил студентов адъюнкт Ададуров, с которым все-таки можно было отвести душу. Строгость была во всем большая, и со двора Академии по вечерам студентам уходить не разрешалось. Но все же, договорившись с дежурным адъюнктом, Ломоносов с Митрием часто вечерами бродили по городу, особенно поближе к весне. Им казалось невероятным, что всего шестьсот верст отделяют петровские «першпективы» от кривых переулков Москвы. Они были полны величия, этот город Петра и его полноводная река с еле слышным прибоем у берегов. Петр Первый был любимым героем Ломоносова в детстве. Теперь он видел в нем зачинателя великого дела просвещения и с восторженным любопытством изучал прекрасный город, созданный его несокрушимой волей. Его душе помора была понятна и страстная любовь Петра к морю. В его простом маленьком домике — чистота и тишина. В окна сквозь ветки еще голых лип просвечивает синеющая на солнце Нева. Здесь, в этих невысоких комнатах, обставленных со скудной простотой, вставал перед Ломоносовым отчетливо образ Петра. В раздумье часами бродил он вокруг его летней резиденции. — Зато и жил он здесь, Митрий, что отсюда вся река видна и ветер с моря идет! — А ну, Михайло, сколько у нас нынче? — отвечал на это Митрий. Михайло пересчитывал скудное содержание старенького кошелька. — Не хватит, — говорил он, покрутив головой. Виноградов шумно вздыхал. — Ну, ничего, может, уступит лодочник, он старик добрый. — Это хохол-то? — Он самый. И они решительным шагом направлялись к реке. Какими сложными путями попал на берег Невы старый уроженец приднепровских степей, он и сам точно не мог рассказать. — Як погнали народ царю Петру город рубити, так и меня узяли. — Да как же так? — удивился Ломоносов. — Ведь, чай, ты украинец? — Та що с того? Погнали — и усе. А як то було, я ж не упомню, хоть ты убийсь. Был он когда-то рыбаком и плавал от зари до зари по Днепру в утлой рыбацкой лодке. В солнечные весенние дни Нева была синяя, как Днепр. Старый лодочник подолгу смотрел на реку и, вздыхая, говорил: — От як побачишь таку ричку, то вона як Днипр родимый. А я якую годину его спокинул — не упомню. Так отвечал он обычно на расспросы студентов. И не один раз поворчав себе в бороду и оглядев подслеповатыми глазами монеты, положенные Митрием в его ладонь, старик решительно протягивал деньги, сердито говоря: — Мало грошей. — А у нас боле нету, дедушка, — чистосердечно признавался Виноградов. Дед задумывался. — Ну, нема, так нема, — говорил он, помолчав. — Що з вами подилаешь? Берите лодку. Тильки щоб усе в порядке було. Ломоносов садился на весла, и они быстро шли, обгоняя другие лодки, к открытому морю. Дул в лицо свежий иетер, лодку слегка поднимало на бегущей с моря волне, и Ломоносов, довольный, говорил: — Словно не разучился я, Митрий, гребу по-нашему, по-рыбацки. — Еще бы ты плохо греб! — отвечал Митрий, явно гордясь своим другом. Ему нравилось в нем все: и духовные силы, и телесная мощь, и грубоватая прямота обхождения, и крепкая сноровка в каждом деле. Но он не разделял восторженного отношения Ломоносова к Петру. — Словно токмо он один все умел да про все думал. Он царь был, ему все легко было. Что хотел, то и делал. А я иных знаю, таких-то. — Да кого же? — Да тебя. После такого ответа Ломоносов сначала сердился, потом громко смеялся и под конец задавал Митрию «головомойку», взъерошивая его кудрявую голову до тех пор, пока волосы на ней не вставали дыбом. Возвратись с реки с ощущением здоровой физической усталости, надышавшись свежим ветром, Ломоносов иногда — в счастливый день — подносил к глазам пораженного Виноградова найденную где-то в кармане монету. Виноградов издавал восторженный вопль, после чего они направлялись в матросский кабачок в конце набережной, особенно любимый Ломоносовым за то, что в нем, по преданию, бывал сам Петр. В пасмурный вечер, направляясь к этому кабачку вдоль набережной, где ветер срывал с плеч редких прохожих плащи, а с голов — треуголки, оба студента одновременно приметили странного человека. Его тучная фигура была облачена в кафтан старого покроя, явно домашнего, деревенского происхождения. Необыкновенную войлочную треуголку крепко придерживал он на голове обеими руками и с видом полнейшей растерянности смотрел по сторонам. Завидев приближающихся студентов, он бросился к ним и, остановившись и с трудом переводя дыхание, снял перед ними свою треуголку. Он хотел что-то сказать. В то же мгновение ветер сорвал с его головы серый паричок и помчал вдоль набережной с такой стремительностью, что не только дородный незнакомец, но даже Ломоносов не мог его поймать. Наконец легкий на ногу Митрий ухватил его и передал обладателю, который, на потеху сбежавшихся мальчишек, отдувался, стоя на ветру с лысой головой. Надев паричок, незнакомец долго и сконфуженно благодарил студентов. После чего, почувствовав к ним, очевидно, полное доверие, он спросил, не помогут ли ему господа студенты в его деле. — А пока не укажут ли господа студенты, где бы тут квасу испить? С дороги-то хорошо бы, да я в столице не бывал, ничего не ведаю. Господа студенты с большим воодушевлением предложили ему зайти с ними в матросский кабачок, и скоро, усевшись в углу за маленький столик, среди гама и громкого пения посетителей, незнакомец, назвавшись помещиком Бабкиным, рассказал им свою историю, опасливо озираясь по сторонам. Жил он да жил в своей большой избе под тесовою кровлей, управлял своими ста сорока мужиками, как вдруг в один зимний вечер вьюга загнала к нему на ночевку проезжего майора. Сидели, как водится, за ужином у натопленной жарко печи. Тут же собака лежала, Бабкина верный пес. Понравился пес майору. «Не продадите?» — спрашивает. «Нет»,— говорит Бабкин. А мороз прихватил на дворе знатный. Подошел майор к печке спину погреть да ка-ак гаркнет: «Это что же тут такое на печи изображено?» А изображен был у Бабкина на изразцах спокон веков двуглавый орел. Годов тридцать назад поставил ту печь отец Бабкина. И не глядел никто на сии изразцы. Сделан на них двуглавый орел когда-то для красы — и все. Но не унимался майор. А больше-то рассердился он на то, что отказался Бабкин собаку свою ему продать. «Это по какому же, — говорит, — праву поместил ты на печку принадлежность всемилостивейшей государыни нашей? Сие есть герб государственный преславной царицы нашей Анны Иоанновны, а тут он на печи помещен, коя есть место сожжения! Таковое, — говорит — непристойное помещение государственного герба указует на желание оный сжечь!» Уехал майор, а помещику Бабкину из суда бумага: явиться для объяснений. Явился и объяснился, будучи заподозрен в оскорблении величества, и хоть нашел некую заступу в лице соседа, а по судам затаскали. Мотается по ним зря — не сымают вконец обвинения. Теперь сосед присоветовал: «Поезжай, — говорит, — в Санкт-Петербург, проси милости в Правительствующем сенате, самолично». Вот и приехал в столицу. А как в Сенат пройти и кому там прошения подают, ничего не знает. Нахмурясь, слушал рассказ Ломоносов, — Так у нас и живут, — промолвил он, наконец, угрюмо. — А крестьянам и вовсе петлю на шее затянули. Он вспомнил свои встречи с работными и крепостными людьми, с которыми говорил на базарах, на народных гулянках, и с потемневшим лицом долго смотрел сквозь маленькое окошко в вечерний мрак. — Ох, батюшка! — вздохнул Бабкин оглядываясь. — Заехал я по дороге сюда к брату в деревеньку, — думаю, совет какой даст. А у брата вся деревня пустая стоит. Сбежали мужики всей деревней в леса. — Это как же? — поразился Виноградов. — А так. Уплатили недоимки мужики бироновым командам — последнюю рухлядь пытками поотымали команды-то — и скрылись от новых поборов. А брату с того хошь волком вой, хошь руки на себя наложи. И позор, и убыток, и перед его светлостью держи ответ. Ох, дела наши, дела! — вздохнул Бабкин. — Все господину Бирону идет, и все ему мало! Поражался, притихнув и глядя на растерянного Бабкина, Виноградов. Ломоносов громко вздохнул. — Крестьянству у нас льгот не дают, токмо дворянам. А бесправными нонче, почитай, все стали. Нагляделись мы — каково народу приходится, как сюда из Москвы ехали. «Слово и дело» гуляет по России, и самые малые слова и дела в тайную канцелярию ведут, в место страшное и гиблое. Не хватит ли с нас иноземного ига? Под татарами, почитай, два века жили, довольно рабами-то быть! Он долго молчал, поглядывая на входивший и уходивший из кабачка народ. — Терпелив народ наш, — промолвил он в раздумье, — но и отважен с тем вместе. А когда кончится терпение его, в тот день многим и многим весьма неповадно станется. Они вышли втроем на опустевшую набережную, и Ломоносов с Митрием, рассказав окончательно растерявшемуся помещику, как пройти в Сенат, пожелали ему удачи, не имея возможности больше ничем ему помочь. Ломоносов молча шагал до самой Академии. Подойдя к ней и посмотрев на выступающие в вечернем сумраке величавые линии здания, он с горечью сказал Виноградову: — Да, неладно и тут вышло. Одно дело — с иноземцами вместе науки насаждать. Другое — дать им такую волю, что своим и дохнуть нельзя. Нет, не так мыслил, надо полагать, Петр Первый Академию сию! О том, что не снилось У большого окна, выходившего на Неву, примостился Ломоносов, при последнем свете ненастного дня разложив на подоконнике свои бумаги. Свечи зажигали поздно — из бережливости — и выдавали их скупо. Говорили, что на одних свечах наживался эконом фельтен столь изрядно, что мог бы жить без жалованья. Ломоносов, задумавшись, грыз перо и снова и снова — уже в который раз — перечеркивал написанное и писал новые стихи, повторяя их шопотом. Он не слышал, как вошел и остановился за его спиной Виноградов, через плечо заглядывая в исписанный лист. — Опять за вирши принялся, — сказал он тихонько и, легко вспрыгнув, уселся на подоконник. Ломоносов, не поднимая головы, ответил сурово: — Не дается сразу метрический размер. Звону, металла в виршах не получается. А язык наш русский весьма богат. — Над чем корпишь-то? — спросил Виноградов, глядя на потухающее сумеречное небо. — Оду перевожу. Слушай-ка, Митрий: Горы то ль, что дерзновенно Взносите верхи к звездам. Льдом покрыты беспременно, Нерушим столп небесам... — Постой, постой! — перебил Виноградов. — Доселе таких виршей я не слыхал. Помоему, складно, Михайло. У Тредиаковского много тяжеле. Ломоносов усмехнулся. — Одного господина Тредиаковского книжицу я намедни приобрел. Называется «Способ к сложению российских стихов». Способ сей весьма труден, и по малом времени собираюсь написать сему опровержение, хотя Тредиаковский сей в изучении русского стихосложения старателен и много в том успел. — Дивлюсь я на тебя, — сказал Виноградов, — во всем ты преуспеваешь, и время, гляди, на все хватает. А мне скушно... Ох, как скушно, Михайло! — Веселостей мало, и в науках подвизаться в Академии не больно легко. Однако чтение «Комментариев» к «Ведомостям Академическим» нахожу весьма полезным и многое оттуда знаю. Данный нам в наставники студент Рихман весьма усердно их читает. Да и ты, Митрий, тоже не без пользы мог бы ими заняться. Вспомни-ка: и о затмениях и о предсказаниях погоды узнали. — Токмо и свет в окне, что «Комментарии» эти!.. — уныло отзывается Виноградов. — Третий месяц пошел, как приехали, а лекций читали нам — раз-два, и обчелся. — Да, лекциями себя иноземные профессоры не утруждают. А дела в Академии изрядно могли бы стоять. Гляди, какие труды начаты: и типография своя, и словолитня, и мастерская градыровалыгого дела есть! А в мастерской точных инструментов был я не однажды, и тебе советую. Нартов там, Петров токарь. Много поработал. Он всякий инструмент знает. Механик превеликий. Несмотря, что она в запустении нынче, — инструменты задуманы такие, что поразмыслить над ними весьма полезно. — Да уж ты все полезным назовешь. Ну что, право! А студенты здешние ко всему этому не весьма рачительны. На что Рейзер Густав аккуратен, а и тот лекции пропускает. Михайло, гляди! Виноградов мгновенно преобразился. Он вытянул шею, ставшую вдруг тонкой и длинной, втянул щеки и голосом, размеренным и высоким, сообщил Ломоносову: — Отец мой, горный советник, находит успехи мои весьма изрядными. И, уже развеселившийся, ободренный смехом Ломоносова, схватил большую папку с бумагами, обмотал шею шарфом и, сделав острую, лисью какую-то мордочку, стал обнюхивать воздух, хитро и внимательно посматривая по сторонам. — Что такой? — шопотом забормотал он. — Пахнет весьма явственно пивом... и даже вином?! Московские студенты, всеконечно, нарушают все правила... Михайло, похож? — Гейер это! — ответил Ломоносов. — Как живой. Гейера, Митрий, остерегайся, при нем лишнего не болтай. Вот Рихман славный человек и, помяни мое слово, из него будет толк, наукам он предан. А лисица сия, Гейер, весьма мне не нравится и приставлена к нам, полагаю, для доносов. — А пущай его доносит. Было бы о чем! А то здесь и со двора не убежишь. Гляди, вон уж и сторожа на ночь пришли... Вот скука-то, Михайло, а? Совсем стемнело. Ломоносов убрал свои листки. — Вот, Митрий, гляди: нашел здесь в архиве записки, в них ни конца, ни начала. Но, разобрав, уразумел, что сии листки — остатки лекций бюргеровых о химии. Оный профессор Бюргер тому десять лет в пьяном виде разбился. В лекциях его, думается мне, много есть вымысла, точным опытом не проверенного. Возражать суждениям его покуда права не имею... — Он помолчал и решительно закончил: — Но когда-нибудь опровергну. — И в кого ты такой уродился! А я в этих лекциях и не понял бы ничего, — печально сказал Виноградов, спрыгивая с подоконника. — Пойду, Михайло, погляжу насчет ужина. Что-то живот подвело, не хуже, чем в Заиконоспасской. И в синод жалобы не помогли. На словах токмо обещать горазды, а на деле — как голодали, так и по сей день голодаем. Пойти, што ль, в трапезную-то?.. — Ну, поди, поди, — задумчиво отозвался Ломоносов. Когда Митрий вышел, гулко хлопнув дверью, он посмотрел в окно. Вот и весна на дворе, а в науках точного знания столь мало подвинулись, что и говорить о том нечего! В тишине пробили звучно куранты. В сумерках видны были тени проходивших по улице пешеходов. Перед зданием Академии стояли часовые, охраняя вход, и не пропускали никого через двор. И вдруг по коридору — топот еще далеких ног, и вот с громом распахивается тяжелая дверь, и первым вбегает Виноградов, за ним тощий Густав, а за ними — ватага студентов. И, задыхаясь от волнения и от быстрого бега, бросается Виноградов на шею своему другу и громко кричит: — Радость, Михайло, друже мой, радость! — Ну, какая радость, Митрий, говори! — Едем мы, друже мой, оба едем! С Густавом — втроем! Ты, я и он! — Куда, Митрий? Густав, куда едем? — За море! — прокричал Виноградов над самым ухом Ломоносова. — К профессору Вольфу! — За море едете! — кричит вся ватага. Ломоносов провел рукой по высокому упрямому лбу, покрывшемуся холодной испариной. Потом он схватил Митрия за плечи и потряс: — Митрий, да что ты? Не может того... быть! К профессору Вольфу? Но вот и Рейзер стоит тут же... Положительный и точный Густав Рейзер подтверждает. И подтверждает громкий хор голосов. — Для чего? — спрашивает, наконец, Михайло, переводя взгляд с одного на другого. Виноградов в волнении кричит у самого уха: — Учиться! Учиться горному делу! И всему, что на свете есть! — Могу сказать совершенно точно, — тонким голосом говорит Рейзер, — ибо маршрут и программа составлены при участии моего отца: отправляемся сначала в Марбург для изучения физики, химии, механики, минералогии и натуральной истории. А после сего надлежит нам изучить в городе фрейберге горное дело, ибо в мастерах горного дела у нас великая нужда. Корф наш в Германию писал, просил ученого прислать, который бы и горное дело и химию ведал, а ему ответили| что такого у них нету, присылайте, говорят, ваших студентов, — и химией займутся и рудники поглядят. — Физика... химия... — повторил Михайло, чувствуя, что голос у него пресекается и дыхания не хватает. — Но ведь это значит, что на опыте проверить смогу я мысли свои! Какие мысли? От радости все забыл... А может, токмо вас двоих отправляют? — спрашивает он вдруг Рейзера. Но Виноградов не дает ему больше говорить: — Токмо нас двоих! Да ведь ты же у нас первый во всем! Понимаешь? Пер-вый! Но Ломоносов еще долго стоит, растерянно глядя на своих товарищей и прижимая сильные руки к сердцу. На другой день их вызвали на совещание профессоров во главе с Шумахером, и там, в конференц-зале Академии наук, устами самого Шумахера им было официально объявлено решение совета: студенты Рейзер, Виноградов и Ломоносов имеют быть отправлены в заграничную поездку для изучения сначала натуральной истории, а после сего — металлургии, дабы, воротясь в свое отечество, могли они стать учеными берг-физиками, мастерами горного дела. В инструкции, данной им, было сказано, что студентам, уже получившим подготовительное образование, надлежит знать латынь и немецкий язык и быть одаренными умом и способностями, дабы самим уметь управлять собою и обращать на все должное внимание. Река бежит к морю Летнее солнце уже пригревало Неву, и, отражаясь в ее синеве, покачивались легкие лодочки и нарядный бот Шумахера, стоявший всегда у причала, а они все еще не знали, когда уедут. Ломоносов с Виноградовым изучали немецкий язык и томились в ожидании отъезда. Даже Ломоносов не мог больше заниматься и только размышлял, шагая по общежитию или по набережной Невы, жадно вдыхая ветер, дувший с моря. Река утешала, смягчала напряженность ожидания, и мощное течение ее синих под солнцем волн говорило о том, что все в жизни стремится неуклонно к поставленной цели, как река бежит к морю, и что воля человеческая, устремленная к единой цели, находит в конце концов простор. В прозрачные золотистые вечера, когда над Невой, как над Двиной, летали чайки, Ломоносов с Виноградовым уплывали на островок. Долгий вечерний свет так напоминал неугасающие зори северного лета на Двине! Ломоносов рассказывал о детстве, которое прошло в непрестанной закалке и воли и тела среди крепких, не знающих страха людей. Он рассказывал об опасностях осенней ловли дорогой рыбы — семги. И о красоте сурового моря и о несравненном по величию зрелище северного сияния. — О причинах сего прекраснейшего в свете явления давно есть у меня догадки, и когда бы то ни было, а я о том доподлинно узнаю, — решительно заканчивал он свой рассказ и сильной, привычной рукою поднимал весло. — Эх, ничего такого в Суздале у нас я не видал! — вздыхал Виногрградов. — Ничего, Митрий, теперь многое увидишь такое, чего и не чаял увидать. А у меня вот горе какое, — неожиданно прервал себя Ломоносов, шаря по своим карманам: — книжку я потерял, где все свои мысли записывал, чтобы потом опыты на то учинить. И мысли и вирши — все было там. — Да как же ты это? — встревожился Виноградов. — Может, обронил где? — Обронить не мог. Я ее в столе берег, а когда и на ключ замыкал. Ну, да ладно. Авось найдется! Книжица моя никому, кроме меня, не нужна. Но книжица не нашлась. Они возвращались летним душным вечером со взморья. Михайло легонько вел весла по неподвижной воде, не погружая их глубоко в воду. Лодка двигалась еле слышно в предгрозовой тишине. Было так душно, что даже Шумахер решил проехаться по Неве: его нарядного бота уже давно не было у причала. Массивное здание Академии темнело большими окнами, обращенными к реке. Яркие зарницы, дрожавшие в еще далеких тучах, на мгновение зажигали их беглым отсветом. В то знойное лето над Петербургом проносились частые грозы. Михайло посмотрел на темные окна Академии. — Не нравится мне Гейер, — сказал он медленно, как бы раздумывая над своими словами. — Сия лисица нам давно ведома, —лениво отозвался Виноградов. — А нынче он мне особливо не нравится. Завидует он нам с тобой, Митрий, и чует мое сердце, что готов он был бы невесть что отдать, лишь бы заместо нас за море ехать. Тучи, тяжелые, грозовые, совсем затемнили небо, Когда Виноградов с Ломоносовым шли по двору, они увидали в споем окне слабый огонек. Проходил кто-то со свечой по комнате. — Смотри, Михайла, огонь у нас. А фельтен еще свечей не выдавал по случаю летнего времени. — Кто-нибудь свой, — рассеянно ответил Ломоносов, думая уже о другом. В темном коридоре им повстречался Гейер. Он прошел мимо, не сказав ни слова. — Ишь, рыскает, — пробормотал Виноградов. — Да, хотелось бы ему вместо нас ехать. Ты, Митрий, лучше с ним боле ни о чем не говори... А гроза будет нынче знатная. Ломоносов открыл окно, в которое пахнуло уже влажностью наплывающих туч. Гроза в ту ночь в самом деле была знатная, к удовольствию Ломоносова, который любил грозы. Но Виноградов закрылся с головой одеялом и лежал так, вздрагивая при каждом громовом раскате. Утро пришло свежее и ясное, с небом и зеленью, омытыми бурным дождем. В это утро правитель канцелярии Шумахер объявил троим студентам, что в первых числах сентября они отбудут за рубеж. Правда побеждает Ученый секретарь Академии готовился отойти ко сну. Он уже надел халат и колпак, когда кто-то осторожно постучал в его дверь. Минц подошел к двери и приоткрыл ее. — Что случилось? Ах, это вы, Гейер! Гейер, видимо, волновался. — Герр Минц, — прошептал он, войдя в комнату и плотно закрывая дверь, — я уже давно хотел поговорить с вами о... Ломоносове. Его дерзость столь велика, что он глумится над... мне страшно вымолвить, герр Минц... — Да говорите же, шорт возьми! — вскричал секретарь и сорвал свой колпак. — Над кого глумится Ломонософф? — Над его светлостью Бироном! — выпаливает свистящим шопотом Гейер. — Я нашел пашквиль на господина Бирона, который написал недавно Ломоносов и которым насмешить хвалился Европу. Подумайте, герр Минц, что будет, если его туда отправят! Ученый секретарь сокрушенно покачал головой. — Но уверены ли вы, что это он писал пашквиль? Гейер с меланхоличным видом положил на колени секретаря листок с немецкими стихами. — Как видите, полная подпись. Минц тупо смотрел на стихи. — И я должен итти к герр Шумахер и незамедлешю доклад делать об эти стихи!.. И он не поедет в Марбург, наш лючший ученик!.. — Герр Минц, — говорит Гейер, уже подойдя к дверям, — ведь можно найти другую кандидатуру. И я прошу вас помнить, что я умею быть благодарным за оказанную мне услугу. Но ученый секретарь все еще продолжал сокрушенно качать головой. Михайло сидит за своим столом. Он быстро пишет и перечеркивает написанное. На жесткой кровати дремлет Виноградов, Рейзер читает в другом углу. — Вот, — говорит Ломоносов, отрываясь на минуту от бумаги, — план работ на первые два месяца: по химии —о соединении элементов живой натуры, по геологии — о причинах рождения благородных металлов... По стихосложению... — Ну вот, — перебивает его Рейзер, — все вместе! — Нам и нужно все, Густав, — горячо отвечает Ломоносов. — Правосудие и земледельство, исправление нравов и предсказание погоды, и горное мастерство, и... Минц быстро вошел в комнату. — Густав Рейзер, вот список вещей, кои даются вам с собой. Виноградов, это ваш. И минуя Ломоносова, он уже идет обратно. Михайло посмотрел на ученого секретаря. — Герр Минц, а мой список где же? — Ваш? — переспросил герр Минц. — Ваш список нет в моих руках. — Почему же? — удивился Ломоносов. — Потому, — ответил ученый секретарь, — что вас в Европа не посылают. — И дверь захлопнулась за ним. Гейер спал на кровати одетый. Луч месяца падал на пол и на его лицо. Ломоносов подошел к кровати и негромко окликнул: — Гейер!.. Этого возгласа было довольно. Гейер мгновенно поднял голову, с минуту смотрел на Ломоносова застывшим от ужаса взглядом, потом вскочил с постели и закричал: — Уйди! Уйди! Или я закричу! Ломоносов отступил на шаг. — Так вот что! сказал он медленно, точно обдумывая что-то. И, обдумав, тихо, раздельно произнес: — Что ты говорил обо мне господину Минцу? Гейер сделал попытку уйти. Но Ломоносов удержал его одной рукой. — Что ты говорил обо мне господину Минцу? — повторил он громче. — Не твое дело! — крикнул Гейер. Сильные руки Ломоносова схватили его за воротник и встряхнули. — Отвечай! В то же мгновение небольшая записная книжка выпала из кармана Гейера вместе с отдельными листками бумаги. Он бросился к ней, но было уже поздно: Ломоносов опередил его, и когда Гейер попытался отнять книжку, он поднял стул и замахнулся. Потом вышел в коридор и, прежде чем Гейер подбежал к двери, запер ее снаружи на ключ. На столе — листки бумаги. Две головы наклонились над ними. На листках бесконечное число раз повторяется подпись Ломоносова, которой кто-то старательно подражал. — Вам все понятно, герр Минц? — говорит Ломоносов. — Он подделал мою подпись под своим пашквилем! И здесь же черновики трех доносов на меня. Ученый секретарь пожал Ломоносову руку. — Я рад, я ошень рад, что наш лючший ученик все-так поедет в Европа. — Да, — говорит Ломоносов, — я все-таки поеду! — Himmel! — вскрикивает неожиданно герр Минц.— О небо! Какой день на сегодня? Понедельник? И ученый секретарь начинает поспешно стаскивать свой халат. — Что с вами, герр Минц? — удивляется Ломоносов. Но секретарь уже надевает камзол и чулки. — Я должен сей минут бежать к герр Шумахер. Герр Шумахер хотел понедельник в ночь дать приказ об аресте лючший ученик Академии! — Так вот что... — говорит медленно Ломоносов. Минц быстро обернулся к нему. — Идите сей минут спать! — закричал он сердито. — Теперь это не будет. Сей минут спать! — и он быстро побежал к двери. — Герр Минц! Герр Минц! — кричит Ломоносов. — Вы не сняли колпак! — О, шорт возьми! — останавливается ученый секретарь и, схватив со стола свой парик, убегает. Виноградов уже давно спал, когда Ломоносов вернулся в их комнату. Он наклонился над спящим и позвал негромко: — Митрий! Виноградов тотчас проснулся и поднял голову, всматриваясь в лицо Ломоносова, которого он так и не дождался сегодня. Но, увидев, что лицо это сияет радостью, он немедленно сел на своей жесткой койке. — Михайло… — полувопросительно прошептал он. И Михайло ответил ему тихо: — Митрий, я еду. Еду учиться! Больше он ничего не сказал. Он обнял кудрявую, взлохмаченную голову, и в первый раз за все годы увидал Виноградов, что по лицу его сильного друга текут слезы. К единой цели После жаркого лета осень пришла рано, с ветрами и непогодой, река бурлила и пенилась, а в море бушевал настоящий шторм. Такой бурной осени не было давно. Шторм бушевал ровно две недели, и вместо 7 сентября корабль «ферботот» только 23-го мог сняться с якоря. Низкие свинцовые тучи быстро гнались одна за другой, надутые влагой и ветром. Волны подбрасывали корабль, и он сильно кренился набок. Непривычный к морской качке, Виноградов со стоном улегся на койку. Лежал и Рейзер, вытянув свое тощее тело, и с завистью посматривал на Ломоносова, который весело и бодро покачивался на широко, по-морскому, расставленных ногах. — Да-а, это, брат, тебе не родной Суздаль! — крикнул он Виноградову, подкладывая ему под голову свою подушку. Он дал воды Рейзеру и поднялся на палубу. За бортом медленно уплывали родные берега. И по мере того как они исчезали, сливаясь с туманом, в памяти его постепенно вставало все то, что дала ему его родина, ее люди, ее природа, ее зарождавшаяся наука. Необъятная, суровая и величавая мощь его родной северной природы... Свободолюбивый, крепкий в труде и опасностях, неустрашимый и упорный поморский народ... Москва и полученные в Заиконоспасском училище первые познания: великолепно изученные древние языки и древние авторы, первое знакомство с современной ему философией, впервые родившийся в душе протест против схоластики и впервые ясно осознанный для себя путь опытного живого познания живой книги вселенной. Давно уже скрылась из глаз Де-Сьянс Академия — создание столь чтимого им Петра. Он пробыл в ней недолго и пережил немало разочарований. Но теперь, расставшись с ней, чувствовал, что немало от нее получил и что связан с ней крепко. В ней, наряду с географией и историей, дождавшись лекций по математике, он все-таки с жаром изучал ее основы. И в ней же, присутствуя при начальных физических опытах, видел впервые физические инструменты, которые стараниями некоторых профессоров украсили Академию. Чайки, птицы его родины, кружась, летали низко между мачтами, и одна из них, пролетая, коснулась его крылом. И это легкое прикосновение показалось ему прощальным приветом отчизны. Он почувствовал в этот час, что отчизной его был не только берег Двины с родным селом па горке. Нет! И Москва, и этот уплывающий берег с городом Петра, и сосны, тающие в тумане, и постепенно светлевшее небо, и даже ветер, точно падающий с вышины на мачты, — все, что он помнил, все, что знал и любил, было его отчизной. Небо светлело и светлело. Облака делались тоньше и поднимались все выше. Он расстегнул ворот и стоял, как когда-то на своем гукоре, подставив грудь и лицо свежему ветру... Нет, радуясь разлуке с родиной, он ей не изменял. Он расставался с ней, чтобы вернуться обогащенным знаниями и силой и все это принести ей же, своей отчизне, и своему народу. Часть третья Из далекой России В один осенний день на почтовой станции города Марбурга, куда прибывали путешественники, царило необычайное оживление. Хозяин Валлер суетился за своей стойкой, то выкатывая новый бочонок с пивом, то развешивая колбасы в самом соблазнительном виде. Сухопарая служанка Лотта бросалась во все стороны, едва успевая выслушивать торопливые распоряжения Минхен — хозяйской дочери. Но больше всех волновалась сама Минхен. Она по крайней мере двадцать раз подбегала за это утро к зеркалу, где отражалось ее розовощекое лицо, от зеркала устремлялась в кухню, а из кухни к буфету, отдавая на ходу сразу несколько распоряжений Лотте и напевая модную песенку. Ее звонкий голос раносился по всему двору, когда открывалась дверь и на крыльцо стремглав выбегала Лотта. Герр Валлер часто посматривал на свою дочь, сознавая, что в торжественных случаях лучше уж ему не соваться. Минхен знает всякие тонкие штуки по части приема гостей. Но когда в общий зал молодцеватой походкой вошел высокий прусский офицер, герр Валлер поспешил к большому бочонку, чтобы собственноручно нацедить и подать ему кружку пива. Офицер покрутил правый ус, звякнул шпорами перед розовой Минхен и только после этого обратился к хозяину: — Добрый день, герр Валлер! Как вы себя чувствуете сегодня? фрейлейн Минхен свежа, как роза, и ее самочувствие не вызывает никаких вопросов. Но почему у вас такой парад? Миихен в ответ пожала плечами. – Мы сегодня ждем иностранных гостей. — Иностранных гостей? — повторил офицер и посмотрел на хозяина. — Откуда же это, герр Валлер? Валлер нацедил вторую кружку, уже для себя, и с важностью ответил: — Из далекой России, господин офицер. Они приедут, чтобы учиться у нашего профессора. О, я всегда говорил, что нет в мире страны лучше Германии, города — лучше нашего Марбурга и нет никого ученее нашего профессора Вольфа! И герр Валлер поднимает кружку с одним коротким «Hoch!». — К нам приедут три студента, — очень важно сообщает Миихен, — три самых лучших студента из всего Санкт-Петербурга. Ах, боже мой, этот противный ветер опять задувает огонь в камине! Лотта, ты хорошо протопила в верхней комнате? Ага, вот и герр Пуффер! — восклицает Минхен и открывает дверь, в которую поспешно входит маленький, почтенного возраста человек в высоком парике и треугольной шляпе. При виде его Минхен делает книксен и любезно говорит: — Добрый день, герр Пуффер, но их все еще нет. — Однако у нас, как видите, все готово. Добрый День, герр Пуффер, — почтительно приветствует гостя хозяин и направляется к бочонку. — Пока их нет, выпейте, герр Пуффер, кружечку вместе с господином офицером. Но офицер встает и откланивается; он еще зайдет попозднее взглянуть на приезжих, а сейчас должен явиться по делу к своему начальству. Он уходит, бросив уже в дверях коротко: — До вечера! — Знаем мы, какие у него дела в Марбурге,— говорит ему вслед хозяин, подсаживаясь к Пуфферу. — Ездит по всем дорогам и станциям, разыскивает да вербует к себе в Пруссию, в особый полк, рослых молодцов... За ваше здоровье, герр Пуффер! — Благодарю вас. А карета сильно запаздывает! Я полагаю, герр Валлер, что причиной тому — плохое состояние дороги, размытой осенними дождями. Я пойду и посмотрю, не видно ли чего-нибудь за поворотом. С этими словами герр Пуффер надвигает плотнее свою треуголку и выходит. Минхен торопливо поправляет свои косы. — Герр Пуффер сказал, что они самые лучшие студенты. Если они самые лучшие, — говбрит она задумчиво, — они ведь могут быть и очень богаты. Как ты думаешь, отец? — Отчего же, могут быть и богаты. — Я еще никогда не видала русских студентов, — мечтательно продолжает Минхен. — Интересно посмотреть, как они одеваются. Носят ли они такие же шапочки, как наши марбургские, или, может быть, на них надеты большие шляпы со страусовыми перьями, как на картинке в ратуше? — А почему же, — невозмутимо отвечает герр Валлер, — очень может быть, что и с перьями. И даже со страусовыми. Но в эту минуту герр Пуффер открывает дверь и, весело прокричав: «Едут!», подходит к огню и начинает разматывать свой теплый шарф. Распоряжения Минхен достигают точности военных приказов. — Петер, беги скорее вниз! — кричит она куда-то на лестницу. — Помоги внести багаж господ приезжих! Лотта, горячей воды для умывания! Отец, вот тебе новый фартук! Совершая таким образом последние приготовления, она еще раз бросает быстрый взгляд в маленькое зеркало, в то время как за окном уже гудит почтовый рожок и в полуоткрытую дверь явственно доносится тяжелый стук лошадиных копыт. Минхен становится перед широко раскрытой дверью, сияя глазами и любезной улыбкой. Но и сияние и любезная улыбка через мгновение слетают с ее лица, и она отступает, давая дорогу трем юношам, которые входят, с веселым любопытством посматривая вокруг. На них самые простые полушубки, дорожные кафтаны и шапки без малейших признаков страусовых перьев. — Где же багаж господ приезжих? — спрашивает Минхен, поглядывая вокруг. — Багаж? — повторяет один из юношей, худенький и живой, с блестящими глазами. — А вон он! — С этими словами он высоко поднимает в воздух свой маленький узелок и бросает его на скамейку вместе с шапкой. Двое других следуют его примеру и, положив свои узелки, продолжают осматриваться. — А где же сами господа приезжие? — уже почти со слезами в голосе спрашивает Минхен, растерянно переводя свой взгляд от одного к другому. При этом вопросе все трое новоприбывших, очевидно, уже достаточно понимавшие немецкую речь, дружно рассмеялись, и самый старший из них — высокого роста и сильного сложения — с добродушной простотой громко сказал: — А это мы и есть. — Мы и есть! — повторил худенький и сразу направился к большому столу. Но здесь герр Пуффер, выступив из-за двери, с галантным поклоном преградил ему дорогу и, приподняв свою треуголку, произнес: — Мы ждем трех студентов из России, отправленных Де-Сьянс Академией в наш славный город Марбург для изучения наук у нашего высокочтимого профессора и моего уважаемого патрона — доктора Христиана Вольфа. — Михайло, где у тебя бумаги-то? — шепнул худенький студент, толкнув высокого в бок. Высокий студент молча достал из-за пазухи лист бумаги и с поклоном подал его герр Пуфферу. Маленький немец взглянул на лист и с любезным подшаркиванием сухопарых ног протянул его обратно. — Совершенно верно: эти имена стоят в данной мне инструкции. Вы видите перед собой секретаря профессора Вольфа: магистр математики Иоганн Пуффер! — с торжественностью заканчивает он, пожимая по очереди руки русским студентам. Он не замечает, что Виноградов с абсолютной точностью подражает его манерам, не обращая внимания на предостерегающие толчки Ломоносова. Но веселость Виноградова уже ничем нельзя было удержать, когда он увидал, как из рук Пуффера в руки Михаилы перешел кошелек, содержимое которого ученый секретарь назвал «маленькой суммой, ассигнованной Петербургской Академией на первые дни». Маленькая сумма! Да они никогда и не видали столько денег! Уезжая, они знали, что содержание их за границей обойдется Академии значительно дороже их полуголодного пребывания в ее стенах. Но они не ожидали, что за день их пропитания Шумахеру придется платить в пятнадцать раз дороже, чем в Академии, дабы не ударить в грязь лицом перед своими немецкими соотечественниками. Худенькие руки восторженного Виноградова всплеснули и поднялись, готовые обнять ученого секретаря. Но, во-время удержанный Михайлой, он ограничился тем, что с бурной радостью обнял Рейзера, потом Лотту, потом подбежал к Валлеру и крикнул ему по-русски в самое ухо: — Кутить будем — на все четыре колеса! Но герр Пуффер, к счастью, ничего не понял и, нахлобучив треуголку, объявил, что завтра, ровно в восемь часов утра, будет иметь удовольствие лично зайти за господами студентами, дабы проводить их в лабораторию высокочтимого профессора и доктора Христиана Вольфа. — Лотта, убирай парадные кружки! — коротко скомандовала Минхен и с презрительным видом удалилась за стойку, где занялась своим вязаньем. Но под обстрелом уничтожающих взглядов и возгласов Минхен гости явно чувствовали себя превосходно и совершенно как дома. — Ты заказывай, Михайло, — весело сказал Виноградов, поглядывая на окорока, висящие над стойкой. — Ты поболе слов знаешь. А я по-немецки токмо пиво да мыло знаю, и то путаю, ну их! Минхен была поражена, когда, прежде чем приняться за еду, русские студенты пригласили всех к своему столу. Да, решительно всех: и ее, Минхен, и Валлера, и даже Лотту, которую худенький кудрявый студент усадил, несмотря на се протесты, за стол и положил ей на тарелку такой огромный кусок ветчины, какого сама Минхен никогда бы ей не дала. — Михайло, — говорит худенький студент, весело подмигивая высокому, — вот бы такой окорок в Заиконоспасской школе нашей «инфиме» поднести? А? Что бы она с ним сделала? — Известно, что, — говорит, усмехаясь, Михайло и протягивает кошелек третьему студенту, самому тихому из всех. — Густав, ты у нас казначеем будешь. Ты порасчетливее нас с Митрием. — Ну, братие, — перебивает его Виноградов, поднимая свою кружку, — пьем за новую жизнь. Так, что ли? — За новую жизнь, — говорит Густав Рейзер, убирая кошелек. — За новую жизнь! — повторяет Ломоносов. Простые оловянные кружки — Минхен все-таки припрятала фаянсовые — уже не один раз наполнялись пенистой влагой из бочонка Валлера, когда дверь почтовой станции без стука отворилась и прусский офицер, переступая порог, с любопытством оглядел все собрание. Холодный взгляд его стальных глаз заметно оживился, остановившись на Ломоносове. — Вот и я, герр Валлер! — громко сказал он хозяину. — Люблю, когда веселится молодежь!.. Русские студенты немедленно расчистили ему место, и Виноградов уже придвинул угощение. Но он пристально разглядывал Ломоносова и, взяв свою кружку, подсел к нему. — Чокнемся, русский юноша! Михайло с готовностью ударил своей оловянной посудиной по кружке нового гостя. — Зачем пожаловали в наш Марбург? — спросил любезно офицер. — Учиться, — коротко ответил Ломоносов. — Э, бросьте! С такой фигурой? Я могу устроить вас в нашу храбрую прусскую армию, в королевский полк! Великолепная форма и независимое положение! Ломоносов откинулся на стуле и громко и раскатисто рассмеялся. Но офицер наклонил свою голову и сказал так тихо, что только один Ломоносов слышал его слова: — Хотите славы, молодой человек? Хотите денег? Успеха у женщин? Вы все это будете иметь, если вступите в особый полк нашего доблестного короля Фридриха-Вильгельма. Я уж о вас похлопочу! После таких слов русский студент повел себя совершенно неожиданно. Он сложил известным способом три пальца своей широкой руки и поднес кукиш очень близко к носу соблазнителя. Пруссак откинул побагровевшее лицо, встал и, отчеканивая по-военному шаг, направился к выходу. Вслед ему раздался дружный свист трех студентов. Он быстро обернулся и, не сдержавшись, крикнул: — Мы еще встретимся с вами, молодчики! По уходе гостя студенты окончательно развеселились. — Запевай теперь, Михайло! — звонко крикнул маленький Виноградов. — Грянем наперво нашу заиконоспасскую. Густав, ты тоже подтягивай, я тебе эту песню сколько раз пел. Он вскочил на скамейку, взмахнул рукой, и мягкий баритон Ломоносова загудел: Ох, недельки мясопустные Подвели нам животы-ы! ...Хогиь бы клали в щи капустные Нам чии-нибудъ хвосты... — подхватил высоким голосом Виноградов, поддержанный Рейзером, и почтовая станция города Марбурга огласилась никогда здесь не слыханными звуками бурсацкой песни. Ломоносов неожиданно оборвал пение и, подойдя к Виноградову, положил свою сильную руку на худенькое плечо. — Погоди, Митрий, давай-ка другую — ту, что я люблю. Камин, растопленный Лоттой, еще не потух, но угли кое-где уже подернулись пеплом. Ломоносов задумчиво смотрел на огонь. И очень тихо, без усилия, мягкий голос его взял первые ноты песни, простой и раздольной, как его родная земля. Виноградов закрыл глаза и, откинув кудрявую голову, залился своим чистым тенорком, то вторя голосу Михаилы, то ведя его за собой, как в заиконоспасском хоре, где они считались лучшими певцами: То не кони вихрем мчались, То не тройки пыль взмели, Ветргл буйные порошей Все дороги занесли!.. В лаборатории профессора Вольфа По понедельникам профессор Христиан Вольф обычно вел занятия со своими учениками дома, в собственной небольшой, но хорошо оборудованной — лаборатории. Его университетские лекции почти всегда являлись результатами последних опытов. В этот понедельник солнечное осеннее утро весело заглядывало в окна. Ясный луч зажигал блеском металлические части и стекла физических приборов, расставленных в строгом порядке на общем рабочем столе. Отдельные столики учеников были еще пусты, но ассистент Фохт уже выписывал формулы из своей записной книжки, чтобы подать их профессору, когда второй ассистент, Гаммер, быстро вошел в лабораторию. — Доброе утро, Фохт. А где же герр Пуффер? Он всегда точен, как часы, а сейчас уже без пяти восемь. — Герр Пуффер отправился за русскими студентами. — Ах, да! — усмехнулся Гаммер. — Я совсем забыл, что это совершится как раз сегодня. А что, они уже осчастливили наш город своим прибытием? — Кажется, это произошло вчера вечером, — рассеянно бросил Фохт. — Я не завидую профессору. Ему придется повозиться с этими дикарями. Хорошо еще, что их пресловутая Академия собирается за них порядочно платить. У русских денег хватит! — Я полагаю, Гаммер, — ответил Фохт, закрывая свою книжку. В эту минуту за дверью послышался топот ног, и три юных бурша — с заплатами из пластыря на лицах, в шапочках и со значками своей студенческой корпорации — С шумом вошли в лабораторию. Они остановились цепочкой у входа, положив руки на плечи друг другу, и запели хором, посмеиваясь и покачиваясь в такт песенке: Друзья! Давно нас ждут науки, Еще немножко подождут, — А там мы схватим книги в руки И все постигнем в пять минут! — Хороши! — усмехнулся Фохт. — Скоро первокурсники вас обгонят. Гуго, опять вчера кутили? — Как будто так, Вольфрам? — говорит первый из вошедших студентов. — Несомненно, — отвечает, усмехаясь, его товарищ. — Но теперь все кончено! Петер, покажи им. Петер, средний студент, с мрачным видом выворачивает свои пустые карманы, и одновременно с ним выворачивают свои Вольфрам и Гуго. — Друзья мои, какое сегодня число? — с неожиданным оживлением спрашивает Гуго, посмотрев сначала на Фохта, потом на Гаммера. Фохт молча указывает ему на небольшой календарик около стола профессора. — Четвертое ноября? — Озабоченное лицо Гуго с поперечным шрамом на левой щеке проясняется. — Мы спасены! — Я ничего не дам, — говорит Фохт. — И я также, — говорит Гаммер. — Вы известные свиньи, — с мрачной убежденностью заявляет Петер. — Чорт с ними, Петер! Это жалкие карьеристы! Есть люди, — с загадочной улыбкой говорит Гуго, — которым мы не должны еще ни одного талера. — Сомневаюсь! — усмехается Фохт. — Таких нет, — убежденно говорит Гаммер. — Молчите, скряги. Сегодня герр Пуффер доставит сюда трех русских студентов. Мы займем денег у них! — Тсс! — останавливает его Фохт. — Герр профессор. Он стоял во внутренних дверях лаборатории, высокий и прямой, с орлиным носом и орлиным взглядом, в белоснежном парике с высокими буклями, у этого опального ученого, изгнанного Пруссией из ее пределов, сохранились, несмотря на горечь и унижение изгнания, независимый вид и покойные манеры человека, до конца уверенного в собственной правоте. Он оглядел свою пока немногочисленную аудиторию, дружеским кивком головы ответил на хор приветственных голосов и с удивлением посмотрел на пустой стол около своей кафедры. — Герр Пуффера все еще нет? — спросил он Фохта. Но Фохт не успел ответить: дверь с шумом открылась, и герр Пуффер в сбившейся на сторону треуголке, с развевающимися концами теплого шарфа стремительно вбежал в лабораторию. — Доброго утра, герр профессор! — сказал он, с трудом переводя дыхание. — Все в образцовом порядке. — В самом деле? — Вольф, ничего не понимая, смотрел на своего ученого секретаря. — Все решительно! — повторил секретарь. — Но я попрошу кого-нибудь дать мне стаканчик воды. Фохт исполнил эту просьбу, после чего герр Пуффер не без торжественности объявил, указывая на дверь: — Они сейчас будут здесь. по дороге сюда непривычный вид русских студентов привлек чрезмерное внимание наших марбургских мальчишек... Произошла небольшая, если можно так выразиться, схватка с несколькими представителями юного поколения нашего города. Вот и все. Старший студент довольно быстро положил конец этому неожиданному осложнению, и я прибежал, чтобы объяснить вам, герр профессор, свое запоздание. Попрошу у вас, герр Фохт, еще глоточек холодной воды. Пуффер никогда не произносил такого длинного монолога. Он все еще вытирал лоб носовым платком, когда в дверь робко постучали, Фохт поспешно открыл ее, и взорам всей лаборатории предстали фигуры трех русских студентов. Они стояли в дорожных полушубках, захваченных в дальний путь по осеннему времени года, со смущенными и взволнованными лицами. Рейзер осматривался вокруг с почтительным любопытством, взгляд Ломоносова с восторгом остановился на физических приборах. Он переступил порог этой маленькой лаборатории — первой лаборатории, которую он видел, — как через порог новой жизни, с волнением и радостью. — Вы видите перед собой, — раздался торжественный голос маленького Пуффера, — доктора математических и физических наук и доктора философии профессора Христиана Вольфа. Ломоносов поднял голову и встретился взглядом с проницательными глазами, смотревшими на него из-под высоких седых буклей парика. Русские студенты отвешивают знаменитому профессору почсные поклоны. Профессор протягивает им по очереди руку, и то время как Пуффер называет их имена. — Ну, я очень рад, — говорит Вольф, — знакомьтесь: это наши будущие товарищи — студенты и лаборанты, Фохт, скажите всем, кто придет, что сегодняшние занятия по экспериментальной физике я начну в восемь с половиной. Мы с герр Пуффером пройдем ненадолго ко мне в кабинет. И он уходит со своим маленьким секретарем. Оставшись одни, русские и марбургские студенты несколько мгновений рассматривают друг друга. Затем Петер делает жест рукой и, указывая на полушубки, говорит: — Как называется этот туалет? — Полушубок, — мрачно отвечает Ломоносов. — Очень изящно, — говорит Петер. — Я слышал, что жители Марбурга восторженно встретили ваше появление на улицах нашего города? — Михайло, мне молчать? — тихо спрашивает Виноградов. — Молчи. Но Гуго, имея в виду свой блестящий план, а Фохт — просто из вежливости, стараются загладить выступление Петера, и через несколько минут знакомство все же завязывается. И пока Ломоносов рассматривает оптические приборы, с жадностью слушая пояснения Фохта, Гуго отводит в сторону Виноградова и спрашивает без всяких предисловий: — Деньги есть? — Деньги? — повторяет Виноградов и смотрит вопросительно на Рейзера. — Густав, деньги у нас есть? Рейзер открывает кошелек. — Немного осталось. — Ну, так отдай их, — говорит Виноградов. — Это зачем? — спрашивает Рейзер. Ломоносов прислушивается и, ответив за Виноградова: — Затем, что просят люди, чудак! — возвращается к столу, па котором стоят оптические приборы. Через несколько минут беседы Фохт удивленно говорит: — У вас немало познаний, как я вижу. Но вообще дело с наукой в России не так уж блестяще. — Да, — говорит Ломоносов, — у нас еще нет подлинного народного просвещения. Но мы его добьемся. — Год тому назад наш университет отправил к вам в Академию профессора физики, но он скоро вернулся в Германию, — вмешивается в разговор Гаммер, разглядывая с легкой усмешкой всю крупную фигуру Ломоносова. Но этот рослый парень в нескладно сшитом кафтане, к удивлению Гаммера, совсем не смущается ни его насмешливыми взглядами, ни явно пренебрежительным тоном. Он отворачивается от стола с приборами и, глядя в прищуренные: глаза Гаммера, спокойно отвечает: — Я слышал его лекции, он прочел всего две. Знаний у него много, но мысли его далеки от истинного понимания натуры. Глаза Гаммера становятся узкими, как щелки. — А в чем же, по вашему мнению, — с преувеличенной вежливостью и явно издеваясь спрашивает Гаммер, — в чем состоит истинное понимание натуры? — В числе, — уверенно отвечает Ломоносов. — Оно поистине есть мера вещей, и полагаю, что физическими законами без помощи математики овладеть невозможно. — Браво! — говорит громкий голос, и все оборачиваются, потому что это голос профессора Вольфа. — Браво, мой новый ученик! Это мысли, которые до сих пор разделяют очень немногие. Ломоносов посмотрел на Вольфа и, неожиданно для самого себя, по-русски воскликнул: — Слава богу, что не один я! Вольф улыбнулся. — Вам не приходилось слышать, что некоторые древние философы пришли к тому же выводу? — Читал о том у Диогена Лаэртского, который о числе писал. Да и у Пифагора и еще у иных греков об этом читал, — говорит новый ученик. — В каком переводе? — спрашивает Вольф. — Переводов на наш язык нет пока. А каких довелось греческих и римских философов с превеликим трудом достать — в подлинниках одолел. — Вот как! — говорит Вольф: — Греческий язык изучается у вас с первого курса? — Греческий язык при мне в академии московской вовсе не изучался. Я ему сам учился. Профессор Вольф обвел взглядом свою лабораторию. — Любезные ученики мои, — сказал он, с легкой усмешкой посмотрев на Петера и Гуго, — этот русский юноша может многому вас научить. Как в капле воды Осенний воздух свежим дыханием ударил ему в грудь, когда он вышел из лаборатории Вольфа. Он расстегнул ворот кафтана и шел по улицам Марбурга, не замечая окружающего, полный мыслей, догадок, надежд. Только что в лаборатории он впервые почувствовал, что мучившая его с детства и с детства казавшаяся неутолимой жажда познания будет, наконец, удовлетворена. Северное сияние, законы мирового тяготения, стужа и тепло, устройство земных недр и небесных тел и даже... даже еще не ясные ему самому, но упорные мысли о составе материи и о сущности вещества — все это в ярком свете разума и точного познания откроет, наконец, перед ним свои тайны, и он вступит в этот мир, как в новую храмину, которой имя — вселенная. Его мечты о книгах были неосознанным стремлением к великой книге опыта и познания, первые страницы которой раскрывались теперь перед ним в маленькой лаборатории. Он увидел фонтан на городской площади и, подойдя к нему, подставил горящее лицо струе прохладной водяной пыли. Ух, какое яркое синее небо просвечивает сквозь падающую воду! Как пряно пахнет побуревшая листва старых лип! Ветки старого ельника над Двиною уже давно сгибаются под тяжестью снега, и на улицах родного села залегли высокие сугробы... А здесь воздух мягок, и осенний день разбросал последнее золото в маленьких садиках тихого города Марбурга. Удивительный день! Бывают иногда такие дни, когда цепь событий, вдруг соединившаяся в одно целое, радует душу, словно вознаграждая ее за горечь долгих испытаний. Сегодня профессор Вольф задержал его, когда все остальные уже разошлись, и сам показал ему свою лабораторию, отвечая на все его вопросы, и хотя некоторые ответы показались ему неубедительными, разнообразие знаний Вольфа поразило его. Сегодня Пуффер сообщил русским студентам, что Санкт-Петербург определил на их содержание по тысяче двести рублей ежегодно. Это была сказочная сумма, при мысли о которой у всех троих закружились головы. Конец старым кафтанам, поношенным башмакам, рваным чулкам, которые нужно в торжественных случаях, как, например, сегодня, запихивать поглубже в туфли. Сегодня же вечером он сможет одеться с головы до ног в университетской лавке на деньги, выданные Пуффером на первый месяц! Конец блужданиям по городу с пустым желудком, с завистливым поглядыванием на съестные ларьки... Конец учету каждого клочка купленной бумаги! Сегодня, же вечером он сможет купить ее, сколько захочет, и пообедать с Митрием в любом биргалле, и сегодня же, сейчас, он может купить себе любую книгу и положить ее на стол как свое неотъемлемое сокровище вместе с истрепанной «Арифметикой» Магницкого, которая сопутствовала ему всегда и всюду. Эти мысли напомнили ему еще о чем-то, что нужно неотложно сделать. Ибо для того, чтобы унести книгу к себе, нужно иметь то самое место, где он будет у себя. Тогда он вспомнил о бумажке с адресом, данной ему Пуффером. Они все получили адреса, и Виноградов с Рейзером, наверно, уже давно нашли себе пристанище. Он достал бумажку, прочел название улицы и, спросив прохожего о дороге, пошел к маленькой старой кирке. Ее тонкий шпиль поднимался над острыми верхами красных черепичных крыш и над легким дымком, который шел прямыми прозрачными струйками в чистую осеннюю синеву. Вдова церковного старосты фрау Эрна Цильх жила в маленьком домике рядом с киркой, в которой когда-то служил ее муж. За деревьями поблескивали стеклянные кружочки чисто вымытых окон. Ломоносов открыл калитку и пошел по узкой дорожке к аккуратному крылечку, прислушиваясь к дробному звону колокола, так не похожему на памятный ему звон холмогорских и московских колоколов. «Жидко сделано! У нас токмо язык колокольный раскачивают, а здесь, гляди, всем колоколом бьют», — подумал он на ходу и увидал, что при его приближении какой-то белый предмет зашевелился за окошком. Подойдя ближе, он разглядел, что это был чепец, из которого выглядывало лицо хозяйки дома, фрау Цильх. Ее румяное и полное лицо, в обрамлении накрахмаленных белых оборок, высунулось из окна, и она крикнула куда-то в пространство: — Лизбет, возьми только кресс-салат и иди сюда! Ломоносов посмотрел налево и там, в небольшом огородике, на грядке, увидал девушку в голубом платье, с круглым розовым лицом и фигурой, обещавшей со временем достигнуть весьма пышных форм. Девушка смущенно остановилась перед ним, прижимая к себе пучок свежего салата, и сделала книксен. Сняв шляпу, Ломоносов протянул ей записку, Пуффера. — Да, это здесь, — сказала она, — пожалуйте за мной. За домиком был маленький флигелек. Они вошли, и Лизбет открыла дверь безукоризненно прибранной комнаты с кисейной занавеской у окна, с кроватью, прикрытой чистой периной, и даже с маленьким кактусом, зеленевшим на окне. Но главное — здесь был отдельный стол для занятий, на котором он сможет сегодня же вечером разложить свои книги. — Господин студент переедет сегодня же? — спросила Лизбет. Он положил на стул свой узелок и весело ответил: — Господин студент уже переехал. Лизбет посмотрела на маленький узелок, потом на мощную фигуру русского студента с радостно улыбавшимся лицом и не смогла сама не улыбнуться. Она сообщила ему все условия, вручила ключ от флигелька и, сделав прощальный книксен, ушла. Окно выходило во дворик. За двориком с маленькой клумбой, на которой еще виднелись остатки осенних цветов, протянулась узкая улица со старинными домами; верхние этажи их нависали над нижними. Там, в пролетах крыш, виднелись четкие контуры университетского здания, похожего на старый замок. Узкая уличка, маленькая комнатка в маленьком аккуратном флигелечке... Ему было как-то тесно здесь. Он распахнул окно, полной грудью вдохнул осенний воздух, пахнущий прелым листом, и вспомнил вдруг вечера, падающие сизым пеплом на тусклые просторы, снега, снега — и чей-то синий взор, который грел его теплом преданного сердца: взор Машутки. Он все еще сидел у окна, охваченный раздумьем, когда голос Виноградова звонко прокричал за его дверью: — Михайло, открой, што ли! Виноградов был в том состоянии радостного возбуждения, когда ему обязательно нужно было выкинуть какую-нибудь шалость. — Ну и жизнь, Михайло, началась, а? Как во сне! Поглядел бы ты, сколько я сейчас булок съел! Да ты что сейчас делать будешь, а? — Книги пойду покупать, — весело ответил Ломоносов, позвякивая деньгами в кармане старого кафтана. — Отложи, Михайло, до завтра, ей-богу! Все равно ночью много не начитаешься. А тут в саду на скамеечке бургомистрова дочка сидит, кружевца вяжет... — Ну и пусть вяжет, — усмехается, глядя на Виноградова, Ломоносов. — Михайло, в чепчике она, — умоляюще говорит Виноградов. — И в фартучке, ей-богу! Ты хоть разговоришься для начала, меня познакомишь, Михайло, а? Ломоносов посмотрел в смеющиеся и одновременно умоляющие глаза своего друга и, минуту подумав о неудобстве проходить снова мимо взоров почтенной фрау Цильх, по старой семинарской привычке перекинул ногу через подоконник. Поздней ночью он вышел на крыльцо своего флигелька. Была полная тишина, и узенькие улицы совсем пустынны. Негромко и тоже как-то аккуратно пролаяла в соседнем доме комнатная собачка. Цепных собак здесь не держали: воров не было. Но все было как-то мелко и столь размеренно, что ему становилось немного не по себе среди этого маленького благополучия. Но здесь — и за толстыми стенами университета и в лаборатории Вольфа —его жадно протянутые руки смогут, наконец, достать, прощупать в почти осязаемой близости всю землю, со всем, что в ней есть, со всеми скрытыми в ней законами, отражающими в себе законы всего мироздания, как капля воды отражает солнце. Так ему казалось, и оттого сердце его наполнилось огромной, буйной радостью. Он поднял голову и долго стоял так на маленькой аккуратной дорожке под осенними звездами, высокий и мощный, вдыхая ночную свежесть и ночную тишину. Непонятный ученик — Его здесь нет? — Гаммер просунул голову в лабораторию и оглядел столы. — Вы имеете в виду Ломоносова? — спросил маленький Пуффер, широко открывая окно и впуская в лабораторию струю летнего теплого воздуха, благоухающего липовым цветом. — Главным образом его, хотя русские мне вообще надоели. — О, бог мой! — воскликнул маленький секретарь, с наслаждением втянув носом запах цветущей липы. — Когда же будет конец этим ссорам в стенах нашей лаборатории? — Конец? — говорит Гаммер с нескрываемым раздражением. — А вы знаете последнюю новость? Ломоносов отправил свою статью в наш университетский журнал «Немецкая наука». — Ну да, — с важностью отозвался Пуффер, — и герр профессор об этом хорошо знает. — Знает! — Гаммер взволнованно зашагал по лаборатории, задевая за столы и отталкивая табуреты ногой. — Герр профессор не только знает об этом. Я уверен, что без его просьбы статья не была бы принята. — Вы так думаете? — Неужели же вы полагаете, что моя статья действительно хуже ломоносовской? А мою вернули обратно. В ответ на это секретарь только развел руками. — Но какая дерзость при этом? Какая бесцеремонность! — продолжал Гаммер. — Этот архангельский рыбак осмелился заявить в своей статье, что он «не совсем согласен» — нет, вы только подумайте! — он «не совсем согласен» с работой профессора Вольфа о жидкой материи тепла и света!.. В волнении Гаммер даже не заметил Фохта, вошедшего в лабораторию, и обернулся только на его голос, когда Фохт сказал: — Но, Гаммер, насколько мне известно, герр профессор очень ценит в своих учениках способность к самостоятельному мышлению. Именно эта способность заставляет его с таким интересом относиться к Ломоносову. — С чрезмерным интересом! — резко прервал его Гаммер. — И в ущерб интересам наших ученых и нашей немецкой науки! — Успокойтесь, герр Гаммер, право же, вы придаете излишнее значение мелочам. — Пуффер покачал головой. Но Гаммер вспылил еще сильнее. — Нет, это не мелочи! — почти закричал он, стукнув рукой по спинке стула. — Это не мелочи, если я, настоящий немец, уже пять лет проработавший у профессора, теперь должен во всем уступать дорогу русскому выскочке, который всего два года тому назад переступил порог нашей лаборатории! Он хочет сделать себе здесь ученую карьеру, но это ему не удастся! — О, герр Гаммер, — воскликнул Пуффер, — окно открыто, он идет мимо, и он, конечно, слышал ваш крик! И Пуффер в явном смущении поспешил скрыться за внутренней дверью лаборатории. А Ломоносов действительно шел в лабораторию и, войдя в нее, остановился перед Гаммером, сурово глядя ему в глаза. — Нет, Гаммер, — произносит он, наконец, очень медленно, — научной карьеры домогаться в Германии намерений не питаю и не для того здесь нахожусь. Он подходит к Фохту, поворачиваясь к Гаммеру спиной, как если бы того здесь и не было. Но Гаммер не прекращает своих нападок и язвительно говорит ему в спину: — Занятия здесь ты ведешь самые разнообразные; тому весьма явственные следы имеются на физиономии твоей. В ответ на это язвительное замечание совершенно неожиданно раздается громкий и открытый смех. Ломоносов смеется, поглядывая на фохта, и всякая суровость без остатка исчезает с его лица, на котором действительно совершенно отчетливо виден синяк. — В самом деле, — говорит Фохт, всматриваясь в лицо Ломоносова, — где же это ты? — Неважно где, — весело прерывает его Ломоносов, — и не в том суть, Фохт. А в том, что есть иные марбургские бурши, кои побросают теперь свои шпажонки. Они думали, что я буду тратить время на изучение вашего дуэльного кодекса! Ну, ничего, кое-кто запомнит, что такое поморский кулак. Запомнят не только лицедеи, но и невинные зрители. И, положив руку на руку Фохта, он подмигнул в сторону двух юных буршей, старательно переписывавших лекцию. Но оба они после этих слов так усиленно заскрипели перьями и так низко опустили головы над своими тетрадками, что их лиц — со свежими заплатками из пластыря — совершенно нельзя было разглядеть. Такое поведение юных учеников окончательно рассмешило Ломоносова, но Фохт посмотрел на него с легким укором и серьезно сказал: — Бог тебя знает, Михаэль, как это ты все успеваешь и когда?!. И статьи пишешь, и, говорят, стихи сочиняешь, и от друзей не отстаешь... Сегодня опять под утро все вы прошли под моим окном с песнями, и, по правде сказать, я был уверен, что ты нынче на лекцию опоздаешь. — И опоздал бы, только по причине другой, — говорит Ломоносов: — нынче утром трудами пресловутого химика Шталя зачитался, касательно огненного вещества, и нашел его учение не весьма вразумительным. — Поражаюсь! — бросает через плечо Гаммер. — Как это Ломоносов не догадался послать свои труды и догадки в Парижскую Академию наук? Там ведь нынче премии объявлены за работы о природе огня. Слухи ходят, что их знаменитый философ Вольтер на соревнование свою диссертацию дал, так что только одного Ломоносова не хватает. Он бы, наверно, премию получил. — Когда-нибудь получу, — уже вызывающе говорит Ломоносов, готовый резкостью ответить на уколы, но на пороге лаборатории, одновременно с восемью ударами больших стенных часов, появляется, наконец, Вольф, и все умолкают. Накануне этого дня в лаборатории производились опыты по обжиганию металлов: олова и свинца. Весь процесс опытов записывался учениками. Теперь, просматривая эти короткие записи, Вольф перешел к объяснениям, предваряющим его лекцию в университете. Неизменно и педантично выполнял он па практике основное положение своей педагогической системы, разделяющее физику на теоретическую и экспериментальную, из которых одна не может существовать без другой. Он придерживался учения своего времени о неосязаемом и неощутимом веществе — флогистоне, как о сущности всякого процесса горения. И, говоря о каждом обжигаемом металле, Вольф рассматривал его как сложное тело: олово есть флогистон плюс олово. Чистым флогистоном почитался уголь, горящий всего легче и сильнее. Всякий процесс горения объясняли флогистоном, несмотря на то, что для самого Шталя он все же оставался гипотезой, согласно которой это вещество считалось столь же неосязаемым и неощутимым, как загадочные «жидкости» теплоты, упругости и света. Но неосязаема и неощутима и сущность материи и всех тел природы, ибо материя и все тела состоят из невидимых частичек, в которых заключена основа всякого вещества. Понятие об этих частичках 6ыло впервые четко сформулировано как понятие о молекулах французским философом-материалистом, астрономом и естествоиспытателем Гассенди еще в первой половине XVII века. Когда-то, читая лекции в Галле, Вольф мечтал о настоящей работе в точных науках, а его мысли в области богословия своей независимостью и смелостью создавали постоянный повод для раздражения и нападок его завистливых и робких ученых коллег. Но здесь, в Марбурге, его слава гремела, а каждое слово понималось как истина. И вдруг здесь, где он почитался не только представителем, но почти главой всей современной ему науки, нашелся человек, считавший, как догадывался Вольф, даже его воззрения отсталыми и идущий в науке каким-то своим путем. Этим человеком был... русский юноша, пришедший с далекого севера и обладающий, по мнению самого Вольфа, великим дарованием и всесокрушающей волей! Размышления над ручьем После первых лекций Вольфа, особенно тех, которые сопровождались хотя бы самыми скромными опытами, Ломоносов часто уходил бродить в одиночестве по марбургским гористым улицам. Виноградов в этих случаях предоставлял ему свободу, оставляя одного. Он видел, что друг его был полон новыми мыслями, что голова его горит от неукротимой жажды охватить сразу познанием своим весь мир и все вещи: он знал, что одна мысль рождает в нем другую и третью и, чтобы справиться с этим потоком встающих в нем живых и взывающих к опыту замыслов, ему нужно побыть одному. Но марбургские узенькие улицы казались Ломоносову тесными, и он часто уходил за городские стены, где виднелся свободный горизонт и убегали к горизонту холмы и холмики марбургских предместий. Ломоносов возвращался из этих одиноких блужданий успокоенным, освеженным и полным новой бодрости. В один холодный день поздней осени Вольф дольше обыкновенного задержался в аудитории, заканчивая двухчасовую лекцию; но когда он уже кончил читать и сошел с кафедры, а шумная аудитория опустела, Ломоносов все еще стоял в суровом раздумье перед ее узким окном. — Михайло, ты об чем затужил? Виноградов стоял перед ним, посмеиваясь, и живые глаза его блестели на худеньком лице. — Пойдем к Мюллеру заглянем, а? Там нынче все наши обедают! — Не хочется никуда, — невесело отозвался Ломоносов Пойду лучше поброжу, Митрий. А хочешь — иди со мной, а после — вместе к Мюллеру. «Что-то случилось...» — подумал Виноградов, поглядывая на сурово сдвинутые брови и задумчивое лицо Михайлы, который редко звал его на свои одинокие прогулки. Они быстро миновали городские улицы и, выйдя за город, дошли до зеленого пригорка, под которым бежал по камням говорливый ручеек. И только здесь, усевшись на большой камень, медленно и угрюмо заговорил Ломоносов: — Достал я недавно здесь, в университетской лавке, книжицу одну, напечатанную еще в двадцать четвертом году, и называется книжица сия «разумные мысли естественных вещей»... Прочел я ту книжицу, Митрий, и не знаю, смеяться ли мне над ней, либо горевать. Понеже написавший ее — ученый не малый и многими трудами прославленный — убедить меня хочет в том, что в натуре все, дескать, от начала творения загодя установлено и все друг с другом в великой пребывает гармонии. Мол, все, что ни есть, будь то хоть звезды, самые дальние, хоть гуси, что возле ручья пасутся, сотворено и пребывает в мире не для чего-нибудь, а токмо для нашей пользы. Оно, конечно, гусей мы жарим, но ежели полагать и луну и солнце светильниками, зажженными творцом для освещения и для удобства дел человеческих, то ведь дела сии весьма различными и несхожими являются. Такие иной раз дела творятся, что и луна отворотилась бы, ежели бы могла. Не так ли? — Да уж об этом что говорить! Малому ребенку ясно! — отозвался Виноградов, кидая маленький камешек в ручей. Камешек упал, не замутив чистоту воды, а только вспугнул стайку мелких рыбешек, и остался лежать среди других камней, Отчетливо видимый сквозь прозрачную воду. — И верно, что ребенку ясно, — ответил Ломоносов, пристально всматриваясь в бегущие с тихим рокотом струйки. — А тот, кто оную книжицу написал, видать, в иных вещах более ребячлив, нежели дети малые. Вон, гляди, мелкие рыбешки как от больших бегут! А большие — от еще крупнейших! И так, почитай, до акул дойдем и до иных чудищ, пожиравших друг друга на древней земле, невесть в какие времена. И ныне, Митрий, преступные деяния человека противу человека — и рабство, и гибель скольких достойнейших из народа нашего — все то загодя предустановлено? И все тоже ко благу? Нет, Митрий! Зла в мире превеликое множество, и надлежит с ним бороться, а равно и натуру менять и побеждать, а не взирать на все слепым взором, с покорностью неживого человека. От книжицы сей мертвечиной пахнет! — А на што тебе об ней горевать-то? — беззаботно улыбнулся Виноградов. — Прочел — да и забыл об ней! Бросил — и все. — Забыл? — с горечью ответил Ломоносов. — А знаешь ли ты, кто ее написал? — Кто? — Вольф сам, вот кто! Вольф, великий ученый, коего и я учителем своим почитаю и почитать буду. Вот то и горестно мне, Митрий. И опять же о флогистоне учение вольфово и о материях жидкого света и прочих явлений не может разум мой принять. И оттого сильнее огорчение мне... Ибо правду знаю всем разумом моим, а опытами доказать и самому Вольфу ничего не могу. — Когда-никогда, а докажешь, — уверенно сказал Виноградов. – В добрый час будь сказано! — ответил его друг, сбегая с пригорка и подходя к самому ручью. Прозрачные струйки бежали по мелким камням, и однообразная мелодия этого тихого говора непрерывно бегущей воды успокоительно звучала, точно повторяла все те же слова, а может быть, песню. Ломоносов долго стоял прислушиваясь. — Митрий, ты здесь? — сказал он негромко, не отрывая взгляда от прозрачной воды. — Здесь! — Виноградов стоял рядом с ним. — В людях, видать, брать надлежит не все целиком, — промолвил Ломоносов, — а токмо самое лучшее и самое верное. А остатное все отметать: пускай летит по ветру! — По ветру оно не полетит, Михайло! — Виноградов с сомнением покачал головой. — На это надежды мало. — Слышишь, как журчит вода? Словно песню какую повторяет или слова. Послушай-ко, друже мой, все та же песня, все те же слова! Движется вода вперед и вперед, беспременно. А мне, слушая говор ее, вспомнилась одна мысль моя, о коей я даже и тебе еще не знаю как сказать. — Нащот чего? — пытливо заглянул Виноградов в задумчивый взор. — О движении всей материи. И сдается мне иной раз, — продолжал Ломоносов, — что ему конца и начала нету. Но об этом еще и сам ясно сказать не могу, а когда-нибудь доподлинно в том увериться надлежит. — Да уж ты, ежели что задумал, от того не отступишься, знаю я тебя, — уверенно сказал Виноградов. — Вот ведь кабы не настоял ты перед Вольфом, чтобы дали нам вместо Конради иного учителя по химии, так бы мы по сей день и учились у Конради этого. А чему он научить может? Не токмо своих опытов не ставил, но и шталеву химию излагать вразумительно не мог. А в плане все то значится. — Незадача мне с химией! — с досадой отозвался Ломоносов. — Теперь вот Даузинга дали. А он берет чужой учебник и по нему учит. А в университете здешнем нынче учителя первой величины подвизаются. Зато у студентов, — засмеялся он, — перво-наперво дуэльная наука почитается, после нее пивная идет, третья наука у них табачная, а потом уж все остатные идут: и физика, и химия, и механика, все вкупе. Он наклонился, зачерпнул ладонью воду, выпил и весело сказал: — Хорошая вода! Попробуй-ка, Митрий. Только тут, брат, не из каждого ручья пить можно. Вот у городской стены ручей протекает. В него святые отцы инквизиторы пепел сожженных еретиков — жертв своих невинных — приказывали бросать. Так хотя с той поры лет двести миновало, а я из того ручья пить не могу. — Еще бы! — мрачно отозвался Виноградов. — Да что, право! — Оборвал он себя, тряхнув головой. — Нашел чём попотчевать! Буду я поду пить, когда у Мюллера все наши давно пиво пьют и давно пообедали. Гляди, уж и солнце садится... Пойдем к Мюллеру! — Я не против, — слегка ударил его по плечу Ломоносов. — И вправду вечереет. Скоро и луна взойдет и, по вольфовой предустановленной гармонии, стараться будет и без того пьяным буршам дорогу в новый кабак освещать. Они засмеялись и быстро зашагали к городу. Странный ученик Обыкновенно после лекции ученики возвращали Вольфу книги из его домашней библиотеки и брали новые. Ломоносову, менявшему книги чаще других и поглощавшему их с какой-то особой страстью, Вольф, чрезвычайно дороживший своими книгами, выдавал охотно, нередко поражаясь той быстроте, с которой этот русский успевал читать. Вольф уже знал, что как бы ни был краток тот срок, на который выдавалась книга, Ломоносов возвращал ее не иначе, как составив краткое изложение всего прочитанного. На этот раз русский ученик профессора подошел к нему после всех с книжкой химика Шталя в руках. — Ну, как вы нашли сочинения господина Шталя? — спросил профессор. — По разумению моему, – ответил ученик, — утверждения господина Шталя весьма неубедительны. Но зато великие знания получить можно от опытов, изложенных в «Основаниях химии» у господина Бургаве. Его нахожу я величайшим из химиков. — Я рад, что этот глубокий ум оценен вами, — немного сухо ответил Вольф. Ломоносов посмотрел на своего учителя. — Господин профессор, как бы установить опыты касательно исследования невидимых частиц? — Я не совсем понимаю вас, — сказал Вольф. — Я разумею, — уже с упорством в голосе ответил Ломоносов, — те невидимые частички, из которых состоят все тела, о чем я прочитал у английского физика и химика господина Роберта Бойля. — Вы ознакомились с его трудами? — быстро спросил Вольф. — Не токмо ознакомился, но непрестанно о том размышляю. Желание мое исследовать эти мельчайшие частицы велико и непреложно. Особенно основательным почитаю я утверждение Бойля о том, что исследовать их надлежит при помощи физики, химии и математики вместе. Ибо, как полагаю я, только математика указывает путь к правильному суждению. Профессор Вольф поднял, наконец, голову от кафедры. — Я весьма одобряю, несмотря на некоторые разногласия наших мировоззрений, «се направление ваших мыслей и их смелую независимость. Я одобряю и ваш образ жизни в целом. В целом, — повторил Вольф, доставая из кармана небольшой листок бумаги. — Но есть некоторые детали, — проговорил он медленно и, взяв двумя пальцами этот исписанный цифрами листок, протянул его Ломоносову: — есть некоторые детали, вызывающие мое глубокое недоумение. Ломоносов переводит взгляд с лица профессора на листок, и... краска смущения пробегает по его лицу. — Вот список долгов, — говорит Вольф, — сделанных всеми вами за последний семестр. Ваша Академия присылает вам немалые суммы на жизнь. Ваши товарищи меня не удивляют. Но как же случилось, что ученик преимущественного остроумия, безмерно любящий основательное учение, подвержен легкомыслию наравне с остальными? Ломоносов овладевает собой и, глядя прямо в глаза своему учителю, отвечает ему с подкупающей правдивостью, которой не видал Вольф ни в одном из своих учеников. — Господину профессору известно, как часто запаздывает Академия в отправке нам денег? — Да, это мне известно. — Случалось нередко, что в карманах у нас много дней бывала полная пустота. Вот в этито дни и приходилось брать в долг. Ну, тут уж мы и... потеряли пропорцию. Особенно с книгами... и с чулками, господин профессор, и... и с ужинами. — Как, как? — переспрашивает Вольф. — Я узнал, что вами лично за один семестр приобретено шестьдесят книг на различных языках. Это все в долг? — В долг. — Ну, за это я особенно порицать вас не могу. Но чулки?!. — Чулки, господин профессор, у всего университета шелковые, а их на два дня хватает, — перебил студент. — Придешь в простых — со всех сторон смех: вот как русские одеваются! А без шпаги — и не показывайся. А куда они нам? — Ну, допустим, — говорит Вольф, сдерживая улыбку. — Но при чем тут ужины? Моя экономка аккуратно каждый вечер оставляла вам по два яйца всмятку. Или этого мало? Ученик опускает голову и со вздохом повторяет: — ало. Тут знаменитый профессор, очевидно, вспомнил свою собственную молодость, потому что он засмеялся. И после небольшой паузы, возвращаясь к вопросам своей науки, он решительно сказал: — Что же касается опытов для доказательства существования невидимых частиц, о которых вы пишете весьма разумно в своей работе, то в вашей Академии их пока еще нельзя ставить. — Но скоро будет можно, — столь же решительно ответил его ученик. — Отечество мое — нетронутое поле, готовое для насаждения наук. И нет у нас тяжкого наследия средневековья, как здесь во многом наблюдать можно. Если в отечестве моем начинается истинное просвещение, то тем нужнее ему молодые головы и молодые руки, а потому положил я твердо: в первую очередь свою голову и свои руки на это дело до конца отдать. Вольф внимательно посмотрел на своего ученика. А ученик бережно достал из кармана старую, потрепанную книжку и сказал, протягивая ее Вольфу: — Вот врата учености моей: «Арифметика» Магницкого. Никогда я с этой книжкой не расстаюсь, все мое прошлое в ней. — Любопытная книжка, — говорит Вольф, разглядывая замысловатый рисунок титула. — В просторах родины моей затерялись миллионы ребят и отроков, для которых эта арифметика — недоступный свет. Вольф долго молча смотрел куда-то. Потом поднял глаза на Ломоносова и внушительно сказал: — Здесь вам открылась бы весьма немалая научная карьера. На что его странный ученик очень твердо ответил: — Я к тому себя определил, чтобы с неприятелями наук российских бороться и знаниями своими послужить своему народу. Когда он вышел, закрыв за собой дверь, и шаги его по каменным плитам уже давно замолкли, знаменитый профессор все еще стоял в задумчивости, потирая переносицу длинными пальцами. Темные волны После этой беседы Вольфа с Ломоносовым Рейзер и Виноградов не раз приходили в негодование: Михайло не участвовал больше в ночных похождениях веселой компании, которая, с песнями и шумом выйдя из какого-нибудь кабачка, брела по улицам спящего Марбурга, забавляясь проделками, еще долго после того приводившими в восторг городских мальчишек. Всего больше сердило Виноградова и Рейзера то, что Михайло иногда не отпирал им на стук и два воскресенья подряд проводил не с ними, а неведомо где. А потом оказалось, что почтенная фрау Эрна Цильх... приглашала его по воскресеньям к обеду! Узнав об этом, Виноградов взъерошил кудрявые волосы и, прищурившись, с усмешкой посмотрел на своего друга: — Эх, Михайло, уж не в дочке ли тут дело? Гляди, окрутят тебя! Но Ломоносов, пожав плечами, ничего не ответил. И вдруг, неожиданно развеселившись, улыбнулся и снял с гвоздя свою треуголку. — Пойдем-ка, Митрий, к старому Мюллеру! Нынче и мне можно выпить. Старый Мюллер почитался студентами всех корпораций. Он знал историю и состояние кармана каждого из них, пиво у него было всегда свежее, а таких жирных вареных колбас не было во всем Марбурге. Мюллер умел улаживать студенческие ссоры и не допускал дуэлей среди круглых столиков своего кабачка. В тот вечер центром внимания всего кабачка были марбургский парикмахер и его родственник аптекарь Макс, которые в скором времени собирались уехать из Марбурга и сидели, окруженные друзьями. Они опустошили уже не одну кружку, когда Ломоносов с Виноградовым и еще несколькими студентами, присоединившимися к ним по дороге, спустились в знакомый погребок по каменным ступенькам. На шум и голоса новых гостей парикмахер оглянулся и увидал Ломоносова. — А, мой уважаемый клиент! — весело закричал он через головы своих собутыльников. — Мой дорогой клиент из России! Очень хорошо, что вы пришли. Садитесь к нам. Ломоносов молча смотрел на него. Парикмахер выдержал паузу и торжественно объявил: — Мы едем, уважаемый клиент, на вашу родину, в Санкт-Петербург! Ну, что вы на это скажете? — Да, что вы скажете? — спросил Макс. — Скажу, что хотя Санкт-Петербург не родина моя, но я бы охотно на него сейчас поглядел! Интересно узнать, зачем вы направляетесь туда? — Мы едем, герр студент, учителями. Hoch! — сказал он и протянул свою кружку Ломоносову, чтобы чокнуться. Но русский студент быстро отодвинул свою. — А чему же вы будете учить в моем отечестве? — спросил он сурово, всматриваясь в веселое лицо парикмахера и в хитрые глаза Макса. — Там видно будет, — беспечно ответил парикмахер. — Я буду учить хорошим манерам и что-нибудь болтать по-немецки, а Макс — всему остальному. Макс усмехнулся. — Мой дядюшка пишет мне, что у вас совершенно дикая страна, господин студент, но там можно нажить хорошие деньги. И мы их наживем! Ваше здоровье! Ломоносов быстро встал. — Я не позволю говорить так об отечестве моем! — прокричал он, покрывая все другие голоса, и громкий этот возглас заставляет Мюллера оставить свои дела и подойти к спорящим. Студенты тащат Ломоносова к себе и дают ему в руки огромную кружку. Он выпивает всю сразу, потом другую. Парикмахер кричит на Ломоносова, а Ломоносов — на него. Он схватывает стул и замахивается им, а герр Мюллер, хозяин, хватает его сзади за локти. Все присутствующие наблюдают за этой сценой, но Ломоносов внезапно быстрым движением освобождается от рук Мюллера и выходит на улицу. После шума и волнения его охватила ночная тишина засыпающего города. Он вздохнул полной грудью, постоял и решительно зашагал к городской окраине, куда часто уходил один. Но, свернув за угол, чуть не: столкнулся с Фохтом и пошел вместе с ним. — Я искал тебя, Михаэль, — сказал Фохт, — и шел к тебе. Герр профессор получил для тебя письмо: Академия переслала. Почему-то тревожно сжалось сердце, и Ломоносов отошел в сторону, к слабому свету фонаря, чтобы прочитать написанное полудетским неумелым почерком маленькое письмо. Он смотрит неподвижно на четвертушку шероховатой бумаги, и смысл написанных на ней слов постепенно доходит до его сознания. «...а в непогоду опрокинуло карбас волной, затонул ночью Василий Дорофеич, отец твой. А после того нашли тело возле льдины, а схоронили мы его у себя, а дочка его, сестрица твоя, Марья Васильевна, растет ничего. А меня Арина Семеновна с дому согнала, и, окромя как замуж, деться мне некуда. Машутка». Он шел по ночной улице и не видел ее. Точно темные волны заливали тихую уличку. Вставали из тьмы очертания далекого берега Двины, Холмогор и родного села, и запорошенное снегом крыльцо, и суровое и в то же время доброе лицо отца. А за ним вставало детское личико Машутки с глазами, сияющими из-под большого платка. Умер отец... Он машинально подошел к своему дому — и не узнал его. Темные волны тоски поднимались и заливали сердце его. Из тьмы выступило маленькое пламя. Это свеча в окошке у Лизбет. Лизбет отперла ему калитку. Вдова господина церковного старосты уже давно сняла свой пышный чепец и спала под периной. Было поздно. На близкой ратуше часы пробили полночь. Пропуская его, Лизбет испуганно спросила: — Что случилось, герр Ломоносов? Вы больны? В голосе ее слышалась искренняя тревога, и он с благодарностью посмотрел на ее добродушное круглое личико. — Нет, — ответил он тихо, — у меня умер... утонул в бурю отец. Глаза Лизбет наполнились слезами, и она мягко дотронулась до его руки. — Бедный, бедный, герр Михаэль! — сказала она со вздохом. — Когда умер мой отец от болезни желудка, я тоже очень, очень плакала. Она постояла еще минутку и, посмотрев на него добрым взглядом, всегда напоминавшим ему взгляд ласкового теленка, ушла. В эту ночь он долго сидел у своего окна. Сидя задремал, и неотступно в полусне возникало перед ним, как живое, лицо отца и уплывало в темноту, точно уносили его волны. И тогда из тьмы смотрели на него с укором сияющие глаза Машутки и еще чей-то взгляд — добрый и чуть-чуть смешной. Он проснулся, поднял голову и сразу не мог вспомнить, что случилось. Только тупая боль где-то глубоко в сердце и в мозгу напоминала ему о том, что свершилось непоправимое горе. Ни единого прохожего не было на безмолвных уличках В темноте полусонно прошумели липы. На ратуше отчетливо и печально пробили несколько раз часы. После той ночи словно что-то сломилось в нем. Обещание, данное Вольфу, все труднее было выполнять. На него находили приступы мучительной тоски, причина которой была ему самому неясна. Эта смутная тоска то гнала его в один из марбургских кабачков, то подбивала на буйные проделки. Его могучий организм выдерживал и то и другое, и после бессонной ночи, проведенной в шумной компании, он являлся на лекции без единой минуты опоздания, свежий и полный сил, как после безмятежного сна. От четвертушки серой бумаги с каракулями Машутки повеяло на него родным севером, и в памяти одна за другой начали вставать картины прошлого. Он опять видел тусклые слюдяные окошки и узенькую лавку, на которой под тулупом спала Машутка. Он слышал визгливый голос мачехи, а потом дальше, над домом, — унылую песню вьюги, от которой сжималось сердце. И он видел своего сильного, рослого отца, который когда-то брал его на руки и под переливчатым сиянием сполоха катал по снежному дворику на маленьких санках. Туда он не вернется больше никогда. Но его суровая отчизна все же звала его, и он знал, что без нее, вдали от нее не может жить. И вот уже в ушах его начинал жужжать скрипучий голос Шумахера, а в памяти отчетливо вставали все уголки Академии и надменные лица академических профессоров, которым он скоро должен будет дать отчет в изучении наук. Срок марбургского обучения подходил к концу. Их ждал фрейберг, где они должны были ознакомиться с горным делом и у профессора Генкеля и в самих рудниках. Курс химии у Даузинга, а физика, химия и механика у Вольфа были закончены и сданы. Впереди ждала Академия, где предстояло работать над просвещением народным в упорной и жестокой борьбе, и снова — он знал это — лишения и суровость академической жизни. Мысль о бироновском гнете пугала и наводила тоску на сердце, как ночная вьюга. Но он знал, что нет такой силы, которая удержала бы его от возвращения, как нельзя удержать перелетных птиц, возвращающихся каждый год из теплых стран домой. В чемействе Цильх Фрау Эрна Цильх чрезвычайно уважала профессора Вольфа. Это совсем не значило, что она была сторонницей его теории о материи или о математическом принципе в физике. Она почитала его за известность и за общественное положение, несмотря на то, что история его изгнания из Пруссии была ей хорошо известна. Она любила смотреть из-за кустов своего садика, как проходил герр профессор Вольф по улице и как почтительно раскланивались с ним булочник на углу, ночной сторож и даже сам бургомистр. А с того вечера, когда она увидала, сидя вместе с Лизбет на скамеечке у калитки, как ее жилец — этот русский студент с такой крепкой фигурой и трудной фамилией — идет по улице, преспокойно беседуя с господином профессором, и как приветливо пожимает ему руку, прощаясь, господин профессор, она перенесла часть своего почтения и на своего жильца. И с того дня хлеб, который получал Ломоносов каждое утро к фрюштюку, был намазан уже не гусиным жиром, а настоящим маслом. — Лизбет, — сказала в тот знаменательный день фрау Цильх своей дочери, — посмотри, как добр герр профессор к нашему жильцу из этой России! Ты можешь пригласить нашего жильца из России в воскресенье к обеду. Тем более, что, как я слышала, он получает ежемесячно очень порядочные суммы на свое содержание. Очень порядочные, — повторила задумчиво фрау Цильх и посмотрела сбоку на свою дочь. Потом она встала со скамейки и, расправляя свою накрахмаленную юбку, закончила: — И у него очень приличный возраст — благодарение небу, этот русский студент уже не мальчишка. Сказав это, фрау Цильх направилась к дому, но, уходя, успела заметить, что круглое лицо Лизбет стало вдруг розовым. Так Михайло Ломоносов стал вхож в дом своих хозяек. Маленький Иоганн, брат фрейлен Лизбет, с восхищением смотрел на высокого студента, который умел делать столько удивительных вещей. Он вырезал ему из дерева лодки, называя их то карбасами, то шлюпками, и однажды склеил ему огромный бумажный змей с вертушкой. Иоганн никогда еще не видел человека, который знал бы так много всевозможных вещей. Прилаживая на игрушечных кораблях паруса, сделанные из остатков чепца фрау Цильх, русский студент рассказывал ему о своей родине. Иоганн всегда думал, что больше Германии нет страны в мире. И вот оказывается, что родина этого repp Михаэля примерно во столько же раз больше его страны, со сколько весь Марбург больше их маленькой улицы. И были там места, где созревал виноград, как у них по берегам южного рейна, и были огромные пространства непроходимых лесов и зеленых степей, и были снежные пустыни, над которыми полгода не встает солнце, а по ночам все небо залито разноцветным пламенем. Иоганну нравилось слушать описание суровых рек, бегущих к морю, островов, на которых по веснам — в апреле — залегают целыми стадами морские звери — тюлени, и об огромных рыбах — белугах, на ловлю которых выезжают целые деревни, от лодки к лодке протягивая гигантскую сеть. И как любил этот студент, ученик профессора Вольфа, говорить о народе, который живет на его родине! Он называл его отважным, не боящимся опасностей, «сильным духом и телом». Все это было малопонятно Иоганну, но после рассказов русского студента он уже не удивлялся, когда учитель в школе говорил, что в недрах русской земли и ее гор скрыты сказочные богатства. С тех пор он с нетерпением ждал воскресенья и задолго до этого дня спрашивал то мать, то сестру: не забыли ли они позвать их жильца к праздничному обеду? Счастье Лизбет Хоть нежности сердечной В любви я не лишен; Героев славой вечной Я больше восхищен. Ломоносов В один жаркий день после обеда фрау Цильх вытерла платком вспотевший лоб и шею и объявила, что сегодня даже она охотно прогулялась бы в рощу. Они отправились туда все вчетвером. Маленький Иоганн так приставал по дороге к Ломоносову, расспрашивая его о поморском житье, что фрау Цильх, наконец, рассердилась и велела ему замолчать, усевшись на лужайке, почтенная фрау вынула свое вязанье, чтобы уже не расставаться с ним до темноты. Лизбет и Ломоносов пошли к реке. День потухал. Луч вечернего солнца позолотил белокурые волосы Лизбет, но он был все еще горячим, и когда Лизбет отодвинулась в тень, падавшую от липовой ветки, голова ее оказалась совсем рядом с головой ее спутника. — Вы боитесь загара, фрейлен Лизбет? — спросил он насмешливо. — Я боюсь зноя, герр Ломоносов, — ответила Лизбет, обмахиваясь платком. В ту же минуту ее нога наткнулась на толстый корень дерева, и она упала бы, если б крепкая рука ее спутника не удержала ее. Он не спешил снять свою руку с ее талии, и Лизбет, со своей стороны, не спешила от него отодвинуться. Лизбет сказала только: — О, какой вы сильный, герр Ломоносов. — И еще ближе придвинулась к нему, так что ее плечо оказалось совсем близко от его лица, и он прикоснулся к нему губами. Лизбет не отстранила его и даже не рассердилась, нет: она положила голову на его плечо. Но в эту минуту раздался голос фрау Цильх, извещавшей о том, что, пожалуй, становится уже сыро. Одновременно с этим сообщением сама фрау Цильх появилась неподалеку и ясно увидела, что Лизбет стоит в очень нежной позе с ее жильцом из «этой России». Заметив их испуг, фрау Цильх улыбнулась и сказала: — Ничего, ничего. Я ничего не имею против. Я буду рада счастью моей Лизбет. Ломоносов, растерянно посмотрев на фрау Цильх, с полной откровенностью ответил: — Положение мое еще не определилось: через три дня я должен ехать учиться во фрейберг, к берграту Генкелю. — Ну что ж, — сказала фрау Цильх, — молодым людям часто приходится ждать друг друга. Лизбет будет ждать. Она знает, что господин русский студент считается у нас лучшим учеником профессора Вольфа, и он будет лучшим учеником берграта Генкеля. Прощание с Марбургом Из Санкт-Петербурга к профессору Вольфу пришла реляция: по сдаче всех работ, назначенных господином профессором, отправить русских студентов во Фрейберг — к берграту Генкелю — для изучения горного дела. Фрейбергский профессор, берграт Генкель, в свою очередь, получил из Санкт-Петербурга реляцию: учинить строгий надзор за расходом русских студентов, кои посылаются к нему на «бучение, и оповестить фрейбергских лавочников, чтобы означенным студентам — Ломоносову Михаилу, Рейзеру Густаву и Виноградову Дмитрию — в долг ничего не отпускать, ибо Академия долги их оплачивать не намерена, а господин Генкель благоволит содержание студентов ограничить одним талером в месяц. Испытания по химии у профессора Даузинга давно уже были успешно закончены Ломоносовым. По теоретической физике написана им и одобрена Вольфом не одна статья; по физике экспериментальной с великим жаром и упорством ставились опыты и под наблюдением профессора и вместе с ним. Механика Ломоносовым была с отличием сдана. Надлежало переходить к изучению горного и рудного дела во фрейберге. В Марбурге курс был кончен. Но долги, долги! Это было просто непостижимо, как они выросли!.. Слух о скором отъезде русских студентов из Марбурга с необыкновенной быстротой разнесся по городу. К сумеркам тихий дом профессора Вольфа уподобился осажденной крепости, и герр Пуффер, беспрестанно вытирая лоб огромным клетчатым платком, бегал по всем комнатам, выпивая на ходу стаканчик холодной воды и уговаривая кредиторов не шуметь и не волноваться: долги студентов будут оплачены. Время от времени он с тихим стоном поднимал свои маленькие руки кверху, как бы в ожидании небесной помощи, и вынимал деньги из вольфова кошелька, отданного в эти бурные дни в его распоряжение. Сам профессор Вольф сидел в это время в своем кабинете в любимом глубоком кресле у огромного стола с аккуратно разложенными стопками рукописей, формул и чертежей и старался продолжать свою работу. Но сегодня он чувствовал себя расстроенным. Он прекрасно понимал, что любознательность и одаренность русских была выше, нежели у остальных его учеников, и не мог не сознаться самому себе, что с их отъездом его лаборатория опустеет. Редкие способности Ломоносова часто волновали его, как некое радостное открытие. Удивительно, как он все успевал, этот юный помор, работая с жаром и рвением, которые поражали даже его учителя. Но, к сожалению, все помыслы его направлены к насаждению наук в его отечестве. Вечером, когда измученный Пуффер, удалив всех кредиторов, пожелал доброй ночи герр профессору, в дверь кабинета тихонько постучали. Открыв ее, Вольф столкнулся со своими беспокойными учениками из России. Он вопросительным взглядом окинул их фигуры и строго спросил, что им надо. — Скажите, что вы нас прощаете, — ответили они все втроем. Профессор Вольф не мог не улыбнуться. — Ну, хорошо, — сказал он. — Что было, то прошло. Идите и выспитесь перед дорогой, потому что лошадей подадут очень рано: в пять часов утра вы уже должны быть здесь, у моего дома. — Мы не опоздаем. Вольф посмотрел поочередно на все три пары обращенных на него глаз. — Разумеется, печально, что вы наделали долгов, и ваше петербургское академическое начальство справедливо находит, что вы могли быть экономнее. Но я должен сказать в вашу защиту, что деньги высылались вам далеко не аккуратно и часто ваши долги были вызваны самой насущной необходимостью. Он помолчал. — Что касается вас, Михаэль, — медленно говорит он, глядя на своего ученика, — то вы приобрели здесь особенно основательные познания, и я уверен, что вы ради науки преодолеете все преграды. Ломоносов делает какое-то движение, точно собираясь обнять своего профессора, но машет рукой и быстро уходит. Проходя по темной пустой лаборатории, освещенной только месяцем, заглядывающим в окошко, он окидывает долгим взглядом столы и приборы и маленькую кафедру Вольфа — всю эту обстановку, с которой он расстается, и, крепко сжав руки, точно преодолевая мучительную боль, покидает лабораторию Вольфа навсегда. Волнения герр Пуффера Ровно в половине пятого утра ученый секретарь Пуффер вышел из дому, чтобы выпить вместе со своим патроном чашку крепкого кофе. Профессор Вольф уже кончал свой ранний завтрак, когда Пуффср опустился против него в плетеное кресло и сказал: — Ох!.. Профессор Вольф посмотрел на своего ученого секретаря. — Вы как будто еще чего-то опасаетесь? — спросил он, придвигая ему чашку черного кофе. — Опасаюсь, герр профессор. И успокоюсь тогда, когда они будут уже во фрейберге. — Ну, благодарение богу, кучер не опоздал. Посмотрите, он точен, как ваши часы. Без трех минут пять. Профессор спускается с лестницы и спрашивает, все ли в порядке. Пуффер нервно поправляет свое жабо и говорит, что Ломоносова все еще нет. — Я так и знал, что кто-нибудь из них еще выкинет какую-нибудь штуку на прощанье, — бормочет он себе под нос и выбегает на улицу, чтобы посмотреть, не видна ли хоть издали рослая фигура лучшего ученика его патрона. Нет, улица совершенно пустынна. Пуффер возвращается. В эту минуту громко хлопает калитка, и Ломоносов быстро подходит к Вольфу. Но в каком он виде! Силы небесные! Секретарь молча воздевает руки и так стоит точно истукан в середине палисадника, устремив неподвижный взор на лицо Ломоносова. Лицо это бледно, паричок сбился па одну сторону, треуголка — на другую, а одна фалда дорожного кафтана совсем оторвана. — Герр профессор! — сказал Ломоносов, задыхаясь от негодования. — Финкель — жулик и мерзавец! Он обманул вас, этот сытый кабан! — Тише, тише! — в ужасе остановил его Пуффер. — Никогда не нужно до такой степени терять спокойствие! Вольф молча смотрел на Ломоносова, ожидая объяснений. — За шитье наших кафтанов он поставил вам счет вдвое больше против уговора! — Ломоносов разжал кулак, и Вольф увидел деньги на его ладони. — Вот, — сказал Ломоносов, шумно отдуваясь, — это то, что он у вас украл. Я тряс эту старую лису за шиворот до тех пор, пока он не вернул деньги. Я бы... Я бы вышиб из него дух вон, если бы он не вернул! Проклятая собачонка! — взглянул он на болтающуюся фалду. — Вцепилась — не оторвешь! Вольф посмотрел в нерешительности на деньги и окинул взглядом всю фигуру Ломоносова. — Бог мой, на что вы похожи! — сказал он, покачав головой. — И все это ради суммы, которая совершенно ничтожна по сравнению с тем, что пришлось нам вчера раздать вашим кредиторам! Ученый секретарь Пуффер с отчаянием во взоре смотрел на Ломоносова. — Ну вот! — горестно воскликнул он. — Теперь сын этого Финкеля — портного, ваш недавний товарищ по университету, придет непременно жаловаться на вас герр профессору, как проректору, и герр профессор, как проректор, должен будет улаживать и это дело! — Я согласен был бы отдать вдвое больше этой злополучной суммы, — отозвался со вздохом Вольф, — ради того, чтобы все, наконец, успокоились. Справедливость этого упрека, высказанного в последнюю минуту прощания, и сознание бессмысленности совершенного поступка, который только что казался таким необходимым, больно кольнули в сердце. — Я виноват перед вами, — с трудом выговорил Ломоносов, — я очень виноват! Возница длинным бичом указал на высоко поднявшееся солнце. — Уже шестой час, — сказал он. Герр Пуффер заволновался. — Господа студенты, — с торжественностью в голосе провозгласил он, — вам пора отправляться. Проститесь с господином профессором и с вашим покорным слугой и занимайте ваши места в экипаже. Я должен выполнить еще одно поручение вашей Академии. И, следуя с обычной точностью полученным инструкциям, он передает одинаковую сумму на путевые издержки каждому из трех студентов именно в то мгновение, когда тот, садясь в карету, заносит ногу на ступеньку. Ломоносов оглядел в последний раз дом и окна лаборатории. Около одного из них стоял его опустевший теперь стол. Оглядел аккуратный садик с главной дорожкой, чисто выложенной ровными кирпичиками, и невольно подумал: «Что они все могут знать о нас, что они могут понять в нашей жизни и в той стране, в которой жить трудно, но без которой жить я не могу?..» Потом он подошел к своему учителю, этому прусскому изгнаннику, ставшему ему близким и дорогим, несмотря на то, что он был глубочайшим образом не согласен ни с его теорией флогистона, ни с его учением о «предустановленной гармонии», которая вызывала в нем горькую улыбку, — и по-русски, по-северному трижды «поликовался» с ним. И вот все кончено. Когда лошади вынесли карету за маленькие ворота, он еще раз оглянулся на Вольфа: профессор стоял без шляпы, прямой и подтянутый, с орлиным носом и орлиным взором, и видно было, как утренний ветерок шевелит букли его расчесанного парика. Лошади бегут все быстрее вперед, а маленькие улички Марбурга все быстрее бегут назад. Вот старые стены университета, похожего на крепость... Вот ратуша с часами... Сколько раз их медлительные удары напоминали о том, что ночь уже на исходе и пора, давно пора возвращаться домой! Вот городская площадь со старыми липами и с фонтаном, куда однажды посадили они ночного сторожа. Дальше торговая улица — ее большие вывески часто по ночам перекочевывали с места на место под быстрыми руками подвыпивших студентов. Кабачок Мюллера и тихий, весь в садах переулок, по которому шел он в тот тяжкий вечер, когда узнал о смерти отца... И, наконец, показались деревья пригородной рощи, где он неожиданно стал женихом фрейлен Елизаветы Цильх. Лизбет!.. Сегодня ночью она до рассвета оставалась у него во флигелечке и, прощаясь с ним, предавалась вслух мечтам об их будущей жизни. Сегодня ночью на ней было надето его любимое голубое платье с черными бархотками. Сегодня ночью... Ах, как быстро бегут теперь лошади, спускаясь под гору! О чем же это он думал сейчас? Да, о глазах Лизбет. Он бывал теплым, их взгляд, и особенно нравился ему в те минуты, когда она молчала. Сегодня ночью он обещал ей поскорее пройти курс наук во Фрейберге и писать ей на адрес ее подруги Анхен, ибо фрау Цильх и даже маленький Иоганн читают все ее письма. В последний раз целуя его на прощанье, она повторила, что будет его ждать... И вот теперь Лизбет тоже становилась прошлым. Все тревоги и печали отъезда уже уступали место новым впечатлениям. Путь-дорога Был разгар лета. Большие облака вставали над холмами и таяли в густой синеве. Как не похож этот путь на просторные и такие теперь далекие дороги его отчизны! Здесь все чужое, а к чужому — живи в нем хоть сто лет — не привыкнешь. Небольшие домики почтовых станций приветливо поблескивали стеклами. На высоких жердях вился хмель, легко цепляясь за решетки. В окнах розовели занавески и лица хозяек, поглядывавших на дорогу, ранние сорта яблок поспевали в садах и у краев дороги. Пышные мальвы и летние астры пестрели на каждом свободном кусочке земли, но и самый малый цветик казался кем-то подсчитанным и занумерованным. На станции толстый хозяин, в зеленом фартуке и зеленом колпаке с кисточкой, выходил встречать проезжих, и скоро на стол у открытого окошка, в которое заглядывали пунцовые мальвы, заспанная служанка ставила три кружки пива и подавала ужин, Рейзер, обожавший все сладкое, еще наслаждался свежим медом, когда рожок кучера уже звал их снова в путь. Прохладный вечер легко опускается на зеленые холмы, на темные уступы еловых лесов. И вдруг где-нибудь за поворотом дороги, наверху каменистого холма, выступят на багряном западе четкие контуры полуразвалившегося старого замка со сторожевой башней, стены которой поросли кустарником и травой. Лошади осторожно сбегают под гору. И вот пахнуло в лицо запахом воды и чуть-чуть плесени и слышится шум мельничного колеса. Сладко и успокоительно слушать его под равномерный стук копыт и, слушая, засыпать. И проснуться внезапно от толчка и увидеть над головой звезды в чистом, темном небе и новую станцию, где ждет их ночлег, где запах овса смешивается с ароматом яичницы на свином сале и где иной раз веселая хозяйка не прочь поболтать с проезжим. Однажды ранним утром проезжали они гористой местностью, покрытой густыми лесами буков и ясеней с раскидистыми кронами, с зубчатыми верхушками больших старых елей, ручейки бежали откуда-то, точно из-под земли, и в чистом воздухе перекликались лесные птицы. Виноградов и Рейзер еще дремали в углах почтовой кареты. Ломоносов с открытой головой и расстегнутым воротом кафтана внимательно рассматривал, дорогу, большие деревья, растущие по ее краям, и лиловые дали. По узенькой тропинке быстро шел юноша лет девятнадцати с дорожным мешком за плечами. Он легко перепрыгивал через камни и брел себе по тропинке, видимо наслаждаясь и утром, и лесом, и яблоком, от которого неторопливо откусывал большие куски. — Куда, паренек? — крикнул ему Ломоносов, высовываясь из окна кареты. — В Блумберг, на ярмарку, — ответил паренек и отхватил такой громадный кусок яблока, что казалось удивительным, как это он не подавился. — А откуда? — Из Бишофсвальда. — Из Бишофсвальда? — Ломоносов с некоторым удивлением посмотрел на этого путешественника. Для чего же он шел пешком, когда из Бишофсвальда в Блумберг дважды в день ходит почтовая карета? Может быть, у него не было ни гроша на проезд? — Садись, — сказал он, — подвезем! — Спасибо, — ответил паренек. — Пешком веселей! — и, приподняв на прощанье свою шляпу с зеленым перышком, исчез среди толстых стволов. «Наверное, подмастерье, — подумал Ломоносов, — или ученик, кончивший свое обучение и отправленный родными в не очень-то далекое путешествие, посмотреть белый свет». И ему вспомнился, точно забытый сон, другой юноша, с большой и упорной думой на сердце бредущий за длинным обозом в мутной пелене леденящей вьюги за знанием, за «книгами» через сотни и сотни спежпых верст. «Да, разные страны и разные люди, — подумал он опять, глядя на березовые стволы, среди которых еще мелькала шляпа с зеленым хохолком. — И что могут они понять в нашей суровой жизни, где в тисках бироновского кулака стонет и борется, прорываясь к свободе, великая душа русского народа?» Путь того юноши оказался верным. Он все-таки привел его через сугробы и холод, через голод долгих лет к знаменитому марбургскому ученому и ведет его дальше по горной крутой дороге, к завершению ученических лет. Дорога поднималась теперь все выше и выше, к уступам гор. Русские студенты с любопытством всматривались в каждый ее поворот, и вот, наконец, увидали они городок Фрейберг у подножия Саксонских гор. Обед во Фрейберге Городок Фрейберг жил трудовой жизнью. С утра его улицы и предместья были охвачены движением, рабочие группами, иногда целыми семьями, спешили к серебряным рудникам, к чугунолитейным заводам, посылавшим дым в облака. Уныло звонил колокол, сзывая на работу. Здесь жили сотни рабочих и мастеров горного дела, а также и свои, немецкие, и иностранные маклеры, заведующие оптовыми заказами, и обе городские гостиницы были всегда полны, русских студентов привезли прямо к дому берграта. В двух небольших комнатах его мансарды надлежало им жить и здесь же, внизу, заниматься в лаборатории горного советника. В дверях темноватого дома, второй этаж которого низко нависал над первым, русские студенты были встречены петербургским профессором Юнкером, посланным во Фрейберг российской Академией для изучения соляного дела, и самим профессором Генкелем. Горный советник по случаю раннего утреннего часа был еще в халате и в шелковом колпаке с большой кистью. Из полутемной столовой с выцветшей панелью по стенам открывался вид на горы. Но в то утро горы были закрыты дождевыми облаками. Глаза горного советника из-под полуопущенных век с пытливым любопытством осмотрели всех троих студентов. И оттого, что глаза его не были вполне открыты, невозможно было сказать, какое впечатление произвел на профессора Генкеля этот осмотр. Во всяком случае, русские студенты чувствовали себя не совсем ловко, ибо костюмы их весьма пострадали и измялись в дороге. Берграт Генкель предложил им освежиться и привести себя в порядок, предупредив, что через два часа он покажет им место их будущих занятий — свою лабораторию. За то время, которое они провели за завтраком, в полукруглых окнах столовой было видно, как трижды темнело небо от набегавших туч и трижды проливались тучи шумящим дождем, открывая в прорывах голубые пятна чистой лазури и отдельные выступы гор. Виноградов с удивлением наблюдал за этими переменами и за лицом берграта Генкеля. Ему показалось, что природа здесь охвачена лихорадкой, И еще ему показалось, что за полуприкрытыми глазами Генкеля, в полутемных комнатах этого дома скрывается что-то тайное, чего не показывают до конца и о чем не говорят громко. Но Ломоносов ничего этого не замечал. Он с нетерпением ждал, когда же ему покажут вторую в его жизни лабораторию. Первые столкновения Ничем не напоминала лаборатория Генкеля светлую, блиставшую чистотой — от свежевымытых окон до сверкающих металлических частей приборов — физическую лабораторию Вольфа. Это была подвальная, а потому полутемная комната со сводчатым потолком и решетками на окнах. Генкель с торжественностью подвел студентов к большому вытяжному колпаку, под которым были устроены три печи: пробирная, плавильная и перегонная. Они оглядели все три стола с приборами, спрашивая о каждом предмете с живейшим любопытством. Они рассматривали и брали в руки тигли и колбы с длинными горлами, расположенные на борту вытяжного колпака. И взгляды франтоватого Юнкера, косившегося на довольно потрепанные кафтаны молодых людей, утрачивали свое презрительное выражение, по мере того как выяснялось, что эти головы, прикрытые плохо завитыми паричками, содержат в себе столь основательные познания. Студенты были весьма осведомлены не только в химии и в экспериментальной физике, что было специальностью Вольфа, но и в механике. Гордостью Генкеля была его коллекция минералов и рудных образцов, широко известная за пределами Фрейберга. Куски серебряной руды, и блестящий кварц, и образцы гнейсовых отложений были разложены в длинных застекленных ящиках вдоль стен. Виноградов с интересом разглядывал и вертел в руках небольшой синевато-белый кусочек какой-то породы. Заметив его недоумение, берграт пояснил: — Весьма любопытное вещество, друзья мои, обращаю на него ваше внимание: перед вами затвердевший кусок особого теста, именуемого фарфором, из которого выделывают известные всему миру наши саксонские чашки, вазы и статуэтки. Но на дальнейшие расспросы Виноградова об изготовлении фарфорового теста Генкель ответил столь туманно и глаза его приняли столь неопределенное выражение, что, переглянувшись с Михайлой, Виноградов оставил эту тему. Только профессор Юнкер добавил с некоторой небрежностью, свойственной его манерам щеголя: — Вот займитесь-ка, молодой человек, изучением этого дела. За секрет изготовления фарфорового теста правительство российское заплатит вам щедро, не торгуясь. В полуприкрытых глазах Генкеля блеснул огонек, но, отвернувшись к Рейзеру, господин берграт стал весьма любезно отвечать на его вопросы. Этот студент был сын обрусевшего немца, а следовательно, почти свой, отец его был профессором Санкт-Петербургской Академии, а не рыбаком и не дьячком, и, наконец, вопросы его касались исключительно области изучения ископаемых руд. Третий студент также задал берграту немало вопросов. Его интересовало и устройство самых рудников, и глубина залегания пластов, и даже вопрос о движении воздуха в рудниках, но господин берграт был кабинетным ученым, и движение воздуха в рудниках не занимало его. Этот студент вообще показался Генкелю довольно беспокойным. Его чересчур пытливый взгляд мгновенно подмечал и малейшую деталь в приборах, и окраску руды, и горный ландшафт, окружавший со всех сторон небольшой домик Генкеля, и даже уголь в мешке, лежавший вместе со щипцами около плавильной печи. И когда Генкель, говоря о рудном деле, вскользь упомянул о химии, заметив, что, занимаясь ею, не питал никогда особого пристрастия к сему искусству, считая его сравнительно с рудным делом довольно отвлеченным, — этот третий студент весьма решительно и смело возразил господину берграту. — Это не так, — сказал он. — В «Основаниях химии» Бургаве обращено преимущественное внимание на практическую сторону химии, которую я почитаю не «искусством», а великой наукой, занятой составлением из простейших тел сложных и разложением сложных на простейшие, вплоть до невидимых их частичек. — Как, как? — воскликнул герр Генкель, останавливаясь перед беспокойным студентом. — «Невидимые частички» Бургаве? Но осведомлены ли вы о том, что в сочинениях названного вами ученого совершенно отсутствует учение о флогистоне? — Вполне осведомлен, — ответил студент, — как равно и о том, что флогистона в натуре не имеется. — Что-о? — уже закричал Генкель. — Что же дает вам право на такое суждение? — Разум, — ответил коротко студент и занялся осмотром вытяжного колпака. Господин берграт с безмолвным протестом развел руками и посмотрел на профессора Юнкера, как бы ожидая найти в нем поддержку. Молодой профессор Юнкер, прищурив один глаз, посмотрел на Ломоносова. — Очевидно, господин студент занят сразу весьма различными вопросами. Как бы не произошло некоторого затемнения в его мыслях по причине такого разнообразия? Ломоносов обернулся к Юнкеру и, выпрямившись во весь рост, ответил: — В сем разнообразии хочу следовать вам, господин профессор. Ибо, ваша милость, будучи у нас в Академии профессором элоквенции, изучаете во Фрейберге соляное дело. Юнкер закусил губу, а берграт Генкель заявил, что наступает час обеда и он приглашает господ студентов к своему столу. Можно было бы сказать, что этот первый обед русских студентов во Фрейберге прошел вполне приятно для всех присутствующих, если бы и конце его, когда кривой слуга уже подал черный кофе, господии берграт не произнес нескольких колких замечаний по адресу Ломоносова и его научных идей. Господин берграт был ученым старого закала и ко всяким новшествам привык относиться с нескрываемым пренебрежением, а тут вдруг за его столом оказался молодой человек, настолько зараженный новыми бреднями, что берграт Генкель почувствовал себя лично оскорбленным. — Соблаговолите повторить, молодой человек, — с явной иронией в голосе и во взгляде обратился он к Ломоносову, — в чем полагаете вы причину тепла? — В движении невидимых частичек, — невозмутимо ответил Ломоносов. — Вот, вот, невидимых частичек, благодарю вас, — с легким поклоном продолжал Генкель. — И что же, много народилось теперь ученых со столь странным образом мыслей? Ломоносов нахмурился. — Этот образ мыслей еще французский ученый и философ Декарт излагал в своих сочинениях. Он говорил о законе сохранения движения, утверждая, что в мире не встречается совершенно неподвижных точек. — Так-с, молодой человек, — сказал Генкель, постукивая сухими пальцами по столу и почти совсем закрыв глаза тяжело нависшими веками, — могу ли я отсюда сделать тот вывод, что вы разделяете учение господина Декарта, именуемое кар-те-зи-ан-ством? — Всенепременно, — ответил твердо молодой человек, — поскольку его учение говорит о материальном единстве вселенной, начало которой полагает он в вихреобразных потоках материи, точнее говоря, в движении невидимых частиц ее, то-есть корпускул. Генкель откинулся в кресле и громко расхохотался. — Великолепно, великолепно! Невидимые корпускулы! Но какого же чорта именуете вы свои замечательные корпускулы материей, ежели они невидимые? Прожив не один десяток лет, слышал я единственно о невидимых привидениях в сказках, но не о невидимой материи! По свойственной ему манере Генкель обратился не к своему собеседнику, а к профессору Юнкеру и, не глядя на Ломоносова, весьма резко заметил: — А я полагаю, как, надеюсь, полагаете и вы, герр Юнкер, что утверждения Декарта являются зловредной ересью в науке, и считаю долгом напомнить нашему молодому ученику о Том, что в тысяча шестьсот сорок третьем году в городе Утрехте, а в тысяча шестьсот сорок седьмом году в городе Лейдене произведения ученого Декарта присуждены были к сожжению рукою палача. Ломоносов быстрым движением расстегнул воротник кафтана, что, как хорошо знал Виноградов, было у него признаком гнева или волнения. Потом, отвернувшись также в сторону от своего собеседника и поглядывая то на Митрия, то на Рейзера, негромко и раздельно сказал: — Насколько нам известно, мы прибыли сюда как ученики не Картезия, а профессора Христиана Вольфа. А профессор Христиан Вольф утверждает, что всякое тело, имеющее протяжение, может делиться на части, которые он именует «непостижимо малыми» и которые я, в противоречие с профессором Вольфом, считаю вполне реальными и однородными. Но «Експериментальная физика» этого ученого еще не осуждена па сожжение, хотя од сам и был изгнан из Пруссии, за что Пруссии величаться нечем. Он палил себе пива из кувшина и залпом осушил кружку. Господин берграт ничего не ответил. Только взгляд господина берграта, скользнув по лицу нового ученика, казалось, сказал: «Да, этого гуся голыми руками не возьмешь!» А профессор Юнкер, в свою очередь потянувшись к кувшину, процедил: — Нельзя не отметить, господин студент, что профессор Вольф успел преподать вам весьма основательные познания. Так кончился первый обед во Фрейберге. Времена меняются Наступил вечер, небо медленно очищалось, и горы постепенно сбрасывали с себя густой облачный покров. Ломоносов, занятый своим устройством в отведенной студентам мансарде, забыв совсем о разборке вещей, внимательным и восхищенным взглядом наблюдал за этим постепенным появлением горных уступов, точно позолоченных вечерним солнцем. Вошел кривой слуга, зажег свечи и сообщил, что господин берграт находится в своем кабинете, куда просит пожаловать и господ студентов, когда они освободятся. Кабинет Генкеля был довольно скудно освещен свечами, что позволяло видеть в раскрытую дверь балкона потухающий запад и темные силуэты кряжистых гор. Господин берграт жестом пригласил студентов сесть и вынул из ящика стола большое, уже распечатанное письмо из Санкт-Петербургской Академии. — Я должен ознакомить вас, мои любезные ученики, — начал он неторопливо, — с содержанием последних инструкций, полученных мною, в связи с вашим прибытием ко мне, от вашего академического начальства: и от барона Корфа и от господина Шумахера. Ученики молча ждали, почувствовав в тоне Генкеля нечто значительное и поняв, что без серьезных оснований Генкель не был бы столь торжественным. — Инструкции сводятся к следующему... — Берграт сделал паузу и поглядел на своих слушателей. — Господин Шумахер и барон Корф, обеспокоенные тем образом жизни, который вели мои любезные ученики в Марбурге, постановили: за все время пребывания господ студентов во Фрейберге уменьшить их годовое содержание вдвое. — Он помолчал. — Означенную сумму академическое начальство будет выдавать не на руки господам студентам, а мне, дабы я оплачивал их счета, На руки же каждому студенту будет выдаваться ежемесячно по одному талеру на все расходы, кроме обеда, считая с сегодняшнего дня, что я и почитаю своим непременным долгом исполнить незамедлительно. Закончив эту речь, он встал и, подойдя к каждому студенту по очереди, вручил им по талеру, после чего большое письмо из Академии наук было снова спрятано в ящик стола и заперто. И ни Генкель, ни Шумахер, ни барон Корф не упомянули о том, как часто приходилось этим «любезным ученикам» голодать в Марбурге в ожидании того дня, когда академическое начальство в далеком Санкт-Петербурге вспомнит, наконец, об их существовании. Ночью над остро срезанными уступами гор переливалось мягким звездным блеском прохладное небо. На несколько коротких часов городок Фрейберг погрузился в тишину. Только дежурные сторожа перекликались у входов в рудники да горный колокол отбивал медными ударами ночные часы. Прощай, веселый Марбург! Ода Книжечка поэта и переводчика Тредиаковского Василия Кирилловича «Способ к сложению российских стихов», которую купил Ломоносов в первые же дни по приезде в Санкт-Петербург и увез с собой, не давала ему покоя. Еще в Академии в свободные часы, а иногда и в марбургской лаборатории во время занятий отдельные строчки его собственных стихов звучали в нем настойчиво, готовые сорваться с языка. Ему хотелось доказать Тредиаковскому, что иначе, по-новому надлежит пользоваться русской речью, дабы, следуя законам нового стихосложения, слагать стихи, звучащие наподобие металла. Он любил свой язык, считая его по краткости и звучности не уступающим латыни и греческому, любил и гордился им. В осенний вечер, когда за окном мансарды шумел обложной, многодневный дождь, Ломоносов, при слабом свете единственной свечи, перелистывал книжечку Тредиаковского. И, полистав, решительно закрыл, отложив ее в угол, на деревянную скамью, всю заложенную книгами. Он подошел к окну, распахнул узкие створки и высунул голову. Прохладные капли дождя, дробясь о широкий навес крыши, освежали лицо. Внизу спал городок. Горы были окутаны туманом. Но вот туман редеет в одном уголке неба, и оттуда пробивается сначала мягкий, успокоительный свет и, наконец, выступает краешек лунного диска. Сегодня луна уже на ущербе. А всего неделю тому назад, когда бродил он до глубокой ночи по горным тропинкам, было полнолуние. Там, посреди уступов, сейчас закрытых туманом, стояла гулкая тишина, обнявшая все дали, подножия гор и всю долину с лужайками, с узенькой речкой, поблескивавшей под луной. Не шевелилась ни одна ветка горного кустарника. Он долго слушал тишину, как слушают песню. И его душу охватывал постепенно растущий восторг, точно волнами поднимаясь в сознании. В эти минуты тишины и безлюдья каким-то уголком внутреннего зрения он увидел отчетливо тот путь, по которому надлежало ему итти до конца его жизни: надлежало ему впитать своей жадной к познанию душой и разумом все, что могут дать ему и люди, и книги, и научные опыты, и все эти знания щедрой рукой сеятеля бросить в плодородную, богатую скрытыми сокровищами русскую землю. Колокол разбил ночное безмолвие гор. Ломоносов поднял свой плащ, упавший на землю, и быстро сбежал вниз по каменной тропинке. Он домчался тогда одним духом до дома, тихо отпер дверь, торопливо нажег свечу и присел к краю своего маленького столика, рука его быстро начала набрасывать на бумаге четким и ясным почерком строчки стихов. Он вынул из кармана хрустящий листок бумаги — полученную Генкелем из СанктПетербурга подробную эстафету о взятии русскими войсками турецкой крепости Хотин. Потом остановился, подумал и надписал сверху: «Ода на взятие русскими войсками крепости Хотин». Виноградов давно крепко спал в другом конце комнаты. Луна зашла за горные кряжи. Он написал тогда почти половину своей первой оды и, сидя у стола, заснул... Виноградов и сейчас спит. Дождик как будто затихает, но туман опять затянул все небо. Михайло закрыл окно и, подойдя к Виноградову, сел в ногах его кровати. — Митрий, — познал он тихонько, — ты эдак все царствие небесное проспишь! Из другой комнаты послышался полусонный голос Рейзера: — А ты опять колобродишь? Виноградов приподнял с подушки голову. — Ты чего, Михайло? Случилось что? — Случилось, — ответил Михайло. Виноградов сел на кровати. — Ну, говори. Ломоносов посмотрел на взлохмаченную голову, в испуганные глаза Митрия и, положив на кровать четко исписанные листы, сказал: — Оду я написал. Турки нас теснили, а теперь узнали под Хотином, что такое наш русский солдат. Скорблю, что там не был. — Оду, говоришь? Вроде гюнтеровой, что ли? — Нет, зачем мне Гюнтер! Я по-своему хочу. Слушай, Митрий, и скажи: можно сию оду в Петербург послать? — А меня почему же не спрашивают? — На пороге их комнаты стоял, всунув босые ноги в туфли и набросив на плечи теплый халат, Густав Рейзер. — Иди спи, — отмахнулся с улыбкой Ломоносов, — Ты, Густав, в русском языке ни аза не смыслишь. — Что такое? — вскричал Рейзер, подбрасывая туфлю ногой. — Я его знаю почти как свой! — После этого заявления он забрался в самый дальний угол деревянной старинной кровати Виноградова. Ломоносов с усмешкой покачал головой. — Вот то-то и есть, что русский ты токмо наполовину. Знать язык — это, брат, еще не все: надлежит всем нутром его слышать, дабы оценить, где он звучание имеет и каково оно есть. — А у тебя что же, звучание? — тоненьким голоском спросил Рейзер. — О том еще не могу точного суждения иметь, но полагаю, что у меня его более, нежели у достославного Тредиаковского, ибо в строках сего пиита нигде не слыхать боя. — Чего, чего? — в один голос перебили его и Митрий и Густав. — Боя, — повторил Ломоносов, — сиречь хода, размера стихотворного, без коего стихи слагать нельзя. — Читай свою оду, — отозвался Рейзер, закрывая глаза. — Митрий, прихлопни его подушкой, — быстро и деловито сказал Ломоносов, словно просил открыть или закрыть дверь. И, развернув первый лист, прочитал: «Ода на взятие Хотина». Восторг внезапный ум пленил, Ведет на верх горы высокой, Там ветр в лесах шуметь забыл; В долине тишина глубокой. Голос был низкий, звучный и мягкий, и каждое слово точно пело, когда он произносил его. Митрий и Рейзер слушали, не прерывая. Ломоносов дочитал до половины. — Все, — сказал он, складывая рукопись. — Остатное допишу и, ежели решусь, приложу мою оду к обычному отчету о занятиях наших в Академию и Юнкера попрошу — пусть в Петербург отвезет. — Ежели решусь! — повторил Виноградов, вскакивая с кровати и сбрасывая с себя перину. — Да ведь ты пиит, Михайло, ты будешь настоящим пиитом! Так, как ты, у нас доселе еще никто не писал! Почитаешь наших виршеплетов, — токмо диву даешься, сколь они криво и косо в стихах слова склеивают! А у тебя все к месту! И складно как! Он бросился к Михайле и обнял его. — Я тоже его обнимаю, — сказал с постели Рейзер, натягивая на себя сброшенную Виноградовым перину. Ломоносов подошел к Рейзеру, поднял его вместе с периной и под громкий хохот Виноградова и повизгивания Густава дотащил до соседней комнаты, где и положил на собственную, Рейзера, кровать. — Тише, братие, — опомнился, наконец, Виноградов. — Господин берграт, почитай, три ночи как рано ложится — без карточной игры. — Без игры? — нахмурясь, повторил Ломоносов. — Вчера до свету играл, — на наши академические денежки. — А ведь, и вправду, пребывание наше для него выгодно весьма, — раскрыл вдруг широко глаза Рейзер. — Не в том ли причина столь медленного хода обучения нашего? Как сдадим ему экзамен по горному делу да уедем, — сядет он, что рак на мели. — А ведь верно! — всплеснул руками Виноградов. Ломоносов усмехнулся. — Ах ты, святая душа! Гляди, Густав — и тот догадался. А ты так суздальской простотой и помрешь. — А я во всем тебя буду спрашивать, — уже весело отозвался Виноградов. — Токмо ты меня не оставляй. Не оставишь, Михайло? Ломоносов положил по школьной привычке свою сильную руку на плечо Виноградова и твердо ответил: — По доброй воле никогда бы не оставил, потому как ближе тебя у меня никого не было и нет. Он подошел к своей кровати, лег и погасил свечу. Перед рассветом из дверей дома Генкеля вышли трое гостей. А после их ухода господин берграт еще долго сидел над ящиком своего стола, что-то считал и записывал. В мансарде в это время уже давно спали его ученики «из этой удивительной России», как говаривал часто господин берграт. Горный советник Генкель Небольшая корчма для рабочих, где почти всегда днем и ночью можно было получить миску горячей похлебки и строго ограниченную порцию пива, помещалась в старом каменном сарае, по соседству с главным рудником. В ненастный зимний день, в краткий час обеденного отдыха шумная группа молодых рабочих сидела у пылающего очага, запивая только что съеденный обед несколькими — разрешенными начальством — глотками пива. Пожилой рабочий, с длинными светлыми усами и лицом, покрытым точно слоем загара от постоянного стояния перед плавильной печью, посмотрел на своего соседа — широкоплечего молодца в коротком фартуке, еле прикрывавшем кафтан, и усмехнулся: рослый этот молодец одним глотком опустошил кружку и теперь в некотором раздумье смотрел на пустое дно. рабочий подмигнул товарищам и слегка толкнул молодца в бок. — Ну что, Михаэль, маловато? Я думаю, твой хозяин вам всем троим вместе не больше дает за воскресным обедом! Хитрая лиса, этот берграт Генкель! Хор сочувственных голосов прогудел в ответ и умолк. Здесь, на руднике, все уже давно считали Ломоносова своим; он был принят в рабочую семью, с ним делились огорчениями и заботами. Он помогал, когда мог, советом, а когда и монеткой на насущные расходы, и, в короткое время изучив серебряные рудники Фрейберга, любил наблюдать за тем, как в огромных плавильных печах сырая руда превращалась в драгоценный металл. Он рассказывал своим новым друзьям о подлёдном лове, о долгих зимах на студеной широкой реке, о сполохах и о белых ночах и о том, как запекают на севере рыбу и как ловят ее — дорогую семгу — только в осеннюю бурю, рискуя жизнью, рабочие слушали и забывали о времени до тех пор. пока не ударял колокол. Однажды в конце зимы Ломоносов возвращался домой вместе с одним пареньком, жившим на руднике. Около дома Генкеля паренек остановился и, прощаясь, с некоторой заминкой в голосе сказал: — Дай мне, Михаэль, немного деньжат. Нужно для матери. Скоро верну. Ломоносов пошарил в одном кармане, потом в другом, вытащил оттуда все содержимое и высыпал в руку своего спутника. Потом он простился с ним и поспешно отправился к себе в мансарду, чтобы до ужина успеть хорошенько вымыться, В тот вечер господин берграт был весьма мрачен за ужином. Он молча барабанил по столу сухими костяшками пальцев, и когда старый слуга убрал последние тарелки, Генкель задержал Ломоносова: — Господин студент, — произнес он сурово, — должен заявить, что поведение ваше внушает мне наисерьезнейшие опасения. Во-первых, вы расточаете на ветер средства, посылаемые вам Санкт-Петербургской Академией наук, средства, за которые я несу ответственность перед бароном Корфом и господином Шумахером... — Расточаю средства? — повторил негромко Ломоносов. — Будьте столь любезны, господин берграт, объяснить, каким способом. – Я прошу вас замолчать и дать мне говорить! — багровея от гнева, обернулся к нему Генкель. — Сегодня из окна моего собственного кабинета я видел, как деньги из вашего кармана перешли в карман молодого работника, который их нам, конечно, не вернет. — А хоть бы и так? — уже с вызовом ответил Ломоносов. — Деньги эти — мои. — Нет, не ваши! — окончательно вскипел Генкель. — Собственных денег, насколько мне известно, вы вообще, молодой человек, не имеете. Но должен вас предупредить, что о вашей склонности к пребыванию в низком обществе, продиктованной, как видно, вашим крестьянским происхождением... — Что такое? — рука Ломоносова судорожно схватилась за спинку кресла. — Об этой склонности, продиктованной вашим простым происхождением, — деревянным голосом закончил Генкель, — я должен буду известить ваше начальство. Ломоносов вскочил, оттолкнул стул ногой и стоял перед Генкелем, побелев от гнева и обиды. — О чем вы говорите? — прогремел над ухом Генкеля его голос. — Я говорю о вашем постоянном пребывании в обществе мастеров, литейщиков и прочего рабочего люда нашего города. Чем вы с ними занимаетесь? — Изучением рудного дела среди людей, которых я уважаю! — продолжал греметь голос. — За этим вы могли бы обратиться ко мне, ибо полагаю, что в этом и есть цель вашего пребывания здесь. — К вам? Нет! Ничего нового я от вас не услышу. А как я еще восемь лет назад навигацию на Сухаревой башне изучать отказался, так и ныне рудное дело изучать полагаю нужным в рудниках! А от вашей милости долее обучаться не ведаю чему. — Ах, вот как! Но об этом, молодой человек, не вы будете суждение иметь, а я, равно как о том дне и часе, когда ваше обучение у меня закончится. — А я требую, чтобы мне учинено было безотложно испытание по тем предметам, которые вы нам излагать изволили. Ибо считаю, что сведений об этих предметах в моей голове имеется не менее, нежели в вашей. И, бросив салфетку на стол, Ломоносов вышел из столовой, прошел мимо безмолвного слуги, таращившего на него свой единственный глаз, и, быстро перейдя улицу, побежал по горной тропинке, туда, где стояла ничем не нарушаемая тишина. Перелетные птицы Кончалась, уходила за горы зима. Весеннее солнце буйствовало в маленьком городке, ранним утром оно бросило такой яркий сноп лучей в щель откинутой занавески, что Виноградов с Ломоносовым, вскочив с постелей и прикрывшись чем попало, подбежали к окошку своей мансарды, чтобы открыть его настежь, это маленькое оконце, и дать доступ весеннему воздуху. И, открыв, оба остановились, пораженные солнцем, на котором быстро таял, исчезая на глазах и поднимаясь паром, последний снег с островерхих крыш, и такой освежающей чистотой горного воздуха, что они невольно зажмурились и вдохнули его всей глубиной легких. — Во, Михайло, весна-то! — сказал Виноградов, с наслаждением подставляя солнцу лицо. — Такого воздуха, почитай, и на Двине у нас не бьщает. Ишь, чистота, ишь, легкость какая! — отозвался Ломоносов, посматривая во все стороны. — Пойдем Густава будить! Они вытащили Густава из-под перины и поставили у окошка, прямо под яркое солнце. Густав щурился, хмурился и ворчал: ему хотелось спать. — Бросим его, Митрий, пусть спит, телячья дуща! Ломоносов слегка толкнул Рейзера обратно к кровати и, быстро одевшись, выбежал с Виноградовым на улицу. И горы и небо были чисты от облаков. Снега потемнели в расщелинах, и в утренней тишине было слышно журчанье ручейков, побежавших стремительно и весело с гор. — Не хочу сегодня Генкеля желудовый кофей распивать, а тем паче его физиономию видеть, понеже у меня от нее все нутро переворачивается, — сказал Ломоносов, роясь в своем кармане. — Пойдем, Митрий, за угол, в молочную! — Пойдем, Михайло, булочек купим, — согласился Виноградов. Но они вспомнили позорящее их запрещение, которое берграт Генкель приказал передать всем лавочникам: не давать им в долг, пересчитали наличные капиталы и увидели, что их слишком мало. Лицо Ломоносова помрачнело. — А нынче ночью Генкель опять играл. Я видел — злой-презлой сидит, как чорт. Значит, проигрался. И я тебе вот что скажу: узнал я доподлинно, что выпросил он себе от Академии нашей прибавку денежную — будто для нас. А от нас то скрыл. Ну, пойдем, все что-нибудь да получим. Виноградов всплеснул худыми руками: — Вот тебе и берграт, хитрая лиса! А нас голодом морит! Но они не успели повернуть за угол, как их догнал Рейзер и, узнав про очередное затруднение, предложил, как не раз бывало, свой кошелек, только что пополнившийся присылкой денег от отца. Так они и пировали в молочной, пока Ломоносов не встал из-за стола, сказав в раздумье: — Удручает меня Генкель. уперся, что козел, и не екзаменует. Еще бы: если уеду, так на двести золотых рублей меньше получать будет. — А ты уехать ранее срока накрепко решил? — быстро обернулся к нему Виноградов. — Как бы за это от Шумахера не досталось, — опасливо сказал Рейзер. Они шли втроем, держась под руки, прямо посредине улицы, залитой солнцем. Ломоносов долгим взглядом посмотрел перед собою в голубевшие просторы чистого горного горизонта. — Ну, Михайло, нынче каков ветер подул? — Виноградов толкнул Ломоносова в бок. — Ты всякий ветер распознать можешь. Этот откудова идет? — Эх ты, сухопутная душа! — ответил Михайло, продолжая вглядываться в облако, проплывавшее над остроконечными кровлями Фрейберга. — То ветер шелонник именуется, теплый ветер, южный. Он у нас льды в море гонит. Тянет меня, други мои, отсюда, и покоя здесь больше себе не нахожу. Во-он, глядите, — остановившись посредине улицы, указал он им на летящий высоко над их головами треугольник белоперых журавлей. — Какая их сила на родину гонит? Вот она же и меня зовет. И зовет, други мои, неудержимо. Ничего не ответил Виноградов, опустил голову и, дойдя до самого дома Генкеля, молча прошел впереди Михайлы и Рейзера в лабораторию, к своему рабочему столу. Сел за свой столик и Рейзер. Ломоносов уселся на скамейке, прямо под самым окошком, за которым виднелись горы. Господин берграт пришел с нахмуренным, изжелта-зеленым лицом. Он опустился в свое кресло и начал тягуче объяснять то, что уже не раз рассказывал. — Итак, на прошлой лекции, — медленно цедил Генкель слова, покачивая в такт ногой в мягкой войлочной туфле, — мы говорили, что обжигание неблагородных металлов отличается от обжигания металлов благородных... Там, за окном, все яснело, голубело, проливалось сверкающей капелью. И треугольник белоперых журавлей, наверно, уже летит далеко за рудниками — дальше, все дальше... — Ломоносов, чем отличаются металлы благородные при обжигании? Ответ о сем предмете едва ли вы увидите за окном! Ломоносов оторвался от окна и, не глядя на Генкеля, ответил: — Таковые металлы не поддаются действию огня. – А известно ли вам о том, чьими опытами установлено, что при обжигании огненная материя проходит через стенки сосуда и увеличивает вес окалины? Ломоносов взглянул на Генкеля и сурово сказал: — Осведомлен я не только о том, что опыты эти производились Робертом Бойлем, но и о том, что возможно иное разъяснение тому явлению. Ибо полагаю, что без прохождения внешнего воздуха вес сожженного металла останется в той же мере. А там, за окном, все сверкало, все струилось нежным журчанием, залитое солнечным блеском. И, может быть, где-то уже опустились белоперые журавли! — Мнение это есть ваше собственное? — Мое. — А я попрошу вас, во-первых, обращать ваше внимание во время моих лекций не на улицу, а на меня. И попрошу вас не излагать мне ваших собственных измышлений, а интересоваться моим изложением. — В том не усматриваю для себя более пользы, — ответил Ломоносов. Берграт смерил своего непокорного ученика надменным взглядом и произнес с насмешливой улыбкой: — Я принужден, молодой человек, вам повторить: о том, что вам полезно и что нет, суждение будете иметь не вы, а ваше академическое начальство и я. — А вас я уже два месяца прошу проверить мои знания по излагаемому вами предмету. А ныне на проверке этой вынужден настаивать. Но господин Генкель, захватив двумя пальцами щепоть табаку из табакерки, с новой усмешкой сказал: — С вашими желаниями, господин студент, я позволю себе не считаться. Тогда «господин студент» вышел из лаборатории и громко хлопнул дверью. Он сидел у себя в мансарде за новым письмом в Академию, в котором уже не в первый раз писал о неудовлетворительности курса занятий Генкеля. Но сегодня терпение его истощилось. Если бы можно было — он нынче же убежал бы из этого дома! Виноградова жалко... А на родине, на его родине, дуют теперь весенние ветры и полыхают тихим заревом долгие закаты. И вспомнилась вдруг отчетливо — до родинки на шее — Лизбет, которая ждет его в Марбурге и по воскресеньям аккуратно шлет ему письма. Лизбет... Нет, это потом, потом. Когда положение его окрепнет там, на родине, тогда он получит право выписать ее к себе. За маленьким окном мансарды, над островерхими крышами разгорался тихий закат. Рейзер и Митрий звали его обедать. Он не пошел, но когда Рейзер проходил в свою комнату, попросил у него немного денег. Закат догорал. Холодом веяло от чистого неба. Он не закончил письма в Академию, и тоска охватила его сердце: все, все показалось бесцельным. Он вышел из дому и скрылся за углом. Виноградов долго не мог дождаться его в этот вечер. Было уже очень поздно, когда господин берграт, заслышав стук открываемой двери, вышел на лестницу со свечой в руке. По ступенькам медленно и тяжело поднимался Ломоносов. Генкель посмотрел на него и покачал с возмущением головой: — Отлично! — сказал он язвительно. — Бы пьяны, господин студент? — Очень может быть! — ответил мрачно Ломоносов и, не посмотрев на господина берграта, прошел мимо. Веселые ручейки и ночью не умолкали. В чистом высоком небе слышались негромкие голоса перелетных птиц, возвращавшихся к себе на родину. «Благородная упрямка» На другой день они проснулись от грохота. Казалось, рушились за окном горы. В комнате было сумрачно, как вечером, но мгновенный блеск прорезал сумрак, после чего новый грохот торжествующей широкой волной прокатывался над крышей, замирая далеко в горах. — Гроза, Михайло, гляди-ко! — закричал Виноградов. Но Михайло уже стоял у окна, пристально глядя в проносившуюся тучу — в первую грозовую тучу весны. — Когда-нибудь я учиню експеримент, — промолвил он, Наконец, следя напряженным взглядом за молниями, полыхавшими то справа, то слева, то над самой крышей. — Какой експеримент? — Над електрической силой, коя есть в грозе. — Что ты, Михайло, окстись! Нешто такой експеримент кто ставил? — Ежели никто не ставил, так я тем паче поставлю, — ответил Ломоносов, высовываясь по пояс из окна. — А и упрям ты у меня! — засмеялся Виноградов, покрутив головой. Ломоносов оглянулся на него. — Это ко мне, брат, отцовская благородная упрямка по наследию перешла. Отец мой, Василий Дорофеич, от того, что задумал, до конца не отступал. Так и я от Генкеля не отступлю, покуда не назначит он мне екзамен. Он нас учением о солях четыре месяца мучил, едва управился. А на них и четырех недель много. Пусть спросит меня обо всем. Вот токмо не знаю: что бы такое с господином бергратом для той цели учинить? Но учинилось нечто нежданное для самого Ломоносова. Они все трое стояли в столовой в ожидании хозяина, чтобы сесть sa весьма скудный обед, состоявший, как обычно, из картофельного салата и киселя. Как-то в торжественный день подали им карпа, варенного в пиве, после чего Виноградов долго плевался. Наконец появился Генкель. В лице и походке господина берграта была некая торжественность, когда он подходил к своему креслу и из-под полуопущенных век бросил искоса взгляд в сторону Ломоносова, усевшись, он обернулся к нему и, усмехаясь одним уголком рта, промолвил: — Должен сообщить вам весьма немаловажное и весьма для вас приятное известие: из Академии вашей получено мною письмо, в котором сообщается, что ода ваша на победу русских войск над турками, присланная вами членам Российского собрания Академии вместе с «Письмом о правилах российского стихосложения», имела в Санкт-Петербурге отменный успех. Академик Штелин и адъюнкт Ададуров прислали о ней свои отзывы. Она имела, успех в Академии, а равно... — он остановился и, поджав губы, договорил: — а равно и при дворе. После обеда вы будете иметь удовольствие лично ознакомиться с той частью письма, которая посвящена этому предмету. Никто не ответил ему ни слова, и обед закончился в полном молчании. «Мы были очень удивлены, — так писал академик Штелин, — таким, еще не бывалым в русском языке размером стихов». Ломоносов пробегал эти слова с остановившимся дыханием. «Все читали ее, — писал дальше Штелин, — и удивлялись этому новому размеру...» «Нельзя не поздравить, — прибавлял адъюнкт Академии Ададуров, — господина студента со столь успешным началом на пути российского стихосложения». Виноградов торжествовал и, глядя на Михайлу восторженным взором, повторял: — Я говорил! Разве не говорил я тебе, Михайло, что доселе у нас никто так не писал, и теперь говорю, что будешь ты пиитом! — Михайло более склонностей имеет к точным наукам, — возразил ему Рейзер. — Михайло все может, — убежденно ответил Виноградов. — Пойдем, друга, погуляем, с девушками познакомимся! — предложил он, выглядывая в окно. — Вечер нынче больно хорош, после грозы-то... А когда они вернулись с гулянья, господин берграт, встретившись с Ломоносовым, объявил ему, что через два дня господину студенту надлежит сдать экзамен по пройденным у него предметам. — Подействовало письмецо-то! — сказал ему вслед Виноградов, входя в свою мансарду. — Еще бы: написали, что при дворе знают! Михайло по привычке молча потрепал его кудрявую голову. Разные люди — Итак, вы полагаете, что сможете убедить ученый мир в ваших столь смелых утверждениях? — сказал Генкель, посматривая на Ломоносова из-под полуопущенных век. — Я полагаю, что разум человеческий приводит с несомненностью и к более смелым утверждениям, нежели те, которые я вам изложил. Он стоял перед профессором, прямой и сильный, со спокойной уверенностью. движений, полный несокрушимой веры в свою правоту. И случайному слушателю могло бы показаться, что это он был старшим, а берграт, время от времени подносивший к носу щепоть табаку из табакерки, отвечал на вопросы Ломоносова. На самом деле было наоборот: берграт Генкель только что окончил экзаменовать его. Да, этот ученик знал основательно пробирное искусство, а химия была им давно сдана. Его невозможно было ни сбить с толку, ни поставить в тупик. Этот русский студент изложил Генкелю курс его лекций по рудному делу как бы в дополненном виде, присоединив к нему результаты своих собственных наблюдений, из которых было видно, что ни один день пребывания во Фрейберге не прошел для него без пользы. Но в расчеты Генкеля совсем не входило так быстро отпустить его от себя, уступив его настойчивому желанию. Закончив вопросы по курсу, он перешел к критике собственных соображений Ломоносова, высказанных им во время экзамена. — Происхождение металлов, — твердо сказал ученик, — вижу я с несомненностью в трясениях земли, которые, как я полагаю, следуют по волнообразной линии. Трясения, образуя трещины в земной коре, являют в них рудные жилы. — Та-ак, — протянул Генкель, не находя сразу решительных возражений. — Но о волнообразной линии, насколько мне известно, не говорил до сей поры ни один ученый Европы, — промолвил он наконец. — И все же мнения мои о том остаются неизменными, — ответил ученик. — Та-ак, — повторил еще раз Генкель. — Вы, насколько я вас понял, решаетесь даже рассуждать о строении шара земного? Ломоносов не обратил никакого внимания на иронию, явно звучавшую в этом вопросе. Генкель коснулся темы, особенно увлекавшей его за последнее время, и он ответил с горячим увлечением, видя перед собой уже не Генкеля, а только эту тему: — О том рассуждаю так, что строение земного шара весьма сложно и составлено не только из расплавленной массы, то-есть магмы, но имеет и твердую кору и пустоты. А размышляя о земных пластах, заключаю так, что по этим пластам возможность имеется установить возраст нашего шара земного. Возраст его определяется... — Полагаю со своей стороны, — перебил его Генкель, — что всякое рассуждение, не подтверждаемое зрением и осязанием, не может быть почитаемо за науку. Без единой минуты раздумья Ломоносов ответил: — А куда рукам и оку проникать возбраняет натура, туда достигать надлежит разумом, что, по моему убеждению, равно великим является. Наступила пауза. В полураскрытую створку окна долетал далекий рокот грозы, еще шумевшей в горах. Господин берграт подумал, что, пожалуй, следует на этом закончить испытание, но вспомнил еще одно брошенное вскользь замечание студента. — Ставлю вам на вид, молодой человек, — важно сказал Он, — что если желаете вы достигать в науке, то должны более держаться опыта, нежели измышлений своего воображения, с помощью которого вы рассуждаете столь смело о каменном угле, об янтаре и даже о дне морском. — Это есть самое горячее желание мое, — быстро ответил Ломоносов, — ибо наука движется опытом и разумом вместе, разум указует, опыт подтверждает его указания Что же до каменного угля, янтаря и морского дна, то считать можно утверждения мои вполне наглядно доказуемыми: ибо видел я самолично и в руки брал лежащие в песках ровной долины мелкие раковинки, подобные тем, что у нас на берегу моря находятся. И отсюда рассуждаю, что долина та была некогда морским дном. Янтарь же с несомненностью доказывает, что он не что иное есть, как застывшая смола лесная неведомых нам времен, ибо в янтаре нередко видны застывшие мельчайшие насекомые либо же части их. А что каменный уголь из торфяников народился, о том... — О том, молодой человек, вы расскажете в следующий раз, — снова перебил его берграт. — Вы можете считать, что экзамен ваш прошел вполне благополучно. Прерванный неожиданно в середине своей речи, Ломоносов сурово посмотрел на Генкеля. Пожав плечами, он потянулся к столу, чтобы взять свои тетради, когда Генкель спросил: — Как кажется мне, вы написали в Марбурге научную работу? Профессор Вольф извещал меня об этом. Чему же была посвящена ваша работа? — Вопросу о превращении твердого тела в жидкое, а название ее — «Образчик значения физики». — Очень хорошо, — сказал на это Генкель. — Следующая ваша работа будет написана во Фрейберге, а тему для нее я не замедлю вам дать в ближайшие дни. Ломоносов посмотрел на сухие пальцы Генкеля, отбивавшие дробь по ручке кресла. — В ближайшие дни, господин берграт, я намерение имею выехать из фрейберга на родину. — Вы отбудете на вашу родину по окончании занятий со мною. — Полагаю их уже оконченными. — А я полагаю иначе! — почти закричал Генкель. — Я и ученый совет Академии. — Ученый совет Академии о том суждение иметь не в состоянии, а вашей милости надлежит дать мне апробации. —Я вам их дам тогда, когда почту своевременным! — прокричал Генкель. Тогда Ломоносов повернулся к господину берграту спиной и по-русски ответил ему: — Плевать я хотел на ваши апробации, ежели кто полагает, что без них не вернусь я в отечество. И когда он вышел и дверь с треском захлопнулась за ним, господин берграт все еще сидел с табакеркой в руке и, наконец, пробормотал в недоумении: — Интересно бы знать, что он такое сказал на этом русском языке, которого никто не может понять! Яблони отцвели — Стало быть, нынче, Михайло? — Нынче, Митрий. — А куда же наперво? — Наперво в Лейпциг, где сейчас ярмарка. Отыскать хочу там прежнего Академии нашей президента, барона Кайзерлинга — он посланник наш российский. От него надежду имею получить хоть малую толику денег на дорогу, понеже кошелек мой почти вовсе пуст: господин берграт в выдаче отказал. — Начисто? — переспросил с ужасом Виноградов. — А ты как думал? — Эх, Михайло, Михайло!.. Вместе бы ехали. Все бы легче было. А то вот теперь: ты без меня, а я... без тебя. Голос его звучал тоскою, а глаза с унынием смотрели на черепичные кровли домиков, полускрытых деревьями. Он сидел на подоконнике мансарды, свесив ноги вниз. Было раннее майское yтpo, и яблони в маленьких садиках доцветали последним нежнобелым цветом. — Ты, Митрий, не тужи. Я, гляди, как в Академию вернусь, тотчас речь о тебе заведу, чтобы тебя вернули. — Мне фарфоровое дело дознать надо, прежде того возвращаться нельзя. — Старайся, друже мой, от других узнавать и в местах иных. На Генкеля никак не надейся. Он всякое и малое знание в такой тайне держит, что и на аркане не вытащишь. Ломоносов — длинный и тяжеловатый — уселся с ним рядом, заняв две трети подоконника, и, тоже свесив ноги вниз, обнял Виноградова одной рукой. Так сидели они некоторое время молча, поглядывая на узенькую улицу, на деревья в весеннем цвету и на горы в утренней легкой дымке. Накануне вечером Генкель, принимая Ломоносова в своем кабинете, сухо сказал, что, поскольку его дом не тюрьма, удерживать Ломоносова силой он ие может, но способствовать деньгами его самовольному отъезду решительно отказывается. — Эх, кабы у меня деньги были, Михайло, — горестно всплеснул руками Виноградов, — дал бы тебе на дорогу! — Ладно, не тужи. Как-нибудь доеду до Кайзерлинга. — А коли он откажет? — Не может того быть, — уверенно ответил Ломоносов. Этот день — последний день их общей жизни — они решили провести втроем, вне стен мрачного дома Генкеля. Погуляли по городскому саду, пообедали в дешевой корчме «Веселый рудокоп», где Ломоносов простился со своими приятелями, работавшими на рудниках, и где у каждого нашлось доброе слово ему на дорогу. После обеда бродили по городу, обходя все любимые места. Но были ли они в городском саду, в корчме или на улице Фрейберга, где в садиках осыпались яблони белым цветом, — им было грустно всем троим. Все трое почувствовали ясно в этот день, что кончена юность, что она прожита. Почтовая карета уходила вечером. Рейзер проводил Ломоносова до половины пути. И вот вдвоем с Виноградовым они подходили к почтовой станции. Там, за углом, протрубил первый рожок. Это значило, что пассажиры уже занимают места. Оба они, точно по уговору, остановились здесь, не желая прощаться на глазах у чужих. С первого дня поступления в Заиконоспасскую школу они почти не расставались. Они еще не могли освоиться с мыслью, что завтра уже не смогут увидать друг друга. Виноградов обхватил шею своего Михайлы и, не скрывая слез, горько всхлипывал. Ломоносов был бледен, горло ему сдавливал комок подступавших слез. Но он знал, что ему надлежало быть тверже и сильнее. Он крепко обнял Виноградова. — Кончай скорей, Митрий, здесь свое дело. А там заживем с тобой вместе на родине, вместе работать будем, вместе отдыхать. Такие дела учиним, что сейчас и сказать еще трудно! А для того мне надлежит времени не терять, чтоб и тебе было к чему воротиться. Ну, друг мой, не поминай лихом. Держись крепко, Митрий, слышишь меня? — Слышу, — ответил ему Виноградов, поднимая голову и глядя на него посветлевшими глазами. — И слышу, что опять затрубил рожок. Иди, Михайло! Они еще раз обнялись. Рожок еще не успел умолкнуть, а бодрость уже снова покинула Виноградова: он присел на ограду у края дороги и, обняв широкий ствол яблони, как только что обнимал шею Михайлы, прижался к нему лицом. Потом он поднял голову, услыхав голос Михаилы, кричавшего ему: «Митрий!» Карета ехала мимо него. Михайло стоял на подножке, держась одной рукой за дверцу, а другой махал ему и грозил пальцем: чтоб не тужил! Карета скрылась из глаз. Потом она показалась уже за поворотом, спускаясь по горной дороге. Ломоносов все еще стоял на подножке, высокий и сильный, размахивая студенческой треуголкой. Виноградов сидел неподвижно, глядя, не отрываясь, на все уменьшавшуюся карету. Теперь в ней нельзя было уже ничего различить. В обратный путь В Лейпциг приехали вечером. Массивные высокие здания то с куполообразными, то с островерхими крышами, поднимавшимися в небо, широкие окна из стекла, просторные и прямые, вдаль уходящие улицы с чугунным узором решеток – все после Марбурга и Фрейберга казалось в темноте особенно огромным, подавляя невиданными размерами. В тот же вечер Ломоносов разыскал дом, где жил русский посланник Кайзерлинг, но не решился явиться к нему в этот слишком поздний для приема час. Нужно было где-то переночевать и нужно было заплатить за ночлег. Состояние его кошелька заставляло сделать выбор: или ночлег, или завтра обед. Он подумал и отправился в маленькую гостиницу у самого въезда в город. О завтрашнем дне можно будет решить завтра. Он долго стоял у открытого окна отведенного ему чердачка, прислушиваясь к смутному гулу большого города, который и в этот поздний час продолжал жить и двигаться и был полон огней, голосов, и стука экипажей, и негромких звуков доносившейся откуда-то музыки. Дважды прошелся он мимо великолепной решетки, прежде чем отважился постучать в дверь молотком. Он только теперь понял, что не легко ему будет объяснить господину Кайзерлингу причины своих размолвок с Генкелем. Но все равно, он должен рассказать все начистоту, начиная от научных разногласий и кончая денежными затруднениями. И, приняв такое решение, Ломоносов уверенными шагами снова подошел к широкому подъезду и схватился за молоток, висевший на цепочке у двери. Лакей смерил его высокомерным взглядом и на вторичный вопрос процедил сквозь зубы: — Господин Кайзерлинг изволил уехать на бракосочетание его высочества принца. Сказан это, он повернулся, собираясь захлопнуть двери. Но Ломоносов так громко закричал: «Куда, куда?», что великолепный лакей на минуту задержался и ответил: — В Кассель, — и уже после этого дверь захлопнулась. Это было все, что он узнал. Жители города Лейпцига наталкивались на рослого молодого человека, который быстро проходил мимо витрин лейпцигской ярмарки, не обращая никакого внимания на разложенные товары. Он так задумался, что не слыхал, как его несколько раз окликнули. Наконец какой-то толстяк догнал его, запыхавшись, и поймал за рукав. Тогда он остановился и посмотрел на стоявшего перед ним толстяка. — Герр Мюллер! — закричал он радостно. — Вот уж поистине подарок судьбы, что я вас встретил! Герр Мюллер очень весело улыбнулся и спросил, как идут дела. Узнав, что они идут в данный момент весьма и весьма неважно, он оглядел повнимательней фигуру и лицо студента и тогда только заметил, что стоящий перед ним молодой ученик господина Вольфа имеет совсем другой вид, нежели в те дни, когда бывал столь частым посетителем его марбургского кабачка. Герр Мюллер бывал на каждой ярмарке и в Лейпциге и в других городах, где люди его профессии зашибали в эти дни большую деньгу. Не было ничего удивительного в том, что он предложил своему прежнему посетителю, оставившему не одну монету в его кассе, выпить по кружечке черного пива в ближайшей ресторации. Эта встреча показалась Ломоносову просто чудом. Мюллеру было легче, чем кому-нибудь другому, оказать ему помощь, и у него не было зазорно попросить взаймы на дорогу. И Мюллер, памятуя о том, что в Марбурге этот студент был хорошо обеспечен, охотно согласился ссудить его небольшой суммой. Узнав, что Ломоносову нужен барон Кайзерлинг, уехавший в Кассель, куда отправлялся и он сам на торжество бракосочетания принца Фридриха, Мюллер предложил Ломоносову быть его попутчиком. В тот же день выехали они из Лейпцига в Кассель. Там, с помощью Мюллера, Ломоносов в первое же утро узнал адрес отеля, в котором остановился барон Кайзерлинг, и, отказавшись от предложенного Мюллером завтрака, побежал по этому адресу. Когда он торопливо подходил к лучшему во всем городе отелю, он еще издали заметил около него скопление экипажей. Сверкающая стеклами карета подкатила к подъезду. Соскочивший с запяток ливрейный лакей бросился откидывать каретную ступеньку. На ступеньку опустилась нога в парчовой туфле, в шелковом чулке, а потом показалась вся фигура напудренного кавалера в кафтане из малиновой парчи. Два лакея, стоявшие у подъезда, бросились ему навстречу. — Кто такой? — спросил Ломоносов у лакея, поправлявшего измятые подушки в карете. Тот посмотрел на Ломоносова, не понимая. — Чья это карета? — повторил Ломоносов. — Господина барона фон Кайзерлинга, — ответил лакей, с усмешкой глядя на запыленного провинциала. — Фон Кайзерлинга?! — вскричал радостно «провинциал». — Какая удача! Он быстро вбежал в подъезд и попросил доложить господину барону фон Кайзерлингу, что его желает видеть студент Санкт-Петербургской Академии наук. Лакей скоро вернулся и сухо сообщил ему, что господин барон будет принимать посетителей только в следующем месяце. — Прошу вас, сударь, — сказал лакей и распахнул перед ним дверь на улицу. С этой минуты Ломоносов начал чувствовать себя ладьей, оторвавшейся от причала, как это случалось в непогоду у них на Двине. И, как ладья в водном смерче, закружился он в водовороте чужих городов и равнодушных людей. Последним знакомым лицом было лицо Мюллера, но Мюллер не мог дать ему никакого совета. Он молча выслушал, прихлебывая пиво, решение Ломоносова отправиться в Петербург через Голландию, дабы там, в Гааге, получить помощь и покровительство посланника российского графа Головкина. Человеку, имеющему право ожидать покровительства — шутка сказать! — российского посланника, можно было предоставить некоторый кредит. И потому, прощаясь с Ломоносовым, Мюллер весьма любезно сообщил, что в случае крайней необходимости он может надеяться на его помощь. Когда ушел и он, в последний раз пожав ему руку, Ломоносова охватило ощущение полного одиночества. Неудачи Дом российского посланника в Гааге был известен каждому. Он подошел к этому дому с последней надеждой, с бьющимся сердцем и совершенно пустым карманом. В большом зале с открытыми окнами, выходившими на тихий канал, Ломоносова принял чопорный секретарь. Секретарь не провел его, как он того ожидал, прямо к своему патрону, но предложил изложить свою просьбу тут же на бумаге. Когда, покончив с этой бумагой, Ломоносов вручил ее секретарю и секретарь удалился во внутренние апартаменты, откуда гулко донесся замирающий звук его шагов, Ломоносов подошел к открытому окну. Тихо голубел перед ним канал. Свешиваясь с гранитной набережной, ивы купали в нем свои тонкие ветви. Был какой-то праздник, и в утренней тишине мягко звучал орган, должно быть щз ближней кирки на той стороне канала. За ним раздались, приближаясь, шаги. Чопорный секретарь с отменной вежливостью передал ему ответ посланника: господин посланник, к своему большому сожалению, ничем не может быть ему полезен, ибо господин посланник не почитает для себя удобным вмешиваться во взаимоотношения студента Ломоносова с Российской Академией наук. В тот день он продал в маленькой лавочке на берегу канала, неподалеку от дома российского посланника, свой парадный кафтан и, пообедав молоком и сыром, выехал в Амстердам — в город, где некогда жил царь Петр. У корабельного причала, как только Ломоносов сошел на берег, чья-то рука опустилась на его плечо, и громкий голос сказал, сильно окая, на чистейшем языке его родины: — Да нешто я мог обознаться? Михайло Васильевич, как есть он самый! Это было такой радостью! Среди людей, которым не было до него никакого дела, в далекой от родины стране услыхать родную речь, от звуков которой повеяло на него далеким детством! Это были два архангельских купца, с которыми он вел отцовские дела в последний год жизни дома. Через час они сидели втроем за чистым столом маленького голландского кабачка, и два крепких бородача не успевали отвечать на жадные расспросы Ломоносова. Ему хотелось узнать сразу обо всем: и о жизни в Архангельске, и о новых его постройках, и о том, какие корабли и с каким товаром заходят теперь в его порт, и больше всего — о жизни и без того угнетенного народа и страны, отданной правительницей Анной Иоанновной в жадные руки своего фаворита Бирона. Он узнал мало хорошего. Порадовали лишь вести о растущем порте Архангельском да о том, что жив еще кое-кто из стариков. Вести о жизни народа были печальны, и не было уголка в стране, где люди не стонали бы от тяжелого гнета Бирона и хлынувших в Россию иноземцев. Расставаясь с Ломоносовым уже вечером, когда молодой весенний месяц бросал мягкий свет на острые шпили и крыши домов и в темную воду каналов, оба земляка обняли его на прощанье, повторив настойчиво еще раз: — Так мотри, Михайло Васильевич: без наказа от начальства твоего в Петербург не ворочайся. Там порядок ноне такой пошел строгий, что посильнее тебя пропадают ни за грош, а жаловаться некому. Так сказал старший земляк, повидавший немало на веку своем. Другой добавил, предостерегающе погрозив пальцем: — Не делай того, Михайло Васильевич. Воротись к немцам до времени и жди, покуда получишь наказ. А то и через границу, гляди, не пропустят, и попадешь неведомо куда. Значит, обратно ведет его дорога. И вдруг до боли захотелось ему встретить ласковый взгляд поджидавшей его Лизбет. И увидеть опять старый университет и войти опять в лабораторию Вольфа! Он устал от скитаний. Устал от напрасных хлопот, от равнодушия чужих людей. Если бы можно было хоть немного отогреть свою душу, хоть немного, совсем немного передохнуть! Он решил итти в Марбург. Гусар короля Фридриха Это было уже на прусской земле, на одном из постоялых дворов, куда подходил он, еле передвигая ноги от усталости. Он почти ничего не ел в тот день, чтобы сберечь последние монеты в кармане, и в этот день он встретился с человеком, которого узнал, по свойственной ему памяти на лица, с первой же минуты, и с первой же минуты понял, что и его узнали. Потому что молодой прусский офицер, посмотрев на него, покрутил сначала свой левый ус, потом правый, как. это делал на марбургской станции у Валлера, и, откинувшись на стуле, громко воскликнул: — А, господин студент! Мой старый знакомый! Я вас сразу узнал. Вот мы и встретились! Он оглядел Ломоносова с головы до ног, начиная с изрядно потрепанной шляпы, кончая пыльными башмаками, и с довольным видом расхохотался. — Ну что, как видно, науки плохо служат вам? Нечего и спрашивать о том, как идут ваши дела. Для этого достаточно посмотреть на вас. Ну-ка, подсаживайтесь ко мне. Закончив свою тираду, он придвинул Ломоносову стул и подмигнул парню, прислуживавшему за столом. Когда Ломоносов опустился на стул, сняв и положив около себя дорожный мешок, он почувствовал вдруг, что ноги его не могут больше двигаться. Чтобы итти дальше, нужно было здесь дать себе передышку. — Не в науках тут дело, — ответил он с легкой усмешкой, — науки и я друг друга не обижаем. А вот с людьми, по правде сказать, бывает всяко. — Видно, не только с людьми, но и с рейхсталерами, — смеясь, сказал прусский офицер. Ломоносов вынул кошелек и нерешительно раскрыл его. Офицер заглянул в кошелек: — Ого, на это не раскутишься! — Верно! — Ломоносов захлопнул кошелек и обернулся к расторопному парню, чтобы все-таки заказать чего-нибудь перекусить. Но тот уже бежал к нему с двойной порцией пива, горячих сосисок и румяных белых хлебцев. Только теперь Ломоносов почувствовал, как он голоден, решив, что все равно уж не миновать ему оставить здесь последние деньги, он потянулся за своим кошельком. Прусский офицер, придвигая ему хлеб, отвел руку с кошельком и любезно сказал: — Оставьте это, господин студент. Мы сосчитаемся с вами после. Здесь у меня постоянный кредит, а вы можете оказать мне услугу, за что я ставлю вперед кружечку доброго пивца. Ну, в этом напитке было что-то особенное! С первых же глотков в голове Ломоносова поднялся шум и звон. И сквозь шум и звон слушал он рассказ пруссака о великолепной жизни, которая ожидала бы его, если бы он согласился вступить в «Особый полк его величества». К концу ужина весь постоялый двор вместе с прусским офицером качался перед его глазами, как палуба на морском корабле. Но когда голова его уже клонилась на стол и он был во власти какого-то непреодолимого желания уснуть, офицер, встав, потряс его за плечо. — Ну, молодчик, вас сейчас отведут на кровать, а мне пора ехать. Но услугу, дорогой мой, маленькую услугу! Эти слова на минуту разогнали сон. — Услугу? — повторил Ломоносов безучастно. — Пожалуйста! — но тяжелая голова упорно клонилась. — Я везу форму моему брату, фигура его — в точности как ваша. Не откажите примерить, только чтоб разок посмотреть, — настойчиво повторял ему в ухо голос пруссака. Ломоносов тоже встал, ни о чем больше не спрашивая. Только померить форму для какогото брата, и после этого можно будет заснуть, хоть не на кровати, а вот на этом столе, если только можно будет положить на него стопудовую голову!.. Он хотел уйти куда-то, чтобы снять свое платье, вдруг показавшееся ему тяжелым и неудобным. Но его ноги подкашивались, а глаза против воли закрывались. Прусский офицер подхватил его под руку. — Не трудитесь, — сказал он, подставляя ему ногой табуретку, — здесь уже никого нет, кроме меня и моего денщика, а мы с Францем, чтоб вас не беспокоить, примерим вам мундирчик, пока вы сидите за столом. Помоги, Франц! Ломоносов покорно протянул руки, с которых стащили его кафтан и тотчас натянули другой. Но больше он уже ничего не помнил и не слыхал, как, переодевая его, прусский офицер тихо сказал Францу: — Подействовала травка-то. Подумать только! Такого сильного парня так быстро свалила с ног. Франц усмехнулся и помог своему командиру окончательно превратить странствующего русского студента в гусара прусской королевской армии. В крепости Где-то в темноте перекликались часовые. Еще не очнувшись от сна, он не мог понять, зачем нужны часовые на постоялом дворе. И еще удивительней: он явственно услышал горниста, трубившего зорю, и стук тяжелых солдатских башмаков, отбивавших ровный шаг где-то совсем близко от кровати. И, наконец, чей-то громкий окрик: «Halt!» Ломоносов открыл глаза и хотел вытянуть руку... руки были крепко связаны толстой веревкой. Он быстро спустил ноги с кровати и огляделся. Тусклый фонарь освещал сводчатую комнату с портретом короля фридриха на голой оштукатуренной стене. Он сделал шаг к окошку и увидал, что оно с решеткой. Никогда еще не испытанное чувство утраченной свободы сжало ему грудь. Он подошел к массивной двери, обшитой ржавым железом, и крикнул. Никто не отозвался. Он ударил в дверь ногой и прислушался к гулкому эхо. Ударил еще раз и еще... Загремел засов, в приоткрытую дверь он увидал темный коридор с горевшим в конце фонарем, а на пороге, преграждая ему выход, стоял часовой. — Где я? Что это за место? — спросил его Ломоносов, белея от гнева. — Крепость Везель его величества, — сказал часовой. — Крепость Везель! — повторил он, еще не понимая, что произошло. — А на какого дьявола нужна мне эта крепость? Как я сюда попал? — Потише, потише, камрад, — ответил часовой, прикрывая дверь еще на вершок, так что оставалась только узкая щель. — Попал, как все попадают. Завербован в доблестную прусскую армию, в гусарский полк, вот и все. Ломоносов посмотрел на себя и только тут заметил, что на нем полная прусская форма и на шее у него... да, у него на шее повязан красный шарф королевского гусара! Новобранец скрипнул зубами от бешенства. Но он быстро овладел собой и, протянув часовому своя связанные руки, потребовал, чтобы их развязали. — Без разрешения начальства нельзя, — ответил часовой. — Тогда позови ко мне это начальство или отведи меня к нему. Понял? — сказал Ломоносов столь внушительно, что часовой только молча захлопнул дверь. Вновь завербованный рекрут не сделал попыток к сопротивлению и дал подписку в том, что судьбой своей доволен. Ему сказали, что хотя он и не будет помещен на вольных квартирах, как другие рекруты, а останется в крепости, но из каземата освобождается и получает назначение состоять до времени в караульне, где должен жить вместе с часовыми. Оставшись один, он поднял освобожденные от веревок руки и сделал ими несколько движений, напрягая мускулы. Ничего, в них было достаточно силы. Пожалуй, можно быть уверенным, что силы хватит. За окном шумел весенний дождик, и в тихом воздухе отчетливо перекликались голоса часовых. На следующую ночь его перевели в караульню. Они маршировали. Маршировали от зари до зари, отбивая шаг сотнями ног с отупляющей точностью. За еле заметное уклонение от того ритма, с которым при маршировке поднимались ноги, грозило телесное наказание. За плохо вычищенную пуговицу кулак офицера бил по зубам виновного. Полк с бешеным усердием готовился к маневрам и к параду, происходившим обычно в присутствии прусского короля, перед которым дрожали все, вплоть до генералов. Новый рекрут также отбивал шаг и в такт со всеми вздергивал ногой: королевские гусары обязаны были маршировать наравне с пехотинцами. Но на второй день с ним случилось досадное происшествие: во время строевого учения он подвернул ногу и не мог на нее наступать. Офицер выругался и заподозрил симуляцию, поскольку на ноге не было ни опухоли, ни раны. Но когда новый рекрут попросил разрешения сопутствовать конному разъезду, осматривающему перед маневрами расположение окружающей крепость фортификации, добавив, что может нарисовать даже ее план, офицер велел ему взять лошадь и присоединиться к разъезду: рисовать в полку не умел никто. В тот же вечер новый рекрут подал набросок сделанного им плана, который начальство не могло не одобрить. С тех пор он часто сопутствовал офицерам в разъездах, внимательно всматриваясь в окружающие крепость рвы, и подал ряд весьма дельных советов о способах наполнения рвов водою из ближней реки и об устройстве шлюзов на манер голландских. Однажды вечером, после особенно трудного дня, когда часовые, выкурив с разрешения начальства по трубочке, пришли, наконец, в караульню, новый рекрут уже крепко спал. Один из часовых собирался попросить у него табаку на затяжку. «Эй, Ломонософф!» — крикнул он над ухом спящего. Но так как ответа не было, он сам пошарил у него в кармане, не нашел там никаких следов табака, громко выругался и, растянувшись, немедленно заснул. На рассвете его разбудил дежурный офицер, делавший обычный обход. Офицер толкал его в плечо и что-то кричал ругаясь. Караульный вскочил на ноги. — Где новый? — кричал офицер, указывая на пустую койку. — Не могу знать, — дрожа, ответил караульный. — Не можешь знать? — в бешенстве повторил офицер, схватив его за воротник. — А это ты можешь знать? — звонкая пощечина прозвучала в притихшей, как перед грозой, караульне. Через мгновение заметались люди, послышались крики, отрывистые приказания, ржание лошадей, быстро выводимых из конюшни, и, наконец, после тревожных звуков рога выстрел из пушки возвестил населению и местным властям о том, что совершился побег и что за беглецом уже мчится погоня. А в эту минуту за семь километров от крепости, в лесу, проходившем по границе Вестфалии и Пруссии, упал лицом прямо в траву какой-то до последней степени измученный человек. Его одежда была совершенно мокрая и прилипала к телу, ушибленная рука посинела и вспухла, а из ноги сочилась по каплям кровь. Он лежал неподвижно и тяжело дышал, но лицо его, покрытое потом, сияло от счастья, которому он не решался поверить. Он еще боялся сказать самому себе, что все это правда, что он в самом деле переплыл крепостные рвы, прополз, не замеченный часовыми, через два крутых вала, перелез через ограду, утыканную железными остриями, и, как зверь от собак, с сердцем, готовым разорваться, пробежал семь километров, чтобы упасть, наконец, задыхаясь, на эту землю. Спасибо матушке Двине! Она приучила его плавать по водам и более бурным. Он услыхал отдаленный пушечный выстрел, понял его смысл и прижался плотнее к земле, делавшей его свободным, потому что это была уже земля Вестфалии! Разные возможности Руки Лизбет быстро мелькали над вязаньем. Она пересела к окну от общего стола и хотя не принимала участия в беседе, но вслушивалась в каждое слово. Престарелый кузен фрау Цильх — дядя из Ганновера — уже почти неделю гостил у них в доме. В первый день его неожиданного появления фрау Цильх чуть не упала в обморок. Но не от восторга, нет, а от страха перед неизбежными расходами. Гость, да еще живущий в доме, — явление необычайное, нарушающее весь хозяйственный бюджет и размеры порций, установленные раз навсегда. Но когда в тот же вечер дядя Якоб вручил ей вполне приличную сумму на расходы, она так повеселела, что приказала Лизбет сделать яблочное пирожное — апфелькухен — к воскресному кофе. А когда за воскресным кофе гость сообщил, что сюда заедет за ним его сын, фрау Цильх снова пришла в волнение: дом не был рассчитан на приезжих! Но Лизбет мгновенно вышла из затруднения: она сказала, что предоставит гостям свою комнату и перейдет в пустующий флигелек, где прежде жил ученик доктора Вольфа. Фрау Цильх успокоилась и сказала Лизбет, что, пожалуй, следовало бы опять сделать апфелькухен по случаю приезда Вилли. И вот сегодня, к ночи, он должен явиться с последним дилижансом. Дядя Якоб, допивая послеобеденный кофе, в сотый раз начинал пространно и подробно описывать фрау Цильх, как у них дома, в Ганновере, ведется хозяйство. Плохо оно ведется теперь — с тех пор, как он овдовел. Вилли вместе с ним является владельцем маленького магазинчика, торгующего чулками и шарфами на углу большой площади. Но торговля торговлей, а в доме настоящего порядка нет. Нужна хозяйка. Вилли нужна жена. Лизбет сложила свое вязанье, потому что стало уже темно. Она взяла ключ от пустующего флигелька и решила приготовить себе там ночлег. Когда шаги ее смолкли на дорожке под окном, дядя Якоб придвинул свой стул к креслу фрау Цильх и сказал: — А не отдашь ли ты, Эрна, к нам в Ганновер Лизбет? Вилли еще никого себе не приметил, а Лизбет вполне подошла бы. Я уж к ней присмотрелся: девушка скромная, как и быть надо. Дом вести сумеет. Хорошо бы теперь же и сладить дело, а? Фрау Цильх внимательно разглядывала свою собственную скатерть, как будто видела ее в первый раз. — Я поговорю с Лизбет, — сказала она наконец. Ох, сколько же времени он всего этого не видал! Полгода, год, десять лет? Кажется, что очень, очень долго! А город все такой же, со своими старыми липами на узеньких улочках, с медленным боем часов па ратуше, со старинными воротами университетского здания, — тихий и малолюдный, памятный ему Марбург! Хорошо, что час уже поздний и на слабо освещенных улицах почти нет прохожих. А то на кото он похож! Счастье великое, что свои рукописи он оставил на хранение Виноградову! Но какая ночь теплая! Было начало июня, и липы раскрывали в палисадниках свои бледнозеленые соцветия, наполнявшие воздух свежим благоуханием. Ночь была такой теплой, что фрау Цильх, направляясь к флигельку, где Лизбет только что зажгла свечу, решила открыть в нем все окна, дабы хорошенько проветрить: все-таки здесь не топили всю зиму. Лизбет уже собиралась раздеться, когда фрау Цильх заглянула к ней в комнату. — Ты знаешь, — сказала фрау Цильх, входя, — дилижанс опять опаздывает; бог их знает, эти дилижансы, они всегда опаздывают! И я решила лечь. Дядя Якоб сказал, что он сам встретит Вилли. Но ты не должна опоздать с утренним кофе. И можно подать к завтраку на тарелочках по порции картофель-салата. Ведь ты помнишь Вилли? Лизбет пожала круглым плечом. — Мы виделись, когда мне было четырнадцать лет. — О, теперь он уже вполне бравый мужчина! Я уверена, Лизбет, что он вполне бравый мужчина. Так говорит о нем дядя Якоб, а ты знаешь, что дядя Якоб не говорит ничего зря. И ты знаешь, Лизбет, о чем еще говорит дядя Якоб? Лизбет вторично пожала плечом. : — Он говорит, — продолжала фрау Цильх, присаживаясь на край деревянной кровати, — что ты прекрасно вела бы их дом в Ганновере, если бы стала женой Вилли. Я тоже думаю, что ты отлично вела бы их дом. Что ты скажешь на это, Лизбет? Представь себе, дядя Якоб говорит, что с осени они будут торговать уже не только чулками, но и фуфайками. Ну, что ты скажешь на все это, Лизбет? Лизбет не спеша отвязала бант от своей косы и сказала: — Но вы же знаете, муттер, что лучший ученик нашего знаменитого профессора... — Прекрасно знаю, — перебила ее фрау Цильх, — но этот лучший ученик наделал здесь столько долгов, что фрау Пуффер после его отъезда ставила припарки герр Пуфферу, у которого заболела печень! Нет, нет... Эти русские — самый странный народ, и нам всем было бы гораздо покойнее около Вилли и дяди Якоба, у которых с осени будут теплые фуфайки. — Но мой жених получает пенсион из Санкт-Петербурга, а Санкт-Петербург в десять раз больше Ганновера и в сто раз богаче! И сам профессор... — Сам профессор! Санкт-Петербург! — перебила свою дочь фрау Цильх. — фрау Пуффер говорила мне, что твой великолепный Санкт-Петербург только на прошлой неделе вернул господину Вольфу те деньги, которыми он расплатился, бедняжка, за долги этих трех русских. — Но герр Ломонософф, — возразила стойко Лизбет, — может сам стать профессором! — Профессором? — гневно фыркнула фрау Цильх. — Когда-то еще он им станет! Я слышала, что во Фрейберг твой Санкт-Петербург посылает им уже гораздо меньше, и они живут там, как обыкновенные бедные ученики. Его даже видали на руднике с простыми рабочими! Нет, нет, Лизбет, — закончила она решительно, — тебе пора подумать о своей судьбе, потому что тебе уже не шестнадцать лет и даже не двадцать, а Ганновер гораздо ближе, чем Санкт-Петербург, и Вилли дяди Якоба — это наш Вилли, не говоря уже о выгодах торговли чулками и фуфайками. Фрау Цильх встала и направилась к двери. — Нужно будет, пожалуй, завтра сделать всем по маленькой швейнкотлете и нужно будет завтра же сказать Вилли, что мы согласны. Тут не может быть двух мнений: мне теперь все ясно, и я иду спать. Возвращаясь от Лизбет в состоянии такого умственного просветления, фрау Цильх услыхала стук калитки и громкий голос дяди Якоба: — Эрна, Лизбет! Он приехал! Мой Вилли уже здесь! Рядом с дядей Якобом, держа обширный саквояж в одной руке и дорожную шляпу с перышком — в другой, стоял под лунным светом весьма тучный молодой человек и вытирал платком свой мощный загривок. — Лизбет! — на весь палисадник закричала фрау Цильх. — Иди сюда! Лизбет снова вплела бант в свою косу и послушно явилась на зов матери. Потом, побрякивая ключами, она провела гостя в свою комнату, отведенную теперь для ее дяди и кузена. После этого она пожелала покойной ночи тучному молодому человеку, в котором совсем не могла признать шумного и быстроногого мальчика с громким голосом и веснушками на носу. — Ты, я надеюсь, сейчас сыт, Вилли, и не умрешь до утреннего завтрака, — сказал вошедший вслед за ними дядя Якоб, явно гордясь сыном. Вилли засмеялся и хлопнул отца по плечу: — О да, старик, но вот если Лизбет поднесет мне чего-нибудь для утоления жажды, я не откажусь. Фрау Цильх захлопотала: — Лизбет, там на леднике пиво и яблочный квас. — Вот это великолепно! — сказал Вилли, окидывая любопытным взглядом всю крепкую фигуру Лизбет. — Давайте мне и того и другого, кузина... И когда, подав ему и того и другого, Лизбет пошла к себе, Вилли внимательно посмотрел ей вслед и потом молча обернулся к отцу. Дядя Якоб понял и утвердительно кивнул головой. И фрау Цильх, и дядя Якоб, и Вилли закончили этот день в наилучшем состоянии духа. Вилли перед сном подошел к окошку и, взглянув на ясное небо, сказал, расстегивая воротник рубашки: — Луна зажаривает вовсю!.. А плечи у нее хорошие! Дядя Якоб ни минуты не сомневался в том, что сын имеет в виду вовсе не луну. Поэтому он только коротко ответил: — Главное, Вилли, хозяйка хорошая. Лизбет стояла у окошка в глубоком раздумье. Со свойственным ей практическим складом мышления она думала о всех «pro» и «contra» — «за» и «против» — того и другого положения по очереди, мысленно, как в счетах, кладя на одну сторону «за» и на другую «против». Ссора с семьей — это, несомненно, «contra». Наружность Ломоносова — «pro». Отсутствие его в течение уже долгого времени — «contra», чулки и фуфайки — «pro». Но будущая карьера лучшего ученика знаменитого профессора тоже «pro», и жизнь в российской столице или даже здесь, если он останется в Германии... Но долги, о которых говорили в Марбурге, несомненно, «contra»... Но и тучная фигура Вилли тоже «contra», и рыжие брови на веснушчатом лице... Здесь Лизбет окончательно спуталась и решила задернуть занавеску и лечь. В эту минуту ей показалось, что кто-то перелез через изгородь их палисадника в том месте, где перелезали бывало для скорости русские студенты. Лизбет очень удивилась и, будучи девушкой весьма храброй, решила посмотреть с крылечка, что бы это значило. Но не успела она закрыть за собой дверь, как была кем-то схвачена и крепко прижата к груди, и прежде чем она увидела, кто это, она уже знала, что это был герр Михаэль Ломонософф, и все «pro» и все «contra» померкли перед его реальным появлением. Лизбет проявляет силу характера Проснувшись среди ночи, фрау Цильх была очень удивлена, увидав так поздно горевшую свечу во флигелечке у Лизбет. Впрочем, она поняла, что в эту ночь ее дочери есть о чем подумать и что, бог милостив, сегодня же утром со всеми ее сомнениями будет покончено. Но утром Лизбет не пришла на кухню в обычный час для приготовления кофе, фрау Цильх сообщила своим гостям, что дочь ее почти всю ночь не спала и до зари не гасила свет. Наконец они решили приступить к кофе без Лизбет и без апфелькухен. фрау Цильх послала Иоганна постучать в окошко флигелька. Иоганн вернулся с известием о том, что на его стук не было никакого ответа. Вилли и дядя Якоб просили не беспокоить бедную девушку и дать ей отдохнуть. И вдруг она неожиданно появилась в своем самом нарядном голубом платье в оборках, с ярким бантом в волосах. Этот нарядный вид Лизбет чрезвычайно порадовал фрау Цильх: он говорил с полной ясностью о том, что Лизбет хотела понравиться Вилли и что, следовательно, Вилли ей далеко не безразличен. — Ну, сегодня твоя дочь, Эрна, свежа и нарядна, как пион, — громко возгласил дядя Якоб, стараясь сказать что-нибудь покрасивее. — А какой сегодня праздник? — спросил юный Иоганн, посматривая на Лизбет. — Ведь ты надеваешь это платье только по праздникам. Тут дядя Якоб решил смело подойти к делу и, толкнув под столом Вилли, сказал: — Сегодняшний день действительно может стать праздником для всех нас. Он может стать очень веселым днем, если только твоя сестра, мальчик, скажет одно словечко, а это словечко — «да». — Лизбет! — обратился к ней Иоганн, очень любивший праздничные дни и праздничное печенье. — Что же ты не говоришь «да»? Скажи скорей! Все засмеялись. Вилли решил, что пора выступить и ему, раз уж так неожиданно, с самого утра, произошло объяснение, к которому он предполагал приступить в послеобеденный час, особенно располагавший и ко сну и к сердечным излияниям. — Тетушка Эрна! — сказал он, не глядя на Лизбет. — Вы знаете меня с детства — я хотел сказать, с моего детства. И я знаю вас тоже с детства. Мой отец знает вашу Лизбет тоже с детства, с ее детства. Вы знаете наши дела в Ганновере и знаете о наших чулках, которые уже несколько лет продаются на Аугсбургерштрассе, дом двадцать семь. С этой осени в витрине нашего магазина вы сможете увидеть не только чулки, но и теплые фуфайки... Здесь Вилли остановился и, надув щеки, сказал: — Уф! — Потом, набрав воздуха в свою широкую грудь, он, все еще не глядя на Лизбет, закончил: — Поэтому, тетушка Эрна, мы с моим стариком думаем, что у вас не будет никаких возражений против того, чтобы ваша Лизбет стала нашей Лизбет, а наш дом стал бы ее домом. Мы с моим стариком полагаем, что и у Лизбет тоже не будет никаких возражений на этот счет. И только тут он взглянул на Лизбет. фрау Цильх тоже посмотрела с торжеством на свою дочь и встала со своего места, готовясь обнять ее и своего будущего зятя. Лизбет чуть-чуть побледнела, потом чуть-чуть покраснела, потом оглянулась через плечо на палисадник с зацветающими липами и, комкая оборку своего платья, ответила всем сразу: — У меня есть только одно возражение: оно состоит... оно состоит в том, что я уже замужем. Если бы все чулки и фуфайки превратились в птиц и улетели с Аугсбургерштрассе, номер двадцать семь, дядя Якоб и Вилли не были бы поражены сильней. Чайная ложечка со звоном выпала из руки ошеломленной фрау Цильх. — Лизбет! Дочь моя! — наконец сказала она шопотом. — С которых же это пор? — С сегодняшнего утра, муттер, — храбро ответила Лизбет и, встав, скрылась за дверью, в то время как за столом еще длилось оцепенение. Через минуту она вернулась, но уже не одна. — Муттер! — сказала Лизбет, указывая на стоявшего рядом с ней Ломоносова. — Сегодня утром пастор Литке обвенчал нас. Непреодолимый зов В эти дни во всех садиках и на площадях Марбурга цвели старые и молодые липы; благоухающий воздух, нагретый солнцем, одновременно и успокаивал и сладко кружил голову. В эти дни Ломоносову казалось, что он нашел, наконец, пристанище, где сможет немного отдохнуть. Несмотря на гнев тещи, которая с ним не разговаривала, несмотря на тревогу Лизбет о его денежных делах, вернее, о полном отсутствии этих дел, несмотря на собственную тревогу о сроке своего возвращения в Россию, он засыпал бездумным сном детства, положив голову на плечо Лизбет, уже «Лизаветы Ломоносовой», как с удивлением повторял он самому себе. Но так всегда бывало: с первых минут покоя творческая мысль вспыхивала в нем с обновленной силой, и бурный поток планов, надежд, исканий заполнял его сознание, увлекая к рабочему столу или, если была такая счастливая возможность, — в лабораторию. Так и теперь, после первого же дня тишины и успокоения в городе, где в спорах и столкновениях окрепла его собственная научная мысль, Ломоносова охватила безудержная жажда работы. Не беда, что записи остались у Виноградова. Ломоносов быстро восстанавливал в памяти алгебраические формулы, приложимые к химии, и законы химических соединений, выраженные в алгебраических понятиях, считая, что введение математического принципа в точные науки необходимо каждому истинному ученому. Листы и листочки бумаги с записями этих формул скоро покрыли весь стол, и Лизбет с легкой гримаской каждый день перекладывала их. Она считала, что он мог бы эти дни посвятить исключительно ей, а не заниматься бесконечными буквами и цифрами, которые все на что-то делились и множились, нисколько не умножая его материальных ресурсов. В первое время своей марбургской жизни в доме фрау Цильх, все еще не желавшей мириться с ним как с зятем, он жил затворником, удрученный неопределенностью своего положения и полным отсутствием денег. И, как всегда, спасали опять наука и труд. Он усиленно занимался подведением итогов всего изученного в чужих краях. Приводя в порядок свои фрейбергские записи, высланные ему Виноградовым, он составил план большой работы по металлургии и начал статью о движении воздуха в рудниках. Наблюдая это явление во Фрейберге, он еще там составил проект нового устройства печей. Любимая мысль — о насаждении просвещения в отечестве — привела его к решению перевести на русский язык «Физику» Вольфа. И, начав первую главу, он почувствовал, что не может более противиться неудержимому желанию повидать своего учителя. Подходя в первый раз к его дому, Ломоносов с удивлением заметил, что широкое окно кабинета Вольфа задернуто шторой. — Господин профессор болен, — сказал ему незнакомый слуга, — а немедленно по выздоровлении уезжает в Галле. Ломоносов был поражен: «Вольф уезжает в Галле, откуда был изгнан «за свободомыслие»!» Он назвал свое имя и, опечаленный, пошел обратно. Но у калитки его догнали торопливые шаги: слуга сообщил, что господин профессор желает его видеть. Вольф уже поправлялся и лежал на диване, обложенный книгами и листами рукописей. При виде Ломоносова его слегка надменное лицо смягчилось приветливой улыбкой; жестом руки он указал гостю на кресло, выразив удовольствие увидеть еще раз своего любимого ученика перед возвращением в Пруссию. Позабыв о своей подагре, Вольф с неожиданным для самого себя оживлением слушал горячие речи своего беспокойного ученика и обширные планы научной работы на его суровой родине, куда тот неуклонно стремился и для которой начал переводить его «Физику», что было все-таки приятно. Ломоносов вернулся домой уже вечером. Лизбет напрасно прождала его к обеду. Узнав, что он провел весь день у Вольфа, Лизбет сказала: — Теперь я уверена, что герр профессор не откажется помочь своему лучшему ученику в ожидании выяснения его положения. Ломоносов ничего не ответил и молча перебирал листки своей рукописи. Нет, лучше перетерпеть всякую нужду и итти на поиски любой случайной работы, нежели просить денег у Вольфа! На Родину! Кончилась короткая марбургская зима. Под окнами домика фрау Цильх зеленела яркая трава. В этот день с утра Лизбет настойчиво уговаривала его пойти к Вольфу за небольшой суммой в долг. Те деньги, которые он получил за несколько случайных статей в марбургском университетском журнале, кончились. Фрау Цильх грозила решительным отказом в обедах. Она даже потребовала, чтобы два кресла, стоявшие во флигельке, были перенесены оттуда в ее комнату. Ибо кресла, обитые шелковой материей — хотя бы и самой простой, — существуют не для того, чтобы на них садиться: материя трется от сидения, а ее зять не в состоянии заплатить за новую обивку. И вот он опять пошел к Вольфу. Да, это было самым тяжелым и самым мучительным средством получения денег! Ни он, ни Вольф не говорили больше о его делах с Санкт-Петербургской Академией. Вечер, проведенный у Вольфа, живо интересовавшегося началом его уже вполне самостоятельной работы, где он высказывал мысли, весьма отличные от воззрений своего учителя, был ему дорог именно тем, что их беседа была посвящена только науке. Мягкий ветер шевелил подстриженные ветки в аккуратненьких палисадничках с каменными плитами дорожек. На подоконниках раскрытых окон проветривались перины — все имело мирный вид, но когда он увидал, как небольшой отряд пехотинцев промаршировал по улице, направляясь в казармы, он вспомнил о своем пребывании в прусской крепости. И снова встало перед ним, словно пробужденное, воспоминание о мощном дыхании весны над родными северными равнинами, над родной рекой. И будто ветер какой-то забытой свободы пахнул ему в душу, и она вздрогнула от острой тоски и от непреодолимого зова: вернуться! Он почувствовал огромное облегчение, когда оказалось, что два дня тому назад Вольф спешно выехал в Галле, оставив ему коротенькую прощальную записку. Но ему еще не хотелось возвращаться в домик фрау Цильх, и по старой привычке он пошел бродить по городу. Когда он шел домой, кое-где в окнах уже горели свечи. Лизбет не было в комнате. Она помогала фрпу Цильх по хозяйству. Сумерки долго не переходили в ночь. В их голубевшем свете увидал он на своем столе — рядом с алгебраиче ской формулой — большой конверт. В полумраке отчетливо выступала печать Санкт-Петербургской Де-Сьянс Академии. Он быстро зажег свечу и, вскрыв конверт, увидал подпись Шумахера под распоряжением о немедленном возвращении студента Ломоносова в Санкт-Петербург и сто рублей на первые траты по сборам в дорогу, российский посланник граф Головкин снабдит его далее всем необходимым и отправит через Амстердам морем в Санкт-Петербург. Итак, он наступил — конец жизни за морем. На родину, на родину! И как можно скорей! Лизбет первая заявила, что сейчас ей невозможно ехать с ним вместе. Он выпишет ее, когда его положение станет более определенным. В тот вечер Ломоносов до поздней ночи ходил взад и вперед по узенькой дорожке садика, и мелкий гравий поскрипывал под его тяжелыми, решительными шагами. Собиралась первая гроза. В маленьких домиках давно погасли огни. Серые белогривые тучи быстро неслись над городом. Закинув голову, он с напряженным вниманием следил за их стремительным полетом. Это дул влажный и свежий норд-вест, запевавший бывало в мачтах над его головой. И, вернувшись во флигелек фрау Цильх, где Лизбет сидела над своей любимой книгой, в которую записывала и расходы и получение денег от продажи овощей, он почувствовал, что глаза его мокры от слез, а сердце, несмотря на разлуку с Лизбет, захлестнуло волной огромного счастья. Он проснулся рано и, быстро одевшись, поднялся на палубу. Опять родной запах соленой морской воды пахнул ему в лицо, и он подставил морскому ветру и голову и грудь, вдыхая его словно всем существом. Его охватила великая радость жизни. Он поспешно спустился в каюту и раскрыл свой сундучок. Да, вот оно, то имущество, которое он вез с собой: две диссертации, отзыв и апробация Вольфа, план первой книги, начало статьи и первые главы перевода Вольфовой «Физики», и еще стихи, написанные новым размером, и отчеты о всех работах и о всех экзаменах, сданных профессорам. Да, теперь у него есть то, что он может дать другим! Это сознание делало его счастливым. Академия, как было обещано ему перед отъездом из Санкт-Петербурга, произведет его в профессоры, и он получит, наконец, возможность учить молодежь. Пройдет малое число лет, и Россия обогатится молодыми русскими учеными! И не было такого дела на родной земле, в которое не хотелось бы ему вложить свой собственный труд, свою мысль, свою душу, все свои силы. Медленно разбегалась и сходилась за кормою вода. Небо июньской белой ночи больше не темнело. Золотистый свет месяца бросал отсвет на мачты и на белые паруса. Родина была перед ним. Он был полон одним желанием: отдать все свои знания, все, что он получил, тому, кто его создал и чьей неотъемлемой частью он был по плоти и по духу, — своему народу. Часть четвертая Спустя четыре года В июньский вечер 1741 года в Санкт-Петербургский порт вошел большой корабль из Амстердама, и лодки тотчас окружили его, чтобы перевезти пассажиров в город. Лодочники кричали и ругались, отпихивая веслами встречные лодки, идущие от берега. Среди них две большие баржи обращали на себя общее внимание, а у иных даже вызывали веселый смех. Обе они были наполнены «забавами» недавно умершей императрицы Анны Иоанновны — карлицами, карлами и иноземными дурками. Пестро одетые, украшенные перьями, бантами и бумажными цветами, они имели растерянный и жалкий вид. Одни горько плакали, другие, ломая руки, с отчаянием смотрели на удалявшийся город, зная, что впереди у них нет ничего, кроме одиночества и нищеты. Карлики с горбами и без горбов, со старческими лицами, похожими на печеное яблоко, карлицы с огромными головами на крошечных телах и несчастные уроды, посылавшие улыбки, что-то кричавшие всем встречным, казались ожившими персонажами сказок, которыми пугают маленьких детей. Молодой человек в треуголке и в иноземном платье, пораженный, смотрел на это зрелище до тех пор, пока обе баржи не скрылись из глаз. Когда их уже не было видно, послышался всплеск и чей-то пронзительный крик. Сняв треуголку, молодой человек напряженно смотрел в ту сторону, откуда он донесся. И вот от лодки к лодке понеслась по реке весть, что это карлик покойной государыни бросился в воду, а кричала его карлица, — Стало быть, спасать нужно, коли человек в воду бросился! — взволнованно сказал молодой путешественник и начал торопливо снимать с себя кафтан. — Што ты, ваше благородие, нешто не слышишь, что кричат? — удержал его лодочник. — Карлика того уже давно под киль подтянуло, как камень пошел на дно. А и то сказать, карлы да еше дурки, — не спеша работая веслами, закончил он, — я чай, в ем и души-то нет. — А ты думай, что говоришь-то! — с сердцем сказал молодой человек. — Люди все одинаковы. И, отвернувшись, сурово сжав брови, стал в раздумье смотреть на воду. Но скоро внимание его начали привлекать выступавшие перед ним здания, купы деревьев за решетками, мосты и кое-где одетые яркой травою пологие берега Невы. Лицо его оживлялось, и, наконец, он вздохнул, словно отрываясь мысленно от повстречавшегося на его пути великого человеческого горя, и, указав рукой на большое здание, выложенное из серого камня и обведенное чугунным узором решетки, сказал с невольным восхищением: — Да, видать, тут за это время немало делов понаделали! Сколько понастроили! И не признать набережную-то! — А ты долго ли за морем-то был? — спросил перевозчик. — Четыре года, — ответил молодой человек и посмотрел на весла, лениво поднимавшиеся в руках перевозчика. — — — — — — Четыре года! — повторил тот. — А теперь куда ж тебя везть? В Академию наук. Слыхал? Как не слыхать! Это далече. Далече! — усмехнулся пассажир. — Давай-ка мне весла-то, я пошибче тебя гресть могу. Ой ли? — Лодочник с сомнением поглядел на его кафтан, плащ и треуголку. A вот увидишь, — сказал молодой человек и, переменившись с ним местами, сел на весла. Небольшая лодка легко заскользила по гладкой воде, над которой уже разливалась белая июньская ночь. В прозрачных голубых тенях выплывал перед ним город, возникая не то из воды, не то из воздуха. Вот и причал. Пассажир, быстро управляя веслами, подвел лодку и, расплатившись с перевозчиком, легко прыгнул на берег. — Ишь ты, ловкач какой гресть! — пробормотал лодочник, пересчитывая деньги. — Стало быть, за морем и нашему делу обучают. И, решив так, поплыл домой, потому что был уже поздний час. Во всей Академии темно, раскрыты, наверно для просушки стен, только окна конференцзала. И в кабинете Шумахера темнота. Незнакомый сторож открыл ему ворота. — Кто таков? — спросил он ворчливо. — Откудова такое в эдаку поздноту? — Из-за моря, — ответил Ломоносов. Сторож посторонился и уже мягче сказал: — Идите, ваше благородие. Велено к господину Минцу вас провесть. Минц протянул ему с важностью руку, но Ломоносов с искренним удовольствием приветствовал ученого секретаря. — Герр Шумахер по причине столь позднего часа не находится в состоянии принять вас незамедленно, — церемонно сказал секретарь. Ломоносов с удивлением заметил, что за годы его отсутствия господин Минц стал говорить по-русски не лучше, а хуже. «Леший их знает, как это они умудряются, живя в России, языка русского не разуметь!» — подумал он, отвечая Минцу молчаливым поклоном. Потом Минц, «незамедленно» перейдя на свой родной язык, благо приехавший из-за моря студент объяснялся теперь на нем не хуже его самого, сообщил господину «Ломонософф», что он должен отправиться с провожатым в дом Бонна, на 2-й линии Васильевского острова, где и будет жить у академического садовника Штурма и где он может иметь даже маленький ужин. Завтра же утром, после того как герр Шумахер откушает свой кофе, господину Ломоносову надлежит явиться в Академию, дабы представить полный отчет о своей жизни, о своих работах и их апробациях господину Шумахеру и господам профессорам. Ломоносов отказался от провожатого и, решив не садиться больше в лодку, пошел пешком на 2-ю линию. Дом Бонна ему понравился. Он был недалеко от меншиковского дворца и его огромного сада, окна дома были обращены к реке. Ломоносову отвели две комнатенки, почти без всякой мебели, но в одной из них стоял большой рабочий стол, на котором можно будет разложить в порядке рукописи и книги. И академический садовник — немец — показался ему вполне приличным, особенно после того, как румяная улыбающаяся фрау Штурм принесла своему новому жильцу яичницу на ужин. Покончив с ужином, он почувствовал страшную усталость и тотчас лег. Но заснуть не мог. Он долго лежал с открытыми глазами, глядя в окно, где переходила в утро короткая белая ночь, и думая о той новой жизни, которую начнет с завтрашнего же дня. Ему ясно рисовался план его собственных работ. Теперь у него есть знания, которые он может передать другим, и, наконец, начнется и самостоятельная научная работа ради просвещения отечества! Да, с завтрашнего, — нет, с сегодняшнего дня, уже заблестевшего восходящим солнцем над сумрачным зданием Де-Сьянс Академии! И, радуясь этому дню, он заснул. Академия Устройство при Академии наук гимназии и университета было продиктовано стремлением объединить все виды просвещения под единым началом высшей науки: дабы «одно здание с малыми убытками, тое же бы с великою пользою чинило, что в других государствах три разные собрания чинят». К тому времени, когда в списках Заиконоспасского училища, среди более двух сотен имен учеников, появилось имя Ломоносова, училище уже имело за собой полувековую историю. Из его приземистых стен вышло не одно поколение людей, получивших по тому времени изрядное образование, ибо хотя Заиконоспасское училище и было по существу богословским — оно давало своим питомцам не только знание латыни и древних авторов, но и первые основы истории, географии и этнографии родного края. И не только духовенство пополняло свои ряды его учениками, в них нуждались и на гражданских должностях. Преобладающее число из тех, кто не постригался в монахи и не принимал сана священника, составляла молодежь, шедшая после училища в ученики к знаменитому хирургу, поставленному Петром еще в 1707 году во главе московского госпиталя. Это был своего рода вольный медицинский факультет, откуда ученики уже разбредались по всей стране. Заиконоспасская школа не давала ученикам своим знания точных наук, которое было тогда еще только в зачатке, но, ставя в основу преподавания знание латинского языка, бывшего в то время международным научным языком, она знакомила бурсаков с образцами древней философии и поэзии и заставляла их изучать на практике искусство красноречия участием в публичных диспутах Академии. Кроме этого обязательного обучения, которым с великим упорством овладевал Ломоносов, были в Москве и иные источники знания. Приходили из Петербурга и «Ведомости Академические», издававшиеся с 1728 года, и «Комментарии». Неподалеку от Заиконоспасской школы помещалась знаменитая Киприяновская библиотека, где можно было найти не только Аристотеля и Платона, но и книги по математике и астрономии и даже таблицы логарифмов. И, наконец, сама Москва с ее многоликим и многочисленным населением была живой книгой русской истории для тех, кто умел ее читать. Но развитие культурных потребностей народных и его экономики все сильнее требовало развития естественнонаучных и технических знаний. Попытка Петра создать в Московском Заиконоспасском училище такое техническое образование не удалась. И вот спустя полвека по основании Академии Московской Петр приходит к мысли о необходимости учредить в Петербурге новую Академию. Это решение явилось ответом на самые насущные, жизненные запросы всего экономического и культурного развития страны. России нужны были свои ученые во всех отраслях народного хозяйства. И приглашенные Петром европейские светила скоро воспитали себе блестящую смену из одаренной русской молодежи. Академия уже имела в это время не только европейских лучших профессоров, но и свои мастерские астрономических и даже физических приборов. Но так было недолго. Воцарение Петра II и возвращение столицы в Москву было роковым событием для Академии, покинутой даже ее президентом, отдавшим всю власть в руки правителя канцелярии Шумахера. Началось материальное и духовное оскудение Академии Санкт-Петербургской, и хотя попрежнему печатались ее «Ведомости» и «Комментарии», где помещались статьи по разным отраслям науки, жадно читавшиеся молодежью, — жизнь в ней замерла. Иностранные ученые объединялись с высшей аристократией в общей боязни допустить к образованию широкие народные массы. Но из глубины народного сознания все сильнее вставала потребность к овладению всем, что давало просвещение. И если создание Петра — Де-Сьянс Академия — было ответом на растущее развитие русской культуры в ее целом, то ответом на непобедимую тягу народа к общедоступной, демократической науке, ответом жизненным, всесторонним и полноценным был Ломоносов. Июньское солнце 1741 года зажегшее яркие блики в темных окнах Академии, осветило не только пустовавшие ее залы, но и пустовавшие кафедры. Отсутствовали профессоры, шестнадцать лет тому назад украшавшие собою эти кафедры: кто умер, кто уволен, кто уехал из России в свой любезный «фатерлянд». Об уволенном из Академии профессоре Байере ходило немало рассказов среди студентов еще до отъезда Ломоносова за море. Сей ученый профессор, читая изредка студентам лекции о греческих и римских древностях, умудрился, ие зная русского языка, создать теорию происхождения русской культуры и русской государственности. Ломоносов, узнав об этой теории еще в те дни, когда прибыл из Москвы в Петербургскую Академию наук, пришел в такой гнев, что Виноградов боялся открытого скандала. — Профессоры тоже! — волновался Ломоносов: — не ведают ни языка, ни народа нашего, ни величия истории русской, а с рассуждениями о развитии нашем дерзают с видом ученым выступать! И что же слышим? Что всему нас варяги да скандинавы обучили! Без них пропали бы! Не хуже, чем ныне пропадаем все без Байера сего! Подобных профессоров не иначе как хулителями народа российского именовать надлежит! — гремел он весь вечер, прочитав статейку Байера, в которой автор заявлял, что старинное русское слово «боярин» произошло от немецкого «барон» и что русской культуры вообще не существует. — Холмогоры мои, глядите, откуда вывел! — кричал Ломоносов. — Тут и дураку ясно, что Холмогоры — холмы да горы. А он такое слово выдумал, что самим холмогорцам и не понять и не выговорить! Этак и «Байера» не затруднительно из «бурлака» произвести. Наконец начальство академическое действительно «догадалось», и в 1737 году этот хулитель народа российского был отправлен на родину. Был отставлен Коль от кафедры красноречия и церковной истории; лишь короткое время крупнейший ученый Леонард Эйлер занимал кафедру физики и высшей математики, и умер в 1726 году, выпав из экипажа в пьяном виде, химик Бюргер. После всех столь горестных «прошибок» состав профессоров был далеко не полным, и не скрашивал эту «невещественную» пустоту даже Готторпский глобус, подарок Петру от голштинского герцога, доставленный в Академию с великим трудом и водворенный под его кровлей. Ни «блистательный» Бирон, получивший в Курляндии только специальное образование конюха, ни прибалтийский министр Миних не утруждали себя вопросами просвещения российского, и материальное оскудение Академии чувствовалось во всех углах величественного здания: холодом и заброшенностью веяло от нетопленных, отсыревших за зиму комнат, от длинных, скудно освещенных коридоров и от фигур господ профессоров, кутавшихся в пледы на конференциях... Но тот день был июньским днем. Синяя река отражала безоблачное небо, и город в солнечном свете казался празднично-нарядным. Ломоносов шел, сняв треуголку и помахивая ею на ходу. Его уверенные шаги гулко раздавались на малолюдной набережной. Он шел с веселым сердцем, с готовностью на всякий труд, не страшась никакой работы, лишь бы это была работа, расширяющая его познания и дающая пользу отечеству. Что может быть лучше первого дня возвращения на родину, если о ней давно стосковалась душа и если этот день прохладен и безоблачен и синее ясное небо отражается в синей глади широкой реки! Ломоносову открыл дверь седой сторож; доведя до первой площадки и указав вход в конференц-зал, пояснил коротко: — Приказано провесть. Они сидели вокруг покрытого зеленым сукном стола — господа профессоры, и Минц, и сам Шумахер, нисколько не изменившийся за эти годы, и кое-кто из адъюнктов. Он вошел с волнением и поклонился, остановившись у порога. Ему не предложили сесть, да и места для него не осталось. Шумахер ответил ему кивком головы и жестом пригласил подойти поближе к столу. И вот он стоял перед ними, чувствуя на себе и любопытные и насмешливые, но больше всего — равнодушные взгляды. Ни поморского рыбака, ни московского бурсака нельзя было признать в статном молодом человеке, одетом в складно сидевший на нем кафтан иноземного покроя, с маленькой шпагой на боку, как полагалось при парадной форме студентов, и с треуголкой в руках. Скромный паричок на крупной голове оттенял лицо, покрытое легким загаром, — лицо смелое, с крупными чертами, с высоким лбом, с открытым и внимательным взглядом темных глаз из-под длинной полоски узких бровей. В его манерах больше не было угловатой тяжести, и в то же время он не был тороплив. Он заметно волновался, но, не теряя достоинства, встретил испытующий взгляд маленьких и острых глаз Шумахера. Правитель Академической канцелярии не мот не признать, что вид господина Ломонософф был вполне приличен. — Итак, молодой человек, вы вернулись. Ломоносов поклонился вторично и стоял в ожидании вопросов. — Любопытствуем узнать доподлинно, чем занимались вы, во-первых, в Марбурге и, вовторых, во Фрейберге? О ваших долгах и марбургских веселостях, а равно и о ссорах ваших с профессором Генкелем известны мы и от господина берграта и от самого профессора Вольфа. Краска смущения прихлынула на минуту к лицу стоявшего перед ними студента. Потом он посмотрел на Шумахера и на господ профессоров, усмехавшихся за большим круглым столом конференц-зала, и ответил с той открытой простотой, с какой еще в Заиконоспасском училище признался в укрытии своего звания: — В том чистосердечное покаяние и извинения свои высокочтимому учителю моему Вольфу неоднократно приносил, а ныне приношу и Ученому совету. — Откровенное раскаяние делает вам честь. — Шумахер покосился на господ профессоров. — К тому же не могу не добавить, что профессор Вольф отзывается о ваших научных успехах весьма и весьма похвально. Профессор Юнкер, вернувшийся из Фрейберга ранней весной, посмотрел на Ломоносова. — Интересуюсь знать, признает ли господин студент, что пребывание у берграта Генкеля принесло ему пользу? — Признаю. Но не столько от господина Генкеля, сколько от изучения маркшейдерского дела на самих рудниках, что в программе господина берграта места не имело и где поражен я был непосильным трудом, возлагаемым на малых детей. — Сие нам не важно. Не откажите, господин Ломоносов, — с отменной вежливостью произнес Шумахер, — изложить последовательно, в чем вы преуспели. Господа профессоры хотят о том услыхать от вас самих. — Почитаю себя вправе сказать господам профессорам, — ответил студент, — что химию изучил я изрядно, сдав экзамен по ней профессору Даузингу, а позднее Генкелю — учение о солях. В Марбурге же пройден мною основательно курс механики. Что же касаемо до физики, то сию науку, наравне с химией, почитаю для себя за главнейшую и полагаю, что сии две науки — физика и химия — неотделимы одна от другой, о чем господа профессоры могут суждение иметь по рассмотрении моих диссертаций. Он подошел к столу и положил на него увесистую пачку рукописей. — Здесь изложены написанные мною за четыре года работы, о которых хотел бы я доложить в полной мере для всех членов Академии, а равно и для господ адъюнктов на своем родном языке. По рядам кресел пробежало легкое движение и послышались сдержанные восклицания — протестующие и насмешливые. Молчавший до сих пор академик Штелин сказал: — Оду вашу — на победу над турками — мы с отменным удовольствием рассмотрели вкупе с адъюнктом Ададуровым... Один из адъюнктов, сидевший с ним рядом, добавил, кивнув: — Совершенно так. — Ода имела успех при дворе, будучи написана невиданным дотоле размером, — продолжал Штелин. — Но отсюда еще далеко до изложения на русском языке научной мысли. — К сему изложению уже приступил я, начав перевод «Експериментальной физики» профессора Вольфа, первая глава которой приложена к сим диссертациям, — Ломоносов указал на рукописи, лежавшие на столе. — О сем побеседуем позднее, — промолвил Шумахер, движением руки приостанавливая говорок, побежавший вокруг зеленого стола. — Благоволите, господин студент, продолжить ваше повествование. — Составлена мною в общем виде теория корпускул, сиречь невидимых частичек, тела составляющих. Сии корпускулы, составляющие весь видимый нами мир, по моему твердому убеждению, наделены вечным движением, о чем со временем надеюсь и на опыте доказать. Кроме сего, представлена мною теория теплоты, а равно упругой силы воздуха. Учинив вместе с профессором Вольфом опыты по обжиганию металлов, пришел я к новым выводам касательно огненной материи, а наблюдая залегание пластов в рудниках и в окружающих Фрейберг горных возвышенностях, а также осмотрев на обратном пути рудники Зингенские и Гессенские, составил план работы по металлургии. Но важнейшей, — продолжал он уже спокойно, — почитаю я для себя химию, с приложимой к ней математикой, к чему надеюсь приступить незамедлительно по своем производстве. — Какое производство имеете вы в виду? — Производство в профессоры, — с легким волнением отвечает молодой человек. — Сие производство было мне обещано при отъезде в чужие края. А так как по отсутствию в Академии профессора Гмелина, отбывшего с експедицией в Сибирь, кафедра химии в Академии пустует, то убедительно прошу господ Ученый совет о зачислении меня на оную кафедру, ибо к сей работе готовился я весьма долго и усердно. Шумахер смотрит на господ профессоров, господа профессоры смотрят на Шумахера. Наконец толстый Зейдель — как бы за всех — недоуменно разводит руками, и тогда Шумахер — тоже как бы за всех — говорит с едва заметной усмешкой: — Время для получения кафедры для вас еще не ушло, господин студент. Профессорское звание столь легко не дается. Мы ознакомимся с вашими работами, а пока профессор Амман возьмет вас к себе в помощники. — По какой науке? — спрашивает студент, разглядывая длинное и худое лицо Аммана. — Что полагаете вы наиболее подходящим занятием для господина Ломоносова в данное время? — обращается к профессору Амману Шумахер. Амман поворачивает к Ломоносову свою узкую змеиную голову. — Имеется в моем ведении, — говорит он с придыханием, — изрядная минеральная коллекция, и имеется составленный мною каталог — каталог коллекций. Полагаю, что для господина студента весьма полезным будет заняться переписыванием сего каталога. Ломоносов молча стоял перед зеленым столом, разглядывая свою треуголку. — Завтра, в утренние часы, вы сможете спокойно приступить к сей несложной, но весьма потребной для Академии работе в минералогическом кабинете, — добавил Шумахер, вставая и тем давая понять, что аудиенция окончена. Выйдя из Академии, Ломоносов пошел медленным, словно вдруг отяжелевшим шагом по набережной. Вид реки был уже совсем другой. С моря наплывали низкие облака, расходившиеся по всему небу, и Нева стала серой, как потемневший небосвод. Из темного облака прыснул легкий дождик. Ломоносов надел шляпу и, дойдя до бонновского дома, тяжелым шагом прошел в свою рабочую комнату, откуда вела дверь в крохотную каморку, предназначенную им для спанья. Он сел на стул у окна и долго смотрел на баржи и шлюпки, проходившие по реке. И так сидел до тех пор, пока не услышал боя курантов, возвещавших, что день уже переходит в вечер. Тогда он встал, только теперь почувствовав, как он голоден, и вспомнил, что кошелек его пуст. Но зато он был на родине! Наука российская будет! Не только сам садовник, но и приятели его — булочник и сторож немецкой кирки — давали деньги в рост. Об этом сообщила своему новому жильцу, сделав книксен, любезная фрау Штурм. Кроме того, здесь можно было получить, не говоря уже о пиве, крепкую водку, настоенную на лекарственных травах, собираемых ее супругом. — Когда дела господина студента поправятся, он нам все вернет, — и новый книксен, и улыбка на губах, и тарелка дымящегося картофеля в руке, право же, способны были немного развеселить человека, даже если ему предстояло переписывать каталоги. Эта работа отнимет много времени, и уже нельзя будет полностью заниматься настоящей наукой. Когда он уходил, Шумахер напомнил ему, что в его обязанность входят и переводы для «Санкт-Петербургских ведомостей», а Штелин крикнул вслед, что не замедлит дать ему новую тему для оды... «Заказная ода», — поморщился Ломоносов. Но все же всякая ода есть пиитика российская, а ежели приналечь на переписку, то с каталогами вскорости можно будет покончить, И в конце концов тридцать лет — все-таки не старость: время впереди еще есть. Но «Експериментальная физика» Вольфа! Но своя работа по металлургии... и начатая статья о движении воздуха в рудниках! Но опыты с электрической силой! А изучение законов оптики, природы света, заключающей в себе столь обширный материал, что дыхание захватывает!.. И химия, в которую внести надлежит принцип точных измерений, открывающих необходимость столь многих и столь обширных опытов!.. А исследование мельчайших частичек, составляющих тела? Когда же все сие свершится? Правда, для занятий химией потребна, как хлеб насущный, лаборатория. Но о сем до времени и говорить нет возможности. Да, как ни верти, а надо наперво с каталогами дело завершить, а для того надлежит на каталоги сии приналечь. И приналег. Пожимал плечами Шумахер, пожимал плечами профессор Амман: для чего такая спешка? Где же им было понять — для чего? разве у них горели души при мысли о том, сколько надлежит трудиться над русской наукой, сколь велика у нас в ученых людях нужда? «Да, — говорил он себе снова и снова: — нужны земле нашей ученые люди и для горных дел, и для фабрик, для исправления нравов и сохранения народов, для правосудия, а равно и для земледельства, для предсказания погоды — для всего, для всего...» И ко всему этому он хотел приложить свои руки, свой труд, – хотел не по простой склонности, а желанием страстным и жадным, от которого рождались великие планы и росло в душе нетерпение. Каждое утро, накинув свой старый плащ, бежал он бегом в Академию, чтобы там среди застекленных ящиков с минералами, среди заспиртованных монстров в банках склоняться над листами уже устаревших и никому не нужных каталогов и, кончая один, переходить к другому. И в то время, когда рука Ломоносова механически переписывала название за названием, графу за графой, мысленным взором он видел аудиторию, наполненную молодыми слушателями, и себя самого, отдающего им все то, чему успел научиться. Вот уж и осень позолотила петербургские парки. Перед домом Бонна, в академическом саду и в меншиковском уже краснели шумливые клены. По утрам туманилось сероватое небо. Но к полудню куда-то разлетался туман, и глубокая зеленоватая лазурь ясным куполом простиралась над городом. Полноводная синяя река еле заметно покачивала легкие, лодки, привязанные к причалам, и далеко на взморье сливались с сияющим воздухом небольшие белые паруса. Но к вечеру снова наплывали туманы. Налетал часом влажный холодок, и с моря набегало дождевое облако. Ломоносов сидел до темноты, кончая переписку каталога. Завтра, сдавая эту работу, он спросит о жалованье. Хотя бы часть его нужно будет завтра же получить! Прожиты деньги, взятые под проценты последовательно — сначала у садовника, потом у булочника и, наконец, у сторожа кирки. А уже надвигались дожди, и за ними придут холода. Но это еще не самое важное: лишь бы получить производство и возможность настоящей работы. И вот, наконец, кончена переписка! В свежее серенькое утро, под сырой пылью осеннего дождя он спешил в Академию, — скорей, скорей сказать Амману, что работа кончена, срок испытания миновал. Не было препятствий к тому, чтобы он приступил теперь к самостоятельной работе, к лекциям и к постановке потребных ему хотя бы самых простых экспериментов. Ежели Амман еще не в Академии, он попросит Михеича, сторожа, пронести его в амманову квартиру... Да что Амман! Разве не может он доложиться прямо Шумахеру, что кончил работу и ждет отзывов Ученого совета о своих диссертациях, которые должны дать ему, наконец, ученую степень? И что он ждет денег! Но не в том суть, не в том сейчас суть. Без теплой одежды как-нибудь перебиться можно, без науки настоящей нельзя никак. В дверях библиотеки столкнулся он сразу и с Шумахером, и с Амманом, и с Делилем. — Вы не ко мне ли? — спросил, не останавливаясь, Шумахер. — Нынче для бесед не имею досуга. Ибо должен с профессором Делилем вместе показывать публике преславный наш глобус Готторпский. — Но мне надлежит... должен я сдать работу, — торопливо сказал Ломоносов. Шумахер на минуту задержался. Остановился и Делиль с Амманом. — Сдать работу? — повторил Шумахер, видимо уже забыв о ней. — Я окончил переписку каталогов для господина Аммана. А равно переводы, данные мне вашей милостью для «Ведомостей». — Как, все? — воскликнул без малейшей радости профессор Амман. — Все. Шумахер посмотрел на него и потер себе лоб. — Повремените, господин студент, у нас имеется к вам одно дело. Вчера еще хотел за вами посылать, а нынче вот, с глобусом этим, запамятовал. Ломоносов стоял выжидая. — Вы об оде? — спросил Шумахера Амман. Делиль нюхал ароматический табак. — Об оде, об оде, — поспешно ответил Шумахер. — Безотлагательно требуется ода, с которой и так запоздали мы изрядно. Ода к малолетнему государю Иоанну Антоновичу. — Вам дается весьма короткий срок, — добавил, наконец, Делиль. — Оду надлежит представить в переписанном набело виде, на шелковой бумаге, не позднее, как через пять дней. — Что до каталога, — сказал Амман, — то ежели вы закончили все, что вам дано было, — чему нельзя не подивиться, — то благоволите переписать еще малое к тому каталогу добавление. Оригинал вы найдете в ящике с каменной солью. — Но прежде всего займитесь одою, — закончил Шумахер, собираясь итти дальше. — А как же с диссертациями моими? Как с производством? Этот голос, настойчивый и дрожащий от сдержанного волнения, заставил Шумахера еще раз остановиться. — И с тем и с другим надлежит вам еще повременить. Излишняя спешка не полезна в науках. О производстве вашем будет решаться вопрос по рассмотрении ваших диссертаций, которые еще не рассмотрены. — Как? — повторил Ломоносов, вспыхнув от обиды и прижимая треуголку к груди, где вдруг бешено забилось сердце. — До сего времени? — До сего времени, — бесстрастно повторил Шумахер. Тогда он повернулся, чтобы уйти. Но вспомнил еще об одном и остановился. — Должен довести до вашего сведения, — сказал он, ни на кого в отдельности не глядя, — что не имею более средств ни к жизни, ни к пропитанию и полагаю, что оные средства надлежит мне от Академии получить. — От Академии? — спросил совсем пораженный Амман. — От Академии? — усмехнулся Делиль. — В последнее время, — ответил Шумахер, — мы выплачиваем все академическое жалованье не деньгами, а книгами, кои вы можете получить через посредство герр Минца и продать. Нет, он не пошел за этим товаром в книжную кладовую. Он вышел на набережную. Над рекой уже шли на город приступом круглые и тяжелые, полные влаги облака. Тут, неподалеку, у маленькой будки перевозчика он заметил свободные лодки. Словно повинуясь какому-то бессознательному порыву, он быстро сбежал по деревянным ступенькам к потемневшей воде. С детства привычным движением прыгнул в лодку, оттолкнулся, снял свой кафтан и треуголку, бросив их на корму, и в одной рубашке, рукава которой надувались все растущим ветром, заработал веслами. Ему хотелось устать, довести себя до физического изнеможения, чтобы стало легче на сердце. Ему хотелось наглотаться осеннего свежего ветра и взглянуть на успокоительную морскую даль... Вот уже виднеется академический сад и высокий флюгер на кровле бонновского дома. Да... Нечего и писать Лизавете. «Отдельная прачечная необходима... и хорошая кухня...» Воспоминание об этих прощальных словах Лизбет вызвало в памяти весь ее образ, с приходорасходной книгой в руках. Нет, уж лучше ей не писать ни о чем. До времени. До времени только! А потом... потом, может быть, она и забудет его. Если бы можно было воротить Виноградова! Сильнее пахнуло морем в лицо... Деревья на тенистых островах низко согнули вершины, и вот целый поток осенних листьев закрутился в холодеющем воздухе, долетев до воды. Приметнее стала еле видная невская волна... И, наконец, открылась глазам та знакомая с детства и с детства манящая к себе черта, где море сливается с небом, где опускается небо на море. Там не видно было ни конца, ни начала. И этот вид словно вдруг распахнувшейся бесконечности величием покоя сошел на сердце. И от этого минутного покоя души ощутила в себе новую силу для новой борьбы. Ну что ж, пускай. Он напишет оду, он перепишет весь каталог и все добавления к нему, он переведет им и статьи и все, что они ему подложат... Но наука российская будет! И то, что надо для того совершить, он совершит! Свет и звук Мужеству и бодрости человеческого духа и проницателъству смысла последний предел еще не поставлен.. Ломоносов Ода была закончена к сроку. И на шелковой бумаге переписана. И с должной торжественностью представлена ко двору. Но... очень скоро, прежде чем научились стоять упомянутые в оде ножки державного младенца, пришлось Ломоносову писать новую. Уже кружился в воздухе ноябрьский мокрый снежок, а перемены в его положении все еще не было. Только сказал нынче поутру Шумахер, что диссертации его читаются господами Ученым советом. И то хлеб! Ломоносов спросил: когда же примерно получит он отзыв? Ответили: не ранее того, как все профессоры ознакомятся с работами. Он спросил: когда получит он какое-нибудь жалованье? Ответили: не ранее того, как в Академии будут деньги. Тоска поднималась где-то глубоко в сердце, и даже работа не могла ее прогнать. Ранний вечер покрыл город туманом. Фрау Штурм принесла свечу и молча вышла. Он был так давно должен и садовнику, и сторожу, и булочнику, так явно нуждался во всем, что супруги Штурмы начали сомневаться в его кредитоспособности и относились к нему уже с легким оттенком пренебрежения. Он не обращал на это никакого внимания: по-своему они были правы. При свете неяркой свечи он писал у стола, время от времени поглядывая в окно. Там мелькали белые хлопья, прилипавшие к стеклам, и чернела река. Все едино, времени терять более нечего. Дадут ли, не дадут ли господа профессоры ученую степень, надлежит записки свои и мысли свои касательно металлургии, каким еще во фрейбергских рудниках начало положил, в порядок привесть. Изложить все сие в пространном виде, дабы ученикам маркшейдерского дела, кои у нас вскоре объявятся, дать какую ни на есть полезную книгу. А «Физика» Вольфа! Он остановился и посмотрел на стопочку исписанной бумаги. Как корабль из тумана, выплывало перед ним воспоминание о марбургской лаборатории, о первых лекциях Вольфа и о проводимых с ним вместе опытах. Оптика и изучение света! Постигнуть сущность света — вот что занимало его теперь больше всего. И вспомнились последние беседы о том с Вольфом. Нет, нет! И тогда уже он решился высказать Вольфу свою мысль о том, что Ньютон не дошел до истины, признавая за сущность света материю световую, а не движение эфирных волн. Ах, ежели бы у него были и свои собственные приборы для изучения законов света! Оптические стекла, преломляющие световые лучи и собирающие их воедино, — чудесные произведения рук человеческих, показывающие невидимый отблеск, пролетевший неисчислимые пространства, в явственном образе света! А рассуждая о волнах, порождающих свет, мыслью невольно переходишь к волнам, порождающим звук. Колебания вот этой свечи, сего малого огонька, от ветра, проникающего в еще не заделанное на зиму окно, и колебания струны, от которой столь сладко сжимается сердце, не Сходны ли они по природе своей? Ух, от мысли сей даже в голове пошло кружение. И холодная каморка, освещенная одной единственной свечой, показалась ему в эту минуту наполненной струящимся потоком мирового эфира, который светился и звучал одновременно. Чрезвычайное дело Он очнулся от стука в окошко, отставил свечу и посмотрел в темноту. К стеклу прижалось детское лицо с мокрыми вихрами. Это был Ванятка, внук сторожа Михеича. Ломоносов приоткрыл половинку незамазанного окна. — Ну, ты чего, курьер? С какой естафетой? — спросил он Ванятку, с которым дружил. — Михаил Васильич, наказали вам, чтоб сей минутой в Академию заявиться, и с пачпортом, — одним духом Ванятка выпалил все эти слова, очевидно много раз повторенные ему дедом. Ломоносов удивленно посмотрел в темноту и на мокрое от снега и дождя лицо Ванятки. — В эдакую поздноту? — Сей минутой, — повторил Ванятка и, соскочив с подоконника, исчез. Пустынна была набережная. В безлюдье отдавался звонко стук копыт по мостовой. Конный патруль остановил его, спросив бумаги. За ним, в отдаленье, уже приближался другой. Он понял, почему нужно было взять с собой бумаги, и с удивлением смотрел на конные и пешие отряды, стоявшие на всех перекрестках. Уходя из дому, он подумал, что понадобился срочно по вопросу о своих работах, но вид притихших улиц говорил о каких-то событиях. Ломоносов быстро взбежал по полутемной лестнице, потирая озябшие руки. В первый раз за все время Шумахер принял его не в кресле. Большими нескладными шагами ходил он по библиотеке, укутав плечи широким шарфом, и тень его с разлетающимися концами шарфа, словно тень летучей мыши, ломалась на книжных шкафах. — Вас уже несколько дней здесь не видно, — произнес правитель канцелярии, и впервые увидал Ломоносов тень заботы на бесстрастном лице его, — а вы нужны по чрезвычайному делу. — По чрезвычайному? — В наикратчайший срок надлежит вам представить оду по случаю восшествия на престол новой императрицы — Елизаветы Петровны. Его сердце дрогнуло от радостной надежды: Елизавета — дочь зачинателя наук российских! — Когда надлежит мне представить вам оду? — Идите и пишите с возможною скоростью, желательно хотя бы к утру. Шумахер повернулся и снова тяжело зашагал вдоль книжных шкафов. Ломоносов посмотрел на его спину и задержался на одну минуту. — Господин Шумахер, более ничего не имеете сообщить мне? Правитель канцелярии обернулся к нему из глубины библиотеки и весьма решительно и сухо сказал: — Имею. В диссертациях ваших профессоры — вместе со мною — усмотрели излишнюю смелость мысли, на что не без основания указывал вам фрейбергский берграт. Далее, мнения ваши и возражения по адресу роберта Бойля признали мы чрезмерными, и без изменения оных диссертации ваши не будут зачтены. Когда, возвращаясь, Ломоносов проходил мимо комнаты садовника Штурма, там еще горел огонь. Он постучался и сказал: — Фрау Штурм, дайте мне... на какой угодно трухе настоенной, но токмо крепкой водки. Садовник Штурм и его супруга уже давно спали, и в темноте с набережной сквозь летящие мокрые хлопья доносился только редкий стук лошадиных подков — патрули объезжали город, — а Ломоносов все еще сидел у своего стола, сдвинув листы начатой рукописи, и время от времени наполнял свой стакан. Блаженное забытье охватывало постепенно и разум и сердце. Уплывали, уходили из затуманенного сознания все планы, и свет, струившийся широкими волнами, и дрожащий звук струны, наполняющий сердце печалью, и даже... даже сама тоска. Да, спасибо садовнику Иоганну-Вильгельму — Ивану Васильевичу, как звал его Михеич. Он очень хорошо настаивал свою водку!.. Причины видимых свойств В морозный солнечный день, уже клонившийся к вечеру, Ломоносов работал за своим столом, придвинув его к самому окну, чтобы подольше пользоваться светом. Теперь его ода уже во дворце. А на очереди — другое дело. Когда после разговора с Шумахером прошли первые минуты гнева и отчаянья, он стиснул зубы и сел снова за возвращенные ему диссертации. Пусть подождут господа академики малое время! Пусть дадут ему ученое звание, и тогда он покажет, что он прав. Да, тогда с ним должны будут посчитаться и не столь легко будет отвергнуть то, что он будет по праву отстаивать. Он перелистывал свои диссертации, сдвинув тонкие брови, борясь безмолвно и упорно. Он должен добиться их принятия, потому что без этого не дадут ему лаборатории. Но только лаборатория поможет ему доказать, что в диссертациях его заключается истина. «Найти конечную цель исследования — значит сыскать причины видимых свойств в телах, на поверхности происходящих, от внутреннего их сложения...» Он перечитал это место, против которого на полях кто-то из его академических цензоров написал: «Сие никому не ведомо и ведению не подлежит», — и с сердцем перечеркнул полстраницы. — Ладно, — сказал он тихо. — Дайте мне токмо лабораторию химическую учинить, тогда увидим: подлежит или не подлежит. Надобно торопиться. Нынче к вечеру должны за диссертациями из Академии прислать. Сам он не мог итти: болел. В мокрый снег, в непогоду, в одном плаще, прикрыв шарфом плечи, в Академию бегал и, видать, лихорадку схватил. Портной, душегубец, не отдает теплого кафтана из починки без денег, что хочешь делай! А нынче, сдается, хозяйка и обеда больше в долг не отпустит. У него уже снова начинался озноб, и прохватывала мелкая дрожь, как все последние дни в этот час. Полечиться бы, что ли, чем? Да нечем. Вот и не видно больше писать... Быстро потухли багряные морозные полосы на западе. Он свернул свою рукопись. В этот день он достал-таки у душегубца-портного свой теплый кафтан и на полученные под жесткие проценты деньги в этот день все-таки пообедал! Первая ученая степень Рождество пало снегами. Пушистые, белые, как пена, сугробы завалили весь город, а сало, шедшее по Неве, вдруг сразу застыло в крепкий лед. И над пустынными «першпективами», над еще не застроенными площадями, над широкой дорогой замерзшей реки залетали певучие вьюги и понеслись с легким свистом снега. А во дворце шли балы за балами. Там веселились и галопировали, приседали в менуэтах то на «машкерадах», В таинственных масках, то на простых балах, «с голыми лицами». Уже дважды поручала Академия Ломоносову учинить торжественную иллуминацию перед дворцом по случаю бала с иностранными персонами. Ода же его, с которой его так торопили, все еще не была там прочитана — «за недостатком времени». Но Шумахер не беспокоился: лишь бы к сроку поспели. А там их дело, хоть бы и вовсе не читали! Были беспокойства иные и события посерьезнее чтения од. После ареста и ссылки Миниха в Сибирь стало ясно: пора курляидского и прибалтийского владычества ныне в россии миновала. В Академии подул неприятный сквознячок, и те иноземные профессоры, что не слишком прижились в русской столице, подумывали об отъезде на родину. Те же, кто пустил крепкие корни в Санкт-Петербурге, ссорились друг с другом и говорили дерзости правителю канцелярии. Он все чаще подмечал недовольные взгляды, слышал жалобы на академические порядки и непорядки, установленные им давным-давно. И вдруг в сумятицу этих дней, в самый канун Нового года, пришло известие о том, что на один из январских балов — по случаю отбытия иностранных персон — надлежит явиться и господам академикам в полном составе. И вместе с приказом о начале новогодней иллуминации на час ранее против обычного — высочайшая благодарность Ломоносову за оду. Шумахер в волнении заметался по Академии: где там задержались с диссертациями Ломоносова? Надлежит произвести его спешно в адъюнкты! Но о высочайшей благодарности за оду сочинителю ее до времени не сообщать, дабы не подумал, что производят его в адъюнкты по сей причине. Диссертации, наконец, нашлись... И в день Нового года автор их был извещен о том, что на ближайшем заседании Ученого совета, «8-го генваря сего 1742 года имеет он быть произведен в чин и степень адъюнкта Де-Сьянс Академии». Да, это еще не профессорство, но это уже победа! И первая настоящая радость за долгие-долгие дни! А ежели жалованье в З00 рублей в год не только будет значиться по росписи, то, пожалуй, через малое время и Лизбет можно будет написать. Лизбет! Он, улыбаясь, представил себе, в какой ужас привел бы ее его вид в пледике, наброшенном на плечи, и в зимнем полухолодном кафтане с латками! А что сказала бы Лизбет, увидав пустые комнаты, которые так скудно отапливались, так плохо освещались! И вечная нехватка в пропитании, во всем самом необходимом... Нет, нет! Гораздо лучше будет для Лизбет, если она останется в своем отечестве. Размышляя об этом, он проходил как-то вечером по коридору мимо хозяйской двери, за которой слышался стук тарелок, ножей и вилок и голоса гостей. Они говорили по-немецки, и чтото очень знакомое напомнил ему громкий голос с пришепетыванием. Он невольно замедлил шаги, и на него почти наскочил толстый человек с очень красным лицом, еле стоявший на ногах. При первом взгляде на расплывшиеся черты пьяного гостя, вышедшего от академического садовника Штурма, Ломоносов узнал его: это был марбургский парикмахер, который некогда отбыл в росоию вместе с Максом-аптекарем и которого он однажды чуть не прибил в кабачке Мюллера за дерзостные слова о России. Парикмахер остановился и смотрел, вытаращив глаза, на Ломоносова. Потом он всплеснул короткими руками. — Смотри сюда, Макс! — закричал он, втаскивая Ломоносова в комнату. — Узнаешь ты, кто это? Макс тупо смотрел, покачиваясь, — Ну, д-да, это сын б-булочника, т-того самого б-булоч-ника... — Да это же мой марбургский клиент, господин студент, которого я один раз чуть не... поколотил, честное слово, чуть не поколотил! О-очень, очень рад увидеться с вами в вашем отечестве! Прокричав это, парикмахер покровительственно хлопнул Ломоносова по плечу и примирительным тоном закончил: — Вам не стоило драться со мной, уважаемый герр студент: мы с Максом были совершенно правы. Верно, Макс? — С-совершенно п-правы, — повторил Макс. — Ежели бы не русские деньги, мой уважаемый герр студент, плевать я хотел бы на вашу страну. Но нам живется здесь хорошо. Верно, Макс? Но этого ответа Макса Ломоносов уже не стал дожидаться. Тряхнув парикмахера за толстое плечо, он сказал по-немецки, отчеканивая слова и глядя гневно в его заплывшие глаза: — Ежели бы вы не были столь пьяны, я выбросил бы вас обоих вот из этого окошка. А ежели услышу такие слова еще раз, то, видит бог, выброшу и пьяными. Из снежной пыли Такой снежной зимы давно не было в Петербурге. Сугробов намело, почитай, не хуже, чем на Курострове. По снежной дороге с окраин Петербурга добирались по сугробам кареты и сани, поспешая во дворец. Развлекаясь обязательными со времен Петровых танцевальными «машкерадами», Елизавета не столько следовала примеру своего отца, сколько собственной страсти к увеселениям. На рождестве пришел в Академию приказ: «явиться во дворец господам академикам одиннадцатого числа генваря месяца на танцевальную ассамблею». Шумахер, взволнованно потирая руки, с довольным видом сказал зятю своему Тауберту: — Хорошо, что Ломоносова на конференции в адъюнкты произвести решили. Надлежит его во дворец со всеми профессорами взять. Он и видом постатнее наших и оду произнести может. — Ежели угодно — берите, — процедил Тауберт. А в крещенье, когда уже кончились везде торжественные молебствия с водосвятием, было на Неве опять катанье. Дважды промчались от дворца ко дворцу пышные сани с горностаевой полостью, унося в снежные вихри императрицу Елизавету, румяную от мороза, окруженную гарцующей на конях свитой. Вслед царскому поезду неслись по пушистому раздолью сани, финские одноконные вейки и просторные розвальни с парнями и краснощекими девушками. Прежде и на масленице не бывало такого катанья. До темноты с гиком, со свистом и смехом перекликались молодые голоса. День меркнул, и к вечеру начал спадать мороз. С облачного, потеплевшего неба повеял мягкий снежок. Снега, снега... Исчезали в снегах и выплывали из них быстролетные кони с развевающимися по ветру гривами, с заливчатым звоном бубенцов. И не только дворяне да знать: все купечество, которое чуть побогаче, пронеслось в этот день по замерзшей реке. Только иноземные академики не участвовали в катанье; но иные профеесоры с женами и детьми с завистью смотрели из окон на веселую забаву, удивляясь пристрастию русских к быстрой езде. Перегнувшись через чугунные перила моста, придерживая обеими руками треуголку, которую ветер грозил сорвать с головы, Ломоносов долго смотрел и на пары и на тройки, слушая звон бубенцов, и казалось ему, что, исчезая в снежной пыли, проносится перед ним его детство и юность, чтобы, перед тем как иснезнуть навсегда, напомнить с разительной ясностью: праздничный день дома, в родном селе, и катанье в отцовских санях, снежные дороги северных просторов, и голоса бубенчиков, и забытый голос матери, словно тающий в снежном тумане. На мосту пробирало изрядно. Он почувствовал, наконец, что озяб, и, оторвавшись от перил, повернулся, чтобы итти домой. Но из снежной пыли, преграждая ему путь, словно вынырнули парные сани, запряженные булаными лошадками. Кучер в шапке набекрень круто осадил их, пропуская встречных. Ломоносов увидал застегнутую плотно ковровую полость и знакомое лицо с изменившимися слегка чертами... Он хотел уже крикнуть: «Алексей!», потому что это был, несомненно, Алексей Дудин, но так и остался с раскрытым ртом: рядом с Алексеем он увидел другое лицо. Из-под яркоалого шелка узорчатого платка выбивались на ветру светлорусые пряди волос, падая золотистой струйкой на нежную щеку, разрумяненную морозом. Он не видел, каковы были черты этого лица, но знал, что они хороши. Он увидел синие глаза, глянувшие ему словно в самое сердце взором далекого детства и юности. Такой синий, такой сияющий взор видел он когда-то только на одном лице: на лице забытой Машутки. Он так и не успел крикнуть, чтобы узнать — она это или нет, не успел остановить их: он так и стоял, глядя им вслед до тех пор, пока черная бархатная шубка и алый платок не исчезли в снежной пыли. Излишняя затея По болезни Шумахера конференция 8 января не состоялась. Но профессоры Винсгейм, Делиль, Амман и Юнкер объявили Ломоносову официальное постановление ученого совета: он был назначен — уже согласно указу — адъюнктом физических наук. Был солнечный день, и под синим небом ослепительно сверкали за большими окнами снега. В такой синий и радостный солнечный день каждому человеку, особенно получившему первую ученую степень, все кажется легче и достижимее и будущее не пугает трудностями. Ломоносов ответил официальным поклоном на прочитанный ему ученым секретарем Минцем указ о его назначении и продолжал стоять перед господами профессорами, наклонив голову, с тем выражением упорства, которое отличало его егце в детстве. — Вы имеете что-либо сообщить? — спросил его из-за стола молодой профессор Рихман, приветливо глядя на русского начинающего ученого. С ним много раз встречался Ломоносов в стенах Академии и не однажды ловил на себе внимательный взгляд необыкновенно живых карих глаз, точно освещавших обычно бледное, немного вытянутое лицо. Но они еще никогда не говорили друг с другом, и новому русскому адъюнкту было приятно, что с этим приветливым вопросом обратился к нему именно Рихман. — Имею, — ответил он. — Имею просьбу до господ Ученого совета. — Мы вас слушаем, — довольно сухо для такого дня говорит Винсгейм. Но Ломоносов не обращает внимания на эту сухость и продолжает: — Понеже признан я достойным для занятий столь любимой мною наукой и надлежит мне учинять в сей науке не один експеримент, а множество, и в весьма различных ее областях, то прошу настоятельно господ Ученый совет помочь мне в создании первой у нас химической лаборатории... Он смотрит па Винсгейма, лениво открывающего свою табакерку, и молча ждет ответа. Винсгейм смотрит па своих коллег и с удивлением приподнимает плечи. — Полагаю затею сию излишней до времени, а сверх того, невыполнимой. Ибо денег в Академии на сей предмет найдено быть не может. Он помолчал, понюхал табак и добавил: — Мнение о сей затее господина Шумахера не может быть иным, как весьма отрицательным, поскольку он лучше нас всех известен о насущных нуждах Академии. — У нас на дрова и на свечи нет, а куда тут лабораторию! — с раздражением сказал Тауберт. Но когда Ломоносов шел по коридору, его догнал профессор Рихман. — Господин адъюнкт, — он первый назвал Ломоносова этим новым для него титулом, — ежели вы желаете добиться в сем деле толку, обращайтесь к властям, выше Академии стоящим. Ибо господин Шумахер в том пособником вам не будет. — Не в сенат же! — вздохнул Ломоносов. — Для начала попробуйте все же склонить к этому кого-либо из академиков, действуя не сразу, а с постепенностью. Что до меня, то можете рассчитывать на мою поддержку, — и живой взгляд карих сверкающих глаз опять приветливо обратился на Ломоносова. — И на том великое спасибо, — повеселев, ответил новый адъюнкт, пожимая руку Рихмана и смутно чувствуя, что с этим молодым профессором их может соединить когда-нибудь тесная дружба. Все-таки этот январский день был лучезарен. И все-таки, ежели объявился у тебя хоть единый друг, ты уже не одинок. И синее небо этого дня посмотрело на него словно греющим взором, напомнив другой взгляд, упавший ему прямо в сердце, — такой же чистый, такой же синий. Иллуминлция С самой той метели, со дня крещения, порешил Ломоносов разыскать Дудина. Но спешная подготовка к большой иллуминации по случаю прибывших ко двору знатных персон отняла у него несколько дней. По этой же причине была отложена танцевальная ассамблея с участием академиков. В ненастный оттепельный вечер на прямых «першпективах» столицы пробирала прохожих пронзительная сырость. Но, несмотря на плохую погоду, Дворцовая площадь и прилегающие к ней улицы были полны народа. Он собирался и большими и малыми группами, с любопытством глядя на дворец, на темное небо над площадью, перекидываясь замечаниями по поводу предстоящего зрелища «великой иллуминации». И вот, наконец, взвиваются в темное небо огненные змеи, и возгласы восхищения раздаются со всех сторон. Переливаясь разноцветными огнями, вспыхивает над головами вензель Елизаветы и некоторое время держится в воздухе, освещая цветным пламенем площадь и поднятые к темному небу лица восхищенных зрителей. Через толпу пробирается высокий человек в треуголке и ищет места, откуда лучше видно. Он поднимается на чугунную тумбу и при новой вспышке фейерверка с досадой восклицает негромко: — Эх, тюлень, эх, нескладный! Ну вот и вышло плохо: надлежало дать больше зеленого огня! Маленького роста старичок, стоявший рядом, сердито оглянулся на него. — А ты не кори, чего не смыслишь! Ишь ты каков! Подумаешь — верзила! Я чай, поумнее тебя люди придумали! Высокий человек соскакивает с тумбы, звонко хохочет и хлопает старичка по плечу. — А ведь придумал-то я! — весело говорит он, и оживленный взгляд его вдруг меняет свое выражение. Последняя вспышка огней на вензеле Елизаветы осветила лицо старика и лицо безусого паренька, в удивлении так высоко закинувшего голову, что шапка его слетела на землю. В этом ярком свете отчетливо выступили из темноты поморская шапка, старообрядческий покрой кафтана, длинная борода, и сразу стал понятным окающий говор старичка. Так говорят поморы на его родине, на их общей родине. Ломоносов еще раз обводит взглядом обе эти фигуры и громко, радостно спрашивает: — Откуда, землячки? Каким ветром занесло? Но старик недоверчиво и испуганно косится на этого странного человека в парике и треуголке, называющего себя их земляком. А Ломоносов продолжает: — Может, тебя, дедушко, шелонником сюда задуло али сельдяной погнал? А? — смеется он громко, радуясь все растущему изумлению и деда и паренька. — Скоро, гляди, покрут снаряжать надо. Я вот таким-то, как он, — кивнул он на паренька, толкнув его слегка в бок, — почитай, уже разов семь в зуйках ходил. А ты ходил? — Ходил, — сказал паренек, не сводя с него глаз, — ноне заново пойду. — Молодец! А пока, до покрута, пойдем, я вас кваском хорошим угощу, здесь погребок рядом. Ломоносов шагнул было в темноту, но старик остановил его. — Нам, ваше благородие, в твой погребок ходу нету, — решительно сказал он, — мы здесь изо всего города токмо один погребок и ведаем: свой, значит, поморский, у нас там все по старому обряду, и посуда своя. — А где ж это? — А тут, за Малой Невкой, у Дудина. — У Дудина? — повторил Ломоносов, удивляясь тому, как взволнованно забилось у него сердце. — у Алексея? — Он самый, — уже доверчиво ответил старик. — Ну, веди меня к Алексею Дудину. Долго они шли по доскам, устилающим сырую землю. Наконец за деревьями засветились маленькие окошки. Старик взошел на крыльцо, без стука открыл дверь, и Ломоносов, шедший за ним, остановился на пороге без слов и без движения. Это был его дом, в который он вернулся после стольких лет! Только вместо жировых светилен горели свечи в поставцах, да слюду в окошках — должно быть, недавно — заменили стеклом. Здесь, за порогом этого дома, время сделало крутой поворот и исчезло. Какая-то женщина — может быть, мачеха? — стоя спиной к нему, расставляла на столе оловянные тарелки. На широкой лавке был брошен чей-то тулуп... Тут Машутка спала, на лавке. Из кухни доносился запах жареной трески вместе с теплом, дохнувшим ему в лицо. В углу, полуприкрытый шитым полотенцем, темнел киот, и большая красная лампада бросала, мигая, алые отсветы па крупные бревна стен и на... да, да, на серебряные застежки библии, — той книги, по которой он впервые узнал букву «аз», той самой книги, которую читала ему мать! Что-то перехватило ему горло, затуманило глаза, и он быстрым жестом руки расстегнул ворот, как всегда, в минуты волнения. Людей было немного. Какой-то старик читал большую старопечатную книгу, сидя на лавке, около свечи. Ломоносов шагнул к нему. Старик поднял белую, как серебро, голову, и Ломоносов узнал... старого Дудииа, поседевшего, немного согнувшегося, но еще крепкого. — Христофор Игнатьич! Не признаешь? Старик молча поглядел на него и отрицательно покачал головой. — Никак нет, ваше благородие, не признал. Ломоносов сел рядом с ним па ланку и медленно сказал: — Может, потому, что сходен я, оказывали мне, более с матерью покойной, Аленой Ивановной, нежели с Василием Дорофеичем, с отцом. Старый Дудии откинулся всем корпусом на лавке, потом поправил очки, потом встал и, подойдя к новому гостю, почти вплотную приблизил к нему свое лицо. Так постояв, он вдруг молча всплеснул руками и, обняв Ломоносова, по-старчески всхлипнул, прижавшись бородой к его плечу. — Михайло Васильич, прости старика! Ведь ты теперь — гляди, какой стал! И, вскочив, захлопотал и засуетился вокруг стола: — Садись, сюда садись! Ломоносов стоял, растроганный, и оглядывал лавки, стены и киот с темными иконами. — Кто же это так все... устроил тут? — спросил он. — А Машутка, все она, все она! — быстро заговорил Дудин. — Киот-то этот мачеха твоя ей в приданое дала, а больше, почитай, ничем не одарила. Да мы на то не глядели. Девушка-то сама ладная. Как вышла она за Лексея... — тут он остановился, вспомнив, что ведь Ломоносов ничего этого, наверное, не знает. — Она ведь за Лексеем моим теперь, Машутка-то ваша. Так, как вышла она за Лексея, словно счастье в дом принесла, а мне летось — внучку. — Так здесь Машутка! — прервал он старика, теперь только все поняв. — Здесь, Михайло Васильевич, а то как же? Алексей по делу в отъезде, а Машутка здесь. Сейчас я покличу... Господи батюшка, вот гость нежданный! Да ведь ты, сказывают, за морем был? — Был, Христофор Игнатьевич. Да по родине так стосковался, что ранее срока воротился. — И ладное дело, батюшка. В гостях хорошо, а дома-то лучше. Садись, Михайло Васильич, садись! Я ее тебе покличу. Он подошел к двери, которая вела в жилую половину, и крикнул: — Машутка, хозяюшка! Поди сюда, гостя привечай да чарочку возьми, и с подносиком! Гость-то у нас дорогой! Он весело подмигнул Ломоносову и шепнул: — Пущай и не знает, кто таков. Ломоносов стоял, поглядывая на дверь. Скрипнула легко половица, и из раскрытых створок дверей пошла к нему навстречу стройная красавица с чаркой на подносе. Она взглянула на него, остановилась, и чарка соскользнула с подносика, дрогнувшего в ее руке, Но ни один из них не пошевелился. Они стояли без слов и без слов глядели друг другу в глаза, и перед ними вставали прожитые дни детства и юности и новые дни их новой жизни. Светлорусые, чуть золотеющие волосы Машутки легкими прядями лежали вокруг ее лица. И совсем прежние синие глаза смотрели из-под темных дуг бровей. Наконец Ломоносов, улыбаясь, прервал молчание. — Машутка! — сказал он очень тихо. — Вот ты какая стала! Гляжу на тебя во все глаза и. словно признать не могу! — А я тебя, Михайло Васильич, и с закрытыми глазами признала бы, — ответила она мягко, но уверенно и, подняв с полу чарку, подошла к столу. — Садись, Михайло Васильич, честь да место. От этих простых, с детства знакомых слов обычного в их краю привета во второй раз что-то сжало ему горло и затуманило глаза. Они сидели у стола — за шаньгами, за треской, за пенистым квасом из морошки. Стряпуха прислуживала им, но Машутка сама наполняла его кружку. Без конца заставлял его рассказывать старик Дудин и о жизни в Академии, и о жизни в Марбурге и во Фрейберге, особенно удивляясь сообщению старичка-помора о том, что сегодняшняя «великая иллуминация» была «учинена» им, Ломоносовым. Машутка слушала Михаилу, не отводя взора от его лица. И от взгляда этих участливых, блестящих радостью глаз сердце Ломоносова, отдыхая, оттаивало, словно долго было оно покрыто тонким ледком и вот теперь отходило, отогреваясь в весенних лучах. Когда он встал, Машутка, встав тоже, поклонилась ему в пояс: — Здоров будь, Михайло Васильич. Ломоносов посмотрел на нее с укором: — Что ты все меня величаешь: Васильич да Васильич. Я для тебя кем был, тем и остался. Она, словно размышляя о чем-то очень важном, сдвинула темные брови и, качнув по-детски головой, решительно сказала: — Нет, Михайло Васильич: другая у тебя жизнь, и ты теперь от меня, как месяц ясный, далеко. В саду сгибались под северным ветром голые деревья. И как только что, вслушиваясь в речь Машутки, так и теперь, стоя под ветром, под сгибающимися низко деревьями, Ломоносов слышал, казалось ему, не звуки слов и не шелест веток, а тихий полет времени, которое пролетает, унося жизнь. Да, сегодня вечером время остановилось. Пока он сидел там, в доме, так похожем на его родной дом, ему сдавалось минутами, что все пережитое им вне отцовского дома было не то сном, не то прочитанной им книгой о ком-то другом, а вовсе не о нем. Он шел один по безмолвным прямым улицам. Запутавшись в разорванных облаках, робко пробивалась луна. Бледный, рассеянный свет ее скользнул по чугунным перилам моста и осветил каменную громаду Академии наук. И по мере того как эта громада выступала перед ним — суровая, с темными окнами, к нему возвращалось сознание действительности. Впервые за этот вечер он вспомнил, что носит теперь звание адъюнкта Академии и уже является как бы ее частью. А профессорское звание, которое он в скором времени получит, сделает его полноправным академикам. И тогда он добьется разрешения на устройство своей лаборатории. Подумав об этом с неудержимой радостью и гордостью, он вдруг словно увидал весь пройденный им путь, начавшийся за сугробистой околицей родного села в ту ночь, когда сказал он Машутке: «Прощай!» Войдя к себе, он зажег свечу и сел за стол. Вот его диссертации; там, в углу, сложены части самодельного прибора. Бледное пламя свечи отразилось в куске стекла, лежавшего среди них. Он вспомнил о линзах, об оптических приборах, которые он, став теперь адъюнктом, добудет, наконец, для своей лаборатории — в полную собственность. И все отчетливей встал перед ним, развертываясь и заполняя все его мысли, план будущих работ. Скоро, скоро сможет он начать опыты по изучению света и колебанию эфирных воли! Он долго думал об этом, сидя за своим столом и борясь с дремотой. И минутами казалось ему, что он смотрит в лучистые Машуткины глаза, стараясь понять, почему это они такие синие и свет их так греет сердце. Состязание пиитов Веселая царица Была Елисавет! Поет и веселится, Порядку только нет. А. К. Толстой Дворцовый зал сдержанно шумит. Яркие пятна парчовых кафтанов и дамских роб передвигаются вдоль его стен, отражаясь и удваиваясь в венецианских зеркалах. Восковые свечи в больших люстрах и стенных шандалах теплым оранжевым огнем освещают зелень, которой украшены стены вперемежку с картинами и коврами. Придворный поэт и усердный академический переводчик, с великим трудолюбием и терпением возделывающий ниву русского стихосложения, Василий Кириллович Тредиаковский, круглолицый и румяный, входит, держа в руке узкую трубочку бумаги, перевязанную лентой. Прислушиваясь к шопоту за его спиной: «Тредиаковский, пиит», он приближается, скользя по паркету, к старому сановнику, который спрашивает, снисходительно улыбаясь: — Каково поживаешь, Василий Кириллович? Тредиаковский склоняет голову. — Щедротами милостивой монархини нашей отменно взыскан. И проходит дальше. Следующий собеседник небрежно спрашивает, указывая на трубочку в его руке: — Оду принес? — Повергну к стопам её величества, — говорит поэт не спеша и начинает рассматривать гостей. — Вот и соперник твой, Сумароков, оду несет, — указывает ему престарелый сановник на нового гостя, входящего в зал с надменно поднятой головой. — А кроме него, нынче, говорят, и третий будет. — Премного наслышан. — Тредиаковский отходит в сторону, сталкивается с идущим навстречу Сумароковым и, не кланяясь, проходит мимо. Сумароков, не глядя на Тредиаковского, с таким же листом бумаги в руках подходит к дамам, которые окружают его кольцом и уже через минуту смеются его шуткам. Пажи в бархатных курточках раскрывают обе половинки золоченых дверей. Гости выстраиваются вдоль стен, и низко приседают дамы, придерживая робы обеими руками, как полагается в контрдансах. Скрытый оркестр играет туш, приветствуя выход ее величества. В серебристо-белом парике и в серебристо-белой атласной робе, сверкая драгоценными камнями, Елизавета входит в зал, опираясь на руку своего фаворита графа Алексея Разумовского. — Ну, где твои ученые? Академия, я чай, опять опоздает к первому танцу, — говорит она канцлеру Бестужеву и подает церемониймейстеру знак к началу празднества. Они вошли, господи профессоры, когда кончился первый танец и камер-лакеи понесли на подносах прохладительное. Высокая фигура Ломоносова выделяется среди всех академиков. Они отвешивают нижайшие поклоны и собираются отойти в уголок. Но Бестужев предупреждает их: — Господа Академия, государыне желательно нынче учинить состязание пиитов на манер иноземных турниров. Имеющемуся среди вас вольфову ученику Ломоносову в оном состязании надлежит иметь участие наравне с прочими. Следующий танец открывает Елизавета. Медленно проходя со своим кавалером в менуэте, она весело говорит ему: — У вас, граф, волос черен, а у вашего брата вовсе светлорус; посему и в чувствах сердца и любови, я полагаю, различны оба. Музыка умолкает. Кавалеры и дамы проходят в променаде. Бестужев отыскивает глазами Сумарокова. — Начнем с тебя, Александр Петрович! И, подведя Елизавету к большому креслу, становится около нее. Дамы и кавалеры рассаживаются вдоль стен. На середину зала выходит изящный Сумароков, галантным жестом руки развертывая свой свиток. Сумароков церемонно кланяется. — Приношу к стопам вашего величества оду, составленную мною на предмет нынешнего праздника. Но отмахивается кружевным платочком Елизавета. — Я этих од уж изрядно наслушалась. Ты другое что-нибудь прочти. Красивое лицо Сумарокова чуть заметно мрачнеет. Знаменитый автор многих трагедий привык к заслуженному вниманию. Но он прячет обиду в любезной улыбке и, снова кланяясь, говорит: — Я превыше всего трагедии почитаю, ваше величество, но те смотреть надобно на театре. О чем же прикажете, ваше величество? Бестужев наклоняется к Елизавете: — Сей пиит, слыхал я, гимн к солнцу сочинить изволил. Прикажете, государыня? Елизавета одобрительно кивает. — Ну что ж, пусть читает. Сумароков слегка морщится. — Боюсь токмо, государыня, что, не имея оного гимна с собою, запамятовал я конец. — Ничего, — весело говорит государыня, — конца не надо. Зал затихает. Сумароков начинает читать: Светило гордое, всего питатель мира, Блистающее к нам с небесной высоты! О, если бы взыграть могла моя мне лира Твои достойны красоты! Но трудно на лице твое воззрети оку; Труднее нам еще постигнути тебя; Погружено творцом ты в бездну преглубоку, Во мраке зря густом себя... Он на минуту останавливается, и, пользуясь этой паузой, Елизавета говорит: — Складно, только непонятно весьма: «во мраке», «зря», да еще «себя»! Ты лучше про чтонибудь веселое сегодня прочти. — В таком случае, ваше величество, — невозмутимо отвечает Сумароков, — дозвольте прочесть стихи, сочиненные мною к одной известной вам даме. — Кто же сия дама? — лукаво спрашивает императрица. — Московская Хераськова. Оная дама, ваше величество, сама изволит слагать стихи. Сумароков принимает изящную позу и читает: Пролетите по московским Вы, сии стихи, селеньям, В дом Хераськова войдите, И предстаньте вы пред очи Стихотворице московской. А ты, Хераськова, сему внимая слову, Увидети в себе дай россам Сафу нову. Наступает общая пауза, взоры всех обращаются к Елизавете и Разумовскому. Она одобрительно, но холодно кивает и говорит: — Ну, обожди пока. Награждение будет решено по окончании турнира. — И обращается к Тредиаковскому: — Василий Кириллович, теперь ты начинай. — Про что прикажешь, всемилостивейшая государыня? — Ну, уж и ты про солнце, — улыбается Елизавета. Он почтительно склоняет голову. — О солнце у меня говорится в стихах, городу Парижу посвященных. Бестужев ему кивает, и в зале слабо слышится высокий голос Тредиаковского: Над тобой солнце по небу катает, Смеясь, а лучше нигде не блистает, Зефир приятный овевает цветы Красны и воины чрез многие леты... — Как, как? — прерывает Елизавета. — Красны и воины? Это про что же? — Сие есть, по разумению моему, сокращение слова «благовонны», государыня, — говорит Бестужев. — Совершенно так, — подтверждает поэт. — Ну, ладно, — уже лениво отзывается Елизавета. — Занятней было бы про любовь послушать. — «Прошение Любве!» — с мгновенной готовностью возглашает Тредиаковский: Мы любви сами ищем, Ту ища не устали, А сласть ее познали, Вскачь и пеши к той рыщем. Елизавета усмехается, усмехаются за ней и все гости. — Как же это, — спрашивает она, поглядывая на своего поэта смеющимися глазами, — «вскачь и пеши» — и вдруг к любови! — У меня про любовь еще есть, ваше величество, — говорит немного смущенный поэт,— извольте выслушать начало: Покинь, купидо, стрелы! Уже мы все не целы, Но сладко уязвленны Любовною стрелою Твоею золотою. Любви все покорении. Точно освежающий ветерок проносится от этих изящных строчек по залу, и императрица говорит с одобряющей улыбкой: — Вот это хорошо сочинил, Василий Кириллович! Ну, ладно, сейчас нового пиита послушаем. Позовите его! Бестужев громко говорит: — Да будет известно воем присутствующим на сем празднике, что сей новый пиит нам уже ведом. Оный вития, обучаясь за морем горному делу, оду прислал на взятие нашими войсками крепости Хотин, весьма изрядно составленную, размером звонким и новым. Ну, пиит, твой черед! Ломоносов стоит в блестящем окружении любопытных, насмешливых, завистливых лиц. У него нет никакой бумаги со стихами, и руки его слегка дрожит, когда он оправляет свое кружевное жабо. Он оглядывается, как бы ища опоры. Но опоры нет. И на мгновение вспоминается почемуто, как учил его плавать огец, бросив в воду у самого карбаса. Потом он выпрямляет свою сильную грудь и закидывает голову. Бестужев улыбается Елизавете. — Ваше величество, пусть уж и сей младый бард о солнце зачнет свою начальную песнь. Понеже все пииты нынче его славят. Елизавета утвердительно кивает головой. — Весьма в манерах не галантен, — шепнет старый сановник соседу. Но звучный и низкий голос Ломоносова уже приковал общее внимание: Когда бы смертным толь высоко Возможно было возлететъ, Чтоб к Солнцу бренно наше око Могло приближившисъ воззреть: Тогда б со всех открылся стран Горящий вечно океан. Елизавета, слегка склонив голову набок, смотрит на него любопытным взглядом. Образ «горящего океана» вдруг доходит до ее сознания. — Постой-ка, — прерывает она чтеца. — Складно весьма и очень прекрасно, но боязно что-то. Господа Академия! — обращается она неожиданно ко всей группе ученых. — Что же это он у вас такой молодой, а про страшное сочиняет? Неужели у него про любовь нету? Ломоносов поднимает опустившуюся было голову, и глаза его становятся озорными. Он хочет что-то сказать, но академик Штелин, встав, перебивает его: — Ваше величество, у него есть и про солнце не страшное: касательно вращения вокруг него Земли и споре о том астрономов читать довелось кне его басню. Зело прост и легок слог ее. Как это у тебя там повар-то решил? Ломоносов громко говорит: ...Что в том, Коперник прав; Я правду докажу, на Солнце не бывав. Кто видел простака из поваров такого, Который бы вертел очаг кругом жаркого? Елизавета смеется, смеется Разумовский, за ними смеются все. Тредиаковский и Сумароков остаются равнодушными. — Ну, а теперь про любовь читай, — решительно заявляет императрица. — Только чтоб веселое! И он отвечает ей стихами: ...Внезапно постучался У двери Купидон, Приятный перервался В начале самом сон. ...Тогда мне жалко стало, Я свечку засветил, Не медливши нимало К себе его пустил. — И хорошо сделал! — весело говорит Елизавета и звонко смеется. — Купидонов нельзя отгонять, я и сама их люблю. Алексей Григорьевич, у нас там есть музыкальный сочинитель. Вели ему этого купидона на музыку перекласть, чтоб пели. И, обращаясь к Ломоносову, заканчивает: — А уж ежели ты купидона впустил, то расскажи нам стих о любезной своей. Как ты полагаешь, Алексей Григорьевич, есть у него любезная? — Полагаю, ваше величество, что должна всенепременно быть. — А ежели есть, — все еще милостиво улыбаясь, заканчивает Елизавета, — желательно нам знать ее приметы. — На сей предмет есть у меня токмо Анакреону подражание, — говорит Ломоносов. — Кто таков, не знаю! — императрица машет платочком. — Читай. Чуть улыбаясь, Ломоносов читает: Мастер, научен Минервой, Напиши любезну мне. Напиши ей кудри чорны, Без искусных рук уборны, С благовонием духов, Буде способ есть таков. ...Надевай же платье ало И не тщись всю грудь закрыть, Чтоб ее увидев мало, И о прочем рассудить. Императрица весело и громко хохочет. Смеется Бестужев, смеются все. — Ну, видать, сей пиит есть нынче победитель, — довольная смотрит Елизавета на Ломоносова. — Слог у вас тяжелее, — говорит она Сумарокову и Тредиаковскому, — и звону такого нет. Сумароков встает, и, отвесив ей глубокий поклон, отвечает: Пускай похвалятся надуты оды громки, А мне хвалу сплетет Европа и потомки. — Ну и ладно, нам Европа не указ. Не так ли? — говорит Елизавета, обращаясь к Бестужеву. — Истинно так, государыня, — с поклоном отвечает Бестужев. И когда он поднимает голову, императрица указывает ему глазами на Ломоносова: — А сего победителя надлежит наградить. Любопытно знать, в чем его желание? Бестужев смотрит на Ломоносова. — Государыне угодно, следуя регламенту турниров, исполнить желание победителя. Старый сановник склоняется к уху соседа: — Видать, новый фаворит хочет быть! — К тому идет... Все выжидательно и завистливо смотрят на Ломоносова. Он подходит ближе к креслу императрицы и останавливается перед ней — прямой, большой и смелый. Но голос его слегка дрожит, когда он говорит в наступившей тишине: — Ваше величество! Дочь великого Петра откажет ли мне в моей просьбе, в коей пользу отечеству моему соблюсти желаю? Повели, дочь зачинателя новых дел, освободить народу путь к знанию и соорудить для процветания наук первую на Руси... химическую лабораторию! Глаза императрицы делаются равнодушными, и на лице ее ясное выражение скуки. И чувствуя, что он говорит в холодную пустоту, он собирает все свое мужество и все-таки храбро добавляет: — Поелику без лаборатории принужден я токмо одним чтением химических книг и теорией довольствоваться. Но имею усердное желание в химических трудах упражняться и тем отечеству честь и пользу приносить. Елизавета лениво оборачивается к Бестужеву и небрежно говорит ему: — Опроси потом в подробностях сего просителя, в чем его просьба, а нам танцевать время. Она встает с кресла, и оркестр по знаку церемониймейстера начинает новый танец. — Вот и видать холмогорского-то рыбака! — говорит старый сановник. И его сосед, скользнув взглядом по лицу Ломоносова, добавляет: — Да будь ты рыбак, да не будь ты дурак! Бестужев проходит мимо Ломоносова и, обернувшись к нему, на ходу говорит: — Государыня приказать изволила: к следующему празднику учинить большой фейерверк и иллуминацию. Ломоносов наклоняет голову. Когда он поднимает ее опять, он видит, что блестящая толпа выстраивается в пары, готовясь к новому контрдансу, и что среди огней, движения, улыбок и льстивого шопота он стоит один. В холодных стенах Нет, нет, с ними нельзя было работать! Они подставляли ему ногу на каждом шагу в надежде свалить его наземь, этого слишком смелого адъюнкта, вышедшего из недр русского народа. На его просьбу о лаборатории последовал от Академии формальный отказ, а императрица о ней, по видимости, забыла. Денег не было в Академии не только на приобретение приборов, потребных для науки физической и химической, но их не было на дрова и свечи, а жалованье не выплачивали вовсе. Книгопродавец Прейсер давал гроши за книги, выдаваемые вместо жалованья, наживая на этом деле изрядные суммы. Между тем доподлинно было известно, что казной отпускались деньги не только на нужды, наиважнейшие Академии, но и лично на его, Ломоносова, имя, которое значилось в запертых на ключ списках Академической канцелярии все еще в графе «пребываемых за границей». О том, куда эти деньги девались, спрашивать было нельзя. Завернувшие к осени морозы превратили его нетопленную комнату в промерзший сарай. При писании стыла рука, и вода замерзала к утру в рукомойнике. Какие уж тут експерименты! Тоска! Тоска! В доме Дудиных было пусто: Машутку увез свекор погостить на родину. Виноградову и писать было нечего: куда уж его звать! Пусть лучше там, за морем, фарфоровое тесто месит. Здесь без шумахерова спросу дохнуть не дадут, В Академии, по крайности, хоть изредка Михеич протопит печи — все-таки пальцы не так стынут. В шумахеровых покоях токмо и соблюдают тепло. Да, нелегкое дело в отечестве насаждать науки! В ненастный вечер за окнами Академии падали и падали густые смежные хлопья. В одной из комнат, примыкавшей к апартаментам Шумахера и заставленной ящиками еще не разобранных ботанических коллекций, привезенных профессором Гмелиным из сибирской экспедиции, горела тускло свеча. В этом скудном освещении старый сторож Михеич, стоя на высоком табурете, вешал портрет Шумахера на самое видное место. А так как сверху ему трудно было судить о совершенстве выполнения поставленной ему задачи, он ждал суждения ученого секретаря Минца, наблюдавшего за его работой. Минц последнее время был в чрезвычайно плохом настроении, ибо Академия не отпускала его на родину, где мечтал он окончить свои дни. Кроме того, в Петербургскую Академию наук откуда-то пробирались постепенно русские и слышались нелестные речи по адресу академического начальства. А так как нередко зачинателем был адъюнкт Ломонософф, то Минц был особенно сильно раздражен на него. Раздражение это распространялось и на Михеича, который ворчал на «басурманский» язык в Академии и говорил, что отводит душу только с Ломоносовым. Михеич качнул портрет влево, качнул вправо и посмотрел на Минца: — Кажись, прямо теперь? — Одна чуточка на правый сторона... о! — сказал Минц. — Того довольно. — Ну вот, слава те, господи, пущай висит, а то в этой комнате еще нет его! — Михеич, кряхтя, спустился с табуретки. — Надо убрать пил и после того нанести дрова для кабинет repp Шумахера, — распорядился ученый секретарь, зябко поводя плечами. — Слушаю-с, — сказал послушно Михеич. Минц посмотрел вокруг. — Что такой? — вдруг строго спросил он. — Опять на этот стол лежат какой-то предмет? — Михаил Ваоильич наказали, чтобы не трогать. Михеич даже стал перед столом, словно готовясь его защищать, — Я буду просить герр Шумахер не разрешать ему делать свой комнат из Академия наук! Но эта угроза удалявшегося с важностью Минца, повидимому, очень мало испугала Михеича. Он взял пыльную тряпку и начал сметать пыль прежде всего именно с того стола, где лежали эти рассердившие Минца бумаги и «предметы», довольно спокойно сказав ему вдогонку: — Иди, иди, секлетарь!.. Сами понавешают на стены, чего не след, а посля всего... Иду! — крикнул он в ответ на стук в другую дверь и, открыв ее, с явным удовольствием произнес: — Здравия желаю, батюшка Михал Васильич, ваше благородие! Ломоносов, потирая озябшие руки, быстро прошел к столу, на ходу ответив: — Здорово, Михеич. А токмо я не благородие. — Это как же? — А так же, что я архангельский, а ты вологодский, вот и все. — Хе-хе-хе! Это складно-с, — засмеялся Михеич. Ломоносов дохнул, отчего в воздухе заклубился пар, и, не снимая своего плаща, подсел к столу. — А дверь пошто замкнули, Михеич? — Господин Шумахер наказали, чтобы без ихнего соизволения никого в Академию не впущать и не выпущать. — Ну, так я ему объясню, что Ломоносов в Академию и без его соизволения придет. Он, почитай, Академию-то и приданое за дочерью зятю Тауберту передает. Михеич сочувственно покачал головой и понизил голос: — А не любит он вас, Михал Васильич, и через то не любит, что вы умнее его. Опять же стараетесь, чтобы не одним иноземцам в Академии повадно было. — А как же о том не стараться? — Ломоносов голоса не понижал. — Нешто у нас в народе людей нет? И люди, Михеич, и богатства есть. Токмо их на свет на выпускают. — Михэитч! — послышался голос Минца. — Батюшки, про дрова забыл! — спохватился Михеич, торопливо исчезая за дверью. Когда он вернулся, Ломоносов, заложив руки за спину, стоял перед портретом Шумахера. Покачиваясь с носков на пятки, он с усмешкой спросил Михеича: — Это какой же дурак повесил? — Господин ученый секлетарь. — Так пусть он у себя над кроватью сей портрет и вешает, а не в зале Ученого совета, — и с этими словами Ломоносов повернул портрет лицом к стене, Михеич опасливо покачал головой: — Батюшка Михал Васильич, как бы не вышло чего! А то, гляди, не выдаст вам Шумахер завтрашний день жалованье-то! — А я его и так больше году не получаю, — махнул рукой Ломоносов. Михеич приблизился к нему и таинственно шепнул: — А это через кукиш! — Через какой кукиш? — Через ваш, батюшка, — продолжал так же таинственно Михеич. — Слыхать, собранье было, а вы на немцев осерчали, да кукиш им показамши, и ушли. — А верно! — расхохотался Ломоносов. — Показал — и ушел. Понеже кричали они, что народу нашему ученье не нужно... И вдруг, с разгоревшимся взглядом, голосом таким громким, что старик поспешно прикрыл поплотней дверь в шумахеровы покои, он заговорил точно не с Михеичем, а с самим собой. — Это нашему-то народу! — угрожающе помахал он пальцем в сторону покоев Шумахера. — Да снилось ли когда сим господам, что победить надлежало, через какие тяготы пройти пришлось нашим великим народным механикам и строителям! А они у нас были, Михеич, были и ноне есть. — Были, батюшка? — А как же! И грады рубили и храмы строили такие, что иноземцы дивятся, — все сами. Василия Блаженного в Москве видал? А кто строил? Барма с Постником, наши коренные. И царьколокол кто напоследок отлил? Наши — Моторины, а француз Жермен отказался. — Ах, батюшки, отлили свои! — сочувственно поражается Михеич. — Ну, французу-то, это, ясное дело, такую махину не отли-ить. — У народа нашего токмо руки связаны... — со вздохом сказал Ломоносов и потер застывшие пальцы. — А холодно здесь, Михеич, словно в погребе. Это изрядно, что топить будешь! Озяб я... Михеич печально покачал головой. — Эх, Михал Васильич, да нетто здесь дозволят зря топить! Это я по случаю погоды господину Шумахеру кабинет в другой раз нонче топлю. А здесь токмо в воскресный день топим. Покрякивая, он ушел и в дверях столкнулся с Минцем, который остановился, держась за ручку двери, и совершенно деревянным голосом провозгласил, глядя на вторую, свечу, зажженную Ломоносовым: — Я попрошу, господин Ломонософф, не зажигайт без разрешений repp Шумахер лишний свеча! Не поднимая глаз от листа бумаги, Ломоносов отвечает: — Я для пользы просвещения российского свечи жгу. Минц продолжает тем же голосом: — Герр Шумахер не бросайт деньги Академия через ветер! И так же, не глядя на него, заканчивает Ломоносов: — Ну да. Он их себе в карман кладет. Секретарь возмущенно откинул назад голову в высоком парике, сделал шаг по направлению к Ломоносову и... увидал перевернутый портрет. — Я буду говорить о том герр Шумахер, который вы оскорбляйт. И я буду показывать герр Шумахер на этот... — он протянул руку к портрету, — на этот, очень красивый поступок от господин Ломонософф. — На здоровье, — ответил Ломоносов, перелистывая свою рукопись. Воспользовавшись этой минутой, Михеич снова поспешно забрался на табурет. Когда через несколько минут герр Шумахер вошел в залу и сопровождении Минца, Тауберта и Юнкера, лицо правителя канцелярии выражало чувство оскорбленного достоинства. Он прежде всего посмотрел на стену и потом обратился к своему секретарю: — Вы ошиблись, герр Минц! Михеич усиленно загулял тряпкой по стульям, довольный своей проделкой и, главное, тем, что отвел временно грозу, а Михаил Васильич ничего и не заметил. — Разрешите узнать, господин адъюнкт, на каком основании избрали вы сие место для своих личных занятий? Голос Шумахера звучит надменно и сухо. — Господин Шумахер известен о том, — в голосе Ломоносова слышится сдержанное раздражение, — что за последнее время я дважды подавал прошение об устройстве химической лаборатории и получил на то два отказа. — Получите и третий, — язвительно говорит Тауберт. Шумахер пожимает плечами. — У Академии нет средств на ваши затеи. Вы намерение имеете повсюду ввести свой порядок и свои планы! — Шумахер произносит эти слова с нескрываемым озлоблением. — И какая польза? На что нам лаборатория ваша? — вздергивает он сухие плечи. Глаза Ломоносова вспыхивают от гнева. Он кивает головой на стоящие горкой между шкафами ящики Гмелина: — А вот хотя бы для этого. — Благоволите пояснить, — говорит Шумахер. — Господам Академии известно содержимое оных ящиков. — Ломоносов, сурово сдвинув брови, отчеканивает каждое слово. — В них образцы минеральных руд, кои профессор Гмелин из Сибири вместе со своими ботаническими коллекциями привез. С ними надлежит производить пробы в лаборатории. — На какой предмет? — спрашивает Тауберт. — На предмет нахождения в них либо золота, либо серебра, либо иных полезностей. — Михэитч, в кабинете затоплено? От этого внезапного вопроса Михеич даже вздрогнул. — Так точно, — ответил он и с неожиданной для самого себя смелостью добавил: — А здесь, ваше благородие, уже пять ден не топлено. Но Шумахер, сделав вид, что не слышал этого не идущего к делу добавления, оборачивается опять к Ломоносову и говорит небрежно: — Да? Так вы изволите полагать, господин адъюнкт... — Я изволю полагать, — перебивает его уже резко Ломоносов, — что експеримеиты со сжиганием вещества в запаянных ретортах, о чем помышляю я уже не один год, также производить можно токмо в лаборатории, а интерес они иметь могут не токмо для меня, а для всей науки. По лицу Шумахера проходит некое подобие улыбки. — Составьте о том более подробную записку и подайте в Академическую канцелярию, — говорит он сквозь зубы. — Я уже две записки в канцелярию подавал! — вскрикивает адъюнкт. Но они больше не слушают его и уходят. В шумахеровом кабинете потрескивают дрова в камине, и чашечки дымящегося кофе переходят из рук в руки нескольких профессоров, сидящих у самого огня за столом. Передавая сливки своему соседу, Шумахер спрашивает: — Что вы сказали, Тауберт? — Я сказал, что необходимо умерить порывы сего новоявленного адъюнкта. — Необходимо, — соглашается Шумахер, с удовольствием отхлебывая кофе, — и для того у меня есть план: отослать его диссертации на отзыв в Европу. — Но кому же? Кому? — Разумеется, не профессору Вольфу, — отвечает, сощурив глаза, правитель канцелярии, — ибо профессор Вольф имеет к Ломоносову пристрастие. А к нашему знаменитому соотечественнику — профессору Эйлеру, ибо сей прославленный ум есть самый строгий судья в Европе. — Прекрасно! Весьма разумно! — раздаются в ответ голоса трех профессоров, к которым неожиданно присоединяется четвертый, и с восклицанием: «фуй, какой ужасный метел!» — в комнату входит толстый Зейдель и, потирая руки; направляется к камину. — Сейчас мы вас согреем, — любезно говорит Шумахер. — Герр Минц, налейте еще чашечку кофе и передайте профессору Зейделю печенья. Это настоящие немецкие! — Боже мой, — говорит, отдуваясь, Зейдель и опускается в глубокое кресло, — хоть чтонибудь истинно немецкое в этой стране! Я скоро уже буду узнавать этот русский язык лучше, чем свой родной. А в чем тут дело? Мне показалось, я слышал имя Эйлера? И, узнав в чем дело, профессор Зейдель с довольным видом откидывается в кресле. — О-о, этто заммешательно! Профессор Эйлер — мы это все увидим — покажет ему одна мать для Куськи! — Герр Зейдель, — Тауберт с легкой усмешкой посмотрел на тучного профессора, — хотя герр Шумахер неоднократно высказывал пожелание, чтобы мы все, как профессоры Академии Российской, говорили как можно чаще на русский язык — вы сделали бы лучше, избегая употреблять к разговор русский пословицы. — Что такой? — профессор Зейдель бросил на Тауберта негодующий взгляд. — Я проживаю на этой Россия двадцать лет и великолепно узнавал русский язык. — Не сомневаюсь, — фыркнул себе в воротник Тауберт. — Не спорьте, господа, — примирительно обратился к ним Шумахер. — у нас есть еще один весьма не маловажный вопрос. Я имею в виду Виноградова, о возвращении которого Ломоносов подал нам уже три прошения. — Герр Шумахер, — тихо спросил Тауберт: — он узнал секрет? — Иначе мы не давали бы ему разрешение вернуться, — многозначительно ответил ему Шумахер. Минц наклонился к Шумахеру: — Этот секрет давно ожидают при дворе, — сказал он. — Именно потому, — закончил Шумахер, — некоторые весьма высокостоящие персоны порешили немедленно направить Виноградова на некий завод, где он должен будет заняться изготовлением фарфора. А теперь, герр Минц, скажите, чтобы нам дали еще по чашечке кофе. Так кончилось это не совсем обычное совещание. А в это самое время, заглянув снаружи в соседнее окно, молено было бы увидеть высокую фигуру Ломоносова, который ходит по комнате, потирая руки. И когда он останавливается перед Михеичем, старик, поглядывая на него грустными глазами, наставительно говорит: — Уж боялся я до чего, батюшка, что сызнова спор подымете. Либо и нонче кукиш им покажете! Я уж вас от шумахерова глазу все спиной загораживал. — Тут, Михеич, одним спором ничего не поделаешь. — Вот и я, батюшка, говорю: неужели вам с ними управиться? Их-то, гляди, сколько, а вы — один. Ломоносов неожиданно вскидывает гордо голову и уверенно говорит: — Нет, Михеич, не один! А Крашенинников, а Клементьев, Попов и Котельников, а Нартов, да и Рихман — это все свои люди, свои! А через год, глядишь, с нами и другие будут. Ничего! Прощай покуда. Он берет свой плащ и накидывает его на плечи. — Ничего, ничего, — ворчливо повторяет Михеич, открывая ему дверь, — а по морозу, почитай, нагишом бегаете. — А я к морозу приученный. Меня вот так же и мачеха из избы гнала, как ныне эти господа гонят. Они меня, как крысу, холодом выживают. — Дак куда ж вы теперь-то, батюшка? Посидели бы тут! — Нет, Михеич. Дома тошно, а и здесь работать нынче не могу. Тоска! Он ушел, а Михеич, выйдя проводить его до наружных дверей, еще долго топтался внизу на ступеньке, глядя в темноту. Темное небо вдруг озарилось блеском. Михеич посмотрел и покачал головой. — Пирует матушка наша, Елизавета Петровна-то, с иллуминацией! Ну что же, ихнее дело царское, ихнее дело молодое. А токмо иллуминацию-то Михаил Васильич устроили... Вот он и задувает теперь по морозу-то в плащишке. Как тут не быть тоске! А ихнее дело совсем другое! Ихнее дело царское! Э-эх! Он потоптался еще минутку и пошел обратно по темной лестнице. Тоска, тоска! Есть одно место в мире, где может она утихнуть, есть лицо, при взгляде на которое забывается все прожитое и по сердцу лучами проходит тепло. Он отворил дверь и вошел в этот дом. Старик Дудин, обняв его, радостно засуетился. Ломоносов подсел поближе к печке и, греясь, пристально оглядывал комнату. Как это пришло Машутке в голову и почему это пришло ей в голову сделать все так, как было когда-то в его родном доме?! — А что Алексей? Здорова ли Машутка? — спросил он. — А они, Михайло Васильич, в Архангельск поехали, к Даниле да к матери погостить. Там они теперь, и Параша там с детьми. Да-а. Вскорости, как ты уехал, выдали мы все-таки Парашуто,.. Что-то вроде тёмного облака прошло по лицу Христофора Игнатьича. Потом он посмотрел в лицо Ломоносова и с тревогой спросил: — Да ты что же это, Михайло Васильич, болен, што ль, сам-то? — Нет, Христофор Игнатьич! — Ломоносов невеселым взглядом осмотрелся еще раз вокруг. — Здоров я, а токмо... тоска меня нынче взяла. — Тоска-а?! — поразился Дудин. — Это тебе-то? Да ты, гляди, на какую лестницу поднялся! Нешто тебе можно тосковать! Ты закуси-ка, Михайло Васильич, легче будет. Он закусил, потом выпил, и пил за кружкой кружку, пока не согрелись тело и душа. Под караулом Он лежал одетый на своей жесткой кровати, поставленной у самого окна, и, закинув руки за голову, смотрел в легкую синеву неба. В это майское утро оказалось, что он присужден к домашнему аресту и что за дверью его комнаты стоит... часовой! Он — под караулом! Что же произошло? Что было совсем недавно и что уже давно? Довольно давно: нашумел в первый раз на конференции, обозвав, кого следовало, подходящим весьма словом, и поколотил все-таки в последнюю встречу гостей садовника Штурма и аптекаря Макса за хулу на Россию — и сам пострадал от них изрядно: еще бы! Один на семерых! Когда-то кричал... где? — в Географическом департаменте... на Винсгейма, составлявшего с ошибками, смеха достойными, карту России, и на самого Шумахера — ибо морил голодом и босыми держал Шумахер учеников Академической гимназии, расходуя неведомо куда казенные деньги, отпускаемые на ее нужды. Ругал еще и Тауберта, зятя шумахерова, покрывавшего его грехи и делившего с ним наживу. И со Штелиным поссорился — это недавно, со Штелиным, который отметил его первую оду, а ныне похвалялся в канцелярии, что русские-де без иноземцев ни на что не пригодны. И еще... Ох, да много было, всего не упомнишь сразу, но главное... главное — отказался отвечать перед назначенной следственной комиссией на жалобы академиков. Что же осталось? Адъюнктства уж не отнимешь, а вот от чтения лекций по химии и натуральной истории, чего с таким трудом добился, ныне отставлен. Правда, слушателей у него, как и у других профессоров Академии, всего был один — из многих желающих начальство академическое по непонятным, ему одному ведомым причинам, более одного к лекциям не допустило. Но и сего одного с увлечением великим старался он осведомить в началах известных ему наук, а сверх того, в искусстве стихосложения. Что же еще? Приборы из Академии —.хоть какие похуже — начали все-таки выдавать, а теперь и того не получишь. Книг ныне почти лишился, вот что всего тяжелее! Надо будет о сем подать прошение. И что можно дома сделать своими средствами, безотлагательно надо будет начать. И усердно продолжить и кончить перевод «Физики» Вольфа и свою «Металлургию», Как-то, уже к вечеру, он услыхал шаги под окном. Кто-то взошел на крыльцо, предъявил часовому разрешение на вход и теперь стучится у его двери. Он открыл ее, увидал Рихмана и протянул ему обе руки. В этом человеке было нечто столь самостоятельное и честное, что минуты общения с ним успокаивали бури и вселяли бодрость. Его живой горячий интерес к науке, собственные смелые догадки и способность загораться чужими — прежде всего ломоносовскими — проектами прогоняли всякую тоску. Так и теперь: уныние последних дней исчезло. Академия, о которой думал лишь с гневом, вновь приобрела в его глазах интерес. Он усадил Рихмана в единственное кресло, уселся напротив на скамейке и начал без малейшего промедления забрасывать Рихмана вопросами, на которые тот не успевал отвечать, и поспешно делиться с ним своими мыслями, как человек, долго проживший в одиночестве. Во-первых, Рихман получил разрешение навещать его и будет доставлять ему книги, что было уже счастьем. Во-вторых, — и это было невероятным, — Академией ныне управлял Нартов, обучавший некогда еще Петра слесарному делу. Шумахер — в связи с множеством жалоб на него — сидел под арестом. Но, по слухам, вел себя безо всякой робости и даже с остроумием, чем внушал мысль о своей невиновности. Доносители были тоже под арестом. На Ломоносова профессоры в гневе большом. И о мире с ним до сих пор и слышать не хотят. Но это времени надо предоставить, закончил Рихман, а терять его в бездействии нельзя и работу вести надо... И перешли оба к тому, что было обоим всего дороже: к вопросам о научной творческой работе. И теперь уже Рихман, сидя неподвижно в кресле и не отводя глаз от оживленного лица Ломоносова, слушал то, что ему излагалось. А излагалось ему немало. На первом месте была лаборатория. С ней связывался десятилетний план будущих опытов. Сюда входило все: и работы чисто химические, в которых предполагалось исследовать свойство вещества, иначе — всякой материи, и ее способность меняться либо сохраняться неизменной; и искусство загодя узнавать погоду, ведя метеорологические наблюдения и записи, для чего потребны были бы особые самопишущие приборы на предмет исследования верхних слоев атмосферы; и опыты по изучению силы электрической, столь мало еще известной, дабы с точностью установить — не этой ли силой насыщены облака грозовые и не одной ли с ней природы является молния небесная. Излагались ему и результаты многочисленных — покуда простейших—опытов с растворителями, которые почитал Ломоносов весьма важными. И говоря с горячностью о химии, называл ее наукою об изменениях, «кои в смешанных телах происходят», наукой, составляющей как бы некое единство с физикой и требующей точных измерений. И, наконец, исследования, о которых мечталось уже много лет, — по изучению корпускул, или же атомов, сиречь незримых частиц, из которых, несомненно, состоят все тела и вся материя во вселенной, — вечная и единая, — от самых дальних звезд до атомов земного естества. Гимн солнцу Рихман ушел уже поздним вечером. Но летняя заря долго еще потухала в небе, и долго еще таяли на западе легкие облака. Лишь на короткое время опустилась над землею тень, и лишь на короткое время Ломоносов задремал над работой, и которую сел тотчас по уходе Рихмана. Он проснулся от ярких лучей, теплом и светом коснувшихся его лица. Проснулся, открыл глаза и замер, восхищенный, точно увидал его впервые — торжественный и ослепительный солнечный восход. Он смотрел, думал и вспоминал свою же собственную незаконченную оду, которую называл про себя «гимном о солнце» и первые строчки которой прочел на памятном ему балу во дворце. «Горящий вечно океан», заключенный в сияющий диск, медленно поднимался перед ним. Он смотрел на него глазами художника и думал как ученый и мыслитель о величии всего мира. Потом взял бумагу и с минуту сидел неподвижно, наморщив лоб, покусывая в рассеянности перо. Утренние, еще не громкие звуки и голоса слышались в прохладном воздухе, и птицы заливались в соседнем саду, когда Ломоносов дописал последнее слово и положил перо. И, чувствуя себя счастливым, как после завершения большой и любимой работы, лег, наконец, и заснул. Луч уже высоко стоявшего солнца падал на его лицо и на слова, написанные на белом листе: «Утреннее размышление о божьем величестве». Так назвал он свой «гимн о солнце». Он прочитал его Рихману как-то уже под осень. Обычно во время этих свиданий Ломоносов читал внимательному гостю отрывки своей новой работы, «Металлургии», или, расхаживая по комнатенке, постепенно заполнявшейся книгами и рукописными листами, развивал перед Рихманом свои все растущие планы опытов. От его смелых мыслей, от рассуждений, вступающих в спор со всей современной ему наукой, скромного Рихмана нередко бросало в пот. Но чаще всего и он загорался ответным огнем, особенно в те часы, когда говорил Ломоносов о новой электрической силе, давно занимавшей Рихмана. И тогда, перебивая друг друга, торопясь все сказать в краткие минуты свиданий, они мечтали о совместных опытах в будущей лаборатории. Ломоносов мгновенно делался сосредоточенным, собранным, деловито спокойным и набрасывал на клочке бумаги чертеж то задуманного им громоотвода, то самодельного деревянного прибора для определения вязкости тел... — Итак, вы совершенно уверены, что молния происходит так же, как от трения возникает искра? — в десятый раз спрашивал Рихман. — Совершенно уверен, а равно и в том, что молнию можно отвести в землю. В этом ответе слышалась такая сила, что не подчиниться ей было невозможно. Восторженно выслушал Рихман «Утреннее размышление о божьем величестве». Он никогда не читал стихов. Но теперь впервые в жизни до него дошла простая и величественная мысль этого гимна и та ритмическая, музыкальная форма — новая для его слуха, которая передавала столь грандиозное явление мироздания. Прослушав, Рихман вскочил и долго тряс руки Ломоносова, а уходя от него, сказал: — Вы — удивительный народ, а вы — самый удивительный из своего народа! Оставшись один, Ломоносов открыл окошко и вдохнул повеявший с реки влажный и все еще теплый воздух вечера. Вверху, над его головой, мигали и переливались осенние звезды. Над широкой рекой и над морем, куда стремилось ее мощное течение, над дальними просторами и горами, куда ему самому доступ был закрыт, опускалась медлительная ночь. И если для того, кто заперт в этой маленькой комнате, был недоступен простор земли, то небо — небо принадлежало ему. Он закинул голову туда, к синеющим пустотам, и сказал топотом самому себе те же слова, которые впервые в памятную ему осеннюю ночь родились, как песня, в его сознании и его сердце: Открылась бездна звезд полна; Звездам числа нет, бездне дна. Теперь, по прошествии стольких лет, он снова почувствовал, что слова эти хороши, ибо с точностью выражают его мысль и передают величие того, что ему открылось. И теперь, уже обогащенный опытом, он взял эти две строки как основу нового гимна, который можно было бы назвать в противоположность первому гимну — о солнце — «гимном к ночи». Он подумал над его заглавием, дописывая последние строчки уже под утро, и вывел своим твердым и ровным почерком: «Вечернее размышление о божьем величестве». Невыносимый адъюнкт В осеннюю пору мокрых ветров и мокрого снега Рихман заболел, и посещения его прекратились. Теперь Ломоносова навещали только два старых товарища: переводчик Иван Голубцов, некогда привезенный вместе с ним и Виноградовым из Заиконоспасского училища в Академию наук, да Степан Крашенинников. Их посещения были великой радостью, но Рихмана заменить не мог никто. Ломоносов просил их обоих умолить академиков, чтобы выдали ему в счет жалованья из книжной лавки Академии «Физику» Ньютона да «Универсальную арифметику». А в ожидании этих книг продолжал свой перевод Вольфа и упорно работал над «Металлургией». Изредка, тайком от начальства, забредал старый Михеич и, потоптавшись около своего Михаила Васильича, сокрушенно вздыхал, охая и повторяя: — Не вяжись ты, батюшка, с этими господами: их, гляди, сила, а ты один, как перст. Находившийся иногда тут же Ванятка, забегавший с дедом прибирать комнату, поглядывал на Ломоносова исподлобья, с явным сочувствием во взоре. — Вот они вам, батюшка, — не унимался Михеич, — кормиться-то за свой счет велят, а жалованья не платят. Вот у вас харчей-то и нету. Была в шкапе намедни морковь, а ноне, гляжу, и тое нету. Дров не было, и опять в истопленной комнате клубился от дыхания пар. С детства преследует его мороз! Воздух, почитай, не лучше, чем в том промерзлом сарае, куда он убегал с книгой от мачехи. Его знобило по вечерам и, чтобы забыть о голоде, приходилось раньше ложиться. — Вот вы и сидите, батюшка, што пес в конуре, а Шумахер-то наш, слыхать, скоро домой воротится, ох-хо-хо, жизнь наша человеческая! — сокрушался Михеич. Поздним вечером быстроногий Ванятка — с красным и торжествующим лицом после решительной перебранки с часовыми — появляется на пороге ломоносовской комнаты и, поставив перед ним на стол котелок с кашей, вытаскивает откуда-то из полушубка большой кусок пшеничного хлеба и строго добавляет: — Дедушка приказали, чтобы на сон грядущий съесть. Да, это были настоящие друзья! В один ненастный вечер его особенно знобило, а голова устала от бесконечной вереницы одиноких мыслей. И мучительно хотелось есть. — Постой-ка, Иван, — остановил он собиравшегося уйти Голубцова, — передай господам Академии малую мою просьбу, на вот прочти. Голубцов поднес бумагу к сальной свече. «Уж больше года я, нижайший, от Академии жалования не получаю, отчего пришел в крайнюю скудость. А ныне я, нижайший, нахожусь болен и не токмо лекарства, но и дневной пищи купить на что не имею». — Помяни мое слово, Михайло Васильевич, не простят тебя без публичной повинной, того и добиваются, — сказал в раздумье Иван Голубцов, складывая записку. — А ответ я тебе занесу кряду. Но ответ принес не он. Когда через два дня в сумерки Ломоносов, устав от своих печальных размышлений, прилег на кровать, он услыхал за дверью шаги, показавшиеся ему шагами Рихмана. Ну, конечно, он не мог ошибиться: это был Рихман — и это был праздник! Поглощенный беседой с Рихманом после столь долгого перерыва, он рассеянно пробежал глазами ответ на свою просьбу, написанный поперек его же собственной записки: «За неимением денег — выдать Ломоносову пять рублев». Он усмехнулся и бросил бумажонку на стол. И, бросив, увидал одно слово, смысл которого только теперь дошел до его сознания. Это слово было «Шумахер», обычная подпись в Академии! Ломоносов смотрел на Рихмана, пораженный. — Да, — сказал Рихман, — вы, конечно, весьма удивлены, но это так: подписал герр Шумахер, который освобожден. Через минуту Ломоносов уже знал все события последних дней: был восстановлен в Академии Шумахер, был направлен к прежней работе Нартов и постановлено наказать доносчиков кнутом, но от государыни помилование пришло. Ломоносова же, буде не повинится он в содеянных проступках, постановлено держать в том же состоянии, то-есть под караулом. — Повинитесь, герр Ломонософф, — настойчиво повторял Рихман, дотрагиваясь до его руки, — ведь вели вы себя все же, сказать надлежит, не совсем по этикету, — он усмехнулся и посмотрел на Ломоносова, который стоял перед ним, насупив брови и упорно размышляя, и вдруг тоже улыбнулся. — Да уж куда там по этикету! Господам профессорам весьма от меня жарко стало. — Тем более повинитесь, — повторил Рихман. — Мне поручено передать, что вам надлежит совершить сие на конференции, написав и закрепив извинения свои по всей форме, как установлено господами профессорами. Рихман с точностью передал ему все, что они желали от него слышать, и, помолчав, закончил: — И к тому вам добавить должен, что вышел о вашем деле указ. Сей указ принес я вам для прочтения. Ломоносов взял протянутую ему Рихманом бумагу и прочитал: «Адъюнкта Ломоносова для довольного его обучения от наказания освободить, а в объявленных учиненных им продерзостях у профессоров просить ему прощения, а что он такие непристойные проступки учинил в Комиссии и в Конференции, яко в судебных местах, за то давать ему, Ломоносову, жалованье — в год по нынешнему его окладу половинное; ему же, Ломоносову, в канцелярии Правительствующего сената объявить с подпискою, что ежели он впредь в таких продерзостях явится, то поступлено будет с ним по указам неотменно». Ломоносов прочел и стоял перед Рихманом в той позе упрямого бычка, которая была ему привычна с детства и в которой так напоминал он отца, когда бывало заупрямится иной раз Василий Дорофеич в споре с покрутчиками, снаряжаясь в плавание. — Подумайте, — сказал тихо Рихман, — без этого не быть вашей лаборатории, ни званию профессорскому, — и живой сверкающий взгляд его с упорной настойчивостью обращается в глаза Ломоносова. Лаборатория, в которой все уже было продумано до мелочей и которая в бессонные ночи столь ясно виделась мысленному его взору, закачалась перед ним, словно в воздухе, и куда-то поплыла в темноту. Тогда он сделал жест рукой, как бы стараясь схватить этот образ, быстро подсел к своему столу и, отодвинув решительным движением груду книг, без единой помарки написал на своей блестящей латыни, вызывавшей зависть у марбургских студентов, то «объявление с подпиской», которое вскоре произнес публично на заседании конференции Академии наук 27 января 1744 года. Получив по окончании конференции указ о своем освобождении, он написал новое прошение об устройстве химической лаборатории и тут же, не выходя из Академии, отнес его в канцелярию. Шумахер, прочитав это прошение, молча развел руками. Потом обернулся к Минцу, стоявшему за спинкой его кресла, и с возмущением воскликнул: — И это в первый же день освобождения! Когда же, наконец, успокоится этот невыносимый адъюнкт! Нерез несколько дней Ломоносов получил на свою просьбу и письменный ответ: «Адъюнкту Ломоносову по сему ево доношению ничего сделать не можно». Прочитав этот ответ, он схватил свою треуголку и поношенный до последней степени плащ и, выйдя из надоевшего дома, до поздней ночи бродил по набережной, дабы привести чувства свои хоть в некое равновесие. После повинной Нет, эти долгие месяцы домашнего ареста все-таки не прошли понапрасну: вот они, плоды! Он разложил на своем столе, собирая в аккуратные стопки: сюда — оды, написанные по заказу, по случаю торжественных дней, и «Утренние и вечерние размышления о божьем величестве»; сюда — «Физика» Вольфа, — почитай, без малого закончил, — и к ней же можно свою книгу о металлургии положить, а сие все — отдельно: диссертации по физике, — вот она, самая большая и с длинным названием: «О составляющих тела природы нечувствительных физических частичках, в которых находится достаточное основание частичных свойств», — надо бы название сократить, — и по химии: «Элементы математической химии». По физике сколь обширны задачи исследований и экспериментов, задачи, лежащие в корне всей науки физической! Свойства вещества, строение его — вот ее основа! Надлежит ученым в оной науке сыскать причины видимых свойств, в телах на поверхности происходящих, от внутреннего их сложения; сие есть конечная цель ее, сиречь то изучение корпускул и еще меньших, первичных частичек, к которому он столь давно стремится. Это было па второй день его освобождения. Он почти выбежал из дому на улицу, в город. Он стосковался без ветра, без снега, без возможности бродить совершенно свободно по этим вытянутым в линию «першпективам», с головой, охваченной огненным вихрем мыслей, планов и надежд. Она и теперь горела от них, эта упрямая голова, не склонившаяся перед трудностями, не забывавшая ни на единый миг намеченной цели. Ибо он знал, что, принося покаяние тем, кто презирал в нем его крестьянский крепкий род, и явившись перед ними с публичной повинной, он приближал к себе эту цель: становление русской науки и просвещение русского народа. А и то сказать — академикам от него досталось изрядно: что тут кукиш, о котором вспоминал с ужасом Михеич! На заседание конференции вошел, не снимая шляпы, и расхитителей казны русской такими словами разукрасил, что и сам не упомнит! А в департаменте Географическом сколь немалую бурю поднял! Кричал так, что после того голос осекся. Дня два шопотом говорил. У Минца с того дня приключилось разлитие желчи, и сам Шумахер токмо на другой день из кабинета вышел. Сам Шумахер... Да, он теперь попрежнему Академией управляет, благо что она без президента. И уж теперь-то диссертации его, наверное, Эйлеру пошлет, если уже не послал, уповая на его посрамление. Под ногами крутилась легкая поземка. Он любил вьюгу и с какой-то тайкой радостью следил за ее медленным нарастанием, за крепнущей силой ее дыхания. Он прошел по набережной и, побродив еще немного по затихшим улицам, свернул к Малой Невке. Метель В голубоватых сумерках неслась за ним следом метель, отставала и вновь обгоняла его сквозным вихрем снежинок. Вот легкие охапки снега, пролетев впереди него, рассыпались у калитки какого-то сада. Деревья стряхивали снег с длинных веток на кровлю небольшого дома и на его крыльцо. Поглядев на светившиеся оранжевым светом окошко, Ломоносов без стука отворил тяжелую дверь и вошел в этот дом, который вспоминался ему неотвязно и тянул к себе, как студеною ночью согревающий костер. В этот день не было гостей: может, по случаю метели. В большой комнате — в горнице его родного дома — было сумеречно и тихо, как бывало у них в эти часы. Лампадка, мигая, зажигала рубиновым блеском киот. За маленьким окошком проносились вихри снега. Он неслышно приоткрыл дверь, и вдруг из тишины донеслись до него звуки, заставившие вздрогнуть его душу, и он на минуту загородил глаза рукой, точно от слишком сильного света. Он услыхал тихую песню, ту самую колыбельную песню, которую напевала ему Алена Ивановна, мать его, и которую он давно забыл. А вот сейчас этот простой северный напев, словно долетевший сюда из его детства, с ослепительной ясностью вызвал в памяти то чувство безмятежного покоя, с которым засыпал он на руках матери, прислушиваясь к однообразной мелодии. И тихое лицо Алены Ивановны встало перед ним, ясное и ласковое, каким может быть только материнское лицо. Он подошел к двери в соседнюю горницу, откуда слышалась песня, и увидал Мапгутку. Она сидела у колыбели и в глубоком раздумье слегка покачивала ее одной рукой. И, покачивая, напевала вполголоса. Может быть, от печального северного напева какая-то тень лежала на ее милом лице. Она оглянулась и, увидав Ломоносова, слегка вскрикнула от неожиданности, оборвав на полуслове песню. И, встав, поклонилась в пояс. Синие глаза с тревогой скользнули по его лицу. — Михайло Васильич, что так похудел? Не болен ли? — Нет, — ответил он, — не болен. Он заглянул, нагнувшись, в колыбель и в полусвете разглядел крошечное лицо девочки, похожей на Алексея Дудина. — Дочка твоя? — спросил он негромко. Она молча наклонила голову и потом снова начала пытливо всматриваться в его лицо. — Что так не был давно? Али что случилось? Простая, теплая забота этих слов раскрыла вдруг все запертые двери его сердца. Ему неудержимо захотелось рассказать ей обо всем, что с ним было, обо всем, что происходит с ним теперь. Пусть химическая лаборатория ничего не скажет ее воображению, — его одиночество среди чужих людей и его неуклонную борьбу с ними за что-то ему дорогое она поймет. И Машутка поняла. Сидя подле него, она слушала с полуоткрытым по-детски ртом и не сводила взгляда с его лица, внимая всем сердцем. Было что-то материнское во взгляде ее синих глаз и что-то ребяческое в звонком смехе, который был совсем такой же, как в редкие минуты веселости в ее детстве, когда мачеха уходила из дому. Она развеселилась, узнав о том, что этим важным и ученым господам, представлявшимся ей очень страшными, он, ее Михайло, показал кукиш. Она возмущалась жестоким начальством, посадившим его под домашний арест: даже если бы он был виноват, все равно его нужно было простить. И она гордилась его ученым званием, не задумываясь о том, что оно значит, гордилась не меньше, чем гордилась бы званием фельдмаршала, которое, по ее глубокому убеждению, он мог бы без всякого труда получить. Когда он кончил свой рассказ, он почувствовал, что горечь всего пережитого и холод глубокого одиночества растаяли в тепле ее сердца, как льдинки в весенней воде. За задернутым пологом расплакался, проснувшись, ребенок, и Машутка вернулась к колыбели, снова закачав ее одной рукой. — Не заснет теперь, — сказала она тихо, — песни просит. Ломоносов посмотрел на ее русую голову, нагнувшуюся над колыбелью. — Ты спой, — попросил он, — ту, что пела, как я вошел. Я ее от матери да от тебя токмо и слыхал. Она послушно села на скамеечку и, взяв ребенка на руки, запела ту же песню. И пока она пела, он глядел на милое се лицо, на полуопущенный синий взор под темной каймою ресниц и чувствовал, как в сердце его поднималось что-то огромное, чему еще не было имени, наполнявшее его непривычной нежностью, и великой радостью, и великой болью. Ребенок скоро заснул. Он подошел и еще раз внимательно посмотрел на крошечное лицо. — Вся в отца, — медленно сказал он. — Да, — ответила Машутка тихо. Она стояла перед ним словно виноватая, опустив свою русую голову. — Писала я тебе еще за море, Михайло Васильич, — вдруг сказала она неспешно и твердо, подняв на него глаза. — Как утонул Василий Дорофеич, мачеха твоя согнала меня из дому, и, окромя как замуж, деваться мне было некуда. Либо руки на себя наложить. — Я знаю, — ответил он, и все слова вдруг исчезли из его памяти. Ему захотелось только взять ее на свои сильные руки и прижать к себе, как она прижимала к себе ребенка. Но он этого не сделал. Он только смотрел на нее, пока не услыхал, как стукнула громко входная дверь. Ему показалось невозможным встретиться сейчас с Алексеем Дудиным. Он взял свою треуголку и, простившись с Машуткой, вышел в метель. Да, он понял в этот день: была Машутка ему слишком дорога, и была она неотделимой частью его самого, его родины и его народа. Попрежнему качались деревья в саду перед домом, и снег все так же падал и падал на крыльцо. Когда он подходил к бонновскому дому, его чуть не сшиб с ног Ванятка, влетевший в ворота и при виде Ломоносова остановившийся, еле переводя дух. — Ко мне? — коротко спросил Ломоносов. — Так что дедушка вам сказать велели, что им господин Шумахер наказали, чтобы вам в нашу Академию бечь. Ломоносов не мог не усмехнуться при виде оживленного лица Ванятки, который всегда с точностью передавал ему наказы Михеича и, говоря об Академии, никогда не забывал добавить «наша» с таким видом, словно был он, по меньшей мере, ее ученый секретарь. — Мне в Академию? А когда же? — Нонче вечером, — с непреклонной решимостью ответил Ванятка, и через минуту валенки на его быстрых ногах уже замелькали в обратном направлении. «Уж не стряслось ли чего в Академии за два-то дня?» – подумал Ломоносов, глядя на исчезавшего в метели Ванятку. А вдруг лабораторию разрешили? Не может того быть! Даже жарко стало от этой мысли! В кабинете Шумахера, как всегда в зимние вечера, ярко горел камин и в теплом воздухе носился запах горячего кофе. Шумахер и академик Штелин сидели перед огнем у круглого столика, просматривая последний номер «Санкт-Петербургских ведомостей». На столе перед Штелиным лежало запечатанное письмо. — Присядьте, господин адъюнкт, — неожиданно милостиво сказал Шумахер, отвечая легким кивком головы на поклон Ломоносова. — Академик Штелин имеет вам нечто сообщить. Академик Штелин посмотрел на Ломоносова и усмехнулся. — Но прежде всего, — медленно произнес он, открывая не спеша свою табакерку, — прежде всего надлежит господина Ломоносова поздравить. «Разрешили лабораторию!» — мелькнула у него радостная надежда, и, не удержавшись, он спросил и Шумахера и Штелина сразу: — С чем именно? — А как же! — тем же тоном продолжал Штелин. — Объявилось нам нежданно, что господин адъюнкт в Марбурге не только в вольфовой физике преуспел: господин адъюнкт в Марбурге женился! Кровь медленно прилила к щекам Ломоносова, но когда он поднял снова голову, лицо его уже приняло свой обычный вид. Во всяком случае, Шумахер не мог различить в нем никакой перемены, когда, обернувшись к Штелину, он спокойным голосом спросил: — Что же случилось с моей женой? Шумахер не мог не подумать, что у господина адъюнкта объявилась неожиданная способность владеть собой. — Поистине, о сем предмете надлежало бы вам знать лучше, нежели Академии, — попробовал сострить Штелин. Ломоносов посмотрел на письмо в его руках и ответил со свойственной ему прямотой, которая так часто спасала его в трудных случаях: — Совершенно так. Но полагал я, что давно забыт ею, ибо не имел никакой возможности устроить здесь привычную для нее жизнь и вызвать ее к себе. — Он полагает, что забыт ею, — воскликнул Штелин, — а она разыскивает его! Эта бедная женщина обратилась в наше посольство к графу Головкину, дабы узнать о тебе, и граф Головкин запросил о сем в Санкт-Петербург, и вот мне граф Бестужев передал письмо. — Ежели она помнит меня и желание имеет сюда ехать, я незамедлительно достану и вышлю ей денег на дорогу и всегда буду ей рад. — Нельзя не признать, — промолвил Шумахер, когда дверь за Ломоносовым закрылась, — что на сей раз он вел себя крайне сдержанно. Воротите-ка его, герр Минц! — крикнул он секретарю, как раз в эту минуту входившему в кабинет. — Герр адъюнкт, — сказал Шумахер, когда Ломоносов снова вошел в его кабинет, — мы понимаем, что семейная жизнь требует условий, отличных от холостой жизни. А посему в этом случае Академия пойдет вам навстречу. Я постараюсь дать вам квартиру. И, усмехнувшись, добавил: — Этот вопрос может быть разрешен Академией гораздо легче, нежели вопрос о вашей химической лаборатории, от коей нет покою ни вам, ни нам. Метель не прекращалась. Глубокой ночью голоса ее и тихий шелест сухого снега все еще носились над безмолвным бонновским домом. В нем спали крепчайшим сном все, кроме одного человека. Он ходил беспокойными, тяжелыми шагами по своим двум комнатенкам и временами останавливался, закрывая глаза. Со знакомым ему от первых дней жизни завыванием за окном проносились снега. И в темноте ясно вставало воспоминание: лицо Лизбет с ее доверчивым взглядом. Ее глаза поднимались от приходо-расходной книги и останавливались на нем. Но другой взгляд – синий-синий и лучистый – смотрел на него тоже, и он не мог на него наглядеться, словно в греющем свете его была заключена вся краса жизни и вся душа родины. Над кровлей дома и над садом у Малой Невки тоже носится сейчас метель. Длинные ветки деревьев стряхивают с себя снег на небольшое крыльцо. В окне давно потух оранжевый свет свечи. Но, может быть, тихий голос опять там поет ту же песню... Он никак не мог вспомнить ее конца. И заснул, все вспоминая этот простой конец такой простой песни. Дорогой гость Весна наступила рано. В апреле прошел и невский и ладожский лед. Но и после половодья Нева долго не входила в берега. Дожди с шумом проносились над столицей. Под дождь хорошо спится, особенно после того, как человек просидел весь день не разгибаясь и писал, и перечитывал написанное, и снова писал. И если на сердце у него невесело и если ему хочется об этом забыть... Поздним вечером Ломоносов встал, наконец, от стола, чтобы лечь, и прислушался: ему показалось, что к воротам подъехала повозка. Он вышел на крыльцо и шагнул прямо под дождик — посмотреть, кто бы это мог быть. В ту же минуту знакомый голос крикнул радостно: «Михайло!» — и кто-то, обняв его крепко, прижался к груди. — Митрий?! Ну, конечно, это был он! И хотя в темноте Ломоносов не видел ясно его лица, но рука его нащупала знакомую кудрявую голову. Они разглядывали друг друга в комнатенке Ломоносова при свете всех свечей и всех огарков, какие только могли найти в его владениях. Потом они вытащили на стол все, что нашлось съедобного у обоих, но сесть к столу еще долго не было времени. Виноградову понадобилось прежде всего осмотреть обе комнаты Ломоносова. И еще и еще раз осмотреть самого Михайлу и тут же показаться ему во всем величии своего нового звания — капитан-поручика по чину, горных дел мастера по роду занятий, — и похвалиться кортиком, полагавшимся при капитанском мундире. — Ты надолго ли, друже? — спросил, наконец, Ломоносов, с улыбкой наблюдая за Митрием, который, ни на минуту не останавливаясь, то вертелся по комнате, осматривая книги, заглавия рукописей и ломоносовский, висящий на гвозде, кафтан, то вынимал свои собственные книги, вещи и аттестаты. — Ведь экий непоседа! — усмехнулся Ломоносов, – Сядь к столу-то, дай, по крайности, поглядеть на тебя. — Сейчас, Михайло, я сейчас, — Виноградов послушно усаживается перед ним. — Я ведь отсюда вскорости на заводы еду: предписание имею фарфоровое дело здесь насаждать. Да не шибко я в оное дело при наших порядках верю. Ну, там видно будет. Я ведь с первым кораблем прибыл. А Густав-то, Густав! — вдруг залился он звонким смехом. — А что Густав? — Почитай, жениться готов Густав наш. — Да ну? — Право слово, Михайло! Там, в Германии, у сродственников двоюродную сестрицу какую-то нашел, и ее ему сватают, — заливался смехом Виноградов, — и тетенька туда к нему поехала — для соблюдения анбиции! Ей-богу, Михайло, прямо со смеху помрешь! Он, видать, и навовсе за морем остаться не прочь, наш жених-то! И, став вдруг серьезным, спросил, подняв голову и глядя пристально па своего друга: — А ты как же, Михайло? Ведь писал ты мне из Марбурга, что женился... Как же теперьто? Ломоносов помолчал. — Я не токмо жену прокормить и как надлежит устроить не мог, я и один-то до сей поры, почитай, голодом сидел. Иной раз живот не хуже подводило, чем у нас в Заиконоспасской, даром, что в адъюнкты произведен. — В адъюнкты? — весело повторил Виноградов. — Да ты их всех тут не токмо что адъюнктов, а и профессоров за пояс заткнешь! Ведь профессорское звание-то обещали? Я ведь помню: «как вернетесь — в екстраординарные произведем». А теперь как же? — Ну, Шумахер теперь такой вид показывает, будто и не было сего никогда. Немцы, Митрий, такой стеной стоят, что одним лбом не прошибешь. Ну, да у меня он крепкий, лоб-то: отцовский. Авось, не расколется, — усмехнулся Ломоносов. — Вот как воротится двор из Москвы, я на имя государыни Елизаветы Петровны прошение подам о производстве. У нас к тому же и кафедра химическая пустует. Профессор Гмелин едва-едва вырвался в свой фатерлянд, абшид всего на год дали, да за поручительством. Я же и поручился за него. А сдается мне, что не воротится он в Петербург. — Как же ты поручился-то, Михайло? — с тревогой спросил Виноградов. — Гляди, последнее с тебя обдерут. Много ль платить надо? — Да поболе годового оклада. Токмо ежели не вернется он, кафедру по химии, кроме как мне, некому будет передать. А мне она крепко нужна, Митрий, кафедра да лаборатория химическая. Без нее все работы неведомо как производить. О том уж четыре прошения подавал. Шумахер четыре раза отказывал, а я не отстану, покуда своего не добьюсь. — Молодец ты у меня, Михайло! — посмотрел на него снизу вверх влюбленными глазами Виноградов. — С одами как подвизаешься? — При дворе отменно ими довольны, и за оду на восшествие на престол государыни представлен к денежной награде, да денег еще не выдали. Ну, друг, — закончил Ломоносов, переходя к столу, — ты, я чай, голоден с дороги-то? Чем попотчевать тебя хорошенько, не знаю, вот в чем горе мое. — Да у меня еще с собой, гляди, немало осталось! — весело захлопотал, засуетился у стола Виноградов. — Вот, разливай вино, Михайло! Почитай, вся бутыль еще цела! Чокнемся за самое что ни есть дорогое, — сказал он громко, со стаканом вина в высоко поднятой руке. — Ну, говори, за што? Он все еще держал свой стакан в ожидании ответа. Ломоносов задумчиво разглядывал на свет вино. — Ну что же, Михайло? — повторил Виноградов. — За народ мой поморский, который меня взрастил, — ответил, наконец, Ломоносов, — и которому я послужить хочу, и за науки, друже мой, — ответил, наконец, Ломоносов. — Науки — вот вся моя отрада! Стакан звонко ударился о стакан, и оба выпили до дна. Но, налив по второму, Виноградов смеющимися глазами посмотрел на своего друга. — Наука-то наука, Михайло, а что же ты про жену свою не ответил? Где же она теперь-то? — А теперь — ежели еще не выехала, то полагаю, что готовится к дороге. Зимой от нее письмо было графу Головкину, и денег я ей тогда же послал. — Ну, поздравляю, Михайло, рад, друг, за тебя! И веселее теперь и лучше заживешь. А то что же так одному-то, вроде меня! Я вот за границей никого себе не нашел. Так и не смог жениться. А проказов этих было у меня несть числа. В ответ на это признание Ломоносов дернул его за кудрявый чуб и, отпустив, сказал не то задумчиво, не то печально — этого Виноградов не разобрал: — Наипаче гляди, Митрий, чтоб с женою единую душу иметь. А сие, друг мой, бывает не часто. И еще раз стукнул стаканом о стакан. Назначение На другой день в записке, присланной из Академии, капитан-поручик Виноградов извещался о том, что президент Берг-коллегии учинит ему испытание по всем частям горной науки. В назначенный для испытания день Ломоносов проводил своего друга до дверей того кабинета, где заседала немногочисленная экзаменационная комиссия, во главе с президентом Берг-коллегии. Часа через два Виноградов с сияющим лицом протянул Ломоносову плотный лист великолепной бумаги, на котором господин президент собственной своей рукой написать изволил, что «из всех выписанных иностранных мастеров ни одного не знает, который бы Виноградова во всех частях горной науки чем перешел, но многие ему и в равенство не пришли». Капитан-поручик Виноградов получил после этого испытания новый чин: он был уже не маркшейдер, но бергмейстер, и указом кабинета ее величества, за подписью барона Черкасова, назначался для начинания некоего нового дела в место, которое будет без замедления ему указано. Когда к скромному крыльцу бонновского дома подъехала карета барона Черкасова за новым бергмейстером Виноградовым, Ломоносов поспешно накинул свой старенький плащ, собираясь проводить Виноградова до места его назначения. Но посланный от барона Черкасова решительно объявил, что к месту назначения бергмейстер Виноградов должен ехать один. — Ну, будь здоров, друже мой, — обнял его Ломоносов. — Письма буду ждать, а после и тебя самого. — Приеду, Михайло! — весело говорит Виноградов. — Как устроюсь, так и приеду! — Буду ждать, — повторяет Ломоносов и долгим взглядом смотрит в немного растерянное, обыкновенно такое оживленное лицо своего Митрия, уже усевшегося рядом с обширной фигурой мало общительного посланца барона Черкасова. Карета выехала за ворота. Моросящий туман покрывал улицы и оседал на чугунных решетках, густой пеленой поднимаясь от реки. С густым туманом скоро совсем слились очертания кареты. Барон Иван Антонович Черкасов, к дому которого отвезли молодого бергмейстера, принял его чрезвычайно любезно и сообщил с приятнейшей улыбкой, что он должен принести молодому бергмейстеру свое двойное поздравление — и по тому случаю, что президент Берг-коллегии дал блистательный отзыв о познаниях и способностях господина бергмейстера, а также и потому, что ему оказана великая честь: ее величество лично соизволила подписать указ о предназначенном ему месте жительства и о той работе, которой ему надлежит заняться, трудясь на пользу и прославление отечества. Барон угостил молодого бергмейстера горячим кофе. — Это, не правда ли, приятно в такой туманный день? — с любезной улыбкой промолвил господин барон, сощурив до размера щелок свои и без того узкие глаза на полном и выхоленном лице. — Весьма приятно, — с легким поклоном ответил его гость. — Итак, моя работа... — Ваша работа, — не дал ему кончить барон, дотрагиваясь до его руки, — почетна, благородна. Она даст вам славу, богатство и почести. Вы будете заняты изготовлением благороднейшего вещества, о котором мечтают герцоги, короли и королевы: изготовлением фарфора! — Мне придется получать его из отечественного сырья. На изыскание его потребно будет немало времени для разъездов и проб. — Разумеется, нам всем было бы лестно возможно скорее получить драгоценные изделия вашего труда. Но вашим временем будете всемерно распоряжаться вы сами, — закончил господин барон вставая. Виноградов тоже встал и поклонился. — Ваша милость больше ничего не имеете мне сообщить? — Больше ничего, — улыбнулся ему барон Черкасов: — моя карета доставит вас к месту вашего назначения. Острый серп После отъезда Виноградова, обещавшего осенью быть в Петербурге снова и извещать Ломоносова о всех переменах в своей судьбе, словно еще тише стало в двух маленьких комнатках бонновского дома. Ломоносов с задумчивым и несколько растерянным видом бродил по ним большими шагами от угла к углу, упорно размышляя и мысленно прощаясь с одиночеством своего холостого уклада. Теперь все это станет иным. Он ничего не менял в обстановке своих комнат, решив предоставить все на усмотрение Лизбет. Он только сложил на широкую полку свои рукописи и книги, дабы спасти их от «порядка», который так любила наводить Лизбет, особенно по субботам. Солнце уже давно пригревало землю, и в саду зеленела густая трава, развертывал душистый лист тополь и в академическом «огороде» и в саду близ Малой Невки. Ломоносов пришел туда теплым вечером, когда на бледном пепле послезакатного неба начинал светить еще прозрачный серп молодого месяца. Вся семья была в саду — у соснового столика, вбитого в землю. Радушным хозяином встретил его Алексей Дудин, начавший было величать его Михаилом Васильевичем и даже «благородием», но Ломоносов посмотрел на него и, смеясь, махнул рукой. — Будет тебе, Алексей! Вместе мальчишками в Двине купались! — и прошел к столику, где сидела Машутка; в песке у ее ног возилась маленькая девочка. Он просидел недолго, сегодня что-то не хотелось ему говорить. Тихо потухал вечер, словно бережно удерживая свой сумеречный свет. Смолистый запах тополевого листа стоял в теплом воздухе. Машутка не подобрала своих русых волос, и две косы, свешиваясь с ее плеч, делали ее похожей на девочку. Словно сейчас она только сменила свой старенький сарафанишко на новое платье, прикрыв плечи лазоревой шелковой шалью. И он видел, что радушный хозяин, Алексей, все же временами останавливал на нем испытующий взгляд и переводил потом этот взгляд па Машутку. Он не удерживал Ломоносова, когда тот встал прощаясь. Но, посмотрев исподлобья на гостя, неожиданно спросил: — Я чай, скушно тебе одному-то дни коротать! Неужели до сей поры неженатый живешь? Машутка нагнулась низко над маленькой дочкой, игравшей в песке, но он все-таки видел, как яркая краска залила ее нежные щеки и шею. И, сжав крепко руки, стараясь унять в себе боль и жалость, он сказал голосом равнодушным и усталым, как о самом простом, как об известном давным-давно: — Едет ко мне из чужих краев... жена моя. Должно, днями придет корабль! — Час добрый! — это сказала после общего молчания Машутка и, подняв ребенка с земли, прижала его к себе, словно защищаясь им от нахлынувшего вдруг горя. Тонкий серп молодого месяца светился в бледном небе. Ей вспомнился такой же весенний вечер в далеком родном краю, когда показалось ей, что светлые острия этого серпа вонзаются ей в сердце. Так показалось ей и теперь. Уйдя уже за калитку, Ломоносов заметил, что забыл на скамейке свой плащ, и вернулся. Алексей поднимался на крыльцо, а Машутка бежала к калитке, неся плащ в руке. — Михайло Васильич, — сказала она тихо, отдавая ему плащ, — богом прошу тебя, при Лексее не приходи. Трудно мне! — промолвила она еще тише, опустив глаза. И опять захотелось ему взять ее на руки и прижать к груди так, как она прижимала к себе ребенка. Он молча поклонился и пошел от этого дома со смутным чувством, что теперь не доведется ему быть здесь очень долго, может быть, никогда. На большом мосту не было прохожих. Серп месяца мягко отражался в еще высокой воде. Ломоносов долго смотрел в неподвижную ее глубину. «Науки, науки — вся моя отрада», — повторил он шопотом слова, сказанные им Виноградову, и зашагал по пустынной набережной к Академии. Лизбет прибыла действительно со следующим кораблем — через неделю после отъезда Виноградова. Она подъехала к бонновскому дому на трех наемных повозках: в первой поместилась она сама и самые главные картонки, которые она не выпускала из рук; во второй — ее брат Иоганн Цильх, в третьей — остальной багаж и все то, что могла Лизбет захватить с собой, продав имущество своей матери, фрау Эрны Цильх, скончавшейся, как гласила надпись на ее могиле на марбургском кладбище, ровно через десять лет после смерти мужа. Академическое начальство приняло неожиданное участие в судьбе своей соотечественницы. В самом деле, не жить же фрау Лизбет в студенческой комнате Ломоносова! Да еще с братом! Шумахер с редкой для него заботливостью известил Ломоносова о том, что ему предоставляется отдельная квартира в том же бомновском доме, куда он может перевезти свою семью и свои книги в любое время. И через несколько дней Лизбет ходила по своей квартире, позвякивая новенькими ключиками, и, убедившись в том, что у нее есть теперь отдельная прачечная, приступила к размещению на стенах вышитых изречений, а на столах и столиках — салфеточек всех сортов и размеров, без которых ей казалась совершенно немыслимой жизнь, И только в одной — самой отдаленной — комнате не было ни вышивок, ни салфеток. Там были сложены книги, рукописные листы и части самодельных приборов, и во все часы дня и во многие часы ночи склонялась там над работой голова ее мужа, теперь — она знала это — связанного с ней неразрывно и навсегда. «Безумник» Мною овладело страстное желание исследовать частички тел. Я размышлял о них 18 лет. Ломоносов Читатели «Санкт-Петербургских ведомостей», раскрыв в один прекрасный июньский день 1746 года очередной номер газеты, могли прочесть следующее: «Сего июня 20 дня, по определению Академии Наук президента, ее императорского величества действительного камергера и ордена св. Анны кавалера, его сиятельства Кирилла Григорьевича Разумовского, той же Академии профессор Ломоносов начал о физике експериментальной на российском языке публичные лекции читать, причем сверх многочисленного собрания воинских и гражданских разных чинов слушателей и сам господин президент Академии, с некоторыми придворными кавалерами и другими знатными персонами, присутствовал. Для сегодняшнего праздника вторая лекция отложена до наступающего четвертка, а впредь оные еженедельно будут продолжаться по вторникам и пятницам, от трех до пяти часов пополудни». Но эта краткая заметка не давала никакого представления о тех событиях, которые предшествовали этому знаменательному дню, и о той великой борьбе, которую она завершала. Эта борьба за просвещение отечества, борьба упорного в своей воле человека, окруженного врагами, тянулась долгие годы, полные лишений, обид и труда. Первой победой было назначение его адъюнктом; второй — именной указ от 1 июля 1745 года в ответ на последнее прошение, с планом и проектом здания: построить лабораторию за счет «кабинета, ее величества». И третьей победой было присуждение профессорского звания, указ о котором вышел в свет в том же июле месяце жаркого и грозового лета, через три недели после разрешения постройки лаборатории. И когда в один ясный августовский вечер этот мужественный человек вышел из тяжелых дверей Академии, где в первый раз в своей жизни он присутствовал на заседании конференции в качестве полноправного академика, он почувствовал, что стоит, наконец, твердыми ногами на земле своей родины и что никакая сила в мире уже не отнимет у него права на познание наук, которым он служил столь пламенно и бескорыстно. Для производства в профессоры после именного указа академики потребовали новой диссертации: по металлургии. Он написал ее с необычайной быстротой, эту работу «О светлости металлов», и так как весь Ученый совет, взятый вместе, был менее сведущ в этом деле, нежели он один, то и возражений уже не последовало. Чтение лекций на русском языке, объявленное в газетной заметке, не имело прецедента во всей истории российской Академии. Первое заявление об этом было подобно искре, брошенной в порох, и вызвало бурю негодования в сердцах всех, начиная от Шумахера, кончая секретарем Минцем. — Зачем занадобился вам этот русский язык? — пожимал плечами Шумахер. — Затем, что русский язык и к пиитике высокого штиля и к выражению всяческой научной мысли отменно пригоден, — ответил Ломоносов, и Шумахер еще раз подумал, что этого упрямца не переубедишь. Впрочем, это уже понимали все, имевшие с ним дело. Зная, что на его первую, «парадную», лекцию соберется публика светская, он не сомневался в том, что найдется среди них хоть малое число таких людей, которые придут его слушать не ради приличия, а ради любви к науке. И сознание, что он преодолел, разбил, наконец, все преграды, стоявшие между ним и этими немногими слушателями, которые потом понесут и свою любовь к науке и его слова другим простым людям, наполняло его радостью и гордостью. Но оставалась еще надежда сбить спесь с холмогорского рыбака. Диссертации его Шумахер все-таки отправил к Эйлеру на просмотр, ибо в них, с весьма неприличною отвагой, восставал сей помор против европейских авторитетов. И Эйлер известил Ученый совет, что по прочитании оных работ не замедлит свой отзыв прислать. И вот теперь оповестил Академию новый ее президент, что он самолично от Эйлера сей отзыв получил и самолично объявит его после лекции нового профессора. Какой сюрприз и по какому адресу готовил этот весьма юный президент? Было ему семнадцать либо восемнадцать лет от роду, и наукам от него, прямо сказать, ни в чем приросту не было. И вовсе не научные заслуги возвели его на высокий пост. Брат его, Алексей, некогда тоже зарабатывавший себе хлеб пастушеством в родных украинских степях, за отменный голос попал в певчие, в столицу, а из певчих — за отменную красоту — в фавориты императрицы Елизаветы. Фавор брата коснулся и Кирюшки. Проснувшись однажды утром у себя в мазанной мелом хатке, он узнал, что он вовсе не Кирюшка Розум, а «персона» и в качестве персоны получает себе в наставники академика Теплова, приехавшего к нему с цидулкой малой от брата и с жалованной ее величеством грамотой. Всему этому он сразу поверить не мог. Но когда бывший тут же ученый односельчанин, хорошо знавший почти все буквы, прочитал ему и цидулку и грамоту, — оказалось, что надлежит Кириллу Розуму собираться срочно в заморские края для приобретения всяких манер и хоть самой малости — наук. Для этой цели дается ему в руководители академик Теплов и столь изрядное количество денег, о каком в бытность свою Кирюшкой он никогда и не слыхивал. Очевидно, все европейские науки постиг его разум необыкновенно легко, недаром и прозвище им с братом было разумовские. Ибо, возвратясь из Европы по прошествии малого времени и проснувшись уже во дворце своего брата, увидел Кирилл Разумовский свою персону в звании... президента Академии наук, а одновременно и гетмана Запорожских войск, которым он должен был время от времени делать смотр, — пока, благодарение богу, не было войны. На имя этого президента, действительного камергера ее величества и ордена святой Анны кавалера пришло не так давно письмо от известного всей Европе профессора Вольфа, получившего из Санкт-Петербурга от бывшего своего ученика, а ныне профессора Ломоносова, перевод своей «Експериментальной физики». Изъявляя удовлетворение по поводу сделанного перевода, ученый выразил одновременно весьма лестное мнение о своем бывшем ученике. А потому юный президент решил, что ему приличествует не только разрешить Ломоносову читать лекцию на каком ни на есть языке, но и присутствовать на ней своей собственной персоной. Давно не останавливалось у подъезда Академии такого количества придворных карет, и давно не отражали ее зеркала таких великолепных туалетов кавалеров и дам. Но Ломоносов не ошибся: были и такие люди — из числа петербургской более простой молодежи, — которые всеми правдами и неправдами добились того, что и их пропустили в это высокое собрание, и теперь, сидя среди нарядных кавалеров, с усердным вниманием слушали его слова. Многие из высоких гостей слышали впервые самое слово «физика», да еще «експериментальная». Но это их не смущало: о чем бы пи говорил сей Ломоносов — из русских-то слов что-нибудь да поймешь. И как это ни удивительно, кое-что поняли все. И когда поняли, оживление, улыбки и даже легкий смешок пробежали по рядам, пестревшим ярким бархатом и шелком придворных кафтанов и роб. Ибо смысл сей речи состоял в том, что сущностью всей великой науки, именуемой «физика», является изучение строения вещества, то-есть окружающего нас естества видимого мира, а это естество, или материя всего, что мы видим, состоит из невидимых корпускул, которые еще у древних великих ученых имели название «атомов». И все эти атомы — элементы натуры — обладают протяженностью, непроницаемостью и, кроме того, энергией и движением. Кавалер в камзоле темнолиловой парчи, приблизив к глазам лорнетку в перламутровой оправе и в шутливом испуге склонясь над ручкой своей дамы, воскликнул негромко: — Но на сей ручке не дерзнут появиться оные корпускулы, ибо она для того чрезмерно прелестна. Но кроме придворных кавалеров и дам, было в зале маленькое число жадных слушателей, по-настоящему понимавших лектора. Шутки, одобрения и возгласы протеста в той части зала, где сидел Ученый совет, — все смешалось в общий гул, когда звучный голос Ломоносова умолк и, кончив лекцию, докладчик начал собирать листки с выписками из древних авторов, на которых местами ссылался. Толстый профессор Зейдель обернулся к сидевшему с ним рядом Шумахеру: — Фу, он бросил пот на меня, этот безумник! — Вы хотите сказать, — сдержанно поправил его Юнкер, — что вас бросило в пот от него? — Я не знаю, кто кого бросал, но я знаю, что он безумник! — волновался Зейдель. — Потише, потише, герр Зейдель, — сказал Шумахер. — Господин президент смотрит в нашу сторону, и мы еще не знаем, что у него на уме. Шумахер встал и обратился к президенту, которому что-то с усмешкой нашептывал на ухо сидевший позади старый придворный: — Высокочтимый господин президент! Ученый совет Академии всепокорнейше просит вас оповестить нам отзыв великого ученого Эйлера о работах господина Ломоносова. Ибо диссертации господина Ломоносова, а равно и лекцию, которая ныне нами от него прослушана, ученый совет Академии не почитает убедительными. — Да? — переспросил юный президент, обводя безмятежным взглядом хмурые лица профессоров. — В самом деле, нужно тот отзыв сейчас прочесть, — с внезапной важностью произнес он, опустив руку в карман парчового кафтана. — Молод, а хитер, — шепнул Шумахеру Тауберт. — И не узнаешь по нему, что в сем отзыве стоит. А Ломоносова, как я и говорил, рано в профессоры произвели. Вот он теперь и радуется! — Погодите, — ответил так же тихо Шумахер, — сдается мне, глядя на президента, что профессор Эйлер поможет нам сбить с него спесь. Другая рука президента опустилась в другой парчовый карман и тоже ничего не нашла. Тогда он несколько растерянно посмотрел на сидевшего подле него Теплова и громко сказал: — Запамятовал, куда сунул с этой спешкой! Теплов посмотрел вокруг и, взяв со стула изящную треуголку, подал ее президенту. — Вот письмо, ваше сиятельство, — сказал он с поклоном. — Вы положили его в свою шляпу. — Ну вот, — обрадованно засмеялся президент и потянулся за письмом. Но вдруг он остановился и весело махнул рукой в драгоценном кружеве: — Возьми его ты и сам прочитай, оно ведь, я чай, по-немецки писано. А ты сей язык получше меня разумеешь. Теплов молча, с поклоном взял в руки письмо, и взоры всего Ученого совета, обращенные на этот пакет, выразили величайшее изумление, ибо всему ученому совету померешилось, будто пакет сей... вовсе не распечатан. А веселый президент, словно угадав их сомнения, с улыбкой пояснил: — За тремя-то машкерадами да за охотой распечатать не удосужился. Губы Шумахера скривились в едва заметную усмешку. Сжав крепко руки, с суровым спокойствием смотрел на письмо Ломоносов, продолжавший стоять на кафедре. В дверях большого зала столпились кавалеры и гости, собравшиеся уже разъезжаться, но теперь удержанные любопытством. Теплов, не читая — во внимание к президенту — немецкого текста, огласил отзыв Эйлера, переводя его тут же на русский язык. — «Все работы господина Ломоносова... — громко произнес он, и взоры всех обратились к высокой фигуре, неподвижно стоявшей на кафедре. — Все работы господина Ломоносова, — повторил Теплов, — не только хороши, но превосходны. Он обладает счастливейшим гением к открытию феноменов физики и химии». Он сделал минутную паузу, и слышно было, как тихо охнул тучный Зейдель и как перевел дыхание Ломоносов. — «Желательно, — продолжал Теплов, — чтобы все академики совершали открытия, подобные тем, которые совершил господин Ломоносов, делающий честь не только академии, но всей своей родине». После минутного обычного молчания шум одобрения, поднятый кавалерами и гостями, признавшими своим долгом почтить приветствием человека, удостоившегося столь большой похвалы, заглушал сдержанные возгласы сконфуженных и растерянных академиков и даже голос юного президента, поздравлявшего докладчика с отменной апробацией. Но громче всех, радостнее всех звучали голоса именно тех немногих слушателей, которые пришли сюда ради знания и науки и к которым внутренно обращал Ломоносов свою блестящую речь. В опустевшем зале неподвижными оставались в своих креслах господа Ученый совет. Наконец профессор Зейдель, ни на кого не глядя, произносит: — Ущипайте меня! Головы академиков с удивлением повертываются в его сторону, но никто не двигается с места. — Герр Шумахер, — настойчиво повторяет Зейдель, — протягивайте ваша рука и ущипайте меня. Герр Шумахер, пожимая плечами, слегка щиплет пухлую руку Зейделя, лежащую на ручке кресла. — Спасибо, — отвечает толстый Зейдель. — Теперь я буду понимать, что я не во сне. И вдруг с неожиданной легкостью он вскакивает со своею места и, всплеснув короткими ручками, останавливается перед профессором Винсгеймом. — Нет. вы понимаете что-нибудь? — восклицает он громко. — До сих пор я не имел случая в этом сомневаться, — отвечает, поджимая губы, Винсгейм. — Так теперь того не будет! — уже кричит Зейдель. — Теперь мы не будем понимать, а этот безумник будет! И профессор Эйлер! О-о, я не могу вспоминать самого себя!.. Профессор Зейдель со стоном снова падает в кресло. — Успокойтесь, гepp Зейдель, — обращается к нему по-немецки Юнкер, — вам вредно волноваться. Проигранное сражение еще не означает конца кампании! — Нет, — говорит громко Шумахер, — на сей раз надлежит признать, что кампания кончена. Молчавший до сих пор Делиль вынул из кармана свою записную книжку. — Я не являюсь столь яростным врагом господина Ломоносова, однако объяснения его, касающиеся установленных всеми учеными законов физики, столь невероятны, что их я записал! Профессор Делиль развернул свою книжечку и при гробовом молчании присутствующих прочел: — «Элементарный огонь Аристотеля и огненная материя, теплотвор именуемая, суть вымысел, и купно утверждаю, что огонь и теплота, состоят в коловратном движении частичек». Делиль умолкает, красноречиво разводя руками, и в то же мгновение, перебивая друг друга, начинают шуметь rocпода Ученый совет. — Сего и Вольф, его учитель, не говорит! — восклицает Винсгейм. — Он себя выше учителя своего полагает! — Разрешите пополнить запись профессора Делиля, — прерывает общий гул Шумахер. — Одно изречение из поднесенной нам в нынешний день премудрости и я записал: «Свет произведен быть может движением чистого эфира. И оное движение наблюдаем мы в северном сиянии, коего столпы прибывают и убывают в кратчайшее время». И еще единое о тепле: «Теплота состоит в коловратном движении нечувствительных частиц, тела составляющих»! А? Каково? — закончив читать, оглядывается он на слушателей. — Сей ученый помешался на выдуманных им корпускулах! — Я давно понимал, — говорит Зейдель, — его не на кафедра посаживать надо, а в сумашечкин дом! Но Эйлер, сам Леонард Эйлер!! — Да, — вставая, говорит Винсгейм, — Ломоносову, как это говорится, повезло. — Не «повезло», repp Винсгейм, а «поехало», — со вздохом поправляет Зейдель, который чрезвычайно любит указывать своим коллегам на их ошибки в русском языке, «От худого присмотру...» — Стихотворство, друг мой, — моя утеха, физика — мои упражнения, — говорил не однажды Ломоносов, сидя в кабинете у Рихмана, к которому часто заходил потолковать о своих планах, поделиться новыми мыслями, нарождавшимися в его голове непрестанно, — как он сам говаривал шутя, «словно их ветром туда нагоняло». — Учебник готовлю для охотников красноречия, — сказал он как-то вечером, усаживаясь перед Рихманом, — ибо таковая наука у нас, не в пример древним народам, еще отсутствует. А русский наш язык — красоты отменной. Рихман вынул изо рта трубку и улыбнулся: — У нас в Академии великим знатоком русского языка профессор Зейдель себя почитает. Ломоносов рассмеялся. — Да, сей знаток его весьма превзошел. Язык наш почитаю я в краткости равным латыни и греческому, а научного языка у нас еще нет. Вот я ему, по малости, начало положил в переводе своем вольфианской «Физики». В сем переводе принужден я был искать для некоторых физических инструментов, действий и натуральных вещей наименования, кои хотя сперва покажутся несколько странны, однако надеюсь, что со временем, через частое употребление, знакомы будут. Вот как вам сии слова покажутся: атмосфера, поршень, барометр, микроскоп, упругость? Рихман одобрительно кивнул головой и продолжал курить, задумчиво поглядывая на своего собеседника. — А как с лабораторией? Ведь разрешение от высочайшего имени давно вам было дано! — Тормозит и поныне Шумахер, — с горечью ответил Ломоносов. — Одно за другим препятствия чинит. Ну, да со мной этим не возьмешь. Я от него помалу все для лаборатории вытяну, и не токмо лабораторию — помощника и друга вытяну. Нынче в третий раз с ним о Виноградове говорил, чтобы выписать его сюда. И так как Рихман плохо помнил Виноградова, он с увлечением начал говорить ему о своем Митрии, который несмотря на все трудности, все-таки нашел секрет прозрачного фарфора. — Болит у меня по нем душа, — закончил он свой рассказ, — и ничем не могу ему помочь. Не знаю не токмо, что с ним теперь делается, но и места жизни не ведаю. В плену На Шлиссельбургской дороге, на самом берегу Невы — верстах в восьми от города — стояли унылые кирпичные заводы, где только что вернувшийся из Европы и показавший свое блестящее знание горного дела молодой бергмейстер Дмитрий Иванович Виноградов должен был найти способ приготовления фарфорового или порцеллинового теста из отечественного сырья, провести первые работы по его обжиганию и получить из него первые изделия русского фарфора. Выйдя из кареты, Дмитрий Иванович Виноградов оглядел место своей новой жизни. Да, веселостей мало... Среди деревянных низких строений виднелись кое-где обтрепанные ветром сосны, махавшие из тумана темными верхушками. Дальше, за соснами, тянулись до самой воды песчаные ровные дюны, светлея пятнами между двумя потемневшими от дождей деревянными сараями. «Веселостей мало, — повторил про себя Виноградов, поднимаясь в дом по отсыревшим ступенькам крыльца. — Михайле надобно нынче написать, чтобы приехал навестить меня, — а то здесь и не выдержишь так-то». Горбатый мужик, повидимому сторож, встретил его с поклонами, выйдя на крыльцо, и повел в дом. Дом был одноэтажный, вытянутый в длину, и делился на две половины: рабочую и жилую, которая, в свою очередь, делилась на две части: лучшую, солнечную и более обширную, занимал человек, выписанный из Европы. Это был именующий себя «мастером фарфорового дела» Христоф Конрад Гунгер. Остальная часть предназначалась Виноградову. Его, очевидно, ждали, потому что обе отведенные ему комнаты были протоплены и пол чисто вымыт. Разобрав свои книги и вещи первой необходимости, он спросил горбатого сторожа, дадут ли ему пообедать? Оказалось, что обед будет получать он из кухни господина Гунгера, а господин Гунгер обедает позднее. Когда настал, наконец, этот час, в его дверь постучал слуга немец и сообщил, что господин Гунгер ожидает господина бергмейстера к обеду. Господин бергмейстер поблагодарил и поспешил явиться на зов. Христоф Конрад Гунгер оказался человеком небольшого роста, склонным к полноте и чрезвычайно напыщенным. Он был в завитом парике, в туфлях на высоких каблуках и на приветствие Виноградова ответил величественным кивком головы, после чего торжественно отрекомендовал себя. Виноградов скромно назвал свое имя и, усевшись на указанное ему место, спросил хозяина, на каком языке ему будет угодно вести беседу: на русском, немецком, французском или английском? Христоф Конрад Гунгер предложил беседовать по-немецки, добавив, что в совершенстве только родным, шведским языком владеет. Во время обеда, за которым он много и жадно ел и еще больше пил, он заявил Виноградову, что является первым мастером фарфорового дела, что, кроме него, секрет изготовления не известен в России никому, что барон Корф чрезвычайно дорожит его познаниями и возлагает столь великие надежды на его открытия, что тайно увез его из Швеции, где познания его в фарфоровом деле расценивались на вес золота. Он просил барона Черкасова в предстоящих трудах по изготовлению изделий дать ему помощника. — И барон Черкасов предложил мне вас, как молодого бергмейстера, в совершенстве знающего немецкий, французский и русский языки, и я согласился, — милостиво закончил он. Виноградов молча поклонился. После короткого молчания Гунгер спросил, известны ли господину бергмейстеру те условия, точнее говоря, правила, которым он должен будет подчиняться? — Правила?— растерянно повторил Виноградов. — Я разумею те... небольшие ограничения, с которыми придется примириться не только господину бергмейстеру, но, в силу чрезвычайной важности нашей работы, и мне. — Прошу вас сообщить их мне сейчас же! — блеск потух в живых глазах Виноградова. — С великим удовольствием, — ответил любезно Гунгер. — Итак, во-первых, с самого начала господин бергмейстер должен заняться изысканием надлежащего сырья, я разумею потребную нам глину из тех пород, какие можно найти в вашем отечестве. Нужные для этого поездки господин бергмейстер будет совершать без меня. Далее: никаким посторонним персонам доступ на завод не разрешается. — Как, — перебил бергмейстер, — и другу моему? Самому близкому другу? — Без всяких исключений, молодой человек, — даже для наших родных. Но время от времени, не чаще двух раз в полугодие, господин бергмейстер может совершить поездки в столицу. Туманный день сменился туманной ночью. Только лай сторожевых собак нарушал давящую, томительную тишину этой ночи. Виноградов подошел к окну и долго всматривался в мутноватую мглу. Из мглы выступали кое-где темные верхушки жидких сосен, и дальше, за ними, смутно виднелась река. А за ней, гдето далеко — его Михайло, единственный человек, который мог бы его утешить, к которому рвалось сердце и с которым теперь он был разлучен. Кольцо сжимается «Ныне меня угнетает ряд огромных трудов, заставляет меня до времени быть стариком», — так писал бергмейстер Виноградов после того, как прибыл на завод, именуемый «мануфактура». Без единого друга или понимающего дело доброжелателя, с которым он мог бы поделиться своими опасениями, невзгодами, удачами и неудачами, с первых же дней во всем предоставленный самому себе, он видел около себя только тщеславного завистника, старавшегося прославить свое имя и репутацию первого в России знатока фарфорового дела, предоставив все трудности работы своему кроткому помощнику, обладавшему настоящими знаниями. Поиски нужного сырья отнимали и время и силы, но молодой бергмейстер отдавался и этому подготовительному делу с горячим увлечением. И потом во время поездок ему дважды удалось повидаться с Ломоносовым. Гунгер говорил Черкасову — для дальнейшей передачи другим высоким персонам, — что он сам занят наиболее ответственной частью работы: обжигом уже имеющегося в его распоряжении материала. За весь год Гунгер не дал ничего. Год миновал, а Виноградов все еще не видел ни его знаний, ни его дел. Холодной весной следующего года Гунгер объявил своему помощнику, что он будет на днях производить новый обжиг. Он был еще менее удачен, чем предыдущий, и, убедившись в этом, Гунгер с мрачным видом посмотрел в окно, где падал мокрый снег с дождем, и обиженно сказал: — В такую погоду ни один опыт не может быть благополучен. Печь никак не работает, и я думаю, что ее кто-нибудь заколдовал. — Заколдовал?! Вот как! — Давно забытый огонек веселой усмешки блеснул в глазах Виноградова. — Иного объяснения нет, — вызывающе ответил ему Гунгер и быстро вышел из помещения, где производилась работа у печей. Удивительное дело! Этому первому фарфоровых дел мастеру не удался ни один опыт и ни один обжиг, и Виноградову, видевшему его грубые ошибки, хотелось начать работу совсем без него. Но когда он обратился с указанием к работному человеку, помогавшему при обжигах, — этот запуганный Гунгером помощник сообщил молодому бергмейстеру, что господин Гунгер запретил работным людям его слушаться. Виноградов молча вышел из дому. Холодный весенний ветер, казалось, вот-вот нагонит снежное облако на сумрачное небо. Весны точно не было. Было серое небо, серовато-синяя река в отдалении и холодный ветер, свободно гулявший над песчаными отмелями реки. Он долго бродил по берегу, борясь с закипающим гневом. Сегодня же он напишет барону Черкасову, что просит уволить его от работ с Гунгером, предоставив время для иного труда, которому отдавался он с горячим усердием: это были, во-первых, его «Заметки о фарфоре», результат записей всех работ, которые он вел с особым вниманием, потому что Гунгер не записывал ровно ничего, и основной труд его — «Обстоятельное описание чистого порцеллина». Почему бы в самом деле не освободить его от унизительного положения при Гунгере, который во всем старался проявить свое самовластие и, не слушая никаких его советов, вчера заявил, что выписывает себе в помощники саксонца Вернера? Глядя с тоской в непрерывно бегущие воды Невы, он думал о своей странной судьбе. Годы детства, тяжелые годы ученья в Славяно-греко-латинской Академии, и СанктПетербург... европейские страны, откуда вернулся уже зрелым мастером... и блестящие апробации, и проделанная здесь paбoтa — и все для чего? Чтобы быть униженным и получать ежедневные оскорбления от недобросовестного и грубого иноземца, думавшего не о том, чтобы дать что-то России, но только о том, как бы больше получить от нее! — На Руси для меня денет хватит! — такова была любимая поговорка Гунгера, которую он часто повторял, глядя с вызывающим цинизмом в лицо Виноградову. И это живое, ещё недавно веселое лицо бледнело, губы сжимались от обиды, и мысль Виноградова обращалась опять и опять к его единственному другу. Что бы он сказал на это? Работа по изысканию сырья теперь закончена: найдено месторождение необходимой для завода гжельской глины, на что потрачено немало труда и сил. Гжельская глина найдена, и рапорт о том подан в Кабинет. Когда он вернулся в свои пустые комнаты, полные одинокого безмолвия, глубокая печаль охватила его душу. Он зажег сальную свечу, увидал на столе письмо и узнал печать и почерк барона Черкасова. На конверте стояло имя Гунтера, которому и было, очевидно, адресовано уже взятое им письмо — в основной своей части. Для Виноградова была приложена небольшая записка. В ней коротко, тоном, не допускающим никаких возражений, объявлялось, что ко дню тезоименитства ее величества надлежит ему, Дмитрию Виноградову, произвести обжиг первых порцеллиновых изделий, для чего обязан он безотлучно находиться при печах. И как нарочно в эти дни заболел Гунгер. Обеспокоенный Черкасов прислал узнать о его здоровье и о том, как идут работы. Гунгер ответил в высшей степени успокоительным письмом: «Хотя я лично болен и не выхожу из комнаты, — писал он, — но от того для дела нет никакого урона; за меня везде работает Виноградов». Да, теперь, когда пришла нужда, он уже не помнил о своем саксонце. И когда после удачного обжига Виноградов принес ему белые чашки из первого русского фарфора, Гунгер сразу выздоровел. Он осмотрел чашки — и со всех сторон и на свет — и, с довольным видом потирая руки, сказал, что необходимо немедленно послать нарочного Черкасову со столь приятным известием. На другой день пришло от Черкасова распоряжение: все полученные порцеллиновые изделия срочно прислать ему. С нетерпением ждавший отзывов о своей работе, Виноградов и не подозревал, что барон Иван Антонович Черкасов, поднесший царице первые образцы русского фарфора, уже получил монаршую благодарность за усердие в трудном фарфоровом деле. В стекла маленьких окон бился апрельский дождик. Виноградов, стол у окна, прислушивался к шелесту дождя. Эх, был бы здесь Михайло, спели бы что-нибудь по старой привычке. И, стоя один у темного окна, он запел своим чистым тенорком, чтобы развеселить душу, любимую поморскую песню Михайлы: — Эй, лети за тучей туча, — заливался его голос, — бей за валом вал! Ветер с норду, волны круче — значит, будет шквал! Эй-ей! Резкий насмешливый смех Гунгера заставил его внезапно умолкнуть. Он обернулся и увидел, что его принципал стоит, покачиваясь на кривых ногах, что он совершенно пьян и что в мутных глазах его затаились ненависть и злоба. С того дня и началось. Это была все растущая ненависть, принимавшая постепенно форму непрерывного преследования. Что говорил о нем Гунгер Черкасову, он не знал и не мог себе представить. Но Черкасов, заступившийся за него вначале, теперь обращался с ним как со своим рабом. Его записки к Виноградову становились все более грубы и требовательны. «Посылаю тебе образцы, сделай по ним и пришли немедля по изготовлении». И он был безнадежно один, прикованный к работе, от которой уже готов был бежать. Дабы он не сбежал, дабы следить за каждым его шагом — был прислан из санктпетербургского Кабинета особый человек, по фамилии Жолобов. Этот страшный человек следил за ним, как ищейка, с первого дня своего появления и с первого же дня начал обращаться с ним с унизительной дерзостью. «Михайло, Михайло, друже мой!» Так начал Виноградов свою горькую жалобу к единственному другу. Но Жолобов не дал этому письму дойти по назначению: письмо было перехвачено и уничтожено. Узнав об этом, впервые потерял молодой бергмейетер способность владеть собой. Он бросился на своего мучителя, повторяя бессвязные слова гнева и горя. И тогда произошло событие, повергшее его в отчаяние; в наказание за бурное поведение, у него отняли шпагу. Шпагу — знак его достоинства, знак его научной степени, шпагу, которую он берег больше всего и прежде всего потому, что лишиться ее — значило лишиться чести! Это горе надломило его. К вечеру того же дня он слег в тяжкой болезни на многие дни и ночи. Теплый ветер долетал с реки и шевелил простую ситцевую занавеску на окне. Ее повесила тетя Авдотья, сторожева жена, «чтобы свет белых ночей не будил господина бергмейстера во время его болезни». Когда он очнулся от долгих дней забытья, он увидел доброе лицо тети Авдотьи, которая стояла перед ним с чашкой горячего молока. — Очнулся, соколик? — сказала она приветливо. — Ну теперь, значит, на поправку пойдет. Накось вот молока горяченького испей! Она поднесла кружку к его губам, и он с жадностью выпил большими глотками все до дна. — Ну, вот и хорошо, — сказала тетя Авдотья, — а теперь сосни до обеда-то. — Постой! Постой! — остановил ее Виноградов. — Что болен я — понимаю. А вот перед тем-то что было — вспомнить не могу.., — А ты лежи да вспоминай, торопиться-то тебе покудова некуда. А я пойду, обед стряпать время. — Постой! Постой! — повторил он настойчиво, удерживая ее, и вдруг что-то дрогнуло в лице его, и он весь потянулся куда-то, глядя на Авдотью умоляющим взглядом. — А шпага?!. Шпага моя где? Не знаешь? — Шпага-а! — засмеялась Авдотья. — Ишь, чего захотел. Хворь-то, она, конечно, не сразу выходит. Ну, теперь уж выйдет. — А Жолобов? Жолобов где? — Давно, батюшка, от нас отозвали. Теперь другого ждут. Он лежал, смотрел на кусочек ясного летнего неба, синевшего в окне, и силился вспомнить, что с ним произошло. Он помнил отчетливо только тот день, когда согласно полученному приказу он должен был отдать свою шпагу Жолобову. И постепенно на этот стержень стали наматываться, как нити на веретено, отдельные картины воспоминаний. Он вспомнил прежде всего о Михайле, которому он писал, и о том, что письмо его было уничтожено. Он вспомнил про оскорбления, которые наносили ему Гунгер и Жолобов. И, наконец, ту страшную минуту, когда он узнал, как жестоко обманули сторожа его Михайлу, его друга! Сообщил ему Жолобов, будто уехал Виноградов на другое место, и оттуда ему напишет. Боялись они и теперь боятся, что приедет сюда Ломоносов и увидит, как Митрию его приходится. Ничего он теперь не знает! И написать ему не дадут! Через два дня в комнату его вошел высокий человек с грубым голосом и назвал себя капитаном Хвостовым, добавив, что прибыл на завод на смену Жолобову. Виноградов, приподнявшись на подушках, посмотрел на лицо, не предвещавшее ему ничего хорошего. Лицо было грубое, как и голос, и глаза смотрели с ледяным холодом в большие и горящие глаза Виноградова. — А где господин Гунгер? — спросил, наконец, больной. — Отбыл на родину, — угрюмо ответил Хвостов. — Вот как! Почему же? — Потому, как пришлось ему признаться, что в фарфоровом деле не разумеет. После того господин барон Черкасов и отправил его на родину. — Кто же теперь будет проводить все работы? — спросил Виноградов. Хвостов усмехнулся: — Да ваша милость! — Я еще... не могу! — устало сказал Виноградов. — Велят — так и сможешь! — с неожиданной грубостью ответил Хвостов и вышел от больного. Без защиты «Всепокорно прошу позволения к Вашему превосходительству приехать... и в оное время шпагу мою дать позволить, которую от меня назад взять всегда состоит в Вашей воле». Так написал он Черкасову в первый день, когда, встав с постели, смог сидеть за своим столом. Нет, они не вернули ему этого почетного знака. Но вместо того прислано было на завод секретное предписание, согласно которому Хвостову вменялось в обязанность немедленно бергмейстера Виноградова к работам направить, ибо спрос на фарфор возрос. И для того должен бергмейстер Виноградов немедленно обжиги начинать, и чтобы спал он там же у печей, не отлучаясь. Передавая некоторую часть сего предписания бергмейстеру, Хвостов присовокупил, что господину бергмейстеру надлежит ему, Хвостову, повиноваться беспрекословно. Худенькие руки Виноградова невольно сжались в кулаки. Он подбежал к Хвостову, который был вдвое больше него ростом, и, закинув гордо свою кудрявую голову, крикнул, сверкая глазами: — Как вы смеете так говорить со мной? В ответ на это капитан Хвостов, уже получивший за свою службу при бергмейстере чин подполковника, с силой оттолкнул его от себя, ударив больно в плечо. Ох, как долго тянется ночь! Печь топится ровно, и все работы по обжигу проведены так, что неудачи быть как будто не может. Но ему хочется спать — еще слабость не прошла после болезни. А заснуть не дает Хвостов: нельзя передержать порцеллин. Хорошо, он не будет спать. Только бы не били! Но за что же? За что?! Да, вспомнил: за то, что хотел он бежать. И еще — хотел перерезать себе горло ножом, который удалось спрятать. Но ножик был тупой... Ножик отняли, а его, бергмейстера Виноградова, грозили прибить... За что же? Боже мой, за что? И от жалованья велели ему выдать — против всех здешних работных людей — только одну треть. Бесконечно тянется ночь! Здесь, около печей, нечем дышать. На свежий бы воздух!.. Да не пустят... И все хочется вспомнить что-то... И никак не вспомнить! Мысли как-то... путаются. Он достал листок бумаги и начал писать барону Черкасову, единственному человеку, которому разрешалось писать: «В мыслях моих все странным является», — писал он Черкасову, а все ему казалось, что пишет Михайле, единственному, кому хотелось писать, к кому хотелось прибежать, не переводя духа, и, прибежав, припасть головой к широкой груди, как к единственной защите... «За что я ни примусь, все у меня из рук валится, — писал он снова. — И в мыслях все странным является: то какого рассуждения там ожидаю, где только одно беспокойствие жилище свое имеет. Команда у меня вся взята, я объявлен всем арестантом; я должен работать и показывать, а работные люди и повиноваться должны другому. Меня хотят вязать и бить без всякой причины!.. Без всякой причины бить, Михайло, друже мой, Митрия твоего грозят...» — А-а! — закричал он в ужасе, бросая бумагу, и, вскочив на ноги с побелевшим лицом, глядел помутневшим взглядом на Хвостова, медленно ходившего по комнате. — А-а! — крикнул он громче и, расталкивая всех, бросился вон из дома, дальше, дальше от всех мучителей и от всего, что было вокруг! Легкий и подвижный, он бежал все быстрее, и угнаться за ним не мог никто. И, добежав до реки, бросился перед ней прямо в прибрежный влажный песок на колени, задыхаясь от быстрого бега, видя перед собой в тумане летней ночи голубовато-сиреневую воду неподвижно простертой перед ним реки. Он протянул к ней руки, как к последнему прибежищу... но здесь его схватили за плечи и за ноги и, связанного, ужаснувшегося, потащили на руках в дом. Нет, он не верил ни глазам своим, ни рукам!.. Снова и снова проводил он рукой по холодному железу... Что это? Цепь?! Как это могло случиться? И это в самом деле его, Дмитрия Виноградова, посадили на цепь?! Он в ужасе закричал, и крик его разнесся по всему дому. Там, за стеной, спал Хвостов... И, вспомнив о нем, он хотел подняться и бежать... но бежать невозможно... Да, это правда: вот цепь, и она его не отпустит. Тогда он упал ничком на пол и заплакал детскими беспомощными слезами, от которых вздрагивало все его тело, исхудавшее и потерявшее последние силы. Он не видел, что дверь отворилась, и Авдотья, осторожно ступая босыми ногами, перешагнула через порог. Он увидел ее только тогда, когда она стала на колени и лицо ее совсем близко наклонилось к нему. Она подняла его голову и, усевшись около него на пол, положила ее себе на колени. С материнской жалостью и с материнской лаской она стала гладить эту кудрявую голову, успокаивая его, как ребенка. Он затих и попросил дать ему кусок бумаги. Она подала, и огрызком карандаша он то с трудом, то быстро-быстро написал на этом клочке уже бессвязные слова. — Обещай мне, обещай! — сказал он шопотом. — Отдай мужу, пусть отнесет Ломоносову — вот, я написал его имя. В Академию пусть отнесет, там найдут. Больше не помню я... ничего! — А ты и не вспоминай, болезный батюшка мой! — сказала Авдотья, но, увидав, что он засыпает, опять села на пол и положила его голову себе на колени. Когда она уходила, короткая белая ночь уже кончилась. Солнце взошло над широкой рекой и осветило золотистым светом кудрявую голову и мертвое лицо. Деревья Летнего сада уже начали облетать, когда однажды, рано утром, в квартиру профессора Ломоносова постучался с черного хода оборванный человек, в лаптях и сермяге. Его провели прямо к хозяину, который принимал всех, имевших до него дело, в своей рабочей комнате. Лицо этого человека было изрыто оспой, сермяга рваная и в пыли. Он назвался работным человеком с кирпичного завода Санкт-Петербургской губернии и долго мялся на пороге, не объясняя толком, почему он пришел и что ему нужно. Наконец вытащил из-за пазухи грязный лоскут бумаги с порванными краями и молча подал его Ломоносову. На этом клочке едва различимыми буквами были написаны какие-то слова, показавшиеся Ломоносову одними и теми же. Он подошел с этой бумагой к окну и при свете осеннего утреннего солнца увидал свое имя, повторенное несколько раз и написанное знакомой рукой. «Михайло, друже мой... Михайло, нет больше мочи, устал...» — Дальше ничего нельзя было прочитать. — «Михайло дорогой... только бы не били больше...» — разобрал он внизу и, вглядываясь в следующие за этим строчки, холодея от какого-то непонятного ему ужаса, прочел не письмо, а набор бессвязных слов, говорящих неведомо о чем. — Что это? — спросил Ломоносов странного вестника, который стоял перед ним молча, теребя шапку в руке. — Кто это... писал? — Так что господин горных дел мастер Виноградов Дмитрий Иванович к вашей милости. — Митрий! — повторил Ломоносов с побелевшим вдруг лицом. — Виноградов? — Так точно. И как я состоял при них в надзорных, то и обещал им, как, значит, все кончится, к вам письмо отвезть. — Но ведь сего письма понять нету возможности! — А это уж нам ни к чему. Про то не знаю. — Все ли здоров был Дмитрий Иванович? — Они... как того сказать... были здоровы, это точно. А как заболели, так и здоровье кончилось. Ломоносов подошел к рябому мужику и коротко сказал: — Рассказывай. Тогда, повалившись ему в ноги, поведал ему рябой мужик нескладными словами, долго не доходившими до сознания Ломоносова, страшную повесть, которую молено было передать очень коротко. Приказали Дмитрию Виноградову, мастеру горных дел, на заводе фарфоровое тесто произвесть. А материалу не было. А от него требовали. И никуда не отпускали. Он пробовал бежать. Тогда посадили его... на цепь. И от «худого присмотру» сделалось у того мастера вроде как помрачение в уме. Тем дело и кончилось. — Что же с ним... нынче-то? — спросил Ломоносов, с трудом выговаривая слова. — Схоронили мы его, — сказал рябой мужик, — честь честью, там же, у завода... Больше Ломоносов не слыхал ничего. Он долго оставался неподвижным, со стоном положив голову на подоконник открытого окна, за которым шумели деревья академического сада. А работный человек все не уходил и, глядя на Ломоносова, мял в руках свою старую, порыжевшую шапку. Постояв, он сделал шаг к Ломоносову и попробовал окликнуть его: — Ваша милость! — произнес он тихо. Но оставался неподвижным Ломоносов. — Ваше благородие! — повторил мужик. — Ты, милый человек, не убивайся так-то. Ты послушай, чего я тебе скажу. Но так как человек, к которому он обращался, не проявил никакого внимания к его словам, он сделал еще шаг, откашлялся в руку и сказал погромче: — Я вот насчет чего. Митрий-то Иванович нам все бывало про тебя сказывали. Как ты, значит, из нашего крестьянского звания и до всего сам дошел. Митрий Иванович нам, а мы другому, а там, глядишь, третьему, ну вот и вышло. — Что вышло? — приподняв голову и не глядя на работного человека, с трудом спросил Ломоносов. — А вот, значит, надеется, на тебя народ-то. Вот мы, значит, сейчас подневольные спинуто гнем, а там который-нибудь вроде тебя и поднимется. А там, глядишь, другой, а там сам пятый, покудова весь народ, значит, во весь рост встанет. Спину-то мы тоже, значит, когда-никогда разогнем. Вот народ-то, значит, на тебя, ваша милость, и надеется. — Народ, говоришь? — повторил Ломоносов. — А как же? Митрий-то Иваныч нам, бывало, и скажет про тебя-то: «Он, говорит, вам всем свой брат, и народу, говорит, заступник. Мы, говорит, с Михайло Васильевичем всегда хотели для народной пользы трудиться. Для всех, значит». Ломоносов теперь внимательно слушал, глядя куда-то перед собой. — Будь здоров, ваша милость, — переминаясь с ноги на ногу, сказал его гость, — я токмо вот касательно этого и хотел тебе, значит, сказать. — Спасибо, друг, — точно впервые поняв его до конца, очень тихо ответил Ломоносов. Двое суток миновало с того утра, а дверь его рабочей комнаты не отпиралась, и Лизбет тщетно просила ее впустить. Он не отвечал ни на ее стук, ни на крики, и что с ним было, не видел ни единый человек. Он отпер, наконец, свою дверь ночью и, сказав, что вернется часа через два, ушел из дома и вернулся перед рассветом. Никто не знал, где он бродил в эту ночь. Потом он лег, не раздеваясь, и заснул — в первый раз за эти два дня. Лизбет, подойдя на цыпочках, с удивлением посмотрела на его лицо: оно было совсем не похоже на обычное лицо ее мужа: так оно было бледно, и печать такого глубокого горя лежала на этом новом для нее лице. Его лаборатория Оно было построено, наконец, спустя три года после именного указа и стояло в академическом саду, рядом с его \ домом, это небольшое здание — в четырнадцать метров длины и десять с половиной ширины, возведенное во всех подробностях по его, ломоносовскому, плану, под его неусыпным наблюдением. Казалось, он жалел о том, что не может сам обжигать и кирпичи для его стройки. Он был бы рад своими руками возвести его от фундамента до кровли. Пока строилось это малое здание, в академическом саду с утра до вечера слышались голоса то Лизбет, то маленькой Ленхен, которую посылали звать отца сначала к обеду, потом к ужину. Он не уходил со стройки, пока не умолкал стук последнего молотка, и в хорошую погоду работал там же, у маленького стола, приставленного к дереву. В тот день, когда она была закопчена, его лаборатория, за которую он боролся столько лет, и тот день, когда ушли, наконец, плотники и столяры и можно было запереть окна, запереть двери и подсесть к лабораторному столу, он остался ночевать в лаборатории. При свете двух свечей, поставленных на обоих концах чистой, еще пахнувшей краской и стружками комнаты, он всю ночь перетаскивал и расставлял ящики с минералами, отобранными для химического испытания руд, большие сосуды для растворов, малые пробирки и стеклянные колбы — все то скромное оборудование, которое удалось ему выпросить У Академии из ее обширного собрания или с великим трудом достать самому. И забежавший рано поутру Рихман, заглянув в окошко, увидал, что Ломоносов спит, сидя на деревянном табурете и положив голову на лабораторный стол. Когда это зрелище представилось глазам трехлетней Ленхен, приподнятой Рихманом к окошку, она была страшно удивлена, не меньше, чем удивилась бы ее покойная бабушка, на которую она была чем-то похожа. Да, Ленхен пошла, как Ломоносов говорил, в «цильховский» род, не в его. А ему, назвавшему дочь в память своей матери Аленой, мечталось, что Ленхен будет напоминать ее. Лизбет только после ссоры с ним разрешила Ленхен говорить по-русски. И теперь Ленхен безжалостно путала русский язык, единственный, на котором говорил с ней отец, с немецким языком матери. Увидав отца в таком странном положении, Ленхен, все еще не сползая с рук Рихмама, громко закричала подходившей Лизбет: — О, Mutter! Ег крепко спит auf dem Tisch! Голос ее разбудил Ломоносова. Он поднял голову от стола, и первым, что он увидел, была большая, стоявшая перед ним стеклянная колба. Вторым — было детское, изумленное до крайности лицо Ленхен, и улыбавшийся Рихман, и синевшее за ними, над деревьями академического сада, чистое, небо погожего осеннего утра. Да, за много дней это было первое радостное утро! Он взял Ленхен на руки и обошел с ней всю лабораторию, показывая ей свои богатства. Лицо Рихмана выражало полное удовлетворение, но Ленхен мало что понравилось в лаборатории. Она заинтересовалась только большими банками, решив, что ее муттерхен будет, вероятно, сливать в них молоко. Лизбет не понравилось в лаборатории ровно ничего. Войдя, она посмотрела вокруг критическим взглядом и разочарованно сказала: — So viel Unsuhigkeiten um einen so arme Hauschen! Сколько беспокойствия из-за такого жалкого домишки! — Ну, а ты, Ленхен, что скажешь? — спросил Ломоносов, опуская девочку на пол. — Ich will домой! — сказала Ленхен очень решительно. Лизбет, напомнив Ломоносову, что кофе уже на столе, ушла с Ленхен, закончив таким образом свое первое и, пожалуй, последнее посещение этого «жалкого домишки». В тот же вечер Рихман сообщил Ломоносову, что три студента уже записались на слушание лекций и посещение экспериментальных занятий в первой русской химической лаборатории. Увидав, как просияло при этом известии лицо Ломоносова, Рихман почувствовал, что этот день, пожалуй, один из лучших дней также и в его жизни. В «малой храмине» Натура тем паче всего удивительна, что в простоте своей многохитростна, и от малого числа причин производит неисчислимые образы свойств, перемен и явлений. Ломоносов| Утром, в день первой, уже объявленной студентам лекции, Ломоносов стоял на маленькой лесенке у очага своей лаборатории и, засучив рукава рубашки, прощупывал дымоход. У окна возился Рихман, разбирая образцы жил, выданные Академией для пробы. — Кирпич, Рихман, выложен не изрядно, зато и дымит печь, — сказал Ломоносов, окончив свое занятие и вытаскивая из дымохода руку, по локоть запачканную сажей. — Простое дело — кирпич класть по правилу да щели промазать. — Михаил Васильевич, а вы не зря себя учеником Петра называли, — усмехнулся Рихман: — что ему, что вам — ко всему свою руку приложить не терпится. — А как же! — отозвался Ломоносов, отмывая ладони в маленьком чуланчике при лаборатории. — Первый закон мой — времени никогда не терять, а опричь того, во все самому входить. И великую в том радость, Рихман, нахожу. Но Рихман перебил его: — Что такое, Михаил Васильевич? — Он стоял у окна и с удивлением смотрел во двор. — Сюда придворная карета, — вероятно, за вами. Карета в самом деле приехала за ним. Он наскоро пригладил паричок, надел свой единственный парадный кафтан, на всякий случай всегда висевший в чуланчике, и последовал за посланным, сообщившим ему, что его ждут во дворце. Прогремев по камням маленького дворика, дворцовая карета скрылась за углом. На этот раз Лизбет была очень взволнована. Ей даже показалось, что у нее началось легкое сердцебиение. Еще бы: ее мужа ждали во дворце! Как жаль, что ни фрау Эрна, ни дядя Якоб, ни Вилли никогда не увидят дворцовую карету, приехавшую специально за ним! Он должен был вернуться очень скоро — что делать ему во дворце? Но прошло два часа, а его все еще не было. Сладкий мильхзуппе давно остыл на столе, и в этот раз Ленхен в полном одиночестве оказала ему честь. Лизбет долго сидела у окна, глядя на улицу, видневшуюся за садом, и , наконец, послала за Рихманом в лабораторию, чтобы он объяснил ей, какие дела могут быть у ее мужа во дворце. Но Рихман тоже этого не знал. И они оба смотрели в окно, ожидая появления придворной кареты, которая привезет его обратно. И вдруг у самых ворот сада увидали Ломоносова. Он шел крупным, решительным шагом и, когда подошел к дому, махнул им шляпой, легко, как юноша, взбегая на крыльцо. Лизбет онемела от изумления, когда он положил перед ней кошелек, подвел ее к окну и указал на два покрытых алым сукном воза, въезжавших в их двор. — Что это? — спросила она тихо. — Две тысячи, — сказал он, — которые, получил я за оду на восшествие на престол государыни. Медяков-то на две тысячи рублев в руках не донесешь, — засмеялся он. Да, Лизбет, понимала, что сегодня он может радоваться. Но все-таки она рассердилась, когда он сказал, что теперй может сделать ей одно признание: часть этих денег он должен уплатить как поручившийся за профессора Гмелина, не вернувшегося в Россию на кафедру химии. — Никто не поручался, а он поручился, — сказала Лизбет, все же очень недовольная. — Зачем это? — Затем, что немцы твои хитры, — ответил Ломоносов, — и знали, что он не вернется. Ну, да я об этом не жалею. Кафедру химии, после Гмелина, некому, оказалось, дать, кроме как мне. Наконец Лизбет узнала все подробно. Его встретил во дворце Иван Иванович Шувалов, о котором говорят, что, почитай, вскорости новым фаворитом будет. И Шувалов не только с великой похвалой говорил об его оде, но изъявил желание брать у него уроки русского стихосложения. — И что мне всего удивительней было, Рихман, — закончил Ломоносов свой рассказ, — это, что он помнит мою оду лучше, нежели я сам. Весьма хвалил сии строки: Заря багряною рукою От утренних спокойных вод Выводит с Солнцем за собою Твоей державы новый год. Он помолчал и, не замечая сладкого мильхзуппе, пoставленного ему Лизбет, сказал Рихману: — Отрадно видеть мне, Рихман, сие великое усердие к пиитике российской в таком человеке, каков есть Шувалов. Хотелось бы мне увидеть такое же и в учениках моих! С того же вечера в первой русской лаборатории начались правильные занятия. Познание натуры Он отодвинул свой столик — некое подобие кафедры — в самый дальний угол, дабы предоставить более свободы слушателям. И хотя этих слушателей, считая Рихмана, пришло всего пять, он говорил им так, как говорил бы перед огромной аудиторией, полной учеников, зная, что мысли его и слова они передадут другим и что мысли его будут когда-нибудь признаны всеми. Он начал с тех слов, которые когда-то сказал Виноградову, потому что они выражали самую сущность его отношения к «натуре» и к науке о ней: — Познание натуры, слушатели, трудно, однако полезно, приятно и — свято. И поелику оно для меня свято есть, почитаю я сию малую лабораторию не токмо местом для учения, но некоей малой храминой, где надлежит нам изучать великие законы естества во вселенной. Поглощенный своей мыслью, он услыхал стук веток о крышу, и на мгновение встал в его памяти образ старого дьячка с указкой в руках и сидящего перед ним маленького мальчика. За ветхой кровлей северной избы вот так же шумел осенний ветер и ветки старых елей терлись о стены, а дьячок Никитич, подняв кверху указательный палец, говорил своему ученику о великой лестнице знания, ведущей к мудрости. От этого мгновенного воспоминания, сознание огромного, уже пройденного им пути обожгло его радостью, и он сказал своим пяти слушателям иными словами о той же великой истине: о бесконечности человеческого познания вселенной. — Сие познание, — сказал он, — тем большую нам глубину являет, чем более мы в него погружаемся. И посему имеем сходность с бездной ночного небосвода, не имеющей дна. Он посмотрел на убогую обстановку своей лаборатории, но эта бедность не пугала его. — Здесй с простейшими — до времени — приборами надлежит нам изучать химические и физические свойства материи, сиречь состав всей вселенной. Ибо все, что мы видим в оной вселенной, и все, что — до времени — не видим, есть материя, единая в первозданном составе своем, но многоликая и многообразная в формах. Он взял кусок гранита из ящика с минералами и поднял его в руке. — Сей гранит есть материя, — сказал он громко, — но и дивный орган нашего зрения — человеческий глаз — есть материя тоже. Сколь велико различие между двумя видами материи в сих двух предметах! И в строении глаза, приемлющего волны эфира, несущие свет, и в столь же дивном строении уха человеческого, приемлющего волны эфирные, несущие звук. Сколь тонким и разумным является здесь строение и вид естества, ежели сопоставим его с естеством гранита! Но мысленным оком проникая туда, где глазу и рукам проникать возбраняет натура, можем сказать мы, что еще большее различие обнаружится между той материей, коя уже известна науке, и той, каковую ей изучать еще предстоит. Но во всякой материи сущность едина: нечувствительные, незримые частички, кои я именую, сиречь атомы вещества, протяженные, непроницаемые, наделенные вечным движением. Слушатели сидели, пораженные новизной этих слов и мыслей. Он развивал перед ними свои взгляды на строение вселенной, набрасывая грандиозную картину материального мира, пребывающего в непрерывном движении своих изначальных частичек — в животных, в растениях, в минералах и даже в мертвых телах, Рихману казалось, что никогда еще такая сила убеждения не звучала в голосе Ломоносова, и он подумал невольно, что стоящий перед ним человек с куском грубого гранита в руке, быть может, опередил свое время больше чем на столетие. Он подумал об этом еще раз и с еще большей уверенностью, когда слушал заключительные слова ломоносовской лекции: — Две величайшие науки — физика и химия, на основе великой науки математики, в познании атомов сих, или корпускул, сливаются воедино. Что же до математики, то она поистине есть основа наук. И, давая вам здесь объяснения явлений природы, хочу я укрепить объяснения сии на некоем определенном основании. И ежели бы тем, в мозгу которых царствует хаос от массы непродуманных опытов, поучиться священным законам геометрии Эвклида, они, несомненно, могли бы глубже проникнуть в тайники природы. Две славнейших науки — физика и химия — на основе великой науки математики в познавании атома сего, или корпускула, сливаются воедино. Но материя сия, слушатели, помимо иных различных свойств, двумя наиважнейшими законами обладает, кои должны мы именовать законом постоянства вещества и законом постоянства движения. Говоря же о законе движения, нужно знать вам, что всякое тело, движущее своей силой другое, столько оной силы у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение получает. А поелику материя атома пребывает в движении, то для изучения корпускула потребна и славная наука механика. Ибо теплота, уважаемые слушатели, возбуждается движением. От взаимного трения руки согреваются, дерево загорается пламенем, при ударе кремня об огниво появляются искры, железо накаляется докрасна от частых ударов. А ежели их прекратить, оно остывает. Но движение в натуре двояким является: общим и в нутренним, которое есть перемена места нечувствительных частичек материи. Вот, слушатели, сколь сложно и сколь славно есть познание всего окружающего нас видимого и невидимого мира. Студенты — Федоровский, Сафронов, Клементьев и Протасов — расходились по домам, стараясь быстрее пробегать вдоль улиц, уже охваченных осенним холодком. Был поздний час, когда ушел и Рихман. Отойдя от академического «огорода», он оглянулся: в лаборатории — в сей «малой храмине», как назвал ее Ломоносов, — горели две свечи, Рихман знал, что Ломоносов сидел там над работой. Но теперь это была уже не химия, не физика и не механика: первый учебник красноречия, и первая русская грамматика, и первый сборник его стихов должны были скоро выйти в свет. Было очень поздно, Лизбет уже давно спала, и над кровлей по-осеннему шумели деревья. Ассамблея Академия готовилась к великому событию, к торжественной ассамблее, уже несколько лет не имевшей места в ее стенах, и торопилась закончить все приготовления до возвращения двора, пребывавшего з это время в Москве. Для торжественной ассамблеи необходим был оратор, которому можно было бы поручить ответственное и почетное дело: торжественную речь в присутствии президента и двора. О назначении оратора шла переписка между Шумахером и Москвой, где поселился теперь молодой президент Академии наук. Историографа Миллера прочил Шумахер — и не он один — в ораторы. Но поскольку диссертация Миллера о происхождении и истории русского народа не только обнаружила в себе крупные ошибки и была отвергнута Ломоносовым, но вызвала возмущение всех русских адъюнктов, которым довелось с ней ознакомиться, то и выступление Миллера могло бы вызвать «конфузию». Профессора Винсгейма, столь же тучного, как и Зейдель, одолевает одышка, а Делиля токмо и услышит, что первый ряд. Поднимался голос и за трудолюбивого переводчика и за профессора, чьи заслуги перед просвещением российским были несомненны, за Тредиаковского, как за пиита, но этот прожект не был принят, поелику Тредиаковский не знал в должной мере состояния всех наук, изучавшихся в Академии. От имени президента из Москвы прислал Теплов бумагу: выбрать из двоих — либо Миллера, либо Ломоносова. И сей-то выбор целый вечер не мог Ученый совет произвести. Только к ночи порешили: затем, что имел Ломоносов голос весьма звучный, а сложение телесное складное и в скорости составления потребной для торжества речи — как тут ни бейся — всех опередит и в высоком штиле других превзойдет, то и пришлось Ученому совету поручить это дело ему. На том с охрипшими от спора голосами и разошлись. Его речь была написана прекрасным языком, и говорил он ее наизусть, что весьма удивило всех присутствовавших. Его низкий и мягкий голос отчетливо звучал в самых отдаленных углах парадного академического зала, фигура Ломоносова в кафтане, украшенном золотым шитьем и кружевами, выделялась среди всех академиков и ростом, и статностью, и уверенностью жестов. И хотя тема его речи была указана ему заранее, его «похвальное слово», обращенное к Елизавете, было новым по форме и живым по содержанию. Он видел в Елизавете прежде всего дочь Петра, продолжательницу его преобразований. «Похвальное слово» имело успех. Двор остался доволен и словом и оратором. И хотя Тредиаковский вначале косился на него из своего кресла, это не помешало Ломоносову, проходя мимо, позвать его на свою домашнюю ассамблею, которую надлежало ему устроить для всех господ академиков. На третий день по окончании торжественной ассамблеи предстояло быть господам Академии и ему самолично на куртаге с ужином во дворце. А нынче, облачившись в парадные кафтаны, профессоры, забыв о прежних ссорах и кукишах холмогорского мужлана, должны были почтить своим присутствием дом Ломоносова. Лизбет в пышной шуршащей атласной робе, Лизбет, уже давно перегнавшая в размерах фрау Эрну Цильх, встречала гостей на пороге той комнаты, где был накрыт парадный стол. Когда она воссела, наконец, за этот стол на свое хозяйское место, то почувствовала, что все самые смелые мечты ее муттер и дяди Якоба не могли бы нарисовать их воображению той высоты, которой она достигла. Правда, она видела мужа только за обедом, а бывали дни, когда она не видела его вовсе. Правда, у него никогда не было денег. Им приходилось вечно занимать их то «в рост», то просто так, а в эту зиму они с Ленхен остались в старых шубах, не говоря уже о шубе самого Михаэля. Но всё же... все же, если бы ее экономная муттер увидела этот стол и нарядных персон, сидевших по правую руку и по левую от Лизбет, у нее закружилась бы голова. А как была бы поражена подруга ее юности Анхен и все марбургские соседки, если бы узнали, что ее муж бывает во дворце! Хорошо хоть, что брат Иоганн, которого пристроил к делу Михайло Васильевич, все это видит и слышит. Вот какой-то ученый профессор в лиловом кафтане, встав со своего места с бокалом в руке, произносит речь, обращенную к ее мужу. И академики очень согласно кивают головами в напудренных париках. Право же, они прекрасно относятся к Михаэлю, и непонятно, почему он с ними так много воевал. И как это приятно, что русские академики говорят по-немецки, а не порусски! Лизбет с упоением болтала на своем родном языке с господами профессорами из тех, кто сидел к ней поближе, особенно после того, как оказалось, что у одного из них были родные в Марбурге. Гости все еще не разъезжались, и две-три кареты, совсем засыпанные талым ноябрьским снегом, ждали у бонновского дома. Слишком поздно Был уже поздний час, но в двери дома академика Ломоносова громко и настойчиво постучал какой-то человек, запорошенный снегом. Лицо его было бледно, и, несмотря на зимний ветер, крупные капли пота покрывали лоб и щеки. Ломоносов вышел к нему в прихожую, где нынче, по случаю гостей, горели восковые свечи, и отступил, охваченный не. столько изумлением, сколько какой-то тревогой. — Алексей! — сказал он громко и уже тише добавил: — Или случилось что? — Михайло Васильевич, помирает Машутка-то! От этих слов стало вдруг очень тихо в прихожей. Слышно было, как потрескивают свечи, стекая горячими каплями воска. — Мертвенького родила, — добавил шопотом Алексей Дудин. — Пойдем к ней со мной, за ради Христа. Дохтура бы еще какого получше, да уж, видно... не такая судьба. Он замолчал и прислонился к стене, и капли талого снега, и пота, и слез медленно стекали по его лицу. Ломоносов вернулся к гостям и, подойдя к уже старому лейб-медику Блюментросту, нагнулся к его уху: — Герр Блюментрост, ради господа бога, поедем со мной немедля! В прихожей, где все так же неподвижно стоял, прислонившись к стене, Алексей, Ломоносов надел шубу на старого доктора и как был, в одном кафтане, выбежал на крыльцо. Усадив лейб-медика в первую подвернувшуюся карету и сам усевшись в нее с Алексеем, он заставил рассказать ему все. Но рассказывать было нечего: лечили Машутку в Архангельске и лекари и знахари. Да, видно, не так лечили и наказали, чтобы в столицу ее везть: трудные, мол, роды будут. — А здесь, — может, дорогою долгой чем повредилась — прежде сроку мертвенького нонче родила. Вот и все. Машутка лежала на высоко взбитых подушках и редко, тяжело дышала. Ее милое лицо было искажено мучениями, но ставшие огромными синие глаза, блестевшие от жара, смотрели с каким-то величавым и строгим, небывалым у нее выражением — прямо перед собой. Какие-то люди расступились, давая дорогу лейб-медику. Он взял ее за руку (Ломоносов с удивлением заметил, что пальцы ее были синеватого цвета), потом прижал ухо к сердцу Машутки. Потом посмотрел в ее лицо и сурово сказал Ломоносову: — Zu spat!.. Слишком поздно. Ломоносов подошел к Машутке и приблизил голову к ее лицу. Свет свечи, стоявшей у кровати, падал прямо на Ломоносова, и Машутка остановила на нем взгляд, вдруг сделавшийся жалобным и детским. — Уходишь? — шопотом спросила она его. — А чего я скажу? Когда воротишься-то? Через пять годов? — быстро-быстро, но еле слышно спрашивала Машутка, однако Алексей тоже услыхал ее слова. — Бредит, — сказал он и посмотрел на доктора. Свет, падавший прямо на Ломоносова, зажег мягким блеском золотое шитье на его парадном кафтане, и его фигура выступала ярко и почти ослепительно на фоне этой скромной, полуосвещенной комнаты. Глаза Машутки, обращенные на него, обвели медленно, удивленно всю его фигуру в пышном наряде и расширились от радости. Она посмотрела на него с минуту молча и проговорила так тихо, что можно было скорее угадать, чем услыхать ее слова: — Как хорошо... что ты воротился!.. Когда Ломоносов нагнулся и поцеловал лицо ее, он почувствовал, как медленно холодело оно под его губами. Он вышел из лаборатории, где ночевал и где беспокоить его не разрешалось, только к вечеру следующего дня. Лизбет бросилась к нему с расспросами, и он ей ответил без гнева, но с таким лицом, какого она еще у него не видала: — Где я был, там меня нету и более не будет... никогда. И снова ушел в лабораторию. Через день он собирался на дворцовый куртаг. И, одеваясь медленно и неохотно, присел у своего стола, держа в руке свеженапудренный парик. Лизбет посмотрела на его голову и с удивлением подошла поближе: — О, mein Gott, ты совсем, совсем поседел!.. Он машинально поднял руку и провел ею по волосам, словно он мог прощупать их, эти седые волосы, и, взглянув в висевшее напротив зеркало, равнодушно ответил: — Да и взаправду, — почитай, поболе половины седы. В этот вечер на куртаге императрица Елизавета Петровна очень веселилась. И веселился Разумовский, юный президент Академии наук. Веселилась или делала вид, что веселится, Академия. И был безмолвен Ломоносов. За пышным ужином произносились речи. Читались приветствия, посланные в Академию по случаю ее торжества. Среди них — письма Вольфа и Эйлера, где говорилось о Ломоносове и где Эйлер, мировая знаменитость, писал, что мысли этого российского ученого опередили его время, может быть, на много-много десятилетий. Довольная Елизавета, погрозив своему ученому пальчиком, отправила ему на тарелке вынутый ею самолично из вазы заморский фрукт. Но, несмотря на эту милость, оставался все же безмолвным ее замечательный ученый. «Высочайшее посещение» В морозное утро Рихман торопился в лабораторию, чтобы поговорить с Ломоносовым до прихода студентов. Несмотря на ранний час, Ломоносов был уже там. Он всегда caм топил печь своей «малой храмины», и в лаборатории было тепло. Он был занят рисованием большой карты России, разделенной на части, окрашенные в разные цвета. Несколько таких карт уже висело на стенах. На вопрос Рихмана об их назначении Ломоносов ответил, что это экономические карты России; составленные им для Географического департамента, которым он теперь заведовал. — Весьма жаль, — сказал он, — что хотя и делали у нас ландкарты и атлас составили, однако до сей поры не было таких карт, по коим было бы видно становление либо изменение хозяйства, ремесел и доходов в каждой губернии нашего государства. Нынче же раздам сии карты ученикам, дабы по этим они и остатные составили. Тогда можно будет видеть не токмо состояние хозяйства российского в наши дни, но и те нехватки в нем, кои надлежит восполнить для будущего процветания отечества нашего. — Он подвел рихмана к столу, на котором были разложены разграфленные листы. — Сюда надлежит нашим студентам вписать названия и свойства всех химических елементов, кои они успели узнать. А вот, Рихман, книга для записей всех наблюдений, производимых нами над погодой и сменами ветров; все отдельные записи студентов сюда надлежит в единую книгу перевесть. Он водил Рихмана, не приходившего дня три-четыре из-за сильных морозов, по лаборатории, как по обширным. владениям, где на каждом шагу ожидало его что-нибудь примечательное, что-нибудь новое. В углу стояла уже совсем готовая, сделанная самим Ломоносовым машина для определения вязкости жидкостей и лежала новая «ночезрительная» труба, тоже самодельная, ибо помимо телескопов, над улучшением которых он работал неукоснительно, чтобы звезды и все ночное небо являлись в них в увеличенном и не в затуманенном виде, а в полной ясности, ночезрительную трубу задумал он для помощи мореплавателям: дабы и в сумерки могли они видеть и встречные суда и всякую опасность. Рихман осмотрел и трубу, и машину, и карты, повешенные на стене, и, перелистывая лежавший на столе ломоносовский учебник красноречия, который почитался образцовым, сказал улыбаясь: — Столь велико разнообразие во всех трудах и стремлениях ваших, что, пожалуй, потомки наши и не поверят, что столько дел и мыслей соединилось в одном человеке! Ломоносов, не поднимая головы от своей карты, ответил: — Не для того тружусь, Рихман, и не в том себе награды ищу. Стараюсь допрежь всего о просвещении нашем, дабы не итти нам позади иных просвещенных народов, а оным самим указывать путь. Он поднял глаза на Рихмана. — Многое, многое, Рихман, в нашем отечестве надлежит свершить. Для каждого дело найдется, токмо руки приложи. Что же не идут студенты наши? — оборвал он себя. Он показал Рихману чертеж и начал с увлечением объяснять его, но в это время вошли, потирая с мороза руки, два ученика, Клементьев и федоровский. Очень довольный их своевременным приходом, Ломоносов велел им до начала занятий погреться у печки. Он не любил запозданий к началу занятий, боясь утраты хотя бы пяти минут, ибо весьма мало, говаривал он, отпущено человеку сих минут, дабы за единую жизнь не токмо свое дело успеть сделать, но узнать все, что сделали до него другие. Вбежали со страхом — не поздно ли? — еще два студента, Протасов и Софронов, и аудитория Ломоносова была в полном составе. Он вынул из ящика толстую тетрадь и поднял ее так, что всем было видно название. — Сию работу, — сказал Ломоносов, — написал я еще до открытия лаборатории, а потому опасался многих прошибок. Но, благодарение богу, Эйлер — профессор, получивший ее от господина Шумахера, — прошибок в ней не усмотрел ни единой. Именуется моя диссертация: «Теория упругой силы воздуха». На тихой линии Васильевского острова, перед воротами бонновского дома можно было заметить какое-то небывалое оживление, но ни Ломоносов, ни его слушатели не обратили на него никакого внимания. — Для малых опытов с упругой силой воздуха употреблял я сии три сосуда, но для явного доказательства моих мыслей о сем предмете потребно особое устройство: воздушный насос. Вот чертеж того, как его произвести надлежит, дабы вам и всем прочим мысль моя в явном виде подтвердилась. Он показал на свой чертеж и отложил его. — Но разум мой, — сказал он твердо, — допрежь сего к тому заключению устремлялся, что способность воздуха расширяться опять-таки от невидимой нами причины зависит. Вы, как вижу я, удивлены сими словами? — подсмотрел он в устремленные на него глаза. — Не удивляйтесь, ибо хотя я не токмо не осязал и не трогал, но и не видел нечувствительных частичек воздуха, однако через разум свой утверждаю, что они суть причина расширения воздуха. И утверждаю, что невидимые сии частички шарообразны, наделены вечной подвижностью, ибо движение материи непрерывно, и, удаляясь друг от друга, расширяют воздух и делают его упругим. А идя далее в рассуждения сем, заключаю, при помощи пока токмо разума моего, что, обладая потребными для сего приборами, могли бы физики наши получить некое вещество, кое является жидким воздухом. Но в том мне нынче никто, и вы в том числе, не поверите, — закончил он, усмехнувшись. Ученики с удивлением переглянулись, Рихман слушал с восторженным вниманием. Но в эту минуту в распахнувшуюся дверь лаборатории, в поспешно наброшенной на плечи шубе, вбежала Лизбет. — О, mein Gott! — воскликнула она с порога. — Er hort wie gewohnilich gar nicht! К нему сама государыня едет, все кричат, а он, как всегда, ничего не слышит! После этого Лизбет стремительно бросилась обратно в дом, чтобы, на всякий случай, привести себя в должный вид. Елизавета вошла, опираясь на руку Шувалова, в сопровождении Кирилла Разумовского и свиты, сразу заполнившей всю лабораторию. Она остановилась, весело улыбаясь, и оглядела быстрыми взглядом лица смущенных до последней степени учеников, фигуру Рихмана, склонившегося в церемонном поклоне, и спокойное лицо Ломоносова. — Ну, здравствуй, — сказала она, милостиво протягивая Ломоносову руку для поцелуя. — Нынче, по причине солнечной погоды и что морозец такой мне по сердцу, надумалось мне в зверинец съездить, а там, говорят, медведей знатных привезли. А Иван Иваныч говорит: «Поедемте лучше к Ломоносову». Ну вот, я и собралась. Показывай, что тут у тебя есть. Он гордился своей «малой храминой», и потому не было для него большей радости, как показывать и объяснять все, что в ней было собрано и сделано его собственной рукой. Осматривая с живейшим интересом лабораторию, Елизавета прежде всего обратила внимание на висевшие по ее стенам карты. — Карты сии что же обозначают? — быстро спросила она. — Оными картами полагаю я в должное состояние привесть старый атлас российский, — пояснил Ломоносов. — Для того надлежит с разных мест и от разных городов наших иметь точные вести и цифирные записи о всем хозяйстве каждого места. Дабы науку нашу, не токмо химическую и физическую, но и всякую иную, для жизни и процветания российского народа полезной сделать. У нас теперь, к примеру говоря, сколь великое число заводов для черной металлургии — и на Урале и в иных местах — родилось! А в серебряном деле мы всех опередили, да не знает об этом никто. А литейщики наши и чеканщики по металлу кому ведомы? Никому! Для того и надлежит о всех наших ремеслах и их мастерах сведения собирать и записывать. Мысль эта была Елизаветой одобрена. Что ж можно было на то возразить? Ломоносов повел ее к разложенным в ящиках образчикам кварцев и рудных жил. — И много у нас таких жил есть? — спросила она с любопытством. — Богатства наши окажутся несметны, государыня, ежели должным образом их из недр земных извлечь. И когда захотели бы вы пройтись по всей земле русской, дабы сии скрытые сокровища сделать явными, прогулка, была бы не скучной. И медь, и железо, и серебро, и золото, и мрамор — все у нас есть. — Разрешите, ваше величество, прежде всего спросить его насчет занятий русской пиитикой и сочинительством! Он ведь у нас первый знаток нашего языка и красноречия, — сказал Шувалов. — учит ораторов говорить остро, стремительно, крепко. — И хорошее дело, — ответила Елизавета, — я сама наш язык превыше всех прочих почитаю. — В русском языке, ваше величество, — отозвался горячо Ломоносов, — имеется великолепие гишпанского, живость французского, крепость немецкого и нежность итальянского. Сверх того, богатство и сильная в изображении краткость — греческого и латинского. И еще то примечательным является, что на родине нашей, столь великой не в пример иным государствам — от юга до севера, от запада до востока, — русский народ говорит столь сходно, что друг друга везде поймет. — Знаешь, Иван Иванович, — обратилась Елизавета к Шувалову, — я за то Ломоносова люблю, что он столь отменно все русское любит. Шувалов, улыбнувшись, не ответил и повторил свой вопрос. — Так как же сочинительство, Михайло Васильич? Трагедия твоя «Тамира и Селим» вся разошлась, и не достанешь. А кто на театре видеть ее не успел, тот и не узнает вовсе. — Я новую написал, «Демофонт» именуемую... — Вот что, — с неожиданной решительностью прервала Ломоносова Елизавета. — Ты, помнится, докладывал мне, что имеешь великое желание историю российскую писать. И Иван Иванович о том сказывал, да недосуг мне было о том подумать. Но ныне вижу, как ты отечество наше почитаешь, и знаю, что язык у тебя отменный. А потому приказываю: пиши нам историю российскую. Все прочее и оставить можно до времени. Ты, Иван Иванович, так и запиши, где там про эти дела записывают. Граф, — обратилась она к Разумовскому, — ты у них президент, прикажи, чтобы Академия твоя Ломоносову в сем деле не мешала, а то знаю я их: им бы токмо своих немцев отличать. А нам надлежит и в сих делах и в знании истории своей иным государям пример подавать. Разумовский послушно наклонил голову. — Ну, а сей предмет на что будет? — Прибор для определения твердости тел, ваше величество. — Чудно! — усмехнулась Елизавета. — Чего ж тут еще определять, ежели и так его сразу видать, что оно твердое? А там что лежит? — Зрительная труба, ваше величество. – Какая такая труба? – Такая, в которую ночью звездное небо весьма явственно разглядеть можно. — Да ну! Вот что: сейчас зима, а летом беспременно принеси ее во дворец — я сама в нее на звезды погляжу. Умен, умен, — промолвила Елизавета вставая. — А это что у тебя? Ее взгляд упал на большой выточенный шар на ножке, на котором рукой Ломоносова был набросан рисунок морей, океанов и суши. Она повертела шар. — Ну, про это и я угадала, — сказала она с довольными видом. — Небось наша Земля? — Совершенно верно, — ответил Ломоносов и, взяв из ее рук глобус, повернул его так, что ей виден был Северный полюс. — Таковой же глобус — токмо в большем размере — полагаю по времени из меди отлить. Взгляните, ваше величество, сколь явственно здесь увидать можно некий новый путь для державы нашей, о коем я в мыслях своих давно уже держу, ибо в нем великое для нас достижение вижу. Елизавета остановилась, заинтересованная. — Новый путь, говоришь? А куда же это? : — В Америку, ваше величество, через северные льды, через полюс, где, как с несомненностью полагаю я, имеется свободное море. Он взял палочку и палочкой показал ей путь. Кирилл Разумовский, молчаливо и удивленно осматривавший карты и рисунки северных сияний, сделанные Ломоносовым, подошел тоже к глобусу. — Он и мне, государыня, о том пути докладывал, только мне сие смешно обозначилось. — Не смешно, — остановила его строго Елизавета, — а очень страшно. И, обернувшись к Ломоносову, добавила: — Не знаю уж, как так и что, а слыхала я, что на севере вечные льды цельными горами стоят и, кроме белых медведей, не живет там никто. Затем, что там и свету божьего нет — токмо ночь одна. Верно я говорю, Иван Иваныч? — Совершенно справедливо, ваше величество, — с поклоном ответил Шувалов, — только ночь там полгода простирается. — Ну, все равно, — отмахнулась рукой Елизавета, — там место проклятое. Как же ты хочешь, чтобы туда люди ездили? — Ничего, ваше величество, — твердо ответил ей Ломоносов, — русский народ отважен. А что до проклятых мест, то полагаю, что таковых и вовсе на земле нет. Все от рук человеческих да от усердия происходит, коими и из проклятых мест можно весьма полезные произвести. — Да ты совсем бесстрашный! — засмеялась Елизавета. — Иван Иваныч, хотя бы вы с гетманом его чем-нибудь попугали! — Что вы, ваше величество! — Разумовский покачал головой. — Не мы его, а он нас испугать может, ежели пожелает: он такие страсти с електрической силой производить готов, что и слушать боязно. Елизавета с испугом посмотрела на Ломоносова: — Это где ж ты такую силу берешь? — Оной силой, ваше величество,— словно вдруг обрадовавшись, заговорил он, — заряжены грозовые облака каждый раз, как в небе гром гремит и молния блистает. О том вам и профессор Рихман подтвердит, понеже он давно електрической силой занят и еще прошедшим летом во время грозы не однажды сию силу из атмосферы проводил. — Это куда же? — спросила совершенно пораженная Елизавета, забыв, что уже собралась уезжать. Рихман подошел к царице, выйдя из дальнего угла, откуда слушал внимательно всю беседу. — А вот куда, ваше величество. К концу железного прута прикрепил я железную же проволоку, ее особым способом в комнату провел. А к проволоке линейку, а к линейке — шелковую нить. — И что же? — перебила Елизавета, со страхом глядя то на него, то на Ломоносова. — Что же ты своей ниткой с грозой учинить хотел? — В прошлом лете, ваше величество, тринадцатого июля, во время знатной грозы, електрическая сила вступила в проволоку, и нить, отходя от нее, гонялась за пальцем. А из линейки все гости мои могли извлекать искры. — Дождемся лета и учиним опыт, — говорит Ломоносов. — Ну и дела-а! — протянула удивленно Елизавета, поправляя меховую накидку, надетую двумя фрейлинами на ее плечи. — До того вы оба бесстрашные, что я бы на месте ваших жен все бы эти прутья переломала. Экое дело чинят! Ведь ты подумай, — наставительно сказала она Ломоносову, и то же время милостиво подавая ему руку для поцелуя, — разумом тебя бог не обидел: ну может ли человек небесным громом управлять? Ну, он немец, — сказала она, протягивая руку и Рихману, — с него и взять нечего. А ведь ты русский, как же тебе-то не грех?! 9 В эту минуту в открывшихся перед нею дверях показалась Лизбет, которая стояла в сенях в одной парчовой робе, и сделала такой низкий реверанс, какой только позволялся ее полнота, жесткая роба и уменье, когда-то приобретенное в дешевеньком марбургском пансионе. Елизавета остановилась. — Это жена твоя, Михаил Васильич? — Жена, ваше величество. — А коли ты жена, — обратилась она с улыбкой к Лизбет, — ты за этим Ломоносовым построже поглядывай. А то он умен-умен, а гляди-ка, что с приятелем надумал: проволокой молнию ловить! — Ну, Иван Иваныч, — сказала она весело, усевшись в карету, — съездим все-таки теперь и к медведю: уж такой день нынче вышел! Разные впечатления Через неделю после этого дня молоденький адъютант привез от самой императрицы приглашение профессору Ломоносову с супругой во дворец, на французский спектакль. В то время Елизавета Петровна еженедельно смотрела у себя на придворном театре французские представления. Этот же вечер давался в честь маркиза де ла Шетарди, который, приехав в Россию в качестве посла, всемерно старался о заключении союза между Францией и Россией, борясь с графом Бестужевым-Рюминым, хлопотавшим о таком же союзе России с Австрией. С маркизом де ла Шетарди русскую императрицу связывали. можно сказать, давние и знаменательные воспоминания. В ночь на 25 ноября 1741 года маркиз принимал участие в перевороте, который возвел на русский престол дочь русского царя, разумеется, французский посол проявил горячее свое сочувствие этому событию не в силу симпатий к национальным стремлениям русской знати. Он делал это потому, что считал правление дочери Петра более выгодным для Франции, полагая, что новую царицу будет нетрудно склонить на его предложения и на необходимые франции уступки. Ломоносов уже не однажды видал придворные балы с маскарадами. И сердился весьма, узнав, что на последнем, новогоднем, всем мужчинам приказано было явиться в дамском платье, всем дамам — в мужском. Это весьма любимое Елизаветой Петровной развлечение было введено ей по той причине, что ей чрезвычайно шел мужской костюм. В этот раз дворец был украшен гербами Франции, а герб рода де ла Шетарди, увитый зеленью, был помещен на театральном занавесе, напротив места маркиза. Лизбет, попавшая впервые во дворец и потратившая два дня на свое одевание, со страхом и изумлением смотрела вокруг. С удивлением поглядывал кругом и Ломоносов; он не узнавал ни одной из фрейлин: в одинаковых черных париках толпились они позади пышного кресла Елизаветы, белокурые волосы которой стали за неделю совсем черными, почернели легко изогнутые брови, резко выделяясь на румяном лице, украшенном черными мушками. Одетая в платье с французскими фижмами, она болтала с маркизом де ла Шетарди на чистейшем французском языке, величаво отвечая на поклоны своих придворных и попросту смеясь комплиментам маркиза. Французская труппа играла сцены из пьесы Корнеля. Лизбет, не знавшей французского языка, было скучновато. Правда, туалеты, движения и манеры актрис и актеров давали ей достаточно материала для наблюдений, но она не понимала ни их острот, ни огорчений и больше занималась разглядыванием своих соседок. От одной из них, молоденькой фрейлины, сопровождавшей императрицу при посещении лаборатории, она узнала, что для сегодняшнего вечера был дан государыней приказ: всем дамам явиться в черных париках, дабы больше походить на француженок, и выучить новый танец, привезенный из Парижа. Этим танцем после окончания спектакля откроет императрица бал, в котором примут участие все выступавшие актеры. Ломоносов не остался смотреть на парижский танец. Убежав утром от немцев, вечером попал к французам! — Хоть не один я, — сказал он сам себе тихо, — а покуда еще мало нас. Об этом думал он утром в Академии, слушая Тауберта и Шумахера, говоривших о том, что без иноземных ученых да иноземных государственных деятелей Россия и дохнуть не может. Сначала он кричал и спорил до потери голоса. Потом молча бегал из угла в угол Географического департамента, куда его вызвали по делу о его проекте составления экономических карт России, — бегал, стиснув зубы и кулаки, с потемневшим лицом и молча окидывая гневным взглядом бесстрастное лицо Шумахера и тучную фигуру Тауберта, поддакивавшего во всем своему тестю. И вдруг, на радость его, вошел Крашенинников, с которым они подружились тотчас по возвращении его в 1743 году в Петербург из сибирской экспедиции и особенно сблизились после того, как Степан Петрович Крашенинников стал ректором академической гимназии. — О чем спор? — спросил он, ответив сухим поклоном на сухой поклон Шумахера и дружески протянув руку Ломоносову. — Ты слышишь ли, что тут говорят?! — Ломоносов бросился к нему, как бросаются к родному на чужбине. — Отечество наше в себе самом не имеет силы для процветания и жизни. Без иноземцев погибнем! А на деле-то видим, что великую одаренность народа нашего ни бесправие, ни злая нужда, ни влияние иноземное задавить не смогли, у нас наши русские «розмыслы» — строители да изобретатели, никому не ведомые самородки, как ростки из чернозема, росли и крепли наперекор всему и открытиями своими европейскую науку опережали! Крашенинников поглядел в сторону Тауберта, который, презрительно улыбаясь, стоял рядом с креслом Шумахера и в раздумье промолвил: — Да, всего достигали, о достижениях науки не зная, без инструментов и без денег. А какие строители были у нас и в тринадцатом да еще в двенадцатом веке — и новгородские и киевские! Церкви да башни наши древние, герр Тауберт, вы видали? — Нет, не видал, — небрежно ответил Тауберт. — Жаль, жаль, — сказал тихо Крашенинников. Наступила общая пауза. Крашенинников поклонился Ломоносову и вышел. Следом за ним Ломоносов подошел к двери, с шумом, наотмашь, распахнул ее — и ушел, не простясь с Таубертом. На улице увидал он Крашенинникова. Они пошли вместе и долго бродили по набережной, посматривая время от времени на пламенный, медленней тускнеющий закат, разлившийся над Невою, и беседуя о том, чем оба болели одинаково: что все еще трудно было и жить и работать в Академии своим, русским, ученым. — Смеху достойно, — говорил Ломоносов с горячим волнением. — Поистине смеху достойно, что твою отменную работу о Камчатке без внимания склонны оставить, а бредни миллеровы и шлецеровы о происхождении народа нашего готовы хоть сейчас за историю признать! — То еще от академика Байера пошло, — ответил Крашенинников усмехаясь. — Знаю, что от Байера. Сей кенигсбергский немец с историей смело расправлялся. А уж каково было ко всему русскому его пренебрежение! Не зная языка, о русском языке писал и заявлял всем открыто, что чем русский язык изучать, так он за лучшее почитает китайскому учиться. А академики наши с ним носились, что дураки с торбой. Устал я, Степан, от немцев, — сказал он задумчиво. — А ведь можно было бы с ними вместе и жить хорошо и работать хорошо, как царь Петр мыслил. Так нет, куды тебе! Ничему русскому ходу не дают, вот что горько! Из-за того и трудно мне с ними. Крашенинников посмотрел на него и только теперь заметил, какое усталое у него лицо и как изменился он за последнее время. — Ты бы хоть на малое время себе отдых дал, — ласково сказал он. — Нельзя, Степан, нельзя. Голова моя столь многое зачинает, что и половину того к совершению привесть не успею. Так-то, друг, — закончил он, положив руку на плечо Крашенинникова. Теперь выйдя из дворца в какой-то злой, томящей тоске, он посадил Лизбет в карету и велел кучеру ехать к бонновскому дому. Но, не доехав, попросил остановить лошадей. Лизбет, привыкшая ко всяким неожиданностям, только молча вопросительно посмотрела на своего мужа. Он сказал ей, что вернется к ужину, что час еще не поздний и, открыв дверцу кареты, вышел на темную улицу. Здесь неподалеку был небольшой дешевый трактир, где собирался разного сорта люд и где, по крайней мере, можно было слышать простую русскую речь о жизни простого парода. В плохо освещенной комнате с низким потолком было людно и шумно. Он спросил себе простого кваса и уселся за маленький стол в самом дальнем углу. Но, прислушавшись к оживленной беседе нескольких посетителей за большим столом, он подвинулся к ним поближе. Пожилой горожанин говорил о событиях, здесь всем известных, но неведомых ни Ломоносову, ни тем, кто его окружал. Он узнал, что в Москве, на Суконном дворе, у Каменного моста, был мятеж работных людей из-за тяжких условий жизни и труда. Что такие же мятежи были и на гончаровских полотняных заводах, построенных в Калужской губернии. И что зачинщики и участники их, после дознания к Тайной канцелярии и телесного наказания, были отправлены на ту страшную фабрику, куда шли как на смерть, — на особую каторжную фабрику Зауралья. Когда все посетители уже давно разошлись и хозяин тракгира похрапывал за стойкой, он все еще сидел у пустого стола и, печально подперев голову рукой, размышлял о судьбе родного народа, которому он все еще был бессилен помочь... В эту ночь Лизбет так и не дождалась его к ужину. Закон естества Придя однажды вечером в лабораторию, Рихман застал Ломоносова погруженным в составление большого письма. — Профессору Эйлеру пишу, — пояснил он Рихману, с которым делился всеми событиями своей жизни и всеми своими планами. — О чем же, ежели не секрет? — спросил Рихман, рассматривая большой, уже заготовленный сургуч для печати. Ломоносов отложил перо. — Касательно того великого закона естества, Рихман, о коем я уж много лет в мыслях имел, а нынче через експерименты и полностью убедился. Предчувствуя интересную тему, Рихман торопливо, как ученик, подсел к Ломоносову и выжидательно посмотрел на него. — Многие химики к тому подходили близко, а не токмо я один. Химия — физическая химия — в раскрытии законов натуры на первом месте стоит. — И все больше увлекался Ломоносов, забыв даже о письме. — Ежели, взявши малый вес серебра, перегнать его через кислоту азотную в соль, а после наново из той соли серебро добыть, то вес серебра останется без изменения. — Не довелось мне о сем слыхать, — в раздумье покачал головой Рихман. — А я, Рихман, еще в Марбурге о том помышлял, когда явственным стало мне, сколь неотъемлемой в химии является физика и наука математических измерений. Ну, а нынче открылся мне со всей несомненностью этот великий закон, о коем профессору Эйлеру и пишу. — В чем же состоит закон? — спросил Рихман, чрезвычайно заинтересованный. — Закон неизменности вещества, Рихман, и нераздельный с ним закон вечности движения. Ибо столь чудесным является устройство натуры, что при всех химических превращениях вес вещества остается неизменным. И не знаю, как для профессора Эйлера, — продолжал Ломоносов задумчиво, — а для меня из сего закона явствует, что ничто в мире не пропадает бесследно и что во всей натуре, сиречь в великом хозяйстве вселенной, ничто не гибнет, но лишь переходит из одного вида в иной. Удивления достоин сей закон, Рихман, — добавил он, помолчав. — Подумать токмо, что все перемены, происходящие в натуре, таковы, что сколько чего у одного тела отымется, столько присовокупится к другому. Так, ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте, и сколько часов положит кто на бдение, столько же отымет от сна. — И о том надлежит, Михайло Васильич, вам помнить, — засмеялся Рихман, — ибо от сна вы еженощно отымаете положенные на него часы... — И верно делаю, Рихман, — перебил его Ломоносов, — часы сна отдаю на бдение, ибо иначе ни в чем не успеть. Вот, друг мой, прослушайте, как я Эйлеру о великом законе натуры написал. Он взял со стола бумагу и уверенным голосом прочел: — «...Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего от одного тела отнимется — столько присовокупится к другому. Так, ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте... Сей всеобщий естественный закон простирается и в самые правила движения; ибо тело, движущее своей силой другое, столько же оные у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение получает». Таков, Рихман, незыблемый закон вселенной. Рихман надевал свою шубу, собираясь уходить из лаборатории и зная, что для Ломоносова ночь еще не наступала, что еще длился его трудовой, полный творческих замыслов день. — Михайло Васильич! — вдруг вспомнил он. — Передано ли вам ныпче приглашение от Шувалова на завтрашний к нему обед? — Передано. — И быть намерены? — Всенепременно буду, понеже Ивана Ивановича Шувалова истинным другом просвещения почитаю, а также и своим. Покойной ночи, Рихман! У IIIувалова Обед у Шувалова был шумен и блестящ. Из академиков был только глава канцелярии, сильно одряхлевший Шумахер, да Ломоносов; из поэтов Сумароков и Тредиаковский. Сумароков в изящном кафтане новейшего фасона был центром внимания дам, которые наперебой расспрашивали его о новинках европейской моды, только что привезенных ему двоюродным братом, прибывшим из Вены. — А какие каблуки носят нынче: высокие либо нет? — Прически кораблем и корзиной, слыхать, совсем вышли за морем из моды? — Иван Иваныч, — перебил щебетавших дам громкий голос графа Воронцова, — каковы успехи твои в стихотворчестве? Все ждем от тебя послушать плоды твоей музы. — На что же ты, граф, меня о стихах просишь, когда здесь мой учитель? — откликнулся весело Шувалов, сидевший в центре стола. — Проси лучше Ломоносова. Сей пиит, еще будучи студентом, оды Анакреона чуть ли не на семи языках переводил. Моя муза токмо робкими шагами ступает там, где его носится легко. Михайло Васильич, почитай! — Увольте! — Ломоносов, привстав, поклонился и снова сел. — Я уже давно своих стихотворств не читаю. Да и писать их нынче, за делами лаборатории, времени не нахожу. — А мне написал! Нет, нет, — погрозил ему Шувалов, — Я тогда сейчас вместо тебя сам оповещу. Ты, я давно замечаю, невесел стал, затем что вечно промеж четырех стен лаборатории своей сидишь. Ты думаешь, я забыл, как ты мне о себе написал? Сейчас припомню... Он наклонил голову набок, словно прислушиваясь. Внимание всех, у кого — по обязанности, у кого — из лести, у немногих — из любопытства, обратилось к Шувалову. Меж стен и при огне лишь только обращаюсь; Отрада вся, когда о лете я пишу; О лете я пишу, а им не наслаждаюсь, И радости в одном мечтании ищу. Он повернул к Ломоносову свое смеющееся лицо, с открытым взглядом под темными дугами бровей, лицо холеное, с начинавшимся двойным подбородком, но «исполненное ума и приятности», как о нем говорили друзья и даже враги. — Уж тогда, — сказал, улыбаясь, Ломоносов, — извольте припомнить идущие за первыми строки, в коих не обо мне, а о вас говорится: Однако лето мне с весною возвратится, Я оных красотой и в зиму наслаждусъ, Когда мой дух твоим приятством ободрится, Которое внести я на Парнас потщусь. Общие приветствия, обращенные не столько к автору, сколько к хозяину дома, заглушили слова Ломоносова. Шувалов опустил руку, сверкавшую драгоценными перстнями, в карман и вынул оттуда сложенную вчетверо бумажку. — Дозволю себе, — обратился он к своим гостям, — прочесть вам всего четыре строчки сего упрямого пиита, кои я даже переписал, дабы запомнить. Ибо почитаю их отменными и за уменье и за высокую персону, коей оные посвящены. Он встал и, наведя на бумажку золотой лорнет, громко прочел, с удовольствием подчеркивая яркий ритм стихотворения: Коню бежать не воспрещают Ни рвы, ни наспех ветвей связь; Крутит главой, звучит браздами И топчет бурными ногами, Прекрасной всадницей гордясь! Все знали, что под «прекрасной всадницей» разумелась Елизавета, любившая верховую езду и часто скакавшая галопом на охоте, и потому взрыв рукоплесканий теперь наполовину относился к ней. Но все же это был успех, и Ломоносов должен был ответить на поклон. Лица Сумарокова и Тредиаковского потемнели, и, желая отвлечь общее внимание от Ломоносова и его стихов, Сумароков громко сказал, оборачиваясь к хозяину: — Не угодно ли, Иван Иванович, взглянуть на кольца, кои только что вошли в моду в Европе? Он снял с пальца кольцо и через несколько рук гостей передал Шувалову. Все любовались оправой и камнем, и Сумароков, смеясь, сказал дамам: — Но таких стеклянных пуговиц, коими свой камзол украсил господин Ломоносов, никто в Европе и за деньги носить не станет: давно из моды вышли. При этих словах многие лорнеты обратились на камзол Ломоносова. — Я их не из моды ношу, — ответил равнодушно Ломоносов. — А из чего же? — Из уважения к стеклу, — прозвучал над столом громкий ответ, вызвав усмешку на многих лицах, громкий смех Сумарокова и даже скромного Тредиаковского. — Михайло Васильич, — сказал Шувалов, откидываясь на спинку кресла, — ты не в первый раз мне о сем предмете толкуешь. Уж не желаешь ли его в оде воспеть? — Желаю, ваше превосходительство, — с внезапной серьезностью ответил Ломоносов. — Весьма не пиитический предмет, сударь мой, намерены воспевать! — обратился к нему Тредиаковский. — Я с сим мнением не согласен, ибо нахожу стекло наделенным отменными свойствами и красотой. После этого Ломоносов молча досидел до конца обеда и, одним из первых уйдя от Шувалова, отправился прямо в свою лабораторию. «Неудобоносимый профессор» Вскоре после этого дня прихворнувшего Шувалова навестил граф Воронцов, только что получивший из Италии для украшения своего нового дома мебель и венецианскую посуду. Он с увлечением рассказывал Шувалову об изяществе и красоте приобретенных им вещей и о некоторых книгах, привезенных вместе с ними, когда, постучавшись в дверь, бесшумно ступающий лакей подал Шувалову на подносе большой конверт. Шувалов снял сургучную печать и развернул исписанные твердым и ровным почерком листки. — «Письмо о пользе стекла», — прочел он громко и, рассмеявшись, добавил: — Ну и Ломоносов! Ведь это он свое слово сдержал: цельную оду стеклу посвятил! Послушай-ка, граф, что сей вития сочинить изволил: Неправо о вещах те думают, Шувалов, Которые стекло чтут ниже минералов. Окончив читать, он помолчал. — Видал ли ты когда, граф, — обратился Шувалов к Воронцову, — столь тесное содружество столь различных свойств и дарований, кои соединились в сем человеке? — Никогда не видывал. Подобный сему только в Италии был образец: художник да Винчи, именуемый Леонардо. Да Микельанджело, сдается мне, столь же упорен и жаден был к труду! А кроме этих двух, никого не знаю. — Вот то-то, — с некоторой гордостью отозвался Шувалов, считавший иногда Ломоносова как бы своим открытием. — Вот что, Иван Иваныч, — сказал гость: — привези ко мне, когда выздоровеешь, сего витию. Пускай он у меня венецианское стекло поглядит — ему это интересно. Да кстати — и образцы мозаики итальянской, кои мне из Рима на сих днях доставить должны. Простуда все еще держала Шувалова дома, а. в это время «неудобоносимый профессор Академии», как называл Ломоносова Шумахер, начал в стенах ее новую «баталию», по выражению зятя шумахерова — Тауберта. Оба они — и Шумахер и Тауберт — предвидели, сколь трудная вновь предстояла им борьба и сколь велики будут грозившие им хлопоты и расстройства во всем, что подлежит их ведению. А подлежало их ведению немало. И среди прочего — Академическая гимназия. О ней и повел речь Ломоносов на первом же заседании Академического совета. Он обратился к совету с неслыханными требованиями, заявив во всеуслышание, что сию гимназию иначе, как «гиблым» местом, именовать не приходится, и, к возмущению всех присутствующих, потребовал отчетности в тех суммах, которые отпускались казной на учеников. У Шумахера при этих словах перехватило дыхание. Тауберт возмущенно вскочил с места: — По какому праву вторгаетесь вы, господин Ломоносов, в область, вашему ведению не подлежащую? — По праву каждого честного академика, коему дорого просвещение отечества, — громко ответил Ломоносов. — Осматривал я халупу, где вы изволили нашу гимназию поместить. Стекла в ней выбиты и на зиму заклеены бумагой, отчего в классах замерзают чернила, а. в кухне тесто льдом покрывается, учителя на лекциях разминаются хождением по классу в шубах, ученики же столь на своих местах дрогнут, что получают по всему телу нарывы и иные болезни. От этого всего весьма мало пользы происходит для науки русской. — Господин Ломоносов излишне печется о сей науке, — проскрипел Шумахер. И, покрывая его голос, пронесся даже по коридору звучный голос Ломоносова, испугав уже дряхлого Михеича: — В заботах об учениках, в коих надлежит нам свою надежду видеть, излишнего не признаю. А со всей твердостью объявляю Ученому совету, что добивался и добьюсь улучшения участи их. — О сем Академия достаточно и без вас трудов несет, — процедил бесстрастно Шумахер. — Да, — отрезал Ломоносов, — оно и видать: от сих трудов и пребывают в бегах из гимназии не токмо ученики с ложными пачпортами, но и сами учителя. Воцарилась неловкая весьма пауза, ибо возразить на то, что всякий про себя знал, было сразу трудно, но Тауберт все же нашелся. — Присоветовать могу господину Ломоносову, — говорит он язвительно, — учинить свое собственное заведение для столь ему любезного просвещения российского и о том иметь попечение. Академическую же гимназию предоставить Академии вкупе. — Торжественно заверяю отроков российских, — уже с вызывающей горячностью раздается ответ, — что они увидят дело рук моих! Миллер, автор отвергнутой им диссертации по русской истории, с иронией отзывается: — Полагаем, что старание имеете не для отроков низкого сословия, кои ни в образованности, ни в науках наших никакой нужды не имели и не имеют. Ломоносов быстрым жестом срывает крючок на воротнике академического кафтана и, громко бросив ответ: «Полагаю слова сии непристойными в моем присутствии!» — покидает зал ученого совета. По его уходе Тауберт с отчаянием воздевает руки: — Счастье наше только в том, что Ломоносом в Академии один! Буде еще такой нашелся бы, они и Академию и нас в полное бы разорение привели. Когда он проходил по коридору мимо Михеича, старик хотел было встать. Михеич особую признательность имел к Ломоносову с тех пор, как он взял его Ванятку из Академической гимназии и приставил к нему студента Софронова для обучения. Ломоносов не позволил Михеичу встать и, остановившись перед ним, быстро, по-деловому спросил: — Есть у нас в Академии спирт, Михеич? — Спирт? Кажись был, коли не испили весь. — Надлежит достать в кунсткамере большие банки и спиртом налить, и в оные банки академиков наших посадить. Поместим их, Михеич, в кунсткамеру, и будут они в сих банках сидеть; а мы на них глядеть будем. К монстрам! К монстрам!! — прокричал он уже снизу, и гулко хлопнула за ним дверь. Душа художника Он никогда не давал пустых обещаний. Не теряя ни единого часа, прямо с заседания, торопясь, почти бегом, Ломоносов отправился во дворец Шувалова. Его возмущение, его надежда на лучшее и огненная, действенная любовь к России, готовность ко всякому труду, лишь бы наука отечественная имела от того пользу, заразила, зажгла и Шувалова. После этой беседы он обещал Ломоносову в самом скором времени поговорить с царицей о тяжелом положении Академической гимназии. — Ты, Михайло Васильич, в нужный час пришел, — сказал Шувалов, вставая, и потянул шнурок сонетки, чтобы вызвать лакея. — Порешил я нынче к графу Воронцову съездить. А Воронцов желание выразил, дабы я и тебя с собою привез. Намерен он тебе коллекцию свою венецианского стекла показать, а сверх того, образцы римской мозаики. Ну, ты, как я вижу, весьма доволен, — закончил Шувалов. — Едем же без промедлении! Входя через несколько минут вместе с Шуваловым в огромный зал воронцовского дворца, Ломоносов, очень заинтересованный коллекциями, был далек от мысли, что этот день и этот час будут началом как бы новой эпохи его жизни. Увидав эти мозаики, сверкавшие неувядаемой чистотой и яркостью красок, он не мог оторвать от них глаз. Даже венецианское стекло не столь ошеломило его, ибо его образцы он видел в немецких и голландских музеях. Но с мозаикой Ломоносов встречался впервые и стоял перед ней, охваченный тем же чувством восторга, с каким и детстве когда-то смотрел у Шубного на слепок со статуи Моисея работы Микельанджело. С этой минуты его охватило страстное желание и неотвязная мечта: под холодным серым небом увидеть сверкание этих красок и как бы расцветить ими русский снег. Даже мысли об электрической силе, которыми был совершенно поглощен Рихман, отступили на второй план. Конечно, это было временно, и Рихман, подбиравший с трудом необходимый материал для опытов с электричеством, знал. что к этим опытам он вернется. Но даже терпеливый Рихман, в котором жил настойчивый ум исследователя, не мог дождаться дня, когда испытания этой удивительной новой силы опять будут поставлены Ломоносовым на первое место, С глубоким изумлением наблюдал он за раскрытием в этой столь многогранной, столь богатой душе ученого и поэта еще и души художника. Тревоги Рихмана Опять вскрылась Нева, и поплыли по ней льдины Ладоги, принося с собой холод и мокрый снег. В лаборатории, как говорил ученик Софронов, «дыхнуть было неведомо где». Михаил Васильич поставил две тысячи сто восемьдесят четыре опыта для изыскания мозаичных составов. Наконец императрице поднесена была первая — еще пробная — мозаичная работа: это была копия мадонны с картины итальянского художника. Она была принята милостиво, и вся лаборатория надеялась теперь на помощь в работе и «хоть на единого к научению достойного ученика», как писал о том Ломоносов в канцелярию Академии. Правда, один новый ученик для мозаичной мастерской объявился: Иоганн Цильх, брат Лизбет, в котором до сей поры, по выражению Ломоносова, «не виделось ни единой першпективы», был, наконец, приставлен к делу — помогал в подготовке мозаичной массы. Но на нем далеко не уедешь. Иван, говорили в лаборатории, «токмо к терению и к растиранию устроен». Но Ломоносов все же похаживал по лаборатории сияющий и возбужденный, ибо работы над стеклянной массой навели его на новую мысль: о производстве стекляруса, бисера и всяких мелких вещей и украшений, которые до сих пор привозились из-за моря. Он подал в Сенат проект о создании нового отечественного производства художественных изделий, и Сенат неожиданно отнесся к этому благосклонно. Но работа над мозаикой требовала многого: нужна была целая фабрика, нужны были люди, которых можно было бы обучить. Печально посматривал Рихман на подобранные Ломоносовым и бережно сохраняемые части громоотвода в ожидании того счастливого дня, когда, войдя в его тихий кабинет на пятой линии, Ломоносов скажет: — Ну, Рихман, где у нас запись електрических експериментов? .И, усевшись в старенькое кресло, перелистает хранимые Рихманом записи и начнет развивать перед ним столь великие планы работ и опытов, что у Рихмана перед глазами только круги пойдут. Но этот день все не приходил, хотя одно радостное событие наступило для Рихмана; этим событием были две строчки в письме, поданном Ломоносовым в Академическую канцелярию, где он просил дать ему учеников для мозаичного дела, «к коему он изобрел все способы, и показать может довольно». Просьба эта кончалась словами: «Сам же я всегда в том не могу упражняться, желая служить отечеству другими знаниями и науками». Прочитав эти строчки, Рихман понял, что «другие знания и науки» скоро опять будут поставлены в лаборатории на прежнее место. И потому после этого письма он уже не с таким горестным чувством смотрел и на свой собственный громоотвод, устроенный им у себя в рабочей комнате, и на поездку Ломоносова в Москву, где в то время был двор. Ломоносов надеялся получить там разрешение на устройство мозаичной фабрики неподалеку от Петербурга и на приобретение работников для этого дела из числа живущих поблизости от нее крестьян, ибо Сенат этого разрешения ему не дал. И вот когда пошел лед по широкой и темной под облачным небом реке, в самом конце марта, под вечер, распахнулась с шумом дверь рихмановского кабинета и быстрой, решительной походкой вошел Ломоносов. — Герр Ломоносов! — приветствовал его радостно Рихман, встав со своего кресла. — Воротились? — Воротился, Рихман, не более тому как час. — Он поздоровался с хозяином и, усевшись перед окном, промолвил: — А Москва все та же, и в школе Заиконоспасской «фара» и «инфима» все так же на базаре баранки воруют. А отец Варсонофий, дорогой моему сердцу, помер давно. — Он посмотрел на реку, на весенние сумерки, падавшие за окном, и тихо добавил: — Чем доле, Рихман, живешь, тем горше утраты, понеже старых друзей никем не заменить. Токмо единая мысль печаль умеряет, что и сам не вечен. И сколько еще успеешь выполнить изо всего, что свершению подлежит, никому не ведомо. А потому, — закончил он с обычной твердостью, — надлежит нам, Рихман, нимало в том не медля, в храмине нашей сызнова на службу перед науками стать. Еще одна утрата Лето настало сухое и знойное. Пыль носилась по немощеным линиям Васильевского острова. Но гроз, которые так любил Ломоносов и которых так ждали они с рихманом для опытов с атмосферным электричеством, гроз не было. И только с островов, если смотреть оттуда по ночам в синевший горизонт, видны были далекие зарницы, мигавшие в тучах. В конце июля дни стали особенно томительны. Проходили изредка дожди, чуть смачивая посевы. Но земле нужен был ливень, а воздуху, после легких дождей душному, как в парнике, нужна была освежающая гроза. Хлопотать в такие дни о делах, хотя бы и касались они дорогого сердцу мозаичного искусства, весьма нелегко. У графа Воронцова только и довелось немного отдохнуть Ломоносову, показывая образцы уже своих собственных мозаик, которыми собирался он теперь исполнить портрет графа Воронцова; портрет Петра Первого был уже готов. Когда он вышел на набережную, духота еще усилилась. «Это, — подумал он, — бывает только перед грозой». Посмотрев на запад, остановился, осматривая все небо. Оно быстро темнело, как и река, и от потемневшего горизонта, словно на глазах рождаясь из воздуха, выплывали белые края грозовых туч. Чайки низко и тревожно летали над темной водой. Деревья Ботанического сада над крышей его дома и лаборатории были так недвижны в самом малом листе, что казались нарисованными тонкой кистью на сизом сумраке тучи, уже покрывшей все небо. Только на восточной его стороне еще светилась голубая прогалина. С севера на нее быстро наступали зловещие тени, и Рихман смотрел па них из своего окна с великим нетерпением. Он не любил грозу так, как Ломоносов: грозы и бури вносили беспорядок и хаос в тихий ритм размеренной жизни. Но они несли с собой неведомую силу, которая так занимала сейчас его ум исследователя и в которой он провидел столь огромные возможности. Он ждал с волнением Ломоносова, ибо давно было у них условлено: в первую же грозу вместе испытать громоотвод либо у Рихмаиа, либо в лаборатории. Еще ни одна молния не полоснула небо, и у него еще, может быть, хватит времени добежать до лаборатории, где, наверное, ждет Ломоносов. Но он не успел выйти: в дверь постучали. Это был гравировальный мастер Академии Соколов, Рихман совсем забыл, что обещал показать ему электрические явления для зарисовки и гравирования. — Грома нет еще, Соколов, — сказал Рихман, — и молния ни одна еще не загоралась. Но сейчас должна начаться великая гроза. Он посмотрел на электрический указатель. — Опасности никакой еще нет, — добавил он, подойдя к железному пруту, и, обернувшись к окну, взглянул в грозовое небо. Словно треснул, расколовшись, с оглушительным грохотом небосвод, и осколки его, казалось, покатились вдаль, за восточный горизонт. Дрогнули с тихим звоном стекла в окнах и в балконных дверях. Липы и клены академического сада нагнулись низко-низко над крышей лаборатории и вытянулись, словно корни их рвались от земли, а ветви со стволами — от корней. — Die Fenster schliessen! Окна закрыть! — скомандовала громко Лизбет и решительным шагом поспешила к лаборатории, чтобы до дождя успеть увести Ломоносова в дом. Ну, конечно! Так она и знала! Он стоял у открытого настежь окошка и, подставив голову ветру, который трепал его поседевшие волосы, пристально рассматривал тучу. — Обэт на столе, — сказала по-русски Лизбет с такой торжественностью, что казалось, перед этим событием все остальное уже неважно. — Погоди, — отозвался Ломоносов, — ты лучше смотри, какова гроза! Такой и в прошедшем году не было, а признаков електрической силы на громовой машине неприметно. Он отошел от окна и, приблизившись к привешенному пруту, коснулся рукой проволоки, из которой с треском вылетели разноцветные искры. Лизбет ахнула и отскочила от него подальше. — Разноцветные! Видишь? — торжествуя, обратился к ней Ломоносов, не замечая ее испуга. — А Рихман говорит, что разноцветных огней не родится от електрической силы. Вот откуда и столь дивные краски сияний северных и цветистые хвосты комет! Все — единой природы. Во всем — единая сила електричества заложена. Понимаешь ли ты это, Лизбет? — Обэт на столе! — еще решительнее повторила Лизбет. — Я чай, не убежит оттудова! А нам с Рихманом надобно прежде всего, ни минуты не медля, експеримент поставить. Да что-то опаздывает Рихман!.. Лизбет, недовольная, повернулась, чтобы уйти обратно, но в эту минуту в окно просунулось бледное лицо Соколова, гравировального мастера. — Михайло Васильич! — крикнул он задыхаясь. — Профессора Рихмана громом убило! Великий план Итак, он остался теперь совсем один. Ничто не могло сравниться с тем чувством пустоты, которое охватило его, когда, похоронив Рихмана и вымолив у Шувалова пожизненную пенсию его семье, равную жалованью покойного, он сел у стола своей лаборатории. Опять и опять вставало в памяти лицо мертвого Рихмана — с красным пятном электрического удара на лбу. Этот, по крайности, хоть не мучился: его смерть произошла мгновенно и была в самом точном смысле этого слова молниеносной. Жизнь Рихмана угасла так же быстро, как пролетает в грозовых облаках молния. Эта третья смерть, отнявшая у него последнего друга, была, по крайней мере, легкой. У него было несколько высокоодаренных учеников. И были те, кто понимал его, — немногие среди многих врагов. Но все теснее сжимался и без того малый круг близких людей. И вот теперь ему показалось, что он один стоит в центре этого круга и что, если он закричит, на крик его не отзовется никто. С тем же щемящим чувством одиночества он проснулся однажды глубокой ночью. И ему показалось, что оно жжет его и не дает дышать. Ровным и безмятежным было дыхание спящей Лизбет. Он встал, оделся и, взяв ключ, пошел в лабораторию. Сторожевой пес громко залаял, когда он сошел с крыльца, но, узнав хозяина, подбежал и лизнул ему руку. Ломоносов любил свою лабораторию во все часы дня, но особенно любил се ночью, когда обходил богатства своей «храмины» в тишине и уединении. Он точно слышал тогда голоса природы, говорившей ему о своих тайнах — и о тех, которые он уже разгадал, и о тех, которые разгадать еще предстояло. Но сегодня и эти голоса молчали. Кому передал бы он завтра то, что услышит нынче? Некому!.. Он чувствовал себя так, как если бы держал в руках тяжелый ларец с сокровищами. И не было места, куда мог бы он хоть на время его поставить, и не было никого, кто принял бы его, дабы передать другим. Он долго ходил по безмолвному домику — от стены к стене, борясь со сном и усталостью, лишавшей его мысли обычной ясности. И вдруг, как от внезапного удара, туман, окутавший его сознание, рассеялся и будущее стало ясным, как солнечный свет. Ломоносов вспомнил о тех, кто должен был принять из его рук тяжесть одинокого знания, мыслей и опыта: отроки, вышедшие из всех слоев великого русского народа, молодежь, которой откроется, наконец, дорога к наукам, — вот кому надлежит передать свои знания и от кого ждать ответа на свои одинокие мысли! Они возьмут из его рук сокровище знания, и от них примут его другие. Университет! Аудитория, полная молодых слушателей — от всех сословий и со всех концов страны, — вот будет награда его за многие труды, понесенные ради просвещения отечества. Недостаточно было лишь изменить условия жизни Академической гимназии. Он должен добиться основания нового, большого университета в том городе, куда пришел некогда сам с великой жаждой познания в сердце. Он вышел под утро из своей лаборатории с лицом уверенным, с решительной и твердой походкой и с высоко поднятой головой. Он чувствовал себя помолодевшим и полной грудью вдыхал прохладный утренний воздух. Был конец августа. Ночи уже темнели, и заря не сходилась больше с зарей. Знойное лето тронуло листья ранней желтизной, старые клены кое-где брызнули бледным золотом в ярком свете солнечного утра. Он шел твердой походкой и знал, что нет такой силы, которая заставила бы его отступить от новой цели, поставленной им перед собой. — Хорошо, Михайло Васильич, даю в том тебе слово, — говорил вечером того же дня Шувалов, прохаживаясь с Ломоносовым по прямой как стрела дорожке своего сада на самом берегу Невы. Он ходил так уже очень долго, уставал, садился на широкую скамейку, опять вставал, покорно следуя за Ломоносовым, который в тот вечер не мог успокоиться. Сей «неудобоносимый профессор», ступая крупным и твердым шагом вдоль цветочных боскетов и пестрых клумб, от которых несся вечерний запах резеды и гелиотропа, убеждал Шувалова упорно, неотступно. — Менее двенадцати профессоров университету иметь нету возможности, — горячо говорил он. — Просчитайте сами: для медицинского факультета — трое надобны, как хлеб насущный; таково же и для юридического, философскому же менее как шестью не обойтиться. — Тебе виднее, Михайло Васильич, — покорно отозвался Шувалов. — Мне твой прожект по сердцу, и ежели в Москве у нас по сю пору высшего просвещения не учинили, то в том и я усматриваю великое небрежение. Только где мы столько профессоров наберем? — Найдутся, — уверенно ответил Ломоносов. — И из моих учеников иные при моей помощи смогут лекции составлять, а там и новые появятся. Вот ученик мой прилежный, Клементьев, студент, о прошлом годе, поработав в лаборатории моей, диссертацию по физической химии написал. Оная работа есть первая студенческая диссертация о сей науке. Токмо плану университетскому надлежит быть весьма обширным и надлежит проставить в прожекте, число профессоров более двенадцати. А те суммы, кои на них отпущены будут, до времени обратить на библиотеку и на все те учреждения, кои университету в подмогу надобны. — Ну что ж, о сем подробную записку составь. А я тебе слово даю: это дело с твоей помощью продвигать и прожект об основании университета в Москве представить в Сенат. И там есть люди, коим дорого просвещение отечества. Они мне помогут, а я — тебе. — Накрепко обещаете? — Он пристально посмотрел в глаза Шувалову. — Накрепко, Михайло Васильич, — закончил Шувалов, пожав своей холеной рукой крепкую ломоносовскую руку. И эта крепкая рука с таким упорством и неослабевающей волей двигала дело, проект которого Шувалов действительно не замедлил подать в Сенат, что через восемнадцать месяцев Иван Иванович Шувалов торжественно открыл в Москве первый университет России. Семилетняя война с Пруссией — 1756—1762 годов — явилась неожиданностью для многих, и сторонники «немецкой» партии, во главе с племянником Елизаветы великим князем Петром Федоровичем, оказались в затруднительном положении. В Академии наук все пришло в волнение. Дряхлеющий Шумахер заперся у себя в кабинете для конфиденциальной беседы с Таубертом и Зейделем. Они вышли от него через два часа с мрачным видом и медленно спускались по лестнице, по которой поднимался им навстречу Ломоносов. У двери конференц-зала, как обычно, сидел совсем уже старенький Михеич. Сегодня он был пасмурен и с печальным оханьем отворил дверь. — Ты что невесел, старик? — спросил Ломоносов. — Да какое уж нонче веселье, батюшка! Нонче беда народная: воевать будем! — Ну и что же, Михеич! Неужли ты думаешь, что мы не победим? Победим, помяни мое слово! Михеич заглянул испытующе в бодрые, полные уверен ности глаза своего собеседника и, увидев, что Ломоносов говорит серьезно, просиял. – Дай-то господи, Михал Васильич, ваше благородие, — сказал он, широко крестясь и с просветлевшим лицом поглядывая на дверь, за которой уже скрылся Ломоносов. — Вот утешил меня, старика. Начавшись мощным натиском русских войск, вошедших в Пруссию в 1757 году, эта война по всем вероятиям шла бы путем неизменных побед русского оружия, если бы командование русской армией, и прежде всего Апраксин, сумели бы во-время воспользоваться ее победами. Апраксин оправдывал себя тем, что в первое время войны ждали смерти заболевшей Елизаветы. Но если он не использовал победы под Гроссегерсдорфом, то русский канцлер Бестужев во время болезни императрицы вел столь двусмысленную игру с враждебной Англией (в лице ее посла Вильямса), что императрице тотчас по выздоровлении пришлось отправить Бестужева в ссылку, а Апраксина сместить, поставив во главе русских войск людей, сумевших вернуть потерянное. И в результате на следующий год русская армия заняла всю Восточную Пруссию, а еще через год считавший себя непобедимым и разбитый русскими под Кунерсдорфом король Фридрих II писал: «Самое большое несчастье в том, что я жив. От сорокавосьмитысячной армии у меня не осталось и трех тысяч». Стоя на грани самоубийства, он предвидел опасность, грозящую Берлину, и хотя Берлин действительно был занят русскими войсками в 1760 году, Фридрих был спасен самым неожиданным и чудесным образом. Ибо спасение от русского войска пришло к Фридриху от русского царя Петра III, который вернул своему кумиру все им потерянное. Таким образом, не дав России реальных завоеваний, семилетняя война дала ее армии заслуженную славу непобедимой. А в день блистательной победы русских войск над Фридрихом II, прозванным льстецами «великим», Ломоносов читал во дворце оду, сложенную им в честь русской победы в битве при Кунерсдорфе, где Фридрих бежал с поля битвы, преследуемый казаками: Парящий слыша шум орлицы, Где пышный дух твой, Фридерик? Прогнанный за свои границы, Еще ли мнишь, что ты велик? Еще ль, смотря на рок Саксонов, Всеобщим дателем законов Слывешь в желании своем? Лишенный собственныя власти, Еще ль стремишься в буйной страсти Вселенной наложить ярём? Но до этого дня Михеич уже не дожил. «Насмешник превеликий» — Благословясь, приступим! — возгласил зычным голосом соборный протодиакон отец Петр и, не без удовольствия оглядев своих слушателей, приступил к распечатанию средней величины конверта, который он только что вынул из обширного кармана рясы. Слушатели — архиепископ санкт-петербургский Сильвестр да три архиерея — сидели в покоях отца Сильвестра, только что покончив с постным, по случаю дня пятницы, обедом, и с интересом и ожиданием смотрели на отца Петра. Еще бы! Не часто случалось им слышать посвященные духовенству стихи! Отец протодиакон получил сей конверт на торжественном обеде у князя Голицына (в день крестин его новорожденного сына). А поскольку отец Петр не гнушался принятия вместе со всеми ни пищи, ни особенно питья, то запамятовал он не только имя сочинителя сих виршей, но и того, кто ему их передал. Он только помнил твердо, что вирши посвящены особам духовного звания, и решил, что после постных пирогов будет неплохо поразвлечь архиепископа сим невинным чтением. Три архиерея уселись в креслах вокруг чтеца, с любопытством поглядывая на исписанные листочки бумаги в его руках. Отец Петр откашлялся и громко провозгласил заглавие: «Гимн бороде»; потом он остановился и, повернув лицо к отцу Сильвестру, заметил, что название сих виршей вызвало выражение какой-то растерянности на лице архиепископа. Отец Амвросий кашлянул и невольным движением поднес руку к бороде. Потер свою бороду и протодиакон и медленно, делая остановку после каждой строчки и наслаждаясь производимым впечатлением, начал читать: Борода предорогаяг Жаль, что ты не крещена... — Не усматриваю здесь, — перебил его отец Сильвестр, — в каких смыслах принимать сие надлежит на свой счет особам духовного сана? — Повремените, ваше преосвященство, — сказал почтительно отец Петр: — полагаю, что из нижеследующих слов добавления сие вам станет ясно. Но, заглянув в «нижеследующее», он словно вдруг потерял все свое громогласие и испуганным топотом прочел: Козлята малые родятся с бородами: Коль много почтены они перед попами! Тут чтец сделал паузу, и после минуты общего гробового молчания есе заговорили сразу. Наконец, покрывая шум и восклицания трех возмущенных голосов, отец Варлаам возгласил грозно, поднявшись во весь свой рост: — Кто сочинитель кощунственных сих глумлений? Взоры всех обратились на отца Петра, и под грозным обстрелом этих глаз он с легкой заминкой ответил: — Довелось мне слышать, владыко, что вышли вирши сии из-под пера весьма многим известного лица, почитающего себя и в слогании стихов и в науках равно великим. — Полагаю, — в раздумье промолвил архиепископ, — что лицу сему знатные особы покровительство простирают, а потому, не имея страха перед властями, и решился он на сие посрамление. — Кощунственное посрамление!— громко добавил отец Амвросий. — Кто сей нечестивец? — грозно спросил Варлаам. Отец Петр задумался и минуту просидел в безмолвии. — Сдается мне, ваше преосвященство, — проговорил он наконец, как бы находясь в сомнении, — что поминали за столом у князя имя ученого Ломоносова, а к чему его поминали — запамятовал. — Все разумею! Все теперь разумею, отцы и братие! — воскликнул громко отец Сильвестр и убежденно покачал головой. — Вскорости после празднования Нового года возил меня Иван Иванович Шувалов к сему Ломоносову для осмотра мозаичной иконы его трудов. И, увидев у него в помещении для наук некий прут железный, спросил я, что сие за прут есть, и сей Ломоносов мне ответил, что оным прутом он молнию небесную в землю перегонять может! Отец Амвросий и отец Варлаам недоверчиво покачали головами. — Как же решился он на греховное сие безумие? — О сем точно так и я, грешный пастырь, вопросил. Молнию, в небесах рожденную, своим соизволением в землю вгонять можно ли человеку? — Никак невозможно! — со смирением во взоре сказал отец Петр. И загудело согласно со всех четырех сторон: — Невозможно сие человеку! — Не по писанию! — Такоже и я к тому безумствующему в гордыне своей ученому с увещанием и страхом обратился. И привел ему из древних пророков грозные слова. И каков же вы полагаете ответ он мне дал? Архиепископ Сильвестр посмотрел на взволнованные лица своих гостей и, сам волнуясь и негодуя, продолжал в настороженной тишине своего покоя: — Ученый сей, нимало моим увещанием не устрашась, такой мне ответ дал, что, мол, вы мне древних пророков приводите, а я вас, ваше преосвященство, Новым заветом сражу. — Как? Как? Святым евангелием сразить грозился? — загудели снова все голоса. Отец Сильвестр поднял руку, призывая всех умолкнуть. — А вот как: «Понеже и евангелии, — говорит, — сказано есть: «Поклоняйтеся мне в духе и истине». А я, — говорит, — в науке токмо истину ищу и обретаю». И опять переглянулись все молча. — Как же после сего обратился сей ученый к бороде? — раздался гудящий голос отца Варлаама. — Так и обратился, отец Варлаам, и все теперь мне открылось. Ибо еще не все я вам изложил. Когда мы с графом Шуваловым уже к выходу шли и я сего ученого паки и паки от греховных уклонений с истинного пути предостерег, то он даже якобы с некоей веселостью языческой мне и изрек: «Иной грех, — говорит, — по-разному в разные времена почитают! К примеру, — говорит, — вы, ваше преосвященство, с бородой ходите, а моя, — говорит, — побрита! Но не в бороде, — говорит, — праведность сокрыта!» А я ему в ответ уже с некоей грозностью указал, что в бороде, мол, хоть праведности и нет, а образ и подобие от древних праведников сохраняемы. И, изрекши так, отвернулся от него и впереди графа Шувалова исшел. И ныне всем объявить могу, что это он, озлобясь на словеса мои, о бороде и написал. — Он! Он! — сказали гости, и отец Варлаам, подойдя к столу и взяв с него лист бумаги, решительно возгласил: — Сего так оставить немыслимо! Понеже великий соблазн от посрамления духовного сана может произойти в народе. Составить немедля жалобу в синод и оттудова, за нашими же подписями, к государыне, чтобы немедля пошло! — Да, запамятовал я, отцы, — добавил архиепископ Сильвестр, — еще некие словеса, коими меня сей гордец напутствовал: «Вы, — говорит, — ваше преосвященство, токмо в храме провидение усматриваете, а я — во всех законах натуры и в математике, мол...» И как это еще науку-то он свою обозвал, запамятовал я... да, «и в математике, — говорит, — а равно и в химии»! Никто из гостей не нашелся, что на слова такие ответить. И только отец Варлаам прогудел с опаской: — Сии слова за ересь почесть можно. — И я полагаю так, — ответил архиепископ. Императрица Елизавета, усталая, но довольная, только что вернулась с веселого куртага в свои аппартаменты, где ее ждали камеристки, когда дежурная фрейлина доложила, что граф Шувалов просит ее величество безотлагательно его принять. Удивившись просьбе о столь поздней аудиенции, она все же не отказала ему в приеме. Поправляя спустившийся с одного плеча шлафрок из драгоценного персидского шелка, Елизавета протянула Шувалову руку для поцелуя и, показывая в улыбке две ямочки на щеках, спросила: — По какой такой причине изволили пожаловать? Хоть я тебе, друг мой, на всякий час рада, однако штой-то ты ко мне нонче словно Стенька Разин заявляешься? — Никак, государыня, со Стенькой не схожусь, — улыбаясь, начал Шувалов, — однако решился тебе немедля об одной конфузим доложить. — Что такое? — спросила, сдвигая светлые брови, Елизавета. — Ничего я скушного на ночь слушать не люблю. — Да нет, матушка, сие как бы и вовсе не скушное. — Ну, садись тогда, докладывай. Шувалов присел на край кресла. — Возил я, матушка, как-то архиепископа Сильвестра к Ломоносову для показа мозаичной иконы его мастерской. И поспорили они насчет грехов и насчет ношения бороды... — Бороды-ы?.. — удивленно протянув, прервала его Елизавета. — Дак ведь их еще батюшка сбривать повелел! — Истинно так, матушка, токмо не у духовных особ. И как оба они — и Ломоносов и отец Сильвестр — разошлись по всей видимости всердцах, то и написал Ломоносов, по справедливости у нас за первого пиита почитаемый, шуточные вирши. Вот они, матушка, — дотронулся он рукой до своего кармана. — Но духовенство наше от них в превеликий гнев пришло и в синод жалобу направило, а из синода оная жалоба к тебе, матушка, направлена, а допрежь того дана мне. — Ну, это хорошо, что тебе, а не мне, — с маленьким зевком ответила Елизавета. — А токмо в ком же ты конфузию-то разглядел? В них или в нем? — Конфузил, государыня, в том, что за шуточные сии стихи требует от тебя синод столь сурового наказания Ломоносову, коему нашего первого ученого, — известного и за морем, в Европе, а не токмо у нас, — подвергнуть без сраму никак невозможно. Вот, матушка, не угодно ли, послушай. Он развернул бумагу, готовясь читать, но Елизавета, посмотрев на нее, вздохнула: — Много у тебя там читать-то? — Нет, матушка, весьма мало. Я лишь конец прочту. — Ну, ладно уж, читай, токмо почаще. — «...За то со смирением молим Ваше Величество Высочайшим своим указом таковые соблазнительные ругательные пашквили требовать и публично жечь и впредь то чинить запретить, а означенного Ломоносова для надлежащего в том увещевания и исправления в Синод отослать». Он кончил и смотрел на Елизавету. — Да, — снова протянула она, зевая, — разгневались всурьез... И вдруг с неожиданным оживлением обернулась к Шувалову: — Да где ж у тебя вирши-то его? Зачем ты мне их не почитал? Не-ет, ты мне их почитай, коль они не долгие, может, они лучше в сон вгонят. А то показал мне жалобу, да неведомо на што. Шувалов развернул другую бумагу и начал читать: «Гимн бороде». Он поднес бумагу к свету большого канделябра и нерешительно прочитал начало, но, взглянув мельком на Елизавету, увидел, что она борется со смехом. Ободренный этим, он прочел еще куплет и перешел к добавлению. — Ка-ак? — перебила Елизавета, глядя на него удивленными и смеющимися глазами. — Чегой-то он там насчет козлят сочинил? Козлята малые родятся с бородами: Коль много почтены они перед попами! Она не могла больше слушать и рассмеялась звонко и неудержимо, так что слезы показались у нее на глазах. — О-ох, — проговорила она наконец, — ну и насмешил! Ты ему скажи, что он насмешник превеликий! Люблю на ночь смешное слушать... Да скажи ему, Иван Иваныч, пущай он еще чтонибудь посмешнее сочинит — токмо про духовных не надо, а так — про кого-нибудь из здешних, и ты мне то обязательно на ночь прочти. И две ямочки, открытые улыбкой, снова появились на ее щеках. Шувалов с низким поклоном припал к ее руке, скрыв еле заметную, довольную усмешку. Унаследованное Елизаветой от отца чувство юмора спасло в этот раз Ломоносова от беды. ПРОЙДЕННЫЙ путь Покойный друг и помощник Ломоносова Рихман, смерть которого оставила в лаборатории великую пустоту, часто бывало говаривал ученикам: — Ежели когда-либо какой-нибудь историк начнет все работы и все замыслы Михайлы Васильевича, как положено, излагать, то у этого историка, как и у меня, одно кружение головы произойдет. Под словами «как положено» Рихман понимал хронологический порядок. Но, начиная рассматривать и разбирать хотя бы только темы, которые занимали его учителя, — ибо он очень скоро признал Ломоносова своим учителем, а себя его учеником, — он, по его выражению, «терял равновесие». И тогда Ломоносов казался ему некоей звездой, лучи которой падали в самые различные области знания человеческого. В быстром движении своем она бросала свет то в земные недра, то в просторы морей и в морские пучины, то в глубину небесных пространств и, сделав их ясными для простого человеческого наблюдения, оставляла всем великие возможности опыта и познания. Опыты — всегда и всюду, ибо, провидев, как говорил Ломоносов, «умными очами» то, что простым глазом будет видимо только через много лет, надлежит итти от эксперимента к эксперименту, дабы доказать истину себе и другим. То, что чувствовал Рихман, испытывал и Шувалов, сидя в лаборатории Ломоносова и глядя с удивлением на большой маятник, недавно им установленный. — Маятник на что же тебе? — спросил он, протянув к этому сооружению изящную трость с золотым набалдашником. — А на то, что качания его сделали несомненными изменения центра тяжести Земли, а я всю нашу Землю почитаю великим магнитом. Изменения сии периодичны и приблизительно согласуются с движениями лунными. — Да что ты! — отозвался Шувалов, посмотрев недоверчиво на Ломоносова, который, как всегда, с увлечением отвечал на вопросы. — И заметьте еще то, — продолжал он, подойдя к маятнику, — что качания его наблюдаются во всякое время года, при любом состоянии атмосферы: и в натопленной и в холодной комнате, и до и после полудня — всегда показывают они одинаковые периоды. — Так, — ответил Шувалов улыбаясь. — Как говорится, Михайло Васильич, мудрено сотворено! И еще я вижу здесь многие приборы и машины. Желал бы знать, на какой предмет ты все сие учиняешь? А как я на хитрости по науке небольшой знаток, то уж, сделай милость, просвети меня. — Здесь, на сем столе, — ответил Ломоносов, — инструменты для морского дела и зрительные трубы, а также приборы для узнавания точности морского пути, а равно и глубины морской. Сии инструменты я стремлюсь, по мере сил, привести в более совершенное состояние. И, работая с морскими инструментами, неуклонно помышляю о создании некоего великого учреждения ото всех стран и народов, о новой Академии: Академии мореплавательской, где искусные математики, астрономы, гидрографы и механики о том единственно старались бы, дабы умножить безопасность мореплавания. — Вот и верно, Михайло Васильич, что как волка ни корми, он все в лес смотрит, — неожиданно и весело рассмеялся Шувалов. — Сколько уж ты лет сухопутное житие ведешь, а все в тебе помор сидит и к морю тебя тянет. — С тем родился, с тем и помру. Я описания разных путешествий по северным морям задумал и начал, и как-нибудь беспременно кончу, затем, что оными путешествиями доказать нетрудно возможность пути Сибирским океаном в Восточную Индию. — О сем прожекте твоем я в удачливый день государыне как-то докладывал. Отнеслась благосклонно. Мы, говорит, выберем лето пожарче и через тот океан експедицию снарядим. Ломоносов не мог сдержать снисходительной улыбки и перевел внимание Шувалова на другой предмет. — Запамятовал, сказывал ли я вам о новом телескопе? — Сиречь, о ночезрительной трубе? — переспросил Шувалов. — Да ведь ты уж одну придумал! — Одной мало. Недостаточно обозревать через трубу звезды или в темноте явственно предметы различать. Желательно и разную силу света звездного узнать. А для того особая наука потребна — фотометрия называемая. Для того я в оптических записках составил прожект нового телескопа. — Та-ак, — повторил опять Шувалов, — об этом куда же тебе доносить надо, в Географический департамент, што ли? Так ты ему сам начальником являешься! — Нет, — ответил Ломоносов, — светом звезд сей департамент не занят, А вам, ваша светлость, хорошо известно, что оптика и законы световых волн — превыше всего меня занимают. И я всегда намерение имел, дабы превосходные небесные орудия через новые усовершенствования, из сокровищ оптики почерпаемые, лучшие приспособления получали. — Ну как же! — с важностью ответил Шувалов. — Я. ведь тоже на твоем «Слове о происхождении света» присутствовал. А что ты для Географического департамента готовишь? — Для Географического департамента готовлю я новый атлас экономических ландкарт государства нашего. Для того составил и особый вопросник для всех губерний и всех городов — затем, что нужно мне знать и число каменных, и число деревянных домов, и на какой реке стоит город, и на которой руке, вниз глядя, лежит нагорная сторона реки, а кроме сего, особливо о промыслах и ремеслах, и когда в каком городе бывают ярмарки. — Постой, Михайло Васильич, ты мне столько всего насказал, что у меня в голове верчение начинается, — и Шувалов в самом деле приложил руку ко лбу, — и ярмарки, и звездные трубы, и Северный океан, и дома каменные — все перепутал и позабыл вовсе, за каким делом заехал, а дело сие немаловажное. Был у нас гетманом Разумовским разговор, понеже отъезжает он в свою Малороссию, и пришли мы вместе — и государыне о том ведомо — к решению, что за отсутствием в Академии президента и за дряхлостью Шумахера обще с ним присутствовать и все дела подписывать тебе, Ломоносову. Вот видишь, — закончил Шувалов с явным удовольствием, — а ты всего тому три года назад просил меня от Академии тебя отчислить да в Иностранную коллегию перевесть, дабы от гонителей науки спасти! А ноне, видишь, каково учинилось! С первого же марта и вступай в дела. В мартовский оттепельный день Ломоносов вернулся из Академии, где выполнял сегодня обязанности некогда всесильного Шумахера и подписывал за отъездом президента бумаги. Он знал, что еще недавно, после конференции, где горячо говорил он о необходимости скорейшего производства молодых ученых в адъюнкты, Тауберт возгласил: — А на что нам еще десять Ломоносовых? Нам и один в тягость. Но теперь умолк и Тауберт. Ломоносов был уже коллежский советник, и Елизавета дала ему поместье и несколько деревень, где насчитывалось около полутысячи крестьян, работавших на устроенной им фабрике. А на той фабрике, как слышно, успешно производят пробы по изготовлению первого русского фарфора, а рецепты к тем пробам еще незабвенный его Митрий дал. Сквозь закрытые по-зимнему окна из ближайшей церковки донесся великопостный звон... Он стоял у окна и смотрел на теплое, мягко серевшее небо. Стоял и слушал этот заглушённый мерный звон, который вызывал в его памяти так много дней, ушедших в прошлое. Он видел себя в ветхой горнице дьячка Никитича разбирающим замысловатые буквы в огромной старой книге, закапанной воском. При первых ударах вот такого же великопостного колокола Никитыч убирал указку и, закрывая большую книгу, говорил: «На сей день довольно». Он видел себя в полутемном сарае при отцовском доме, где, сидя над запретной книгой — «Арифметикой» Магницкого, старался выучить ее наизусть из страха, что отнимут. И в мартовском или апрельском воздухе плыл над широкой замерзшей рекой тот же мерный звон. Он видел Москву и дом подьячего Дутикова, где обучал грамоте беспонятного Петьку, а потом таскал воду из колодца, прислушиваясь к согласному гудению сорока сороков. ...И мрачный класс училища, со «Страшным судом» на стене, и тихую библиотеку его, куда доходил явственно и громко каждый удар заиконоспасского колокола. И во все те дни его сердце тосковало, одиноко томясь великой жаждой познания. Эту многолетнюю тоску одиночества напомнил ему нынче печальный великопостный звон. Теперь у него уже свой дом. На пустом после пожарища месте, на правом берегу Мойки, которое было ему дано «под стройку», он быстро поставил новую лабораторию и дом с таким крыльцом — просторным и светлым, какое мечтал пристроить к своему дому Василий Дорофеич. Когда приезжали к нему в гости поморы-земляки и летним вечером он сидел на этом крыльце за столом, прислушиваясь к родному говору, ему казалось, что Нева — это Двина и елки у крыльца посажены его отцом, ушедшим в далекое плавание. И что сейчас прибежит в полинялом сарафанчике... Машутка. Как много он рассказал бы ей теперь! Он знал теперь про все, о чем она спрашивала его с таким страхом, о чем ему так нужно было узнать: и о том, что такое сполох, и почему он играет в небе в морозные ночи, и про звезды, и почему они не падают, и куда пролетают по осени, и что такое стужа, и как загодя погоду узнавать, чтобы не гибли в море корабли... и почему в далекой степи мелкие ракушки можно найти — те самые, которые он Машутке столько раз дарил, а она низала из них ожерелья... О многом он ей теперь рассказал бы. И так много с тех пор изменилось, что казалось, будто и не с ним самим было все то, будто совсем иной человек стоит у окна лаборатории при своем доме, окруженный делами собственных рук: приборами, книгами, машинами, чертежами, картами и стихами. Да, словно бы совсем иной человек! Но это только казалось: потому что любил он все то же, что прежде любил, только прежде любил сердцем, а ныне и разумом и сердцем. И думал о том же, о чем думал всегда. Только прежде смутно, а теперь со всей ясностью и полнотой мысли. Но теперь он уже не чувствовал себя таким одиноким, как в прежние годы: ему предстояло ехать с Шуваловым в Москву — на первый торжественный акт выпуска студентов основанного им университета. Планета Венера У графа Воронцова перед ужином со многими приглашенными персонами был большой карточный стол. На зеленом сукне поблескивало золото и, перекладываясь с места на место, меняло владельцев. Ломоносов, прохаживаясь вокруг стола, размышлял о чем-то, не принимая участия в игре. Большие окна были открыты настежь, и светлая весенняя ночь входила прохладой в духоту многолюдного зала. — О чем помышляешь, Михайло Васильич? — окликнул его от карточного стола Шувалов. — Не о Венере ли? — Да нешто ученые сию богиню почитают? — посмеиваясь, посмотрел на Ломоносова старичок-сановник, сдавая карты. — Нет, ваша светлость, — ответил за Ломоносова Шувалов. — Он не богиню Венус в мыслях держит, но, как полагаю я, планету Венеру, коя вскорости, по словам астрономов наших, вблизи солнца явится. Академия наша две експедиции послала в Сибирь, откуда на сию Венеру будто бы лучше глядеть, а мне сдается, что Ломоносов и отсюдова ее не плоше усмотрит. — Кроме меня, наблюдать сие явление будут двое наших ученых, коим сенат поручил занятия астрономией, — отозвался Ломоносов, — Счастье немалое для науки сей, что академика Епинуса сенат от нее отстранил, ибо господин Епинус, хотя и имеет некий опыт в физике, всю обсерваторию нашу, где при профессоре Рихмане полный порядок был, в полное запустение привел, в нее и ходу зимой нет, крыльцо снегом заносит. А в статье своей о планете Венере столь великие ошибки допустил, что наши ученики и те их приметили. Да что о статье толковать, — Ломоносов с досадой махнул рукой, — когда он и инструментов-то хороших у себя в Берлине не видал: токмо один квадрант заржавленный. Подлинно же хорошие инструменты — лишь в нашей мастерской, у Нартова, и узнал. Планета Венера, — закончил он со вздохом, — завтра на утренней заре, в четыре часа, будет иметь прохождение по солнечному диску, каковое явление вновь случится токмо в две тысячи четвертом годе. — Как посмотришь, Иван Иванович, — обратился к Шувалову старый сановник, — так нехотя диву даешься: сколь далече достигло у нас просвещение! — Истину изволите говорить, ваша светлость, — отозвался его партнер, — ибо в краткое время не токмо сравнялись мы с Европами, но, как поглядишь, в ином так еще и у нас придет случай кое-чему поучиться. – Вот об этой истине, — сказал Ломоносов внушительно, – и господину Епинусу и иным прочим надлежит не забывать. И о том вспомнить, что Пифагор за изобретение одного геометрического правила Зевесу принес на жертву сто быков. Но ежели бы за найденное в нонешние времена наукою по суеверию его поступать, то едва ли в целом свете столько рогатого скота сыскалось бы. Когда умолкнул общий смех, вызванный этим сообщением, граф Воронцов спросил Шувалова: — Интересуюсь узнать, как у вас с Ломоносовым Московский университет становится? А кстати, с тебя, Иван Иваныч, начинаем игру. Ну-ка, что у тебя карты скажут? Шувалов посмотрел на карты в своих руках и не спеша ответил хозяину: — Насчет этого, Михайло Ларионович, мы тебе с Ломоносовым этим летом точную реляцию сможем подать: вскорости — почитай, днями — отбываем с ним в Москву на торжественный акт по случаю первого выпуска студентов. — Вот и ладно, — шепнул своему соседу старый сановник, недолюбливавший беспокойного ученого. — Авось за сими трудами о чужих заботах и делах и забудет. — Особливо о тех, кои к нему ни малого касания не имеют, — добавил сочувственно сосед. Но они ошиблись; он не знал в своем отечестве такого дела, которое не имело бы к нему касания. На следующее утро он сидел в своей лаборатории и, разложив на столе четыре листа с рисунками, показывал их ученикам. — Подзорная труба моя о двух стеклах да закопченное стекло на сей раз послужили мне отменно в течение пяти часов. Вот глядите, — указал он на первый лист, — зарисовал я здесь спервоначалу приближение Венерино к солнцу. Вполне явственно мог я разглядеть — как здесь и зарисовано, что обращенный к ней край диска солнечного терял с ее приближением ясность очертания своего и становился туманным. На втором листе дана Венера, коя приблизилась уже к другому солнечному краю на десятую долю диаметра своего. На третьем рисунке видится некий пупырь в неясном виде на солнечном краю. Однако сей пупырь тем явственнее становился, чем ближе Венера к выступлению из солнечного диска подходила. Сие выступление Венеры зарисовано мною на четвертом рисунке. В месте его видится та же неясность очертания и словно бы туманом покрывшийся солнечный диск. Кто же из вас пояснит мне, в чем лежит причина сих явлений, кои здесь зарисованы? Разглядите, подумайте и дайте мне ответ. Но ответить они не успели: подъехала дворцовая карета, и вошел Шувалов. — Ну как? — закричал он с порога. — Как твои дела с Венерой? Видал ты ее или не видал? Он подсел к столу и взглянул на рисунки. — Что сие обозначает? Изъясни! Ломоносов посмотрел на учеников. — Изъяснения ждал я от них, ибо у нас ныне — и в коллегиях, и в сенате, а особливо в кадетских корпусах — довольно разумеют первые основы астрономии. Но как по виду и молчанию учеников моих заключаю, что ждут они сего изъяснения от меня, то и скажу я, к чему сии примечательные явления приводят. По сим примечаниям признать надлежит ту великую истину, что планета Венера окружена знатною воздушной атмосферою. Таковой же — лишь бы не большею — каковая обливается и около нашего шара земного. — Ну и что же из того явствует? — спросил, помолчав, Шувалов. — А явствует из того еще большей важности истина, что на Венере, как и на Земле нашей, могут живые существа обитать. Поелику Венера и Земля равно окружены атмосферой. — Ну, о сем предмете, Михайло Васильич, не советую тебе везде; речь заводить. Не то как бы в еретики не попал: учение о множестве миров почитается, как помню я, за ересь. Да и какой нам от того толк? — Уповать можно, ваше превосходительство, что, по крайности, на иных планетах порядки поизряднее наших и нет на них такого сословия, кое именуется «подлым» и коим можно торговать — кому оптом, кому в розницу. — Ну, ладно, ладно, Ломоносов. Язык у тебя, всем ведомо, что вострый. Перед ним, я чай, у нас никто не устоит. Насчет планет и их жителей да астрономии всех этих мы с тобой по дороге беседовать будем. Послезавтра надлежит в Москву выезжать. — Ну что ж, ваше сиятельство, — ответил Ломоносов, — Я, как вам уже докладывал, готов. А токмо жители меня и по сию пору занимают не Венерины, а земные. И среди них жители отечества моего. О них хочу постараться, а Венериным, сдается мне, и без меня можно обойтиться. Мое же единственное желание в том состоит, дабы в определенное течение привести и гимназию и университет, откуда могут произойти бесчисленные Ломоносовы. К московской земле Дорога в покойном и просторном дормезе Шувалова была легка и приятна. Ломоносов наслаждался и летними, еще не знойными днями, и быстрой ездой на всегда свежих лошадях, и мягким сиянием лунных ночей, и свежим «березовым духом», которым были полны леса. Однажды он указал Шувалову на белые сверкоглавые облака. — Сколь различны, — всегда я тому дивился, — облака петербургские и московские! Под Петербургом они морские, круглые, словно надутые влагой. А здесь они полегче, а белизны в них и сверкания больше. Здесь, Иван Иванович, и небеса более русские, нежели в Санкт-Петербурге. — Не знаю, — смеясь, отозвался Шувалов. — Я, Михайло Васильич, на небеса что-то мало гляжу. — А у нас, на севере, у поморов наших в обычае с небом советоваться: когда сполохи ударят — к морозам это. Когда звезды падать начнут — значит, осень у ворот, у нас сию науку «звездозаконием» зовут, токмо разбираться в сем законе возможностей не видят. Подъезжая уже к Москве, Ломоносов обратил внимание Шувалова на малоплодородный суглинок оврагов и пригорков и, напомнив ему о земле Сибири и Урала, сказал вздыхая: — Из сего заключаю, что в северных земных недрах пространно и богато царствует натура, а искать оных сокровищ некому. Он молчал так долго, что Шувалов уже успел задремать, но Ломоносов, все еще продолжая свою мысль, закончил: — Вот разве что отроки, обученные в университете Московском, свои руки к этому делу теперь приложат. На них токмо и надеюсь. Пусть они после меня делу народному служат, а я народу, который меня создал, все, что имел, отдал. И отроки, выступавшие на торжественном акте, укрепили его надежды. До сих пор он намеренно и по своей воле оставался в тени, выдвигая на первый план могущественного Шувалова, который легко мог добиться всего, что задумал, и был выбран куратором университета. И в великий день открытия университета о том, кто был его истинным зачинателем, о Ломоносове, не поминали. Но сегодня он сидел рядом с Шуваловым за столом для почетных гостей и слушал, не отрываясь, речи студентов, говоривших после профессоров, и смотрел, не отводя глаз, на окружавшие его молодые лица, взволнованные и оживленные. Ему хотелось в каждом почувствовать дарование и угадать судьбу. Этого он не мог. Но он подумал, что кто-нибудь из них, быть может, повторит его путь; кто-нибудь из них, неизвестно, кто именно, может быть, вон тот — щупленький и живой, кудрявый, как его незабвенный Виноградов, или вон тот — светлорусый и высокий, с такими ясными глазами... Все равно, в любом из них могут жить скрытые сокровища человеческого гения, которые с его помощью теперь выйдут наружу, как сокровища земных недр, и объявятся миру. Он встал и, посмотрев на все эти лица, обратился к студентам с ответной речью. Он сказал в этот раз очень немного. Но он говорил о великих возможностях воли человека и о великом значении знаний для любезного сердцу отечества, для русского парода. Он назвал молодежь вечной юностью и надеждой народа. И последние слова были слышны даже толпившимся в коридоре первокурсникам, не допущенным в актовый зал: О, ваши дни благословенны! Дерзайте ныне ободрении Раченъем вашим показать, Что может собственных Платонов И быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать! Быстрые разумом Вечером, накануне отъезда, он пришел в университет, чтобы просмотреть записки, составленные профессорами об успеваемости студентов по всем факультетам, и отчеты университетского эконома. За грудой этих записей, вызывавших в нем живой интерес, он засиделся в отведенном ему кабинете до позднего часа и незаметно для себя задремал. Его разбудил чей-то голос, называвший его по имени. Он поднял голову, прислушиваясь, и тот же голос снова прокричал за окном: — Ломоносов — первый! Он выглянул из окна: университетский двор был пуст и темен. Но из окна второго этажа, наискосок, падал слабый свет, и оттуда неслись в тишину ночной Москвы молодые спорившие голоса. Он вспомнил, что там было нечто вроде общежития, где эконом временно поместил некоторое число студентов, не имевших в Москве пристанища, — А Сумароков? — донесся второй голос. — Ну что Сумароков?! Сумароков трагедии отменно пишет. Так их на театре глядеть надобно. А в пиитике не может он ровней Ломоносову почитаться! — Братцы! — вмешался третий. — А какую Тредиаковский-то про сдачу Гданска тысяча семьсот тридцать четвертого года оду составил, я чай, забыли? А я помню! — Читай, Поповский! И Поповский прочел без единой запинки: Горд огнем Гданск и железом И полками боев там Целит махины разрезом В Россов на раскатах сам; Что богат и всем припасом, Станиславу кличет гласом... Дружный смех остановил чтеца. — Вот вы уж и нынче над его виршами смеетесь, — сказал Поповский. — И верно, што смешно. Но кабы не было стихов Тредиаковского, и Ломоносов бы не мог писать столь хорошо. Конечно, лет, скажем, через сорок, вирши Тредиаковского забудут, а Ломоносова стихи и тогда останутся и ровнять их нельзя. Но Тредиаковский тоже свое дело сделал. А ну, читай, Колька, Ломоносова! — Что же бы такое вспомнить?.. А вот — тоже военное: Там кони бурными ногами Взвивают к небу прах густой! Там смерть меж Готфскими полками Бежит, ярясь, из строя в строй... Россиян твердо грудь стояла, И слава их во мгле блистала. — Ну что, плохо? А вот еще: Европа, утомленна в брани, Из пламени подняв главу, К тебе свои простерла длани Сквозь дым, курение и мглу. — Ну что ж такое за наказание божеское! — раздался откуда-то издалека, должно быть из глубины комнаты, сердитый голос. — Что ни ночь, токмо ляжешь — либо у них драка, либо вирши читают! Токмо вот встать лень, а то бы я вам показал, кто здесь первый. Закрывай окно, гаси свечку—я спать желаю! — Ребята, Сереге спать желательно, не спрыснуть ли его свежей водой? — Братцы, закрывайте окно, новый эконом идет! — Ну, щас закрою, — ответил Поповский. — Я вот еще что припомнил: насчет, насчет... как ее?... метеорологии! Ломоносов тоже складно написал. Гляди, какая наука мудреная, а он об ней виршами: Наука легких метеоров! Премены неба предвещай И бурный шум воздушных споров Чрез верны знаки предъявляй. — Колька, чорт! — раздался вопль из глубины комнаты. Окно давно закрылось, а Ломоносов все еще сидел внизу на подоконнике со счастливым лицом и влажными глазами. Теперь он верил, что будут в его отечестве и новые пииты и новые ученые. Шувалов еще оставался в Москве; Ломоносов возвращался один. Он торопился к своей лаборатории, к дому, к опытам и к мозаичным работам. Теперь ехать было труднее. На станциях иной раз подолгу не давали лошадей, и лошади были уж не такие. Одно дело — едет вельможа, рассуждали иные хозяева, а другое — профессор Ломоносов. Оно, правда, на подорожной его прописано: коллежский советник. Да что в том? У вельможи и камердинер, и повар, и кого еще только нет! Он и не видит вокруг ничего. А этот как взойдет в избу — на все глядит. И первым делом народ спрашивать: и какая тут деревня, и чья, и много ли в ней мужиков да баб? Даже про ребятишек спрашивает, не брезгует ничем. Ну, а такой и лошадей пообождать может: видать птицу по полету. Любопытный путешественник Менялись лошади и ямщики, менялся вид по сторонам дороги: то ельник, то пустошь, то молодой березняк. И менялись деревеньки. Но его внимательный глаз, всматриваясь в них пристально и зорко, видел одно и то же под этими убегающими назад избенками, крытыми соломой. Везде одно и то же: бедность и рабство, произвол и народное горе. В самый полдень, когда от зноя прятались в конуру и цепные собаки и ни малейший ветерок не шевелил легким осиновым листом, на середине дороги, между станциями, треснула ось. Пока почтарь оставался дремать на козлах, ямщик пошел в деревню за подмогой. — Придется тебе, ваше благородие, маленько повременить, — сказал он своему пассажиру, закладывая за пояс кнут. — Много ли повременить-то? — спросил пассажир, вылезая из пыльной кареты и оглядывая дорогу, высохшую от зноя, березовую рощицу и словно все ту же, уж много раз виденную деревеньку над глинистым оврагом, с такими же, как везде, осевшими избами под соломой горбатых крыш. — На што много — не много, — обнадежил ямщик, и, поглядев на высокое полуденное солнце, добавил: — Надо быть, засветло сладим, — и ушел. Ломоносов вошел в березовую рощицу и, дойдя до опушки, присел у копны свеженаметанного сена. Высохший и сгорбленный годами старик, кряхтя, подбирал сучья, увидав Ломоносова, он снял поспешно войлочную шапку, кланяясь привычным низким поклоном «его благородию». — Здорово, дед, — сказал Ломоносов. — Ты чего ж это один-то за сучками собрался? Я чай, трудно тебе одному? Кого бы помоложе с собой прихватил! — Некого, батюшка, некого! — покряхтев, снова согнулся дед. — Семейство-то твое где же? — спросил Ломоносов, всматриваясь в выцветшие глаза на сухом морщинистом лице. — А нету у меня, батюшка, семейства. Все померли, всех господь прибрал. — Как же так случилось-то? — Сына у меня в рекруты угнали, а дочку схоронил — не ведаю, сколько годов тому было. — С какой же хвори? — спросил Ломоносов. — Да не с хвори, батюшка, а с поветрия. Поветрие у нас было на животы. Тремя днями дочка моя только и помаялась, царствие ей небесное, вечный покой. — А внучата где ж? — Внучат, батюшка, не уродилось, — Что ж так? Либо муж хворый был? — Зачем хворый? — старик отвечал ровным, бесстрастным голосом, в котором не слышалось уже ни сожаления, ни горя, а только усталость от жизни. — Не хворый он. Выдали ее наши господа честь честью. — Он нагнулся в последний раз и, выпрямив спину, осторожно двинулся в путь. — Силком выдали-то. Она и обтерпелась, Татьяна моя, ничего... токмо после тремя днями и померла. — Та-ак! — медленно протянул «его благородие» и опустил голову. И так сидел, пока дед не исчез за деревьями и за большой копной, к которой он прислонился, не заговорили Две бабы. И как из окна университета, так и здесь, в этом березняке, он услыхал голоса, которые унес в своей памяти. — Нонче, бабоньки, согрешили, — произнес первый голос, — траву-то ране Петрова дня скосили! — Жар-от больно силен, Матвевна, — ответил другой голос, помоложе. — Не скоси ее — она бы, гляди, и полегла вся. — Это как есть. А токмо ранний покос — ранний мороз. А это, бают, к смутам. — Ой ли? — со страхом спросила молодая. — Мужики сказывают, как турки на нас пошли войной-то, — опасливо ответила Матвеевна, — и гриб тот год сильный шел... Это такой был гриб, что и у оврага, где ему рость не положено, ребятишки волнухи брали. — Да это, чай, летось брали, Матвевна, а ноне вон кака сухота. — Ну-к што ж, што летось, — убежденно ответила Матвевна. — Это загодя, бабонька, деется, уж когда ни когда, а будет, Васена, война. — Ба-атюшки, господи милостивый! — горестно воскликнула Васена. — Остатных мужиков поотбирают, а у нас, почитай, и без турков через пять дворов в рекруты угнатые все! — Забирай грабли-то, Васена, — вздохнула громко Матвевна, — пойдем поглядим: жива Дарья-то? — Уморил Дарью бурмистр, — понизила голос Васена. — Был он намедни? — спросила негромко Матвевна. — Был, — угрюмо ответила Васена. — Приказал барщину справить: я, баит, тебе не дохтур. А ты на што мертвого родила? За живого, мол, на двое дён с барщины ослобождают, а за мертвого нету в указе. — Пойдем, бабонька, глянем на Дарью-то. Куды ее снесли? — В избу, — ответил угрюмый голос, и все стихло. Он продолжал сидеть в тяжелом оцепенении. Солнце уже косыми лучами падало на дорогу, на тонкие стволы молодых берез, и в нагретом воздухе повеяло откуда-то свежестью, когда он вернулся к тому месту, где остановилась его кибитка и где все еще возились над осью ямщик и старый крестьянин такого маленького росту, что он принял его издали за мальчонку. Подойдя к ним и посмотрев на их усилия, он молча подтянул повыше рукава своего кафтана, чтобы не запачкать их дегтем, и, к удивлению и крестьянина и ямщика, помог им так, что лучше и не надо. — Вот, ваше благородие, каково ты… знатно! А мы тут, с Кузьмой... — не находя слов, говорил ямщик, уже взбираясь на козлы. — Теперь, надо быть, до грозы доедем, — сказал Ломоносов, дав мужику денег и тоже усаживаясь на свое место. И крестьянин и ямщик, удивленно задрав головы, посмотрели в чистое небо. — Гроза нынче беспременно будет, — сказал Ломоносов Кузьме, — потому трава сухая, а ветер зачинается и идет с запада. Да малость поддувает и с норда. — А мы дождь ли, вёдро ли дымком распознаем. Ежели он наверх столбом пошел, то к вёдру, а как застелется книзу, то он дождик зовет, — ответил Кузьма. — И то верно, — сказал странный проезжий, — а токмо по ветру верней и без дыму узнать можно. Вон, гляди, — повернул он Кузьму к противоположному краю горизонта. — Оттуда солнышко восходит — та сторона востоком именуется. Оттуда дует ветер безводный. А насупротив, где садится солнце, дождливый ветер родится. Как подул — значит, собирай сено, держи его вкупе. А промежду них, ежели лицом к восходу станешь, налево будут тебе холодные края, а направо теплые — оттого и ветры дуют неодинакие. — Ишь ты! — ответил Кузьма, покрутив головой. — Все, значит, распределено: откеда чему дуть. Он бережно положил деньги в шапку, и долго кланялся вслед кибитке, и долго смотрел с надеждой в ту сторону, где уже опускалось солнце к дальнему лесу и где еле-еле можно было различить сиреневую полоску еще далекой тучи. Она все росла, и сиреневая полоска темнела. На далеком горизонте вставали тяжелые облака, и беглые зарницы, проносясь, освещали их мгновенным блеском. К ночи над пыльной дорогой, над оврагами и перелесками и над малой деревенькой, где отдыхали коротким сном и Васена с Матвезной и умирающая Дарья, пролился грозовой ливень. К раскатам грома прислушивались, крестясь облегченно, в каждой избе, ибо гроза эта прогоняла угрозу голода. К этим раскатам прислушивался и Ломоносов, глядевший сквозь сетку дождя на сменявшиеся по сторонам дороги березы, овраги и поля и поглощенный все той же упорной думой — о своем народе, За судьбы народные В ноябре, когда уже начались во дворцах петербургской знати танцевальные и маскарадные куртаги, Шувалов получил большое письмо: оно было от Ломоносова. Еще в конце лета, утомленный нескончаемыми хлопотами о деньгах и поездками на свой завод в Усть-Рудицу — вечный источник его забот, Ломоносов прислал Шувалову стихи: Кузнечик дорогой, коль много ты блажен! Коль больше пред людьми ты счастьем одарен... Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен; Что видишь, все твое; везде в своем дому, Не просишь ни о чем, не должен никому. Необычайная для Ломоносова усталость чувствовалась в этих стихах. Но они показались Шувалову пленительными своей простотой и легкостью языка, которой он безуспешно старался подражать, раскрывая большой конверт Ломоносова, он ожидал опять стихов либо каких новостей по делам Академии. И вместо того нашел в конверте целый прожект на новую тему: не письмо, а чуть ли не диссертацию о процветании и сохранении российского народа. Он начал читать се из любопытства и уже не отрывался до конца. А когда кончил, велел подать карету и везти его во дворец. Но Елизавета отказалась слушать, сказавшись больной. Может быть, она боялась, как часто говорила, соскучиться. А может, и вправду занемогла. Шувалову показалось, что лицо ее и точно было нездоровым. Тогда он поехал к Воронцову, чувствуя настоятельную потребность поделиться с кемнибудь новым ломоносовским проектом. В нем говорилось о больницах и о лечении, о сохранении жизни новорожденных и о небывалом еще учреждении: о богадельных и родильных домах для невозбранного приема «зазорных», или внебрачных, детей. Ломоносов писал языком выразительным и метким о злоупотреблениях власти, о причинах смертности в народе, о жестокостях рекрутчины, о принудительных браках, входя во все мелочи жизни народной. Воронцов прослушал письмо и, подумав, решительно сказал Шувалову: — Мой тебе совет, Иван Иваныч: несмотря, что сие письмо писано языком отменным и все в нем, по видимости, верно, спрячь его до времени. Шувалову и самому казалось, что проекты Ломоносова чрезмерны. Но и правда суждения его была слишком очевидна для всякого. А вот сенат о сем и слушать не станет. И не только сенат: неохотно — и по настоянию Шувалова — выслушает Елизавета, но, и выслушав, не сделает ничего. Ибо для нее на первом месте стояло дворянство, а не жизнь «подлого сословия». О письме Ломоносова Шувалов больше не сообщал никому, даже своему брату, графу Петру Ивановичу, они крепко с Ломоносовым не ладили. Особенно с тех пор, как учинил граф Шувалов новую чеканку медных денег, обесценив старые пятикопеечники и набив себе карман. Ломоносову было хорошо известно, что Петр Иванович брал откупа и что, толкуя об убыли населения российского от все растущего числа беглых, повелел поставить на границе форпосты. Эти форпосты не давали Ломоносову покоя. И никогда не упускал он случая пройтись острым словцом, что, мол, государственный деятель, сиятельный граф Шувалов от наводнения зонтик наставил. — Причину бегства населения российского надлежит искать, — говаривал он Шувалову Ивану Ивановичу. — А ваш брат тем нимало не заинтересован. Ему бы лишь силком народ удержать, и то ладно. — В чем же видишь ты сию причину? — спрашивал, слегка обижаясь за брата, Иван Иванович. — В непосильной для народа тяготе, — коротко отвечал Ломоносов и угрюмо умолкал. А вот теперь сказал во весь голос все, что хотел, и так сказал, как до него не говорил еще в России никто. Но нельзя было говорить громко в стране, где только что по высочайшему указу и по постановлению сената были увеличены привилегии родовой знати и решено было отнять права у личных дворян, именуемых презрительной кличкой «происхожденцы». К числу их принадлежал и Ломоносов, пожалованный в дворяне единственно за заслуги в науках и поэзии, а эти заслуги в глазах двора и знати значили немного. Весь двор был охвачен тревогой: ее величество заболела. Призванные доктора молча качали головами: они ничем не могли помочь. И в морозный декабрьский день 1761 года Россия хоронила дочь Петра, свою «легкую царицу». Любившая больше всего на свете развлечения, танцы и наряды, она в первые же дни своего царствования, объявила себя продолжательницей дел Петровых и восстановила правительствующий сенат. После ее смерти русским царем должен был сделаться гольштинский принц, выписанный из Киля самой Елизаветой. Тогда этому сыну Анны Петровны, великому князю Петру Федоровичу и будущему наследнику, было еще только 13 лет. На престоле российской империи оказался поклонник Фридриха II, с которым россия вела войну, русский император Петр III, гольштинский принц, игравший в медных и деревянных солдатиков и окруженный всегда иностранцами, из которых худшие составляли его гвардию, устраивал во дворце празднества в дни победы прусских войск над российским воинством. И пораженный изумлением, слушал польский посол Станислав Понятовский, как сей будущий русский царь, Петр III, жалуясь ему, говорил: «Вы видите, как я несчастлив! Я бы поступил на службу прусского короля, служил бы ему со всем усердием... а меня вместо того привезли в эту проклятую страну и сделали великим князем». Но зато победы русских войск праздновала жена его, Екатерина, создавшая себе быстро партию сторонников. Отсталый умом и бездарный племянник царя Петра, подражавший правам прусской военщины, недолго удержался на российском престоле, передав — далеко не добровольно — державу русскую своей жене и умерев не совсем естественной смертью. Новая императрица, Екатерина II, раздававшая щедрой рукой вольности дворянству, превзойдя в этом Елизавету, оправдала все надежды аристократии. И, услыхав от придворных наушников о свободолюбивых проектах русского ученого, которому покровительствовала Елизавета, довольно косо посматривала на этого ученого. Он же еще и столь дерзкую критику навел на «Историю Петра I», написанную по высочайшему заказу Вольтером. И Екатерина решила с первых же дней своего царствования напомнить ему при случае, что времена Елизаветы Петровны прошли безвозвратно. Щедро награждала новая царица всех, кто содействовал ее воцарению или славе государства российского. Из окружавших ее людей только один человек не был ничем награжден, и его заслуги не были признаны перед лицом страны. Этим человеком был Ломоносов. Он понял смысл этого жеста – и в июне того же 1762 года подал прошение об отставке. Ответа не последовало. Опала и милость Но и без всякого разрешения отставку от работы дала ему в это время болезнь. — Благодарение богу, — говорил он, лежа на своем стареньком диване, обложенный книгами, листами рукописей и корректур, — что в болезни моей опухаю я ногами токмо, а не головой, понеже мысли стучатся мне в голову, обгоняя одна другую. А ноги не только опухали, но и покрылись язвами. И все же он не прерывал работы ни на единый день. Его навещали ученики, и он читал им лекции, не сходя со своего ложа, и не спрашивая, помнят ли о нем за стенами его лаборатории. Он знал, что сделал довольно и что дела его сами скажут о нем. Но он был слишком горд простой, крестьянской гордостью и не хотел навязывать себя никому. Беспокоило только желание завершить намеченное во всех тех областях, которых успевала коснуться его рука и его животворящая мысль. В Академии, где еще в 1761 году умер Шумахер, без Ломоносова было пусто. И бесконечные старания врагов не давать жизни его начинаниям уже не могли заглушить здоровые всходы от посеянных им семян. Было пусто и в Географическом департаменте, где его заменить не мог никто; пусто на стеклянном заводе, и в мозаичной мастерской, и в Академической гимназии, и в университете, где он неустанно хлопотал об улучшении жизни учеников и неотступно просил правительство увеличить сумму на их содержание. И остановились за его болезнью все опыты в химической лаборатории. Но к весне раны стали заживать и опухоль на ногах опала. С возвращением здоровья возвращалась и жажда деятельности. И, как всегда, захотелось, словно зажженным факелом, зажатым в руке, осветить сразу все темные места; дополнить в «Грамматике» правила об именах существительных и глаголах; и продолжить работу над зондами — самопишущими приборами для метеорологических наблюдений; и добиться увеличения суммы, отпускаемой на содержание каждого ученика гимназии, до 48 рублей в год; и навестить свой стеклянный завод; и двинуть дальше мозаичные работы, для чего опять нужны деньги, и деньги не малые, а у него не было их что-то совсем; и главное — узнать касательно судьбы письма своего о сохранении российского народа. И вдруг неожиданно — через год после его прошения в сенат — пришел указ об его отставке. Ему передали точный текст: «Коллежского советника Михайлу Ломоносова пожаловали мы в статские советники и вечною от службы отставкою с половинным по смерть его жалованием». Но этого было мало: он узнал, что за неделю до этого указа Екатерина тоже вспомнила о нем: в записке к Олсуфьеву ему было посвящено несколько небрежных строк. «Адам Васильич, — писала новая императрица, — я чаю, Ломоносов беден: сговоритесь с гетманом — не можно ли ему пенсион дать, и скажите мне ответ». Так поручала она гетману Запорожских войск и президенту Академии Кириллу Разумовскому решить вопрос о том, достоин ли пенсии первый ученый и великий поэт ее народа. Он бродил, еще опираясь на палку, и с лихорадочной поспешностью брал то книгу с полки, то чертеж со стола и бросал их в ящики и корзины, а растерянная Лизбет, со страхом перед непонятной ей переменой судьбы, укладывала старательно все, что он отбирал. Испуганные ученики заглядывали в лабораторию и, ничего не понимая, уходили. Он и сам не отдавал себе отчета в том, что случилось и почему он уезжает в Усть-Рудицу. Он просто чувствовал всем существом, что был унижен и что холод ледяной пустыни дохнул на него в эти майские дни. И он сказал ужаснувшимся Лизбет и Ленхен, что они уезжают в Усть-Рудицу только потому, что это было первое место, о котором он вспомнил и где он мог укрыться от обид. В это время в Москву, куда отбыла Екатерина и весь двор, прибыли иностранные гости. И на приеме у новой русской царицы один из гостей, в особенно пышной речи приветствуя императрицу российскую, поздравил ее, правительницу великого народа, из недр которого выходят столь замечательные люди, как всей Европе известный ученый Михаил Ломоносов. Великий ученый, собиравшийся бежать в деревеньку Усть-Рудицу, и не знал, что в сенат уже летел новый указ: «...Есть ли указ о Ломоносовской отставке еще не послан из Сената в Петербург, то сейчас же его ко мне обратно прислать. Екатерина». Так через несколько дней Ломоносов был восстановлен во всех своих должностях. В летний вечер 1764 года он сидел на балконе своего дома, самого обширного из выстроенных недавно на берегу неширокой Мойки, еще не одетой в гранит, но обсаженной деревьями, которые отражались в зеркальной глади воды и напоминали ему когда-то виденные тихие каналы Голландии. На белой скатерти стола легко лежали отсветы вечернего солнца. Белокурая Ленхен подошла и положила около него на стол большой пакет. — Это курьер принес. Только нынче с посольской почтой прислано. Ленхен теперь уже считала своим скорее русский язык, нежели немецкий. Он сломал сургуч и, вынув содержимое пакета, увидал прежде всего итальянский журнал «Флорентийские ведомости». Его совершенное знание латыни и французского языка помогли ему сразу понять, почему прислали ему этот мартовский номер «Ведомостей» из Флоренции: на первой странице он увидал свое имя и большую статью, где излагалась история его трудов над русской мозаикой. Но это было не все: его острые глаза помора прочитали в уже неверном сумеречном свете еще одну бумагу, вложенную в тот же пакет; в ней Болонская Академия сообщала профессору и академику Михаилу Ломоносову, что он, Ломоносов, за свои заслуги в искусстве мозаики избран ее почетным членом. Это была вторая академия — после Шведской — избравшая его своим почетным членом. Он знал, что его научные работы хорошо известны Европе. За ними следили и переводили статьи его на иностранные языки. Они вызывали еще недавно столь многочисленные насмешки, что это было похоже на травлю, и он знал, что корень этой травли — здесь, в Петербургской Академии. Но теперь враги его уже умолкли. Он долго сидел на балконе над тихой Мойкой и глядел в неподвижную воду, где уже давно погасли золотистые пятна заката, — сидел один и не заметил, как по неведомой никому причине две никем не замеченные слезинки упали на ворот его камзола, который он открыл движением, некогда понятным одному только Виноградову. На другой день после извещения Болонской Академии его дом, вернее — его лабораторию, посетила вместе с графом Олсуфьевым и Орловым Екатерина. Она прибыла со специальной целью — осмотреть его мозаичные работы и большую картину Полтавской баталии, уже близкую к окончанию. Она любезно хвалила и любезно улыбалась, осматривая все, что он ей показывал, с некоторой долей величавого и легкого удивления перед разнообразием его дел. Но от улыбки, и от похвал, и от удивления на него веяло холодом безразличия. И когда она оставила дом величайшего ученого своей страны и своего времени, который всего тридцать пять лет тому назад прошел в валенках и в китайчатом кафтане от родного Поморья «тысячу верст за наукой», он подумал, что не интерес к нему и к его делу заставил ее приехать: Болонская Академия была тому причиной. Она окинула равнодушным взглядом прекрасно оборудованную оптическую мастерскую, которую он на собственные средства устроил, наконец, у себя в доме и где прежние мальчуганы — обученные им помощники Андрюшка да Гришка с Кирюшкой — стали уже мастерами. Ну что ж, все равно мастерская сия радует каждое сердце. Знак бессмертия «Я знак бессмертия себе воздвигнул». Из оды Горация. Перевод Ломоносова Он лежал у самого окна, широко открытого, потому что весна была теплой и потому что ему иногда трудновато было дышать. Летом он всегда любил ставить свою кровать так, чтобы, проснувшись, увидать перед собой сразу утреннее солнце, а перед сном, отдаваясь живым потокам своих мыслей, поглядеть немного в успокоительную бездонную глубину, сверкающую звездами и полную еще не изведанных тайн. Когда он чувствовал себя лучше, он выходил в сад, где на редкость хорошо принялись все посаженные им еще загодя, в минувшую осень, молодые деревца. Он сам находил им места, не тревожа старых, шумливых деревьев и давая простор молодым. И сам пересаживал в клумбы рассаду, присланную ему от престарелого академического садовника Штурма, с которым он некогда воевал. За последние годы он пристрастился к растениям и цветам. Но в эти весенние дни ему стало как-то сразу и резко хуже, словно болезнь, пораздумав немного, в какую сторону ей повернуть, пошла решительно в худшую. Еще недавно его навестил академик Штелин, и он много говорил с ним. Его беспокоило больше всего то, что из всех мер, указанных им как необходимые для сохранения и процветания народа русского, до сей поры еще ни единая не была проведена в жизнь. И еще страшила его одна мысль: кончилась Семилетняя война, заключили с Пруссией мир, да ведь о том надлежит помнить, что у России врагов много и они не дремлют. И нет нам возможности сложа руки сидеть, а не глядя, что нынче мирное время, воинскому делу надлежит неуклонно обучаться и им в полном совершенстве овладеть на устрашение врагов и на защиту отечества нашего. Он говорил об этом Штелину с горячностью и волнением и просил его дать ход его записке о сем важном предмете, понеже державе российской надлежит среди всех быть лучшей и среди всех быть первой. Его беспокоило и все еще бедственное положение учеников при Академической гимназии, хотя при его управлении она стала несравненно лучшей и в гимназии уже давно забыли о побегах. Но ему хотелось еще улучшить и одежду и питание учеников. И он просил Штелина передать его просьбу в сенат. И еще дело Эйлера, которое, впрочем, уже довелось ему привести к благополучному концу. — Весьма сокрушался я, — говорил он Штелину, — что с Эйлером за все семь лет войны прекратилась переписка. Он стал в одном лагере, я — в другом. А как в октябре шестидесятого года наши войска взяли Берлин, то и Эйлеров дом заняли. И он мне после о том писал, что потерял и на контрибуции и на убытках больше тысячи. И, к великой моей радости, довелось мне достигнуть, что эти деньги от нас Эйлеру возмещены... Он помолчал и, окинув взглядом корешки стоявших около него книг, добавил: — Думал я еще с молодых: годов написать некую работу по физике, в коей многие утверждения Вольфа были бы опровергнуты. Да не хотелось все учителя своего огорчать. А теперь полагаю, что неправо поступил: ибо на первом месте во воем должна быть истина. А на труды Шлецера по истории я критику начал, ибо труды сии несносны, вроде как миллеровы открытия, от коих одна срамота науке истории российской. К наукам допускать Шлецера сего нет возможности, да и не пустил бы никто, ежели бы не государынин ставленник он был. Вот как встану — доведу русскую историю нашу до конца. Благодарение богу, — вздохнул он облегченно, — для експедиции через северный путь, над снаряжением коей уж скоро год тружусь, недавно Василию Яковлевичу новую программу дал, столь подробную, что он теперь и без меня от Морской комиссии утверждение получит. Слава богу, не кто-нибудь: сам адмирал Чичагов. Прощаясь со Штелиным, он пожал его руку своей, уже потерявшей всю прежнюю силу рукой и негромко сказал: — Сдается мне иной раз, словно слышу я то, что Россия сынам своим вещает о всех своих нуждах и о всем, что к процветанию ее потребно. И скорблю тогда токмо о том, что всего выполнить не успел и не могу сказать: «Спокойно будь, дражайшее отечество!» Ибо знаю, что еще многое у нас великому исправлению подлежит. Знаю и то, что для многих персон высокородных, кои меня низкою породой попрекают, был я как бельмо на глазу. Но я своей чести достиг не слепым счастьем, а данным мне от бога талантом, трудолюбием и терпением крайней бедности ради учения. Штелин слушал его внимательно и внимательно вглядывался в его лицо: оно показалось ему сильно изменившимся. Когда проходила раздражительность, вызванная болью в незакрывающихся ранах на ногах, болью, которая все увеличивалась, лицо Ломоносова сразу приобретало выражение небывалой усталости и слабости, столь несвойственных ему. И его речь, всегда такая ровная и уверенная, прерывалась частыми остановками, точно ему не хватало дыхания. Но то было с месяц тому назад, и тогда еще было ему гораздо лучше. Он вспомнил, что хотел рассказать Штелину об одном деле, доставившем ему большое удовлетворение: как устроил он скульптора Шубного в Академию художеств, того самого Шубного, у отца которого обучался после дьячка Никитыча грамоте. И тот сын Шубного, как в Академии художественной объявилось, столь изрядным скульптором становится, что Европа его к себе переманить хочет, да нам самим надобен. Но запамятовал об этом рассказать. Да вот еще тому рад, что просьбу сестры своей, Марьи Васильевны, выполнить успел. Мишеньку, сына ее — племянника своего родного — и одел, и обул, и в Академическую гимназию определил. Половину времени будет Мишенька в его доме жить. И письмо о том сестре Марье Васильевне, благодарение богу, успел сам написать... В апрельскую ночь Снег сошел, и в один месяц развернулась весна. Все последние дни хотелось ему очень поглядеть на молодые саженцы в своем саду. Но куда уж о том нынче думать! Что-то совсем стал слаб. Все эти дни в глазах Лизбет, смотревшей на него подолгу и с тревогой, он подмечал то прежнее, знакомое ему выражение ласкового упрека, памятное ему еще с Марбурга, которого он так давно у нее не видал. И зачем она тревожится? И чего тут бояться? Он еще Штелину сказал, когда уходил тот, что чувствует ясно: приближается смерть. И что ни страха перед ней, ни огорчения нет в нем. Хотелось бы еще послужить отечеству, чем можно, и допрежь всего нужды народные и просвещение народное в порядок произвести, но сколько было ему отпущено сил — все уже отдал. И знает он твердо, что дети отечества его о нем пожалеют. Сегодня, когда им овладевает такая непривычная слабость, ему особенно отрадна эта мысль. Сегодня глаза Лизбет с каким-то особым вниманием останавливаются на нем... И даже глаза Ленхен смотрят ни него с тревогой. Они у нее обычно ясные и веселые. Ему хотелось, чтобы Ленхен была похожа на его мать, Алену Ивановну. Но у нее было совсем другое лицо. Он очень обрадовался, когда она подошла к нему с большим пучком подснежников, только что раскрывшихся в саду. Он хотел взять подснежники в руку, но это оказалось слишком трудным, это оказалось совсем невозможным, потому что рука его не подчинялась больше его воле и была как-то сама по себе. Он понял, почему глаза Ленхен наполнились слезами. Но плакать о нем было не надо: он умирал покойно и ясно, как вечерний свет за его окном. Глаза Ленхен были добрыми, Лизбет смотрела на него теплым и горестным взглядом, но такого синего и греющего взора, о котором он помнил всегда, не было ни у кого больше: только на лице Машутки. Он уже не видел больше никаких лиц. Он видел только, что вечер где-то над его головой переходит в ночь. Эта ночь была апрельской, а потому светлой, и звезд почти не было видно, редкие, дрожащим светом мигающие точки виднелись кое-где в огромном, бездонном и свободном пространстве, голубевшем где-то там, над ним. Но никто лучше его не знал, что на самом-то деле им нет числа, этим звездам, слабо мигающим над его закрывшимися навсегда глазами, как нет дна этой бездне, голубевшей в вышине. В теплое утро ранней весны, в голубое апрельское утро Московский университет облекся в траур. Траурные флаги колебались от ветра у его входа, и висевший в актовой зале большой портрет был увит траурными лентами и первыми весенними цветами. Вечером на торжественном собрании, посвященном памяти скончавшегося основателя университета, отдавшего свою жизнь борьбе за науку для всего народа, говорили его юные ученики и, воплощая горячее желание Ломоносова, в этот день с высокой трибуны звучала уже не латынь, а его родная русская речь. Простыми, идущими от сердца словами говорили здесь в этот день «отроки всех сословий» о неисчислимых заслугах великого русского ученого, относившегося к ним с отеческой заботой. На трибуне стоял худенький юноша с кудрявой головой и горящим взглядом живых глаз. Он говорил о работах Ломоносова в физике и химии. — Трудно перечислить, — говорил он, — заслуги его в этих науках, начиная от его первой научной работы «О Превращений твердого тела в жидкое»; он вносил все новые и новые труды, открытия и достижения, одинаково как в области физики, так и в области химии. Довольно будет привести здесь лишь наименование диссертаций его, чтобы каждый спросил в удивлении: как мог один человек совершить столь много? Он писал об элементах математической химии и о зажигательном инструменте; о движении воздуха в рудниках и о нечувствительных физических частицах. Он оставил нам физическую диссертацию о различии смешанных тел и диссертацию о химических растворителях; писал весьма обширные труды о причинах теплоты и холода и о происхождении света и о происхождении металлов, разно и об упругой силе воздуха. Он изложил нам первые основания металлургии и одновременно боролся против иноземных лжеученых, проповедывавших историю происхождения России от иноземцев. Составитель курса физической химии, о которой до него никто не говорил, он основал первую химическую лабораторию и выступал со своим знаменитым словом о пользе химии. Он изучал с усердием новую электрическую силу, и, наконец, ему же принадлежит великое открытие закона сохранения материи и сохранения движения, — открытие, подтвержденное опытами. Я кончаю, чтобы уступить место тем, которые хотят сказать о заслугах Ломоносова в других областях. В это время из задних рядов послышался твердый, сильно окающий говорок, и крепкий кряжистый паренек поднялся на трибуну. — Из Холмогор я, — объявил он залу. — И вот хочу сказать о том, сколь гордимся мы все тем, что край наш — родина Ломоносова. Я много в Архангельске жил, на кораблях побывал и. как кончу здесь ученье, к морскому делу вернусь. И хотел я сказать о том, сколько Михаил Васильевич для морского дела потрудился! И инструменты делал для измерения точности морского пути, всякие инструменты морскому делу потребные, скажем, для определения полуденной линии и приборы для кораблевождения. И о путешествии по северным морям и о пути в восточную Индию думал и писал много, а под конец мечтал он об Академии мореплавательской. И вот что еще хочу я сказать: он великий человек. И был он простой человек, и всякому было его сердце открыто. И никогда он свой поморский народ не забывал. Так мой отец говорил мне, и так оно и в правду было. И великое ему за то спасибо! Делая большие шаги, он сошел с трибуны и при громких знаках всеобщего сочувствия скрылся где-то в глубине актового зала. После этого крепкого холмогорца говорил светловолосый и светлоглазый юноша о Ломоносове как о первом поэте русском и писателе, первом учителе русского красноречия и создателе грамматики русского языка. И когда его свежий певучий голос произносил отрывки из од Ломоносова, ректор университета московского сказал декану: — Мог бы быть нынче доволен Михаил Васильевич! Не зря любил он так студентов наших. Ведь как знают его, как много его читают! Да, все они, все вместе, идут на смену ему одному! Через много лет Была опять весна, и молодые деревца перед зданием Московского университета зазеленели, раскрыв почки и покачивая ветками под набегавшим ветерком. Окна актового зала были открыты, и весеннее, уже заходящее солнце тронуло золотые рамы настенных портретов, хрустальные подвески люстры и пышные седины председателя, произносившего торжественную речь. К нему были обращены оживленные лица и внимательные взгляды молодых глаз. — Милые мои друзья, — сказал он, оглядывая все эти лица, которые привык видеть на своих лекциях в аудитории.— Сегодня вы оставляете стены нашего университета и вступаете в жизнь в качестве его новой смены, нового выпуска студентов, окончивших Московский университет спустя много лет после смерти его основателя. Три десятилетия прошло с того дня, когда отечество наше лишилось своего прославленного ученого — Михаила Васильевича Ломоносова. Но Ломоносов был не только великим ученым, чьи открытия и идеи на много лет опередили науку его времени, — он был и нашим поэтом, и художником, и великим патриотом. Польза отечества была его постоянной заботой и целью всей его жизни. А живым образом отечества, его носителем был для него народ русский и вы, молодежь, которую он так любил. Кроме меня, осталось всего два-три профессора, имевших счастье быть его личными учениками. Пройдет еще несколько десятилетий — и многие образы, став достоянием истории, неизбежно потускнеют в воображении людей новой эпохи, подчиняясь неумолимому закону времени. Но есть люди, которые не должны умирать в памяти грядущих поколений. Среди таких людей нашей родины Михаил Ломоносов занимает одно из первых мест. И именно в эти дни, когда для вас начинается новая жизнь, а за окнами — новая весна, обещайте мне, что слово о нашем величайшем ученом вы понесете дальше, уже своим ученикам, и, сняв с его образа неизбежные следы времени, как снимает их реставратор со старой картины, сделаете его снова ярким и живым. Седой профессор сошел с кафедры, и молодежь немедленно окружила его тесным кольцом. Последний солнечный луч, скользнув по всем лицам, осветил и несколько легких морщинок, положенных временем на его лицо. — Тихон Петрович, мы будем писать вам! — Спасибо вам, Тихон Петрович! — Тихон Петрович! Мы вас проводим до дому... Он с удовольствием прислушивался к этим приветливым голосам. А когда совсем стемнело и над улицами и тихими переулками Москвы опустилась весенняя, еще свежая ночь, все студенты, выпущенные в этот день из стен университета, пошли его провожать. На темном небе зажглись переливчатым светом неисчислимые звездные огни, Дойдя до своего дома, перед которым в маленьком палисаднике уже зацветали кусты московской обильной сирени, Тихон Петрович поднял голову к ночному небу и сказал стоявшему подле него рослому юноше: — Не могу без волнения вспоминать две строки Ломоносова... — Я знаю, какие, — перебил его рослый студент. — О ночном небе! — Верно, — сказал Тихон Петрович, — те самые. И все, помолчав, посмотрели в звездное небо. А потом веселая толпа, проводив старого профессора, еще долго бродила по затихшим улицам весенней Москвы, где распускались пахучие тополя и гроздья сирени. Они были веселы, потому что перед ними была вся жизнь. Они были той вечной юностью народа, которую он так любил. СОДЕРЖАНИЕ Часть первая. У брега студеного моря Часть вторая. Врата учености Часть третья. Беспокойный студент Часть четвертая. Ради пользы отечества