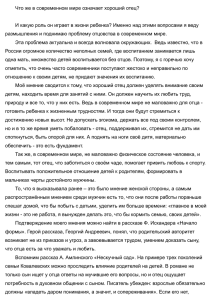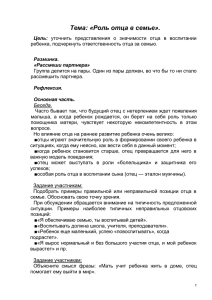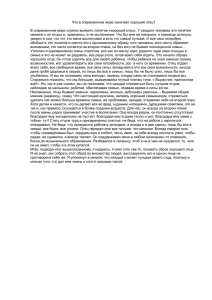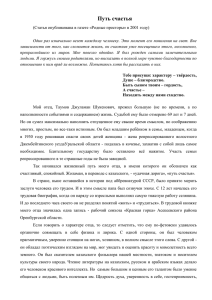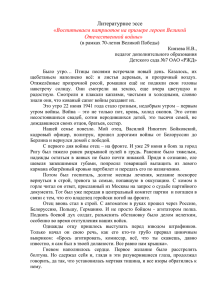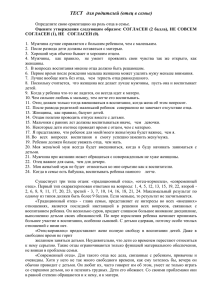Воспоминания о военном детстве
advertisement
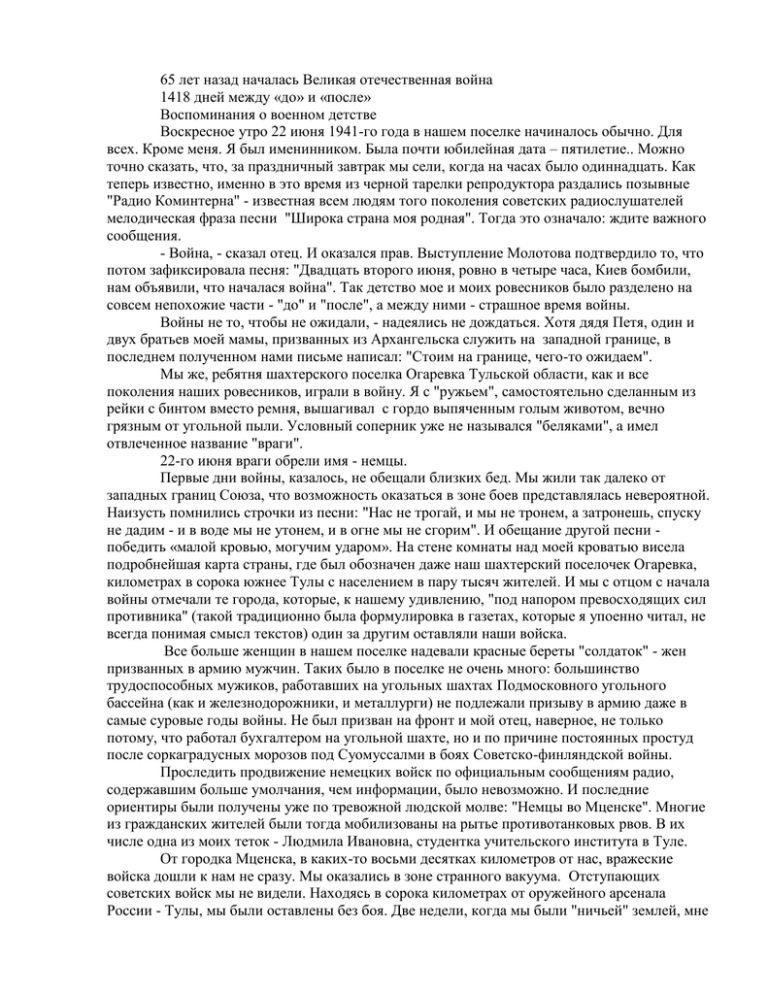
65 лет назад началась Великая отечественная война 1418 дней между «до» и «после» Воспоминания о военном детстве Воскресное утро 22 июня 1941-го года в нашем поселке начиналось обычно. Для всех. Кроме меня. Я был именинником. Была почти юбилейная дата – пятилетие.. Можно точно сказать, что, за праздничный завтрак мы сели, когда на часах было одиннадцать. Как теперь известно, именно в это время из черной тарелки репродуктора раздались позывные "Радио Коминтерна" - известная всем людям того поколения советских радиослушателей мелодическая фраза песни "Широка страна моя родная". Тогда это означало: ждите важного сообщения. - Война, - сказал отец. И оказался прав. Выступление Молотова подтвердило то, что потом зафиксировала песня: "Двадцать второго июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началася война". Так детство мое и моих ровесников было разделено на совсем непохожие части - "до" и "после", а между ними - страшное время войны. Войны не то, чтобы не ожидали, - надеялись не дождаться. Хотя дядя Петя, один и двух братьев моей мамы, призванных из Архангельска служить на западной границе, в последнем полученном нами письме написал: "Стоим на границе, чего-то ожидаем". Мы же, ребятня шахтерского поселка Огаревка Тульской области, как и все поколения наших ровесников, играли в войну. Я с "ружьем", самостоятельно сделанным из рейки с бинтом вместо ремня, вышагивал с гордо выпяченным голым животом, вечно грязным от угольной пыли. Условный соперник уже не назывался "беляками", а имел отвлеченное название "враги". 22-го июня враги обрели имя - немцы. Первые дни войны, казалось, не обещали близких бед. Мы жили так далеко от западных границ Союза, что возможность оказаться в зоне боев представлялась невероятной. Наизусть помнились строчки из песни: "Нас не трогай, и мы не тронем, а затронешь, спуску не дадим - и в воде мы не утонем, и в огне мы не сгорим". И обещание другой песни победить «малой кровью, могучим ударом». На стене комнаты над моей кроватью висела подробнейшая карта страны, где был обозначен даже наш шахтерский поселочек Огаревка, километрах в сорока южнее Тулы с населением в пару тысяч жителей. И мы с отцом с начала войны отмечали те города, которые, к нашему удивлению, "под напором превосходящих сил противника" (такой традиционно была формулировка в газетах, которые я упоенно читал, не всегда понимая смысл текстов) один за другим оставляли наши войска. Все больше женщин в нашем поселке надевали красные береты "солдаток" - жен призванных в армию мужчин. Таких было в поселке не очень много: большинство трудоспособных мужиков, работавших на угольных шахтах Подмосковного угольного бассейна (как и железнодорожники, и металлурги) не подлежали призыву в армию даже в самые суровые годы войны. Не был призван на фронт и мой отец, наверное, не только потому, что работал бухгалтером на угольной шахте, но и по причине постоянных простуд после соркаградусных морозов под Суомуссалми в боях Советско-финляндской войны. Проследить продвижение немецких войск по официальным сообщениям радио, содержавшим больше умолчания, чем информации, было невозможно. И последние ориентиры были получены уже по тревожной людской молве: "Немцы во Мценске". Многие из гражданских жителей были тогда мобилизованы на рытье противотанковых рвов. В их числе одна из моих теток - Людмила Ивановна, студентка учительского института в Туле. От городка Мценска, в каких-то восьми десятках километров от нас, вражеские войска дошли к нам не сразу. Мы оказались в зоне странного вакуума. Отступающих советских войск мы не видели. Находясь в сорока километрах от оружейного арсенала России - Тулы, мы были оставлены без боя. Две недели, когда мы были "ничьей" землей, мне вспоминаются, как самые страшные дни войны. И совсем не потому, что днем нас бомбили немцы, почему-то особенно старательно целившие в окрестные поля, где жители торопливо докапывали картошку, а ночами - свои (более прицельно - по поселку). А со стороны Тулы доносились звуки канонады, вечером зарево пожаров окрашивало на севере небо. Мой отец, прибывший однажды утром на работу к назначенному для эвакуации персонала времени, обнаружил, что шахта взорвана, а руководство отбыло на восток. Впрочем, я могу предположить, что отец опоздал преднамеренно, не желая оставить жену и нас с моей семилетней сестрой. Семьям место в транспорте было не положено. Отец был человеком ответственным и дисциплинированным: он по-бухгалтерски аккуратно закопал в землю сейф с документами уже не существующей шахты и вернулся домой. В эти дни выяснилось, что без властей (организованно эвакуировавшихся) многие жители поселка очень быстро начали терять человеческий облик. Буквально на третий день "безвластия" толпы бросились грабить магазины. Сначала - продовольственные. Вспоминаю ошарашившую меня картину: из орущей толпы, штурмующей продмаг, вырывается всклокоченная женщина, в задранном подоле которой насыпана груда колотых кусков сахара-рафинада. Опоздавшие к грабежу бросаются на нее, рассыпают сахар в грязь, дерутся за грязные куски… Через пару дней, когда продукты были уже разграблены, вспоминается безумно счастливое лицо мужика, несущего из хозяйственного магазина ящик… дверных ручек. А потом, как уже будничное, - растаскивание столов, стульев, тумбочек из школ, детского сада, контор, кроватей из Горпромуча - горно-промышленного училища, которое мы называли просто "Горпромычем"… После завершившегося погрома были дни тишины, нарушаемой ночными бомбежками. Однажды утром обнаружилось, что от двух двухэтажных домов через пустырь напротив нашего дома остался только угол одного из них с раскачивающейся как маятник кроватью, зацепившейся ножкой за оставшийся кусок междуэтажного перекрытия. Единственной "защитой" от вражеских бомб были бумажные полоски, крест накрест перечеркнувшие все стекла на оконных пролетах. А у нас в доме были дни торопливого сжигания газет и журналов. Накануне войны и в первые ее месяцы все издания, включая журнал "Мурзилка", изобиловали карикатурами на фашистских вождей, и хранить это до уже ожидаемого прохода немцев было опасно. Жгли даже детские книги, где немало было того, что могло не понравиться фашистам. Должен признаться в "мужественном и патриотичном" поступке. Книжку, где на обложке был изображен юный всадник в буденовке на игрушечном коне, и текст начинался словами "Нет счастливее меня, подарили мне коня", а кончался уверением - "К Буденному прискачу: с вами рядом быть хочу", я тайком от родителей спас от сожжения, спрятав в самое надежное, по моему пониманию, место - под диван. Нужно сказать, что мой очень патриотичный отец, как выяснилось позже, тоже пошел на отчаянный шаг, замуровав в стене портреты Сталина и Ворошилова, сочинения классиков марксизма и прочие чреватые опасностью архивы. Немцы спокойно въехали на своих машинах в наш поселок в ноябре 41-го. Помню, что день был морозный и солнечный. Машины оккупантов, прибытие которых мы испуганно рассматривали из окон, совсем были не похожи на привычные наши пятитонки, трехтонки и полуторки (иных в те времена не было). Немцы в едкозеленой форме вызывали страх, потому что еще до оккупации из газет было известно об их зверствах на захваченных территориях. Где-то утром на следующий день в нашу квартиру вошел первый немец. И я понял, что самое ненавистное мною занятие - натягивание чулка - ничто перед страхом смерти от рук врага. А враг… погладил меня, онемевшего от ужаса, по голове и ушел. Вероятно, визитер был квартирьером, потому что на следующий день одну из двух комнат нашей квартиры заняли сразу четыре немецких солдата. Началось то, что именуется оккупацией. Немцы, которые жили в нашей квартире, оказались совсем не страшными. Это были, вероятно, не бывавшие в боях тыловики, личный штат высокопоставленного офицера, поселившегося в соседней квартире. Среди "наших" немцев был маленького роста шумный солдатик - денщик офицера, высокий худощавый, вероятно, не очень здоровый шофер, и два других солдата, чьи функции я не запомнил. Похоже, что им довелось нести гарнизонную службу в оккупированной Польше, потому что моего отца они немедленно начали называть "пан", а маму - "матка". Сестру Лёлю переименовали в Лолу, а буква "ж" в начале моего имени им оказалась непосильной, и на период оккупации я оказался Шоршем (производное от Жоржа, где значатся такие же непонятные для немецкой фонетики буквы). Наши жильцы совсем не были похожи на боевых солдат. Их не очень ухоженные винтовки валялись по углам, и в отсутствие владельцев я с трудом взводил тугие затворы и щелкал курком. Что такое оккупация, людей, не переживших этого кошмара, сейчас представляют плохо . У захватчиков не было никаких забот о том, как и на что будут существовать жители оккупированных населенных пунктов. Наверное, легче было пережить те времена селянам, имевшим какие-то запасы. А у нас в шахтерском поселке жители оказались в пиковой ситуации. Какие-то скудные довоенные запасы в нашем доме быстро иссякли. Должен признаться, что я не помню на фоне многих голодных военных лет, как удалось выжить нашей семье в эти дни. Но за два месяца оккупации моя тридцатилетняя мама безболезненно вынула один за другим все зубы, выпавшие из-за цинги. Отец в то время в свои тридцать выглядел изможденным болезненным стариком, что, наверное, спасало его от лишнего внимания оккупантов. Понятно, как нелегко было ленинградцам с их 125-граммовым блокадным пайком, и тем нашим соотечественникам, которые питались баландой концлагерей, но и жителям оккупированных городов и поселков, формально остававшимся на свободе, пришлось испытать немало. Даже не могу понять, как выживали люди в тех городах, которые находились под немцами многие месяцы и даже - годы. Ведь любая работа на оккупированной территории трактовалась как «сотрудничество с врагом» и при освобождении каралась нещадно. Были в поселке люди, которые в эти дни не бедствовали. Под нами в нашем двухэтажном доме жила семья по фамилии Кривонос - муж с женой и пышногрудой дочерью. Глава семьи сразу пошел на службу оккупантам, приняв на себя обязанности и привилегии старосты поселка. Правда, мы не знали, в чем заключались его обязанности, к нам сосед не появлялся. Наша семья жила в постоянном голоде. У живших в нашей квартире немцев, похоже, просто не возникал вопрос: чем же питаются хозяева квартиры? Они приносили и вываливали в своей комнате буханки хлеба, черствеющие и плесневеющие. Из "фатерлянда" им приходили посылки с печеньем и плитками шоколада. Могу авторитетно подтвердить, что у шоколада, на фантиках которого были изображены упитанные коровы на фоне альпийского пейзажа, был изумительный запах. Вкус для меня остался неизвестным. Немцы были веселы и беззаботны и, выпив шнапса, дружно запевали шлягер тех времен "Лили Марлен", мелодию которого я хорошо запомнил, но в нашем российском эфире услышал только где-то в девяностых годах прошлого века. На Рождество оккупанты получили в посылках маленькие искусственные елочки, украшенные такими же искусственными мухоморчиками. Тогда они, наверное, единственный раз, сочли возможным налить "пану" рюмку шнапса, и, к ужасу мамы, изголодавшийся отец опьянел и запел песню: "Броня крепка и танки наши быстры…" Благо, что немцы не поняли слов и одобрительно поддерживали отца: "Гут, пан!" Информация о жизни поселка доходила только в виде слухов. Говорили о том, что семилетний мальчишка, катаясь на лыжах, нечаянно порвал телефонный провод, и был повешен на металлическом крюке для мясных туш. Рассказывали о юной комсомолке Кате, которая быстро наладила тесные контакты с немецким офицером, владеющим русским языком, и по ее "наводке" влюбленная пара навещала квартиры наиболее обеспеченных жителей (Катя знала, к кому идти) и офицер предлагал: "Бери, что хочешь". И Катя, в присутствии хозяев, рылась в комодах, выбирая все, что нравилось. Отец старался не выходить из квартиры. У него были основания не показываться на глаза, Мне это стало понятно лет пятнадцать спустя, когда после смерти Сталина отцу было предложено "восстановить прерванный войной кандидатский стаж в ВКП(б)". Кандидатом в члены партии отец стал после возвращения с финской войны. Просто чудом было то, что никто не сообщил это оккупантам. Сиротство нам тогда было бы гарантировано. Лишь однажды отец решился навестить одного из коллег по работе. Вернулся очень быстро и в совершенно подавленном настроении. Сообщил, что застал семью давнего приятеля за столом, где были белый хлеб, масло и прочая снедь. Одна обязанность вынуждала родителей ежедневно выходить из дома, оставляя нас с семилетней сестрой одних. Водопровод в поселке с самого начала оккупации вышел из строя. И за водой нужно было ходить на единственный колодец в соседнюю деревню. Воды в колодце просто не хватало - нужно было опередить сотни желающих наполнить ведра. Когда однажды родители решили пойти по воду в семь утра (именно в это время кончался объявленный комендантский час), у колодца их встретила автоматная очередь, направленная прямо в них. Вместе с двумя другими жителями поселка родители упали в снег и лежали до рассвета. Только позже выяснилось, что комендантский час нужно определять не по московскому, а по берлинскому времени. Нарушителей комендантского часа убивали без всяких выяснений. В те дни не редкостью по утрам на улицах были трупы знакомых и незнакомых людей. Я в дни оккупации почти не бывал на улице, хотя мама, озабоченная не слишком здоровым видом детей, пыталась иногда отправить нас на улицу. Я был трус. А по улице бегали немецкие овчарки (до войны их в поселке не было). И, высунувшись из подъезда, увидев это олицетворение оккупации, я в страхе бежал на свой второй этаж. Офицера из соседней квартиры я видел один раз. "Наши" немцы вдруг сделали то, чем до этого не занимались ни разу, - навели в комнате идеальный порядок. Установили на комоде большой радиоприемник. Я к тому времени не очень боялся жильцов и вышел в их комнату. Вошел офицер - упитанный, одетый с иголочки рыжеватый голубоглазый ариец. Сел на тот самый диван, под которым была спрятана моя патриотическая книжка, взял меня на колени, но быстро сбросил и вскочил, вытянувшись во фрунт. Денщик торопливо вытащил меня в нашу комнату и, многозначительно указав на нас с сестрой, предупредил маму: "Матка! Т-с-с! Фюрер!" Можно предположить, что это была известная речь по радио Гитлера, которую он произнес накануне нашего контрнаступления под Москвой. Подтверждением этого стало и то, что наши жильцы через несколько дней явно начали собираться в дорогу: "В Орел, на отдых", - объясняли они. Но люди в поселке уже догадывались о причине отъезда и жили в состоянии тревожных надежд. Заволновались и наши нижние соседи. Староста с женой нанесли визит и сообщили, что «вынуждены уехать», просили в обмен на картошку, которая, якобы, есть у них в погребе в сарае, получить хорошую одежду. Обмен показался сказочно заманчивым, и лучшие мамины вещи стали собственностью пышногрудой девицы и ее родительницы. Вместе с кандидатами на «отдых в Орле» они отбыли на запад. Именно тогда на белом снегу после ночных налетов появлялись листовки, подписанные организацией "Свободная Германия", призывающие оккупантов сдаваться. Такая листовка стараниями моего отца сохранилась в нашем семейном архиве. Освобождали нас с боем. В один из январских дней в нашу квартиру ворвались новые постояльцы - пять немцев-фронтовиков. Битых, злых и вшивых до безобразия. Они расселись вокруг стола, сняли гимнастерки и рубахи, кишащие серой массой насекомых, и начали давить их рукоятками пистолетов прямо на столе. Почему-то четверо "гостей" очень плохо относились к пятому, который молча сидел с опущенной головой в углу и терпеливо выслушивал гневные окрики сотоварищей. В первую же ночь, кто-то вбежал в комнату, что-то крикнул по-немецки и пятерка солдат, схватив оружие, спешно покинула квартиру. Ночь прошла под звуки канонады. Из соседней деревни через крыши наших домов била немецкая артиллерия. Мы сидели в полной темноте и, отодвинув плотные шторы светомаскировки, смотрели как трассируют в небе снаряды. Именно эта ночь стала подтверждением, что были в поселке люди, не просто сохранившие человеческий облик, но и готовые на риск на грани подвига. В течение всех дней оккупации в курсе событий нас держала одна хорошо знакомая женщина. Она бывала у нас и в довоенные дни, как лицо официальное, возможно, - работник жилищной конторы или поселкового совета. И считала себя обязанной продолжать свою деятельность. (Сейчас мне уже не у кого узнать ее имя и должность). В последнюю ночь оккупации она, рискуя быть убитой (комендантский час!), прибежала к нам (и, конечно, не только к нам) и предупредила: "Не спите! Немцы жгут поселок". Мы с сестрой были немедленно одеты во все, что можно было натянуть, обуты в валенки, закутаны платками и уложены на пол, так, чтобы, в случае взрывов, оконные стекла нам были не страшны. Немцы в эту ночь покидали поселок. И поджоги были не "плановыми". Просто возле многих домов стояла неисправная техника, которую поджигали, не заботясь о том, что огонь перекинется на дома. Утром выяснилось, что сгорела больница, из двух школ - "красной" (кирпичной) и "белой" (штукатуренной) - осталась только красная. "Горпромыч" стоял выгоревший с обрушенной стеной. И в этот же день оккупации пришел конец. В поселок ворвались конники из знаменитого Первого кавалерийского корпуса генерала Белова. К нам в квартиру на ночлег пришли человек пятнадцать бойцов, которые по сравнению с немцами в их шинелях и эрзац-валенках (сапогах, с голенищами, обернутыми слоем войлока) казались сказочными богатырями, одетыми в полушубки, ушанки, валенки, меховые трехпалые рукавицы. Кавалеристы были веселы, как и положено участникам первого сокрушительного разгрома врага, и… голодны. Обозники еще не научились успевать за стремительным наступлением. Попытка родителей накормить освободителей выменянной у старосты картошкой окончилась неудачей: на небольшое количество желанного корнеплода, найденного в сарае старосты, оказалось еще несколько претендентов. Нам досталось ровно столько штук, сколько бойцов пришло на ночлег. Только утром примчалась полевая кухня с замерзшим в лед гороховым супом. Каждому из кавалеристов досталось по куску этого льда, а попытка растопить суп на примусе не удалась - поступил приказ продолжать наступление. Первые дни после освобождения были полны неразберихой. Первой властью в поселке стали "особисты", которые немедленно увели куда-то всех работоспособных (таких, говорят, оказалось пятнадцать) мужчин. В том числе и нашего отца. Он вернулся только через сутки, оказавшись в числе двух отпущенных. Судьба всех остальных мне неизвестна, но тот коллега отца, евший в дни оккупации белый хлеб с маслом, получил "за сотрудничество с врагом" в те годы популярную меру наказания "десять лет без права переписки", и, естественно, больше никогда в семью не вернулся. А отец получил приказ: немедленно в военкомат! Военкомат был в сорока километрах. В Туле. Моя мама, у которой были золотые руки портнихи, нашла плотную ткань, за ночь сшила походный рюкзак с кучей карманчиков и отправила мужа на войну. Пешком. Транспорта не было. Как рассказывал позже отец, усталый тульский военком отругал еле доковылявшего изголодавшего "призывника" и велел возвращаться обратно, приступать к работе на шахте. Где-то на обратном пути в одной из деревень отец попытался заглушить голод обильным питьем, и с ним случилось то, что известно в народе, - отнялись ноги. С трудом отлежался и добрался домой. Работать было негде. Шахты взорваны. И первой стала работа в районном центре (благо, начал ходить пригородный поезд), где собралось руководство угольного треста. Потом спешно была восстановлена одна из шахт возле нашего поселка… На прогулку я уже ходил без опаски. Правда, со строгим родительским наказом: все найденные боеприпасы немедленно отдавать первому попавшемуся военному. Предупреждение было не напрасным: я выцарапывал из снега горсти и обоймы патронов, сигнальные ракеты в алюминиевых корпусах и, будучи послушным ребенком, бегал в поисках людей в военной форме, чтобы отдать им боевые трофеи. В первые дни после освобождения прибежала к нам младшая сестра отца, тетя Люба - красавица и умница, 22 июня в 41-м закончившая среднюю школу с золотой медалью, жившая вместе с бабушкой в деревне в нескольких километрах от нас. Принесла полмешка драгоценной картошки и сообщила, что уходит добровольцем на фронт. Снабжение налаживалось медленно. Сначала всем выдавали хлеб, выпеченный из зерна, набранного в бункерах сгоревшего элеватора, он был цвета угля и хрустел на зубах. Выяснилось, что в ходе наступления наших войск, на окрестных полях остались убитые кавалерийские кони. Знакомые подарили нам заднюю ногу конины. Когда желанное мясо пытались разварить, приходилось добрых два часа снимать с бульона грязную пену. Но жесткое мясо казалось лакомством. Из нашего двухэтажного дома мы переселились тогда в другой - одноэтажный, четырехквартирный. Собиралась компания ровесников. В среде друзей была полная коллекция военных судеб. У Вовки Русанова, живущего в соседней квартире, отца оккупанты забили насмерть. Виной рабочего-шахтера было его членство в ВКП(б). У Вальки Берлиной отец пропал без вести на фронте - самое тяжкое, что можно было придумать, - есть надежда, но нет никакого пособия на проживание. Славка Ляхов был сыном того самого коллеги отца, который не вернулся после общения с "особистами". Красивая худенькая девочка Соня, фамилию которой я не запомнил, очень быстро покинула нашу компанию. "Приходите проститься с моей дочкой", - пригласила нас ее грустная мама. И мы ходили провожать маленький гробик, в котором лежала с лицом белым, как лист бумаги, умершая от туберкулеза подружка. Где-то весной, когда проклюнулась первая зелень, во мне проснулось то, что, наверное, можно назвать генетической памятью, унаследованной от хвостатых предков. Я четко знал, что из зеленых побегов можно есть. Часами сидел на окраине поселка на лужайке и упоенно ел очищенные стебли, сочные побеги растений, названий которых я не знал и не знаю до сих пор. ( Я и сейчас нахожу по весне некоторые из знакомых побегов в парках Петрозаводска и, когда нет свидетелей, рву и ем их с тем же удовольствием, что и в 42-м). Жилых домов в нашем поселке было уничтожено немного. Но клуб был приведен в негодность: в нем оккупанты расположили конюшню. Мы лазили под остатками сцены и извлекали гулкие звуки из разломанного рояля. Наши игры всегда были связаны с войной. Мы изучали остовы сгоревших фашистских машин и пытались определить, какая из покрытых окалиной кнопок должна была превратить машину в "душегубку". Игры прерывались иногда налетами немецких бомбардировщиков. Каждый из нас тогда безошибочно мог по звуку моторов определить не только то, что летит не "наш", но и точно сказать "фокер" или "мессер" приближается к поселку. Мы их боялись не очень. Нам казалось, что их главной целью были зенитные позиции. Возможно, так оно и было. Девушки-зенитчицы с правилами камуфляжа, похоже, были знакомы плохо. Их четырехствольные зенитные пулеметы были расположены посреди хлебных полей, и были идеальной мишенью. После первых же выстрелов девчонки в военной форме бросались врассыпную в спасительную, как им казалось, рожь. А бомбы ложились на железную дорогу, проходившую в нескольких километрах от нас. Мы же, когда затихали взрывы, спокойно продолжали игры. Фронт был от нас близок. Чуть больше сотни километров. Иногда прилетевший немецкий самолет сбрасывал не бомбы, а листовки. Помню текст одной из них: "Русь! Не трусь, в апреле вернусь - оставлю собаку и кошку!" Наверное, ни у кого подлинник листовки не сохранился: хранить подобный документ было безумием. В апреле 42-го немцы не вернулись. Но строжайшая светомаскировка сохранялась и строго контролировалась. Малейшая оплошность в виде пробивающегося лучика от тусклой шахтерской лампы (электричества после освобождения долго не было) могла быть истолкована, как сигнал врагу. Со всеми вытекающими последствиями. Летом в поселке появились военные и начали торопливо строить из серых шлакоблоков большой ангар. Как только над зданием появилась крыша, в широкую дверь начали въезжать непонятные машины с зачехленным верхом. Вскоре поползли слухи, передаваемые обязательным шепотом, - "Катюши". Грозное, уже прославленное, но никому не знакомое по внешности, оружие прибывало в наш поселок после боев для ремонта. Чехлы с секретного оружия снимали только в шлакоблочном цеху, но с любопытством мальчишек не сравнится никакая разведка, и вскоре мы с разочарованием сообщали друг другу, что у легендарного орудия вместо рисовавшихся в воображении могучих стволов оказались какието "рельсы". Примерным мальчиком по отношению к найденным боеприпасам я уже не был. А число найденных патронов, ракет, и даже минометных снарядов не уменьшалось. В числе любимых игр была такая: в бревно камнем забивался боевой винтовочный патрон, потом на капсюль ставился острый гвоздь и после удара по нему камнем пуля прошивала бревно насквозь. Найденную мину мы пытались взорвать в костре, и много раз подбегали посмотреть, почему это боеприпас не хочет взрываться. Слава Богу, не взорвался. Но это мы оказались везучими. В поселке было немало мальчишек с оторванными руками и ногами. А найденную могучую гранату Ф-2 я прятал и перепрятывал от отца аж до конца сороковых годов, когда он нашел ее и куда-то дел. Осень 42-го была такой же голодной, как весна и лето. Но на колхозных полях созрел урожай хлебов. И у поселковых жителей появился новый промысел. Нет, никто и помыслить не мог о том, чтобы покушаться на нетронутый урожай. За это неизбежно последовал бы большой срок заключения. Но после уборки, как бы тщательно ее не проводили, на поле все же оставались отдельные колоски. Но и их, под страхом суда, было собирать запрещено. Мы, малыши все же рисковали пробежаться по краю хлебного поля, чтобы набрать по маленькому мешочку колосков. Потом зернышки выбирались, варилась каша, которая становилась сказочно вкусной после суточного держания в духовке. Сбор колосков был опасен, в колхозах в те времена была введена особая профессия "объездчик", которая доставалась парням предпризывного возраста. Они "патрулировали" поля, нещадно избивая кнутами нелегальных сборщиков. Я только однажды "попался", но парень примчавшийся на коне, посмотрел на похолодевшего от страха шестилетнего мальчишку, крикнул что-то нарочито грозное и умчался дальше. Отец у меня был не только патриотом, но и романтиком. Освобождение от призыва тяготило его. И однажды он решился написать письмо самом Сталину. В стихах. Я помню это послание наизусть до сих пор. Хочу быть летчиком военным, Чтоб в дни решающей войны Мстить беспощадно гадинам презренным За их разбой, за кровь моей страны. Надеюсь я, услышит Вождь народа И мне доверит грозный самолет. И я клянусь, из голубого свода Мой самолет до тех пор не уйдет, Пока не будет нечисть вся сметёна Далёко от границ земли моей, И снова красные советские знамёна Торжественно развеются над ней. А если самолет мой будет поврежден В бою с врагом, тогда я ринусь смело И так умру, как умер он, Советский лётчик капитан Гастелло. Спустя какое-то время на это послание пришел ответ из Главного управления обучения, формирования и укомплектования ВВС Красной Армии. Этот документ сейчас хранится у меня и есть возможность процитировать его полностью. «В ответ на Ваше письмо сообщаю, что удовлетворить Вашу просьбу не представляется возможным, так как Вы не подходите по возрасту. Капитан Семенихин» Главной общей радостью 42-го года стал, конечно, Сталинград. Все наизусть знали и пересказывали друг другу новость: 22 дивизии, 330 тысяч солдат - число немцев, оказавшихся в кольце окружения. После грандиозной победы под Сталинградом изменилось освещение событий войны в газетах. На смену очень мелкому заголовку "От Советского Информбюро. Оперативная сводка от…" пришел новый, более бодрый - "В последний час". А у нас существенных перемен не было. Фронт по-прежнему был где-то у того самого городка Мценска, с которого начались наши тревоги в 41-м. Сорок третий год долго оставлял нас в постоянной опаске: налеты, строгая светомаскировка. И ничтожная норма хлеба - 300 граммов на ребенка. Лишь в конце лета стало ясно, что тревожное затишье должно закончиться. Однажды вечером, когда мы всей семьей сидели вокруг тусклой шахтерской лампы, с улицы послышался рокот. Слегка затихал и снова нарастал. И так час, потом другой… Пришлось идти в темноте на разведку. И обнаружилось, что по дороге метрах в двухстах от нашего дома непрерывным потоком идут танки. Тайное передвижение техники продолжилось на следующую ночь. И на следующую. Поселок находился в десятке километров в стороне от автострады, ныне именуемой "Крым", проходящей от Москвы через Тулу, Орел, Курск… Танковые колонны скрытно продвигались по второстепенным дорогам. Мощеная известняком улочка нашего поселка в эти ночи была перемолота в пыль. А в пасмурную погоду на бреющем полете в том же направлении, что и танки, - на юг летели эскадрильи самолетов с красными звездами. Южнее нас был Орел. В середине июля та же народная молва поведала, что там идут бои. А 5 августа вместо заголовка "В последний час" в газетах появился новый, набранный крупным курсивом: "Приказ Верховного главнокомандующего". Мы узнали, что город Орел взят! Впервые в сообщении значились слова: "В ознаменование победы приказываю произвести в столице нашей Родины Москве салют двенадцатью артиллерийскими залпами из 124 орудий". За несколько дней фронт отодвинулся от нас еще на полторы сотни километров. Прекратились налеты вражеских самолетов. А мы с отцом снова обратились к нашей висящей на стене карте, отмечая красными флажками каждый освобожденный населенный пункт. Первого сентября я совершил серьезный самостоятельный поступок. Родители ранним утром уехали по делам на день в Тулу. Я же, никого не спрашивая, взял в руки чистый бухгалтерский бланк с напечатанными поверху словами "Дебет" и "Кредит" и простой карандаш, и вместе со старшей сестрой пошел в уцелевшую после оккупации "красную" школу. В те годы в первый класс принимали с восьми лет. Но я выглядел, наверное, достаточно взросло, и в числе нескольких не значащихся в списках детишек я был определен в первоклассники и стал учеником 1 "А" класса. Разоблачен я был месяца через полтора, когда учительница начала нам объяснять, что в измочаленном букваре (один выдавался на семь человек) на картинке изображены дети, несущие транспарант с надписью: "Нам 8 лет, мы идем в школу". И я простодушно признался, что мне еще не восемь. Пока в школе решали, отчислять ли малыша, бегло читающего и считающего, подоспел спасительный перевод моего отца с уже выработавшейся шахты на работу в другой город Узловая - в полусотне километров от нашего поселка. Там я появился в школе №26, как законно переведенный, в связи со сменой места жительства. Странное название города имело простое объяснение: здесь была крупная узловая станция, через которую шли поезда и на Москву, и на Сталинград, и в тыловой Восток страны. Именно поэтому город был объектом яростных немецких бомбардировок, которые к нашему прибытию уже прекратились и напоминанием о них были только руины зданий. Мы с одноклассниками вдохновенно лазили по развалинам вокзала и сгоревших складов, выискивая всякие диковинки, вроде причудливых фигур из расплавленного пожаром стекла. В школе дыхание войны чувствовалось во всем. Уже с первого класса преподавалось "военное дело". Вели его, сменяя друг друга, люди в военной форме без знаков отличия, но со следами ранений. Учить другим предметам было нелегко. Учебники довоенного выпуска, истрепанные до невозможности, выдавались по одному на несколько человек. Наше любопытство вызывало то, что в некоторых из них были страницы с заклеенными бумагой портретами. Мы старались аккуратно содрать бумагу и читали незнакомые для нас фамилии Блюхер, Тухачевский, Егоров - маршалов, расстрелянных в конце тридцатых. Тетрадей не было совсем. Свои каракули первоклассники выводили прямо по тексту брошюр с регулярно издаваемыми на серой газетной бумаге Приказами Верховного главнокомандующего. Школа брала на себя посильную заботу о здоровье школьников. Хоть и скудненький, завтрак был в школьной столовой ежедневно. По этой причине в то время мысль прогулять занятия просто не могла возникнуть. Многие школьники ходили тогда на станцию или к пекарне в надежде, что где-нибудь перепадет жесткий как камень кусочек жмыха, который пахнул, как "довоенная" халва. И целый день вгрызались в твердое как камень лакомство. Наиболее ослабленных школьников в дни зимних каникул направляли на "оздоровительную площадку". Под руководством пионервожатой счастливчики проводили день в школе, где были и песни, и чтение книг, но - главное - сытный обед, где в меню могли оказаться даже мандарины. Мне это знакомо, потому что в канун одних из каникул врачи определили, что малокровие (которым страдали все) у меня достигло опасного предела. А еще всю школу периодически водили в баню. Вся одежда в предбаннике развешивалась на специальные крюки и отправлялась в "прожарку". Нынешнее благородное слово "педикулез" тогда именовалось просто вшивостью. Паразиты одолевали прически девочек. А нам, мальчишкам, обязательно остриженным наголо, не удавалось избежать ныне забытых платяных вшей. В бане удавалось на время получить передышку. Мы росли патриотами. Во втором классе, когда стали пионерами, нашей дружинной была песня с текстом сочиненным на мотив кавалерийского марша: В дни войны с фашистами стали мы взрослее, Не беда, что малы по летам, Но работу всякую сделать мы сумеем, Только, чтоб помочь родным большевикам Дети Сталина в дни военные Помним мы традиции отцов. Руки детские честь советскую Защитить помогут от врагов. Сбор металлолома был и добровольным, и обязательным. У меня до сих пор хранится открытка с стихотворным призывом: Запомни, пионер, что собранный тобой Железный лом, любой, Вплоть до консервной рваной банки, Заводы превратят в снаряды, пушки, танки. С наступлением весны мы пионерским отрядом отправлялись на сбор лекарственных трав. Каждый хорошо знал, какие из них станут лекарством для госпиталей. И все тихонько гордились своим вкладом в победу. Процветала в школе художественная самодеятельность. По всем красным датам проходили большие концерты. Появлялись на каждом из них новые номера. Но два номера были неизменными. Сначала выходил мой одноклассник Мишка Герштейн и, выпятив губы квадратным рупором, неожиданным для его возраста, почти левитановским голосом оглашал зал: Вздумал враг отнять у нас свободу, Задушить великую страну, И пришлось советскому народу Грудью встретить грозную войну… А потом выходили девочки в матросских костюмчиках и, танцуя, пели, сопровождая песню жестами: Ходят волны кругом вот такие, Вот такие большие, как дом. Мы, бесстрашные волки морские Смело в бурное море плывем. Якоря мы поднимем вот так. Паруса мы поставим вот так. Веселее, моряк, веселее моряк, Делай так и вот так, и вот так… Свободное от школы время мы с моим лучшим другом Юркой Синевым проводили с фантазией. Местом досуга была, конечно же, железная дорога. Мы с отчаянным риском цеплялись за подножки товарных вагонов, которые разгонял по путям маневровый паровоз, и добрый километр мчались навстречу ветру. Становились мы свидетелями того, чем жила узловая станция. С запада прибывали платформы, загруженные обожженными немецкими винтовками для переплавки на Урале. Были и наблюдения, которые стали понятными годы спустя. В одном из эшелонов ехали люди в необычной военной форме с четырехугольными фуражками. Теперь уже ясно, что это были солдаты Войска Польского в своих "конфедератках". Видели мы и пассажиров теплушек, которые так и остались мне непонятными. Однажды на запасных путях на сутки застрял состав, в котором ехали сотни людей, взрослые и дети, одетые явно не по-нашему, но говорившие по-русски. Попытки выяснить у ровесников, кто они и откуда результата не дали. И совсем загадкой осталось одно наблюдение. В довольно холодное время года на станции остановился состав. Сквозь дверь одной из теплушек, широко распахнутую, было видно, что вагон чуть ли не битком наполнен молодыми, нарядно, но не по сезону легко одетыми женщинами. Они выгрузили из вагона два несгибающихся окоченевших трупа таких же молодых и таких же нарядных женщин. До сих пор не могу понять, свидетелями какой трагедии мы были. А наша семья в зиму 43-44 годов оказалась на грани большой беды. Тяжело заболел отец. На угольных шахтах регулярно проходили "дни ударной добычи", когда под землю спускались все конторские служащие. После дня тяжелой работы в забое разгоряченный отец жестоко простудился на морозе. Диагноз был для военного времени, как смертный приговор, - двустороннее крупозное воспаление легких. Беда усугублялась тем, что все лучшие врачи были на фронте, и приходившая к нам заведующая поликлиникой только беспомощно разводила руками. Спас отца (отчаянного трудоголика) его авторитет на работе. Коллеги обежали все возможные инстанции и добились невозможного: квалифицированный врач нашелся. За колючей проволокой. Симпатичного и интеллигентного доктора приводили из "зоны" сначала под охраной, а потом просто отпускали под честное слово. И доктор совершил чудо. В очередной раз нам удалось избежать сиротства. Тревоги в городке были связаны не только с войной. Летом 44-го вся наша Первая Садовая улица была взбудоражена убийством молодой женщины, проживавшей через два дома от нас. Тогда впервые прозвучали слова «Черная кошка». Эта банда, известная всем по телесериалу, действовала не только в столице. Свое название она получила совсем не за страсть к рисованию кошки. Но создатели сериала справедливо не пожелали раскрывать прием бандитов. И я последую их примеру… Чем дальше уходил на запад фронт, тем заметнее улучшалась жизнь в тылу. С 300 граммов на школьника хлебная норма увеличилась до 400. Нашей с сестрой обязанностью было ежедневно ходить в магазин "отоваривать" хлебные карточки. Возвращались мы с буханкой, все углы которой были ощипаны - утерпеть, чтобы не откусить хоть маленький (а за ним другой) кусочек аппетитно пахнущего хлеба было невозможно. "Чтоб потерял ты карточки на хлеб!" - было в то время самым злым пожеланием недругу. Однажды мы с сестрой таки потеряли драгоценные карточки. В начале месяца! И отчаянию не было предела. Но нашлись добрые люди, которые, найдя карточки, поняли, какая беда ждет нашу семью, и отнесли находку в магазин, где карточки отдали нашей маме. Впрочем, и в это время не все жили одинаково. Подруга моей сестры Лидка приглашала нас домой, вытаскивала из под кровати чемодан и раскрывала его. Чемодан был доверху набит деньгами. Принадлежал чемодан Лидкиному отчиму, дяде Ване - начальнику того самого лагеря, откуда приходил к нам врач - спаситель отца. Небольшой поддержкой к концу войны стала американская помощь. Свиная тушенка, яичный порошок, маргарин нет-нет да и перепадали в семьи. Правда, поговаривали, что тушенка - не из свинины, а порошок - из черепашьих яиц и маргарин - из нефти, но есть продукты никто не отказывался. Прибывала и гуманитарная помощь из Штатов. Нынешняя "гуманитарка" и "хендаки" - точное повторение картины тех лет. В третий класс я пошел в американском костюмчике, выкопанном из груды тряпья. До этого я донашивал латануюперелатанную довоенную одежду. Правда, были в моем "гардеробе" и предметы гордости. Моя умелая мама сшила мне "настоящий стеганый ватник", а отец одноклассника Юрки Найденова, сапожник за умеренные деньги стачал мне настоящие(!) кирзовые сапоги. Рядом с оборванными одноклассниками я выглядел пижоном. Война уходила все дальше. Вести от маминой родни из Архангельска приходили безрадостные: ее братья Федор и Петр так и значились с 41-го года в пропавших без вести. А потом пришла и горькая весть: младший мамин брат, всеобщий любимец Александр, ушедший из девятого класса в пулеметную школу, через полгода в звании младшего лейтенанта погиб чуть ли не в первом бою под Ленинградом. В том, что победа будет за нами на протяжении всех военных лет сомнений не было. По крайней мере, среди тех людей, которые были рядом с нами. Вопрос был один: скоро ли? Осенью 44-го у нашей пионерской дружины сменилась любимая песня. В сотни голосов мы восторженно пели: Где ж вы, где ж вы, где ж вы, очи карие, Где ж ты мой родимый край? Впереди страна Болгария, Позади река Дунай… Красные флажки перестали помещаться на нашей карте, границы которой лишь немного захватили западные сопредельные территории. И мы уже по газетным сообщениям с волнением следили, как продвигаются наши войска к Берлину. С каждым значимым успехом наших войск росло число залпов и количество орудий в победных салютах. Мы уже гадали: сколько залпов и орудий ознаменуют взятие Берлина. Как мне помнится, угадали точно - 30 артиллерийских залпов из тысячи орудий. Но даже после падения немецкой столицы никто не решался назвать дату наступления мира. А вестником мира в нашем городе стал неизвестный всадник, который в ночь с 8-го на 9-е мая промчался по улицам с криками: "Победа! Победа!.." Была потом радость возвращения домой солдат-победителей. Она коснулась и нашей семьи. Выяснилось, что дядя Федя и дядя Петя, попавшие в немецкий плен 22 июня 41-го, сумели сбежать из фашистских лагерей и всю войну партизанили - один в Белоруссии, другой на Украине. И в составе партизанских соединений дошли до Праги. Тетя Люба, ефрейтор авиации в 46-м году прислала мне на десятилетие поздравительную открытку с альпийским пейзажем из Германии. Дядю Петю, заехавшего к нам по пути домой, моя мама, его родная сестра не узнала: вместо ушедшего в 41-м в армию красавца с пышной шевелюрой зашел немолодой, наголо облысевший человек. Стране было тяжело еще многие годы. Не хватало рук для восстановления разрухи. И сытой страна не была еще многие годы. Когда летом 46-го нас с сестрой повезли в гости к бабушке и деду в деревню под Архангельск, на станции Исакогорка я не мог самостоятельно выйти из вагона. Хорошо помню самые тяжелые 47-й и 48-й, когда из-за небывалого неурожая в центральной полосе России чуть ли не целые деревни вымирали от голода. Эту беду тоже усугубила война - села остались почти без мужиков. В наш поселок приходили худые, как скелеты селянки за подаянием. Мы на сей раз оказались в более выгодном положении, худо-бедно, но у горожан в магазины хлеб завозили, за которым приходилось выстаивать многочасовые очереди. Правда, и сами горожане, как археологи, перекапывали руками окрестные поля, выискивая прошлогодние полусгнившие картофелины, из которых пекли синеватого цвета лепешки, прозванные «кавардашками» или «тошнотиками». У меня впечатление, что по-настоящему сытым я почувствовал себя только где-то году в пятидесятом. Кстати, до этого года я почти не рос. И голодные обмороки были будничным явлением. В восьмом классе я достиг в высоту всего156 сантиметров. А в десятом был… самым высоким в школе. Наверстал упущенное. Думаю, моя судьба в годы войны была все же более благополучной, чем у многих моих ровесников. Но до сих пор я не могу спокойно смотреть на брошенный кем-то недоеденный кусок хлеба. Евгений Давыдов, журналист