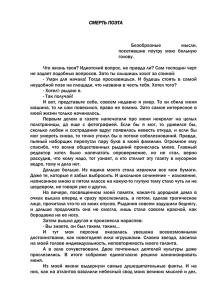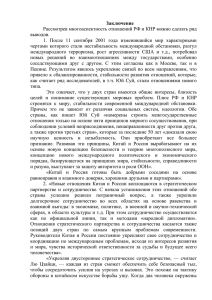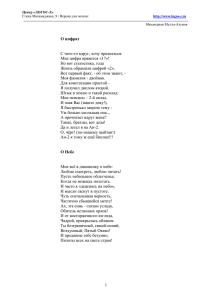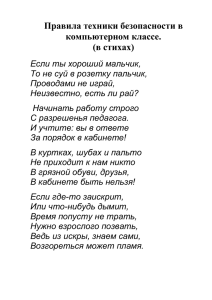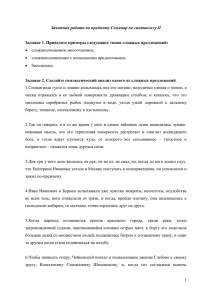Край непуганых лохов
advertisement
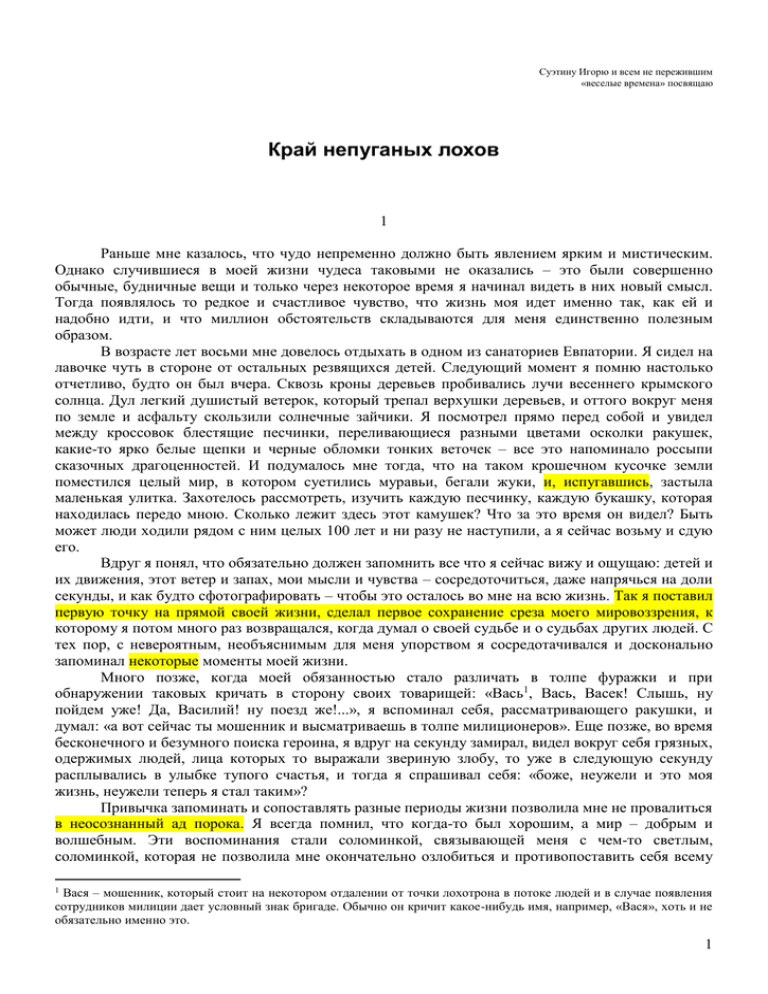
Суэтину Игорю и всем не пережившим «веселые времена» посвящаю Край непуганых лохов 1 Раньше мне казалось, что чудо непременно должно быть явлением ярким и мистическим. Однако случившиеся в моей жизни чудеса таковыми не оказались – это были совершенно обычные, будничные вещи и только через некоторое время я начинал видеть в них новый смысл. Тогда появлялось то редкое и счастливое чувство, что жизнь моя идет именно так, как ей и надобно идти, и что миллион обстоятельств складываются для меня единственно полезным образом. В возрасте лет восьми мне довелось отдыхать в одном из санаториев Евпатории. Я сидел на лавочке чуть в стороне от остальных резвящихся детей. Следующий момент я помню настолько отчетливо, будто он был вчера. Сквозь кроны деревьев пробивались лучи весеннего крымского солнца. Дул легкий душистый ветерок, который трепал верхушки деревьев, и оттого вокруг меня по земле и асфальту скользили солнечные зайчики. Я посмотрел прямо перед собой и увидел между кроссовок блестящие песчинки, переливающиеся разными цветами осколки ракушек, какие-то ярко белые щепки и черные обломки тонких веточек – все это напоминало россыпи сказочных драгоценностей. И подумалось мне тогда, что на таком крошечном кусочке земли поместился целый мир, в котором суетились муравьи, бегали жуки, и, испугавшись, застыла маленькая улитка. Захотелось рассмотреть, изучить каждую песчинку, каждую букашку, которая находилась передо мною. Сколько лежит здесь этот камушек? Что за это время он видел? Быть может люди ходили рядом с ним целых 100 лет и ни разу не наступили, а я сейчас возьму и сдую его. Вдруг я понял, что обязательно должен запомнить все что я сейчас вижу и ощущаю: детей и их движения, этот ветер и запах, мои мысли и чувства – сосредоточиться, даже напрячься на доли секунды, и как будто сфотографировать – чтобы это осталось во мне на всю жизнь. Так я поставил первую точку на прямой своей жизни, сделал первое сохранение среза моего мировоззрения, к которому я потом много раз возвращался, когда думал о своей судьбе и о судьбах других людей. С тех пор, с невероятным, необъяснимым для меня упорством я сосредотачивался и досконально запоминал некоторые моменты моей жизни. Много позже, когда моей обязанностью стало различать в толпе фуражки и при обнаружении таковых кричать в сторону своих товарищей: «Вась1, Вась, Васек! Слышь, ну пойдем уже! Да, Василий! ну поезд же!...», я вспоминал себя, рассматривающего ракушки, и думал: «а вот сейчас ты мошенник и высматриваешь в толпе милиционеров». Еще позже, во время бесконечного и безумного поиска героина, я вдруг на секунду замирал, видел вокруг себя грязных, одержимых людей, лица которых то выражали звериную злобу, то уже в следующую секунду расплывались в улыбке тупого счастья, и тогда я спрашивал себя: «боже, неужели и это моя жизнь, неужели теперь я стал таким»? Привычка запоминать и сопоставлять разные периоды жизни позволила мне не провалиться в неосознанный ад порока. Я всегда помнил, что когда-то был хорошим, а мир – добрым и волшебным. Эти воспоминания стали соломинкой, связывающей меня с чем-то светлым, соломинкой, которая не позволила мне окончательно озлобиться и противопоставить себя всему Вася – мошенник, который стоит на некотором отдалении от точки лохотрона в потоке людей и в случае появления сотрудников милиции дает условный знак бригаде. Обычно он кричит какое-нибудь имя, например, «Вася», хоть и не обязательно именно это. 1 1 миру. Наконец, когда я задумал повесть и вооружился фразой М. Горького «каждый человек может написать одну очень интересную книгу - книгу о своей жизни», оказалось, что большая часть работы уже выполнена – материал собран и сохранен в моей памяти. Откуда в возрасте восьми лет в моей, обычно, не расчесанной головушке могла появиться такая мудрая мысль? Конечно, тогда я не мог знать зачем мне запоминать, да еще с такой утомительной тщательностью, окружающий мир и себя в нем. Эта мысль оказалась в моем сознании сама собою, независимо от моего разума и опыта. Некоторые люди рассказывали мне, что, порой, в сложных ситуациях они уже были близки к помешательству, но не могли разобраться, как им поступить. Вдруг наступал покой, и в голове появлялась совершенно новое и простое решение, никак не связанное с прошлыми путаными мыслями. Более того – единственно верное решение, которое часто становилось спасением человека от гибели или больших неприятностей. Подобное происходит со многими людьми, но не все они столь внимательны, чтобы увидеть здесь настоящее, я бы даже сказал, большое чудо, чтобы понять, что хоть эту мысль они раньше нигде не слышали, и о ней не читали, и хоть она родилась в их голове, им она все равно не принадлежит. 2 В школе меня не любили, как обычно не любят детей эгоцентричных, капризных и глупых. Своею чрезмерной любовью родители сыграли со мной злую шутку. Я был искренне уверен: все, что я вижу, существует для меня. Все эти люди созданы для того, чтобы наперегонки делать мне приятно, этот дом построен, чтобы я смог в него прийти, учителя стали таковыми, чтобы научить знаниям именно меня, а класс был набран, чтобы на занятиях мне не бывало скучно. Рядом с родителями мир был интересным и понятным, наполненный любовью и всевозможными радостями. Однако мое воспитание продолжили одноклассники. Они с невероятным упорством показывали, что в мире существует и боль, боль которую могут причинять мне по совершенно не понятным причинам, более того, моя боль может почему-то вызывать у других смех. Как сейчас помню то чувство ужаса, которое я испытывал, когда неожиданно ощущал себя в центре негласного внимания класса. Это означало, что они уже объединились против меня, и сейчас со мною случиться «заподлицо». Вхожу в вестибюль перед классами, вижу множество лукаво улыбающихся глаз, и краем уха слышу: «ха-ха, пришел, пришел… ха-ха, сейчас заметит…». «Что заметит?» - мои руки холодеют, по спине бегут мурашки, я отхожу к стене, стараюсь заговорить с одним из своих приятелей, о чем угодно, лишь бы влиться в массу. Но мой собеседник тоже улыбается и беседу не поддерживает, он не тот, каким был со мною раньше. – А где же твой портфель, может, ты его на прошлом уроке забыл? Что-то не видно его…» – выходит в центр вестибюля один из одноклассников и с наигранно озадаченным лицом всматривается в кучу портфелей перед классом. Он подобно управителю бала хочет на потеху публики ускорить развитие ситуации. «Что…? Суки, только не в унитаз!» - меня начинает трясти, – «Боже, опять…, как же это надоело! Ну почему я?!» Я так скован страхом, что пока не могу даже обидеться; ощущаю тупую животную покорность – мне придется пройти через все, что мне приготовили. Видя мой растерянный взгляд на том месте, где лежал портфель, он смотрит в окно и театрально громко и отчетливо говорит: - А погода то сегодня какая хорошая! Бегу к окну и уже слышу за спиной дружный смех и улюлюканье. Портфель висит снаружи, самый кончик одной лямки защемлен между рамой и закрытым окном. Лямки почти не видно с моей стороны – за нее не ухватиться. Ничего не остается, кроме того, как открыть окно, чтобы портфель упал, а затем бежать и поднимать его. Я сталкивался тогда с огромной силой, превосходившей мою собственную во много раз. Мне было совершенно не понятно, откуда она взялась, что я сделал для ее появления, и что я должен сделать, чтобы она ушла навсегда. Любые действия, которые рождались в моем незамысловатом рассудке, могли лишь усугубить положение вещей. Наученный горьким опытом, 2 я знал, что просьба типа «ребята, ну хватит!» лишь обрушивала на меня шквал едких острот и тем самым продлевала мои мучения. Когда я выбирал и начинал бить одного, то и вовсе сталкивался с искренней человеческой обидой – он отбивался и кричал: «да почему сразу я-то!». На его сторону вставали остальные, они также полагали, что за содеянное всем классом нельзя лупить одного. К тому же, конечно, я выбирал не самого сильного, и оттого сам чувствовал в душе свою неправоту. И потому оставалось только терпеть и молча ждать, пока эта страшная сила свернет, отойдет от меня, выберет своей жертвой кого-то другого или уйдет, хоть на какое-то время. Я бегу по лестнице уже с портфелем в руках, в холле пусто, из аудитории слышен отчаянный галдеж – значит преподаватель еще не пришел. Приостанавливаюсь перед дверью, знаю – меня встретит взрыв хохота, как будто сотни слабых детских пощечин, равных числу взглядов (и не так важно полоны они превосходства или жалости), числу содроганий головы, или даже каждого вздрагивания всех их смеющихся тел. Но… надо входить. Люди, при всем своем многообразии характеров, демонстрируют невероятное единство в своих реакциях на одни и те же жизненные ситуации. Обычно, когда человек сталкивается с крушением иллюзий о мире, жестокостью и гадостью его, он обижается и преисполняется желанием отомстить людям за то, что они на самом деле оказались такими плохими. В человеке, даже человеке порядочном и добром, уже с рождения содержится зло. До поры до времени оно будто сидит на цепи, но всегда стремиться ее порвать. Во время разочарования или обиды, человек отпускает поводок, и злоба подобно своре псов с торжествующим лаем вылетает на свободу. Часто старушке судьбе стоит лишь немного встряхнуть человека, так сказать, пощупать его, а он уже и говорит: «ах, вот оно все как?! ну так и от меня пощады не ждите!» Хотя, если отстраниться и подумать – получается странная картина. Вот человеку сделали плохо, он отчетливо понимает каково, когда тебя обидели или избили. Зачем же этого желать и тем более делать другим? Казалось бы, он должен запомнить это тяжелое состояние на всю жизнь и стараться оберегать от него и себя и других, но многие люди приходят к прямо противоположному выводу: раз так поступили со мной, значит, и я могу так поступать с другими. Вот и я решил, что раньше был слишком хорошим для этого бездушного мира, безмерно добрым и доверчивым, за что сильно страдал. Теперь все будет по-другому! Я стыдился своего прошлого, смотрел волком и радовался в душе, когда меня боялись. Все время повторял, даже вдалбливал себе, что если будут хоть какие-то выпады в мою сторону, я должен не испугаться, не растеряться, а бить, бить и еще раз бить, потому что больше я не буду терпилой2. А чтобы владеть ситуацией, устанавливать свои правила, нужно бить первым. 3 Мое духовное и личностное падение начиналось постепенно и незаметно. Сначала я дал себе разрешение не относиться к другим людям так, как я отношусь к себе самому; я позволил себе обогащаться и поднимать самооценку за их счет, и при этом просто не думать о том, каково им. Тогда я лишь так злобно думал, и от этих мыслей ничего не случалось, за тем исключением, что я привык думать так. В начале лета 1993 года, бесцельно прогуливаясь по району, я узнал от своего приятеля, Вовы Грача, что его знакомый, неизвестное мне лицо, является бригадиром на лохотроне3. Вовчик даже как-то между делом обмолвился, что тот его звал к себе на работу, но он решил повременить, дескать, еще не уверен, что хочет этим заниматься. Работа предполагалась в ночную смену, место – один из вокзалов Москвы. Поехать туда можно любой ночью. Терпила (криминальный жаргон) – потерпевший на суде или жертва каких-либо криминальных махинаций и прочих вредоносных действий. 3 Лохотрон (пароним к слову лототрон) – нечестная уличная лотерея, где бригада мошенников под каким либо предлогом затягивает любого прохожего в какую-либо азартную игру с целью заполучить его деньги, а также ценные вещи. 2 3 Помню, как я загорелся идеей попробовать себя в роли мошенника! С пеной на губах я доказывал Грачу, что ехать нужно прямо сегодня. Аргументы были просты и логичны: мы все равно бесцельно шляемся, говорим о чем не попадя и надеемся, что жизнь подкинет нам что-то интересное. На вокзале мы также сможем общаться, дурить лохов, в принципе, интересно, а к утру еще и деньги получим! Вскоре Вовчик сдался и мы ехали в метро, что-то бурно и весело обсуждая. В вагоне было немного, в основном, молодых людей, которые, следуя своему обыкновению самовыражаться во всем, выражали себя теперь особенно вальяжными позами. Напротив нас, сидела молодая девушка, немного старше меня. Под глазами у нее четко выделялись мешки, выделялись не из-за своей такой уж большой величины, но потому что они были единственными морщинами и на ее еще юном лице. На фоне полулежащих соседей девушка смотрелась странно, так как сидела просто и собранно, как это делают пассажиры днем. Помню, что я как-то важно и уверенно посмотрел на нее, в моем сознании появилась фраза с этакой снисходительной интонацией: «эх, девочка, знала бы ты, куда я сейчас еду!» Затем вдруг пришла радость – я ощутил себя, как ни странно, именно тем, кем в детстве во время поездок меня пугали, тем, кем меня попрекали, дескать, ты у нас не то, что они, ты у нас вон какой холеный – ощутил себя привокзальной шушерой и радовался тому, что причастен к этой, как мне казалось, невероятно романтичной, а главное дерзкой и опасной братии. В тот момент уже внутри меня ничего не случилось…. Через несколько часов я слонялся по вокзалу, и нагло заглядывал в глаза встречных… эх, кручу–верчу обмануть хочу… Могу предположить, что хорошее воспитание, дорогой читатель, в совокупности с природным здравомыслием не позволили вам ступить на тонкий лед криминала. С вашего немого согласия я позволю себе растолковывать вам некоторые нюансы этой бестолковой жизни. Если же моя книга попадет в руки людей с такою жизнью знакомых, то об этом и вовсе можно не беспокоиться. Они безусловно и незамедлительно произведут себя в эксперты и станут внимательно следить за тем, насколько точно описаны мои злодеяния с потайной надеждой встретить какую либо нереалистичную деталь, чтобы, пускай и только про себя, но все же веско заметить: «ну брат, так не бывает! Какой же ты лохотронщик!? Наверное, книжку какую прочитал, а остальное додумал». Ибо чувствовать себя профессионалом любит каждый, но сидельцы лишены такой возможности, ведь кроме как совершать преступления, они практически ничего не умеют. Уличные мошеннические лотереи, так называемые «лохотроны» или «станки», вновь получили широкое распространение во времена перестройки. Сами способы обмана описывал Гиляровский в «Москве и Москвичах» – и три карты и наперстки имели свою клиентуру на Хитровке и Сухоревке еще во второй половине девятнадцатого века. За сто лет способы эти лишь немного усложнились. На службу мошенников встал компьютер, а процесс обмана стал более театрализованным. Современная бригада насчитывает от 4 до 15 человек. Так называемый, цепляющий,4 представляющийся менеджером известной компании, дарит прохожему билетик и предлагает принять участие в праздничной бесплатной лотерее. Он подводит прохожего к палатке, где нижняя5 проверяет лотерейный билет, искренне удивляется, фиксирует выигрыш, и уже, казалось бы, готова отдать телевизор, но в эту секунду к станку, с выигрышным билетиком в вытянутой руке, подходит сварная6. Ведущая аттракциона поясняет, что ситуации, когда приз выпадает сразу двум игрокам крайне редки, и на этот случай предусмотрена суперигра. К призу добавляется еще значительная сумма денег, но все это может забрать только один игрок, а чтобы понять кто именно, приз нужно разыграть. Правила розыгрыша или, как говорят на сленге, Цепляющий (поздравляющий) – мошенник, который вовлекает прохожего в игру. Нижний– ведущий/ая аттракциона: тот, кто объясняет прохожему (обычно будущему потерпевшему) правила игры и предлагает делать ставки. 6 Сварной – мошенник, обычно женщина или мужчина предпенсионного возраста, который играют против потерпевшего. 4 5 4 «свары» просты: каждый из игроков может сделать денежную ставку, его соперник обязан ее заровнять, после чего может сделать ставку сам. Выигрывает тот, кто сделал последнюю не заровненную ставку. И выиграть у лохотронщиков невозможно, какой бы наличной суммой ни располагал прохожий, так как в результате нескольких ловких движений его деньги, поставленные на банк, оказываются в кармане у сварной. Помню, как к нам приезжал один майор милиции с усами, из разряда таких людей, которые в разговоре любят быть подчеркнуто серьезными. После степенного обсуждения дел в его глазах вдруг просыпалась этакая мужицкая смекалка, и он говорил: – И все-таки интересно! Ну, а если я привезу чемодан денег (и тут же следовало уточнение), двести тысяч долларов, вы ведь мне проиграете?! Майор, проживший всю жизнь бок о бок с преступниками, именно проживший, потому например, с нами бороться он и не думал. Так вот, этот человек был искренне уверен, что во время свары мы бегаем по палаткам и одалживаемся у местных торгашей и, если привести действительно крупную сумму, то на всем рынке может просто не оказаться таких денег. Разговор этот он начинал почти на каждой встрече, и всегда поражало уточнение. Почему именно двести тысяч долларов? Складывалось впечатление, что речь шла о неком конкретном чемодане денег. Поскольку майор обеспечивал нам лояльное отношение местной милиции, то обыгрывать его, конечно, не за чем, поэтому старшие отшучивались: – Ну, скажите…, двести тысяч…. столько, конечно, не осилим. Но у нас, к счастью, милиционерам запрещено играть. Правда, правда! А вдруг, он начнет проигрывать, стрельбу еще затеет…. Кому это надо?! Но это было несколько лет спустя. Тем временем, я пробовал работать в нескольких местах и осел, наконец, на одном из крупных рынков Москвы. На дворе стоял 1994 год – только распался Советский Союз. Сейчас, при написании этих строк, я понимаю, насколько символична была бригада, в которой мне довелось работать. В ней царил безусловный, я бы даже сказал искренний, интернационал. Скажу лишь, что из всего коллектива я был единственным москвичом, а русских в бригаде было, кажется, двое. Национальные отличия не разделяли нас и не способствовали развитию землячества, как это происходит теперь. Все мы отчетливо понимали, что важен человек, а не национальность, но эта понятная всем истина, каким-то фантастическим образом забывается сегодня. И нет, нет, а слышишь, как какой-то взрослый уважаемый человек заглянет доверительно тебе в глаза, выждет небольшую паузу и начинает жаловаться на то, как много в Москве черных, и как они глупы и наглы, и как он бы их…, честное слово. Хоть однажды национальный вопрос имел место – как-то в станок попал грузин и в бригаде в тот день тоже работал грузин. Разумеется, видя в окружающей толпе соотечественника, тот грузин, что играл в качестве лоха7, бросился на шею грузину-мошеннику, спрашивая сначала, откуда тот родом, а потом совета, как ему поступить в игре. Мошенник растолковывал земляку, что надо делать…. Потом его мучила совесть. Однако предложение больше не ставить в игру земляков было отвергнуто – первыми начинали возмущаться хохлы, заявляя, что тогда и они против своих играть не станут, а добрая половина посетителей рынка, надо отметить, была с Украины. После продолжительных споров решил поступать, по совести, честно – все обманывали всех. При этом национальном единстве, уважительном и веселом отношении друг к другу у нас практически полностью отсутствовала какая-либо мораль. Мы были полны искрометного сарказма в адрес недавних советских ценностей, таких как безвозмездный труд на благо общества, социальное равенство, стремление к честному, тяжелому труду и подобных им. Других у нас не было. Религия, которая должна была занять место идеологии, еще не получила такого влияния. Я прошу у читателя понимания. У меня не осталось и тени высокомерия по отношению к проигравшим людям. Однако заменить это понятие «прохожим», «потерпевшим» или любым другим словом не представляется возможным. Для игрового «лох» имеет весьма объемное значений: это и «кормилец» и «священная корова» с мистическими чертами – «может идти сладкий лох», а может, по совершенно непонятным причинам, не идти, несколько дней подряд. 7 5 Сейчас это выглядит странно, но тогда наша работа воспринималась, как нечто абсолютно естественное, причем даже самими лохами. Существовало такое представление, что в государстве нашем было много обмана, прикрытого высокопарными лозунгами, и те люди, которые верили в них и тратили силы и время своей жизни согласно им, в сознании граждан постепенно превратились из героев в обыкновенных дурачков. И были еще другие люди, которые свое призвание видели в обсуждении и толковании светлых лозунгов, в принуждении народа жить по ним, но сами ничего такого не делали, а лишь пользовались трудом той, первой категории. Многие граждане понимали, что они и есть такие вот дурачки и даже открыто называли себя так, лишь иногда импульсивно сжимая кулаки и злобно матерясь. Впрочем, недолго, поскольку это бесполезно, а дел много и завтра с утра вновь на свой завод, в поликлинику, школу…. Раньше наши граждане лишь иногда явно видели этот обман, ходили слухи про дворцыдачи, анекдоты про богатство партийцев, но, вместе с тем, как-то неприятно было об этом говорить громко на улице, как о чем-то существующем, но постыдном. И вот вся эта гадость вылезла наружу, плотно засела в экранах телевизоров, будто вдруг всем официально разрешили ругаться матом. Мы легко вписывались в такое мировоззрение, поскольку являлись еще одной разновидностью хитрых людей, которые сначала много обещали, а потом пользовались человеческой наивностью. Немало из тех, кто несколько позже, проходя мимо нашего станка, видели все тех же «случайно подошедших», улыбались и говорили: – Да уж, здорово вы меня тогда…. А я-то…. лошина! Они не собирались идти в милицию, их даже не возмущал факт нашего бессовестного существования, они понимали, что тогда просто выступили в роли лоха – в одной из совершенно привычных для той действительности ипостасей, в которой рано или поздно оказывались мы все. Мне посчастливилось узнать одного невероятно интересного человека – педантичного и немного застенчивого старичка лет шестидесяти. Он был совершенно обычным дедом из разряда тех, кого можно встретить на лавках большинства московских дворов. Самые подозрительные лохи, которые выводили на чистую воду всю бригаду, которым удавалось отчасти понять схему нашей работы, даже они не могли предположить, что дед тоже подставной. У них рождались чудные по своему полету фантазии варианты происходящего. Кто-то думал, что мы кучка хулиганов, которая ждет выигрыша деда, чтобы потом его отнять, кто-то – что дед, как и они сами, попался в лапы мошенников и тогда некоторые из таких люди, позабыв о себе, с героическим пафосом начинали уговаривать его все бросить и срочно бежать, потому что все здесь подставные. Дед, конечно, не мог оставить рабочего места и потому, в глазах людей несведущих, проявлял чудеса глупого упорства Всего у него наличествовало два головных убора: песочного цвета хлопчатобумажная кепчонка и темно-синяя трикотажная беретка с пипочкой на макушке. Помню, как после игры он забегал за кусты типа «живая изгородь» и, глубоко присев, менял кепку на беретку. – Ну и что теперь тебя никто не узнает?! – спрашивал я, заливаясь смехом. Но дед хорошо знал, что делает, поэтому на смешки со всех сторон внимания не обращал. Мне не давал покоя вопрос о том, как оказался здесь этот человек. Однажды после игры дед, как обычно, вопросительно и заискивающе смотрел в наши глаза, боясь, что сейчас выяснится, что он сделал что-то не так. Я бросил краткий комплимент по поводу его работы и, пользуясь тем, что ему полагалось некоторое время оставаться за палатками, сел рядом и начал разговор. После пережитого стресса тщедушное тело деда мучила отдышка, он то садился, то опять вставал и начинал ходить вокруг меня. Если бы не морщины и желтизна кожи, то со спины можно было предположить в нем ребенка. Говорил он охотно, доброжелательно и отстраненно, будто это не касалось его лично. Седые спутанные брови ласково поднимались в конце каждой фразы, что означало не столько точку, сколько было красноречивым жестом: «ну, все что мог». 6 Волею судьбы дед оказался соседом человека по имени Мирон. Случилось так, что они встретились в продуктовом магазине, где Мирон желал купить упаковку пива, но ему не хватало на нее денег. Он попросил деда одолжить ему недостающую сумму с условием, что он вернет ее, как только попадет домой. Далее, при расчете, и случилось невероятное – Мирон предложил, а дед, в свои шестьдесят, согласился работать мошенником. Более того, он рассматривал свое новое занятие просто как подработку к скромной пенсии. Какую же жизнь должен был прожить этот человек? Какие знания и ценности приобрел он за все свои сорок пять лет осознанного существования? Если он, не раздумывая, согласился обманывать других людей. Дорогой читатель, я прошу вас о понимании. У меня и в мыслях нет осуждать старика – за свою короткую и беспечную юность я столько сделал вещей аморальных, жестоких, а порой и откровенно гадких, что вряд ли когда-нибудь смогу теперь надуть щеки, и на выдохе проговорить: «Ну, как же это возможно? Кем же надо быть, чтобы такое сделать?» Сегодня я, в общем-то, такой же, как и вы, нормальный человек: люблю и помогаю своим родным и друзьям, не нарушаю закон, не обижаю животных,… однако, в моем случае, чтобы сделать нечто такое, достаточно просто быть собой. Мне хочется понять: неужели мирок зрелого человека мог оказаться настолько ограниченным, что из него на лохотроне виднелась одна лишь возможность наживы, но была совершенно незрима необратимая расплата. Расплата эта, конечно, состояла не в аресте, тюремном сроке или общественном осуждении – в те, как сейчас их принято называть, «веселые времена», эти вещи были мало вероятны. Но так человек устроен, что если он обманывает, то ждет, что обманут его. И нет возможности этот механизм отключить, даже осознавая его. Ведь, если вдуматься, мы никогда не можем знать точно, чего нужно от нас другому человеку. Большинство людей, которые начинают заниматься мошенничеством, впадают в одну и ту же иллюзию. После прожитого стресса первых недель работы, Вы с трепетом замечаете, что ничего страшного не происходит: на Вас не показывают пальцем на улице, не хватают и не тащат в кутузку. Вместе с тем, каждый вечер появляется приятная необходимость потратить полученные деньги. И вот Вам хочется относиться к своей работе как к вполне нормальной, просто по такой необычной и, так сказать, секретной специальности как лохотронщик. Однако нельзя приходить после лохотронной смены домой и становиться законопослушным и добропорядочным семьянином. Хоть бы пусть соседи полагают, что Вы трудитесь где-то в торговле. Вы впускаете в свою душу расчетливый обман, но Вы не решаете, где ему быть, а где нет. Ваши друзья постепенно становятся ушлыми и бессердечными, ваша жена коварной, а дети маленькими, еще несмышлеными потребителями, которым Вы нужны, только как источник благ. А соседи и на самом деле думают, что Вы работаете в торговле, правда, если вдруг Вы забудете запереть дверь они, конечно, Вас ограбят. Более того, Вы искренне уверены, что любой человек, попав в сложную ситуацию, использует Вас как разменную монету, даже если ему ради этого придется обойтись с Вами особенно жестоко. Дед жил своей незамысловатой жизнью, он как ребенок воспринимал и реагировал на все непосредственно, и отличался от него лишь тем, что не задавал миллион вопросов о том, что хорошо, а что плохо, кто сильнее, и, наконец, самый сложный – почему это именно так. В силу моей извечной проблемы с самооценкой я всегда старался как-то выделиться, предпринять нечто неординарное, что, как мне казалось, стало бы доказательством моей индивидуальности. Даже, более того – я всегда мечтал, но и всегда сомневался, в существовании моей уникальной харизмы, которая должна была сделать меня ярким, неповторимым и, тем самым, счастливым, поскольку такого человека не мог оставить ни один друг, как и бросить ни одна девушка. Как-то раз мне пришло в голову позвать с собой на гулянку деда. Мы втроем, я, девушка, которой тогда, как и мне, было лет двадцать отроду и дед шестидесяти лет в кепчонке песочного цвета, расположились за столиком в одном из многолюдных рыночных кафе. Пили пиво и общались. Для меня было очень важно, чтобы окружающие нас люди видели, что это не мой 7 родной дедушка, а так… – всего лишь один из приятелей. Потому в ответ на какую-нибудь малозначительную фразу я панибратски бил деда по плечу и громко вскрикивал: – Ну, это ты, старый, загнул! У меня такие телеги не прокатят! Иногда, пыхтя и чертыхаясь, к станку подходил человек с множеством тележек. В следующей за этим сваре мы поднимали8 не только оставшиеся у него деньги, но и весь товар. После раздачи зарплаты нас еще ожидал, так называемый, дербан – по идее, организованное распределение вещей между членами бригады, которое на практике очень быстро становилось стихийным. Однажды случился особенно щедрый дербан: было много тюков с галстуками, кепками, трусами и чем-то еще, а также несколько больших коробок полных разноцветных футболок. В какой-то момент дед перестал наряду со всеми протягивать руку и кричать «мне», отошел в сторонку, присел на коробку и притих. Вскоре мы уже рыскали между кусков картона, жадно всматриваясь в добычу друг друга – вдруг кто-то урвал то, что мне не досталось…. Ту же коробку мы престали воспринимать как еще одну емкость с футболками, для нас она превратилась в предмет, на котором сидит дед. Когда пошли, дед кратко попрощался и продолжил отстраненно смотреть поверх деревьев. Мы уже отошли на некоторое расстояние, как вдруг один из нас – узбек по имени Алишер – резко повернулся и прокричал: - Дед, а ну-ка встань! Может, в коробочке, что-то еще осталось?! Дед не на шутку испугался, вскочил как ужаленный: – Хе-хе, так может и есть, хе-хе, а я устал за сегодня, Алеша!... Так ведь, пять игр отстоял…, шутка ли…. Заправляли у нас два корейца почему-то с древнерусскими редкими теперь именами: Мирон и Семен. Мирон был небольшого роста в очках с золотой оправой, говорил тихо и культурно. Он скорее походил на директора школы, но был хозяином наших станков. Сеня, как его называли окружающие, являлся правой рукой Мирона. Роста он был и вовсе карликового, на плоском желтом лице узкие сердитые глаза. Однажды я задал Мирону неудобный вопрос: – Мирон…, а это… я хотел спросить… куда пойдет поднятое нами рыжье9? Мирон немного потемнел лицом и после выдоха стал устало слагать предложения, что, дескать, как и с деньгами, 25 процентов от общего подъема золота пойдет на бригаду… Сеня же неожиданно сильно разозлился, он прыгал вокруг меня как разъяренный пес и шипел: – Что ты его достаешь? Вы уже все достали своими вопросами! – Сеня, Сеня спокойно. Ну, спрашивает человек - надо объяснить….– уговаривал его Мирон и продолжал свой тихий рассказ. – Я сейчас так объясню, что на всю жизнь запомнит…. – говорил Семен, не сводя с меня маленькие сердитые точки. Мирон вскоре закончил и тут же пошел прочь. – Что Вы его достаете? – повторил Семен – а то сейчас я вас доставать начну! Но мне не было страшно. Злоба Сени не была той животной, которая идет из самого нутра человеческого, как будто там уже свершилось извержение и вот первые брызги лавы достигают поверхности. На такую злобу всегда неумолимо реагировала животная часть меня – она была подобна загнанной в угол собаке, которая то рычит и скалит зубы, то припадает на передние лапы и с такой силой машет хвостом, что кажется, что он вот-вот отломится. Сеня всего лишь играл роль, возможно, прямо определенную ему, и потому не сдерживал того внутреннего напора, а, напротив, пытался встряхнуться, озлобить себя разумом. Я смотрел на его детские кулачки, улыбался и думал: «Да что ты, каратист какой?», при этом кивал головой и обещал впредь Мирона не доставать. 8 9 Поднимать (крим. жаргон) – забирать, получать, наживать. Рыжье (крим. жаргон) – золото, любые изделия из золота. 8 Вскоре станочная власть сменилась. Новое начальство оказалось жестче прежнего. Три бригады, в том числе наша, отошли в подчинение двум бригадирам – молодым приблатненным парням, успевшим немного поработать среди нас простыми верхними10. Как это часто бывает в молодости, бригадиры быстро начали упиваться своей властью. Всеми силами они стремились, чтобы три их бригады стали образцовыми, лучшими среди десятков других на всем огромном рынке. В частности эти двое ударников развода ввели в обиход такое, казалось бы, несовместимое с данной профессией понятие как «рабочее собрание». Примерно раз в неделю, нам не давали зарплату как обычно в конце дня, а предлагали проследовать за ней в небольшой палисадник на заброшенные автобусные остановки. Начало июня, всюду свежая еще нежно-салатовая зелень, над головой светло-голубое, почти белое небо, то там, то здесь виднеются сияющие белыми цветами вишни и яблони. В такие дни хочется долго гулять по паркам и скверам под руку с какой-нибудь чистой и хорошо воспитанной девушкой. Всюду жизнь еще так молода и сильна, что ей жалко спать, и потому до ночи светло. Кажется, что времени в сутках стало больше и оттого хочется совсем без спешки рассказывать своей спутнице, такие же, как все окружающее, нежные, длинные, хоть, порой, и не особо смешные истории из детства. В такой славный день на массивных скамейках остановки, построенной в 30-е годы, наблюдается непонятное стороннему наблюдателю оживление. Человек 30-40 стали полукругом и уныло с глупыми выражениями лиц смотрят в центр, где, часто оглядываясь и нервно жестикулируя, говорят два молодых человека. Публика эта совершенно разношерстная по всем мыслимым категориям: возрасту, национальности, одежде, повадкам и т. д. Кто же эти люди? Как Вы думаете? Что заставило их собраться сегодня здесь? Быть может, они намерены сходить в поход и теперь решили хорошенько обсудить детали? Однако, если присмотреться, становится понятно, что и в походы такие люди, конечно, не ходят. Угловатые, чернильные наколки, вылезающие из под длинного рукава, поджарое тело и тусклый цвет лица выдает в одном из них человека немало отсидевшего. Рядом с ним спокойно стоит, по идее, его потенциальная жертва – полная женщина лет пятидесяти, с большой и нелепой, не то еще дамской, не то уже дорожной, сумкой в руках. Далее важный армянин лет сорока с потными разводами по всему телу и барсеткой под мышкой – он похож на хозяина палатки или таксиста. Немного в стороне несколько мутных ребят, видимо – наркоманов. – Вокруг вас ходят кексы вот с такими прессами11! – показывает пальцами толщину пресса один из парней в центре – а вы…, лицами щелкаете! Что может кому-то работа нравиться перестала? Так идите на завод, к станку. Кто вас тут держит? – У кого вчера сладкий ушел с деньгами? Саша, кажись, в твоей бригаде? – Та, его жинка утягла! – А ну, рассказывай…! – гаркнул другой парень – а пополамщик12 тогда тебе зачем? Ты носчик13 или так одно название? А нооосчик …? Где тебя носит, когда лох срывается? – Да, вы че думаете, я шучу? Еще один такой косяк и вся бригада на полтос14! Пришло время отметить, дорогой читатель, что работа наша была весьма и весьма непредсказуемой. Каким бы хорошим ни было место станка, насколько бы не сработалась бригада, все равно в любой момент могла настать черная полоса: то ли лохи безденежные, то ли они, как по сговору, срываются. С другой стороны, подъем мог случиться в самой нелепой ситуации. Например, в станок заходит совершенно обычного вида женщина, у которой нет денег, Верхние – все рядовые члены бригады кроме ведущих, которые называются «нижними». Ведущие сидят в палатке или на корточках (при игре в наперстки), поэтому визуально находятся ниже остальных работников бригады. 11 Имеется в виду, так называемый, «пресс» денег. 12 Пополамщик – мошенник, который, в случае вялой игры потерпевшего и при угрозе его выхода из игры, предлагает ему помощь – играть вместе, «в пополаме», против сварного. 13 Носчик – помощник бригадира, который держит при себе деньги для игры и в отсутствие бригадира осуществляет управление работой коллектива. 14 Полтос (на 50 процентов) – распространенное на лохотроне наказание, когда вся бригада или отдельный человек лишается половины зарплаты. 10 9 что бы сделать первую ставку. Ей говорят, что, дескать, раз вам так повезло и такая незадача – кошелечек, видимо, дома позабыли – вы можете в течение полутора часов съездить домой за деньгами. Это делалось для того, чтобы лох не надоедал долгими расспросами о том, что он выиграл и почему приз не отдают ему бесплатно, а ушел быстро и мирно. Так поступали часто, потому и об этой женщине сразу все же забыли. Уже прошло несколько мелких свар и вот, как из под земли, вырастает она – запыхавшаяся и сияющая: – Ну как, я успела?! Поначалу нижняя в недоумении: «кто успел, куда успела?». Тем не менее, она все равно улыбается и с пониманием кивает головой. – Успели..., успели… – и наконец в ее глазах вспыхивает искорка, – Конечно, успели! Буквально на последних минутках. Эх, ну и везучая же вы…. Всем своим видом: улыбкой, расширенными глазами, нижняя дает понять бригаде, что работа началась: – А вот и женщина вернулась – громко сама с собой, говорит она. Затем еще громче в толпу – а где же ваша соперница? Вот только-только здесь стояла. Моментально собравшаяся вокруг толпа выталкивает, как пробку от шампанского, к столику сварную. Станочники сорвали беднягу из-за стола соседнего кафе. Она быстро доедает пирожок и не понимает, какую роль ей сейчас надо включать, от того часто моргает и судорожно заглядывает всем в глаза. – А вы говорили не приедет! Вот женщина вернулась и, надо заметить, успела! – подсказывает нижняя сварной и потом, глядя лохушке в глаза – а то все: «отдайте приз мне, она все равно уже не вернется» а я сразу сказала, у нас все строго по правилам, полтора часа пройдет – отдам, и ни секундой раньше. (Подмигивает лохушке) по вам видно, что вы слов на ветер не бросаете, если сказали, что вернетесь, так, значит, вернетесь. – Ну, давайте, наконец, разыграем – с нотками обиды в голосе говорит сварная, она уже полностью вжилась в нужную роль – сколько мне, в конце концов, мерзнуть то еще! И вообще, мне кажется, вы как-то симпатизируете моей сопернице…. Они разыгрывают. И мы подымаем 30 000 долларов. Именно потому существовали «фартовые бабули». После большого подъема, поскольку рационально объяснить его причины было совершенно невозможно, станочники, и стар и млад, ударялись в мракобесие. Кто-то говорил: – А я знаю почему выстрельнуло! Я с утра бабуле на входе полтишок дал. – Какой, их же там много? – В светлом плаще обычно ходит, еще «лапочками» всех называет…. понял? – Да, вроде…. С тех пор одной из многочисленных побирушек у рыночных ворот, начинало вдруг крепко везти. Каждое утро более десятка каких-то добрых людей давали ей большие подаяния, а, порой, и вовсе нервно разыскивали ее по всему рынку, и при этом некоторые из них начинали требовать от растерянной бабули, чтобы она не валяла дурака, а стояла на своем обычном месте и смиренно принимала деньги. И если себе представить, что по какой-то фантастической причине старушка бы решила отказаться от денег, то эти добрые люди, путем угроз и манипуляций, конечно, заставили бы их взять. И вот в таких условиях эти два безумца пытались ввести некое подобие плана ежедневной выручки. По тем деньгам он равнялся десяти миллионам рублей. Каждая бригада была обязана сдавать вечером не менее этой суммы. Если план не выполнялся, то начинались угрозы лишить всю бригаду заплаты, а если одновременно маленькие подъемы делали несколько бригад, нас ожидали долгие и нудные собрания. Они вызывали в нас горький сарказм, было сложно представить большую глупость, чем внедрение в среду лохотронщиков социалистической плановый системы, с теми же словоблудно-репрессивными методами мотивации работников. – Гена, сколько твоя бригада уже десятку не поднимает? (срываясь на крик) Второй день или третий? Тоже жинки виноваты? 10 – Вот Валера много не говорит, а сорокет15 сегодня сделал, правда, Валера? (Валера смущенно потупился – ему неприятно быть примером, но отказать от этой привилегии он не может) и каждый день подъемы делает (Валера краснеет – это уже явная ложь) и ни жинка, ни невестка у него лохов не тягает. Слышь, Санек? – Или может ты домой захотел? Откуда ты там…. из мухосранска? А? Из Луганска? но один фиг…. – Та, у нас вчера подъем был…! – Заткнись и слушай, долба*б! А то, смотри…, отправим. – Да нет, ребят, ну если что-то не получается, ну чего звери вокруг?! Приди и попроси почеловечески, ну что, тебе не помогут что ли?! А Санек?! Засветился твой пополамщик, не может в катку16 лезть, бери любого из другой бригады к себе пополамщиком, не разберетесь что ли потом? – Приди вот к Валерке, ну что откажет он тебе или что?! Что мы не люди, что ли? Мы были разношерстным сбродом, который вместе, чтобы колбасить лохов, и все как-то по-своему объясняли себе причины, по которым они этим занимаются. Сделала бригада дело, давай ей положенную долю, и разбежались; не сделала – накажи, выгони кого-то, в конце концов, напряги, нагрузи – это все жестоко, но хотя бы естественно и понятно. Но какие, к черту, рабочие собрания, какие ударники развода лохов? Как можно из них делать пример для подражания? Какая вообще мораль могла для нас существовать? Мы пребывали в той реальности и в том состоянии, где существовали только кнут и пряник, так как любое философствование, быть может, долгими и окольными путями, но все равно неумолимо вело нас к раскаянью. Можно быть ловким, техничным, но нельзя быть хорошим, добрым лохотронщиком, и не потому что это абсурд, здесь есть вещи значительно страшнее. Появление морали у лохотронщиков могло означать смену системы координат жизни, переопределение того, что принято считать добром и злом, а это, в свою очередь, стало бы началом нового опасного мира, со своими непонятными законами, где, например, убийство меня же самого могло вдруг оказаться великим благом. Не то чтобы я тогда так глубоко размышлял, однако нутром чувствовал глубокий животный страх перед подобной попыткой смешивать добро и зло. Эти сборища выглядели неким фарсом, пантомимой того, что могло быть, если бы мы были нормальными, приличными людьми, и своей обратной силой наводили на столь ненужные, неудобные мысли о своем месте и своих деяниях. Все мы прятались там за броней, сотканной из сарказма и ехидства, и не воспринимали ничего, кроме того, что могло представлять для нас непосредственную угрозу. Казалось, что, перешагнув через принципы общества, я навсегда избавил себя от комсомольских глупостей, что больше никому не удастся манипулировать мною, оперируя слишком возвышенными постулатами, казалось, что теперь я человек дела, и поэтому больше не надо лить воду – говорите: когда, куда и сколько будет за это денег. Но, как это часто бывает, то, чему я противился особенно агрессивно, то, чего я так боялся (прожить жизнь тем советским дурачком), настигло меня и здесь, и в наказание за мою попытку бегства, оно предстало передо мной в особой, извращенной форме. 4 Как ни старался я, так и не смог вспомнить хоть одного момента моей жизни, когда хорошенько бы над этим задумался. Не помню я и человека, который внушил мне это убеждение, не встречал я и в кино ярких героев с такой жизненной позицией, на которых мне захотелось бы Сорокет – сорок миллионов рублей. В 90-х рубли мерялись миллионами. Катка – от слова катать, то же, что и свара – азартная игра на деньги, в которой выигрывает тот, кто сделал последнюю ставку. 15 16 11 походить. Однако сколько я себя помню, сколько звали меня Егором, я твердо знал, что ни при каких условиях, даже под страхом мучительной смерти, я не должен быть как все! А вокруг меня, конечно, были совершенно одинаковые люди. Неважно плох я или хорош, умен или глуп, отзывчив или цинично жесток, нужно было лишь хоть как-то выделиться, оттениться от общей серой массы, чтобы если вдруг некто из космоса решил посмотреть на наш район, то стало бы ему очевидно, что живет в нем Егор и еще пару десятков тысяч каких-то других людей. Стучали колеса, за окном сменялись картинки сочного летнего дня. После окончания 10-го класса я ехал отдохнуть на море. Тогда еще было неведомо мне, что через каких-то пару лет выбьюсь я, наконец, «в привокзальную шушеру» и даже стану настоящим лохотронщиком. А пока мне весьма повезло с соседями по купе. Ими оказались трое музыкантов, ребята 2527 лет, уже самостоятельно живущие и потому невероятно большие и важные для меня. На стрелках поезд весело качался, звонко отбивая барабанную сбойку. Тот, что был повыше, тепло и просто принял меня, предложил сходу дернуть винчика за компанию. Он много шутил, хоть и обычно не смешно даже для меня. При этом немного заикался, и говорил в нос, как будто звук у него появлялся не во рту, а шел по длинному шлангу откуда-то из глубины: – А мы, братуха, наоборот, работать едем, ха-ха, подписались тут … хер знает на что, если честно, ха, ха. Лех, в ДК Крупской что ли? – Да – У швеек-мотористочек, это точно знаю, ох и голодные они там – он многозначно подмигнул мне. – Кстати, это Леха, он фашист недобитый ха, ха – и довольный моим удивлением добавил, – да, просто, он из поволжских немцев, ха, ха. Леха все это время лишь молча разглядывал меня. Он был ниже и коренастее первого, под русыми волосами сверкали колючие глаза. В купе становилось душно, мои новые товарищи попытались опустить окно, но оно держалось намертво. Единственное, что удалось сделать – открутить, и снять одно из стекол, однако второе крепилось уже снаружи. Мы остановили проводника – высокого крепкого мужчину средних лет с морщинистым лицом. – А как бы нам окошко открыть? – спросил высокий. – Да, боюсь, никак – оно уже тысячу лет поломано – Как же нам доехать и не свариться? – Парни…! Мне какой вагон дали…, так на том и вожу! – А если оно случайно разобьется? – спросил немец. – Хе-хе, 13 рублей 60 копеечек штраф, да и всех делов … Проводник ушел, немец залез в сумку и достал охотничий нож с массивным железным набалдашником. Только сейчас я обратил внимание на третьего попутчика, который стал заботливо убирать бутылки и еду со стола. Это был один из тех редких людей, которые обладают талантом полной неприметности. Обращались к нему редко, и тогда называли кабаном и никак больше. Вся его жизнь в купе сводилось, к фоновым смешкам, возгласам удивления или кратким репликам негодования. Он вроде был, но его как будто и не было, потому, что от его существования ничего не менялось. Обычно он лишь подкидывал горсточку угля в огонь, который он не разжигал, и не собирался тушить. Немец вопросительно посмотрел на всех кроме меня и коротко, но сильно ударил ручкой ножа в середину стекла. После того, как ужас отступил, я ощутил свежий воздух, приятный запах степи и какое-то невероятное ощущение свободы. Точно под звон стекла случилась революция, освободились мои чувства, снялись запреты. Вскоре поезд замедлил ход. Стук колес стал громче и отчетливей, казалось его слышно на многие километры по степи, и фоном этим частым и четким ударам стал отчаянный стрекот 12 кузнечиков, как будто те, заприметив нас, затеяли между собой соревнование. Ехать без окна было весело и необычно. Немец на несколько секунд задержал на мне свой испытывающий взгляд, после чего сказал: – Прикрой, пожалуйста, дверку… и на замок…, да, да. На столе появился мятый тетрадный лист с жирными пятнами по бокам и комками зеленой травы посередине. Мне стало еще интереснее, я чувствовал восторг от того, что оказался рядом с такими крутыми и, главное, дружелюбными парнями. Я многозначительно смотрел на стол, всем своим видом демонстрируя осведомленность в волшебных травах. – Да, это табачок…, такой хороший, он просто сам выращивает у себя на огороде – прокомментировал высокий. – Да ладно…, это анаша, – сказал я из-за волнения резче и громче, чем хотелось. – Ну, так мужичина уже, ха, ха Вечером, когда темное купе порой вспыхивало белым казенным светом, изрядно хмельной высокий рассказал мне, как они выступали. Истории эти отличались лишь началом: «и взяли мы с собой в гримерку пару канистрочек местного пивка, а жарко – пить хочется…» или «да, мы вообще думали, что выступать завтра, сидим с телками в номере, расслабляемся, а тут звонок, типа «почему вы до сих пор не на сцене?». Кульминация же была всегда одинаковой – восторженный рассказ о поведении совершенно пьяного человека. Например, некий барабанщик в разгар концерта переставал попадать в барабаны или гитарист гнулся в разные стороны подобно колосу на ветру, чуть ли не касаясь сцены макушкой, но не падал, и играл при этом как Бог. Когда двое других уже спали, высокий рассказал мне вполголоса дурную историю про кабана. Как-то они играли на свадьбе, что обычно весьма утомительно. Пели много раз в подряд «Белые розы», «Подожди дожди, дожди», и вот вдруг к ним подошел хорошо одетый мужчина и, немного стесняясь, попросил исполнить «Отель «Калифорния». Коллектив воспарял, начался совет, кому и как играть, лишь кабан оставался безучастен. – Брат, Иглов заказали, говорю ему (после паузы), а он – тональность? – высокий обескуражено развел руками – хочешь, мусаров пойдем резать, а хочешь – сейчас разбежимся… Поезд разогнался не на шутку, и приятно подкидывал нас на рельсовых кочках. Я кивал и улыбался рассказу высокого, а головушка моя была занята другим. Немец угостил меня папироской с анашой, и теперь я ковырялся в оттенках своего сознания, пытаясь понять, насколько оно изменилось. И тогда мне начинало казаться, что разум мой необыкновенно чист и это и есть следствие волшебной дыма, и вроде даже шутить сейчас получается особенно удачно. Однако, на самом деле, это было вызвано волнением и напряжением, ведь я тужился и пытался что-то ощутить, чтобы сказать себе «ну вот! так, так, так – вот…! и вот сейчас… точно туркнуло!», чтобы знать определенно, что я действительно был под кайфом и, конечно, по секрету рассказать это своим приятелям. Следующая моя встреча с жирной зеленой травой случилось в самом центре Москвы. К моей большой радости, с помощью своего школьного товарища по прозвищу Суй я начал «утюжить на Арбате». И тут я был надут гордостью – в происходящем в моей жизни я всегда искал то, что можно было бы эффектно преподнести другим. На вопрос о месте работы, я с удовольствием отвечал: – Да…, утюжу на Арбате…. – Что значит, утюжишь? – Ну, утюгом работаю. – Утюгом?! Как это? Что в прачечной что ли? 13 Я звонко смеялся и с выражением человека, уставшего объяснять провинциалам очевидные вещи, говорил, что утюжить, это значить продавать иностранцам сувениры: матрешки, майки и прочее. – Так, какая здесь связь с утюгом? – А это чтобы никто не догадался – многозначительно заканчивал я. Лишь много позже я узнал, в чем состояла эта связь. Я родился в Москве, и люблю ее уютную дождливую унылость с сотнями огоньков в окнах, тихую снежную зиму на матово-белых переулках, резкую жару, так всегда меня удивляющую после зимних морозов. С падением Советского союза население столицы выросло настолько, что теперь трудно сказать, кто есть москвич. Все больше и больше я стал воспринимать родной город, как сборище «рвачей» со всех концов света, у которых нет общего прошлого, обычаев и примет – скорее их объединяют черты характера: настойчивость, зацикленность на себе и своем развитии, авантюризм и полное безразличие к вещам, которые не входят в круг их интересов. А мне всегда было интересно: вот я москвич, и что же во мне такого московского? А что в моих соседях такого, чего нет в уроженцах Новороссийска или Твери. Мне хотелось причислить себя к общности земляков, чтобы в путешествиях, когда мои новые приятели свербели меня взглядом, пытаясь понять, откуда я, и что за птица, думать про себя: «да я москвич», а где то и вовсе бросить на лету «а вот у нас так не принято!» Но у нас принято все, что только может быть принято! И вот я читал «Москва и москвичи» Гиляровского и все надеялся вычитать что эдакое, что было в москвичах тогда и осталось теперь, и что неопровержимо бы указывало, что москвичи это ни кто угодно, кто приехал сюда жить, но это определенные люди со своим характером, нравами и историей. В своей книге, Владимир Алексеевич, много рассказывает о злополучном Хитровом рынке – сборище проституток и преступников всех мастей. Один из домов там имел стену с острым углом, выходившую на площадь рынка. Жили в нем скупщики краденного, которые затем и продавали его всем желающим в подворотнях. Дом, за его форму, прозвали утюгом, а его жителей, соответственно, утюгами. Я не сразу сопоставил эти факты и только во время очередного воспоминания моей арбатской юности «утюжная» история Москвы выстроилась в ясную прямую – в тот момент я просто просиял! Не у кого из нас не было разрешения на уличную торговлю, я даже не знаю, существовало таковое для частных лиц в 1992 году в принципе. Некоторые утюги даже не стояли за столами, а ловили «фирму» по ходу – в пешеходном потоке, отводили в подворотню и «впаривали» свои майки или матрешки, при этом нервно оборачиваясь по сторонам. Как это понятие выжило в течение почти 70 лет, и перенеслось на нас – загадка. Ведь, если сохранились люди, которые помнили тех старых утюгов, и подметили схожесть с ними молодых и нагловатых уличных торгашей сувенирами, то одного или двух раз сказать об этом, да так чтобы «утюг» накрепко к нам прилипло, было бы явно недостаточно. Помню как я, будучи оседлым утюгом, шарашил бедных иностранцев, когда, выбрав на моем столе майку, они начинали нащупывать через куртку бумажник: – Don’t show money, problem polis!17 Большинство из них не на шутку пугалось, и тоже начинало нервно оглядываться. К их чести, спешу заметить, что несмотря на врожденную законопослушность, почти все они заговорчески сворачивали свои доллары и марки трубочкой, и незаметно передавали мне - из рук в руки. Я же в эти моменты чувствовал брутальную дикарскую гордость и с сочувствующим лицом, кивая, добавлял: 17 Не свети деньгами, проблемы с полицией! 14 – Да, да – Рашааа…. мафияяяя. Далеко не ходи…, бутылка в башку дадут, все заберут. А в полиция пойдешь – заберут, что воры не взяли. Арбат! Как только поехал я туда первый раз работать, как только стал с грустным воем притормаживать поезд метро, как только разъехались предо мной двери, уже ждал я какого-то чуда. Мне нравилось быть на улице, которую знают во всем мире, хотелось жадно смотреть по сторонам, и видеть ту необычность и грандиозность, из-за которой она так знаменита. Хотелось даже думать, что когда-то здесь гулял Пушкин, а вот теперь здесь буду работать я, Егор Свиридов. Помню, скрип песка на плитке под ногами многочисленных прохожих, топот и гул, сотканный из отрывистых фраз, кашля, смеха, скрипа дверей. Мне почудилось, что я под куполом, как в цирке – каждый этот не значительный звук на доли секунды вдруг резко выделял из фона, стукался о стены домов, обрастал эхом и таким долетал до меня, но только лишь коснувшись, тут же падал и пропадал. Здесь кипела жизнь. По обеим сторонам улицы стояли ряды столов, которые прерывались, только напротив действующих арок и проездов. За столами в основном небольшими кучками стоял молодые люди, подобно стае ворон они хоть и не часто, но по очереди крутили головами так, что с одной стороны вроде были заняты своими делами, но, с другой – мимо них невозможно было подойти незамеченным. Модно и ярко одетые они были похожи на иностранцев, разглядывая их по мере углубления в Арбат, я понимал, что эти люди знают много того, что мне так интересно: какие есть хорошие фильмы, что представляют собой понравившиеся мне актеры, и, главное, кто поет вот эту песенку и, где ее достать. Музыка! О, как я тогда любил музыку, как легко от нее по телу могли побежать мурашки, а на глазах выступить слезы. Музыка была энергией, которая не приукрашивала, а просто преображала мир вокруг, наполняла его новым содержанием, будто пустой сосуд. Да, сейчас я уже не тот, и если музыка для меня не фон, то лишь воспоминание о былом блаженстве. И любил я всегда, как говорил модный в те времена диджей «обычную мелодию ритмичную», с плотным жестким битом и волшебной завораживающей мелодией на контрасте. Такую музыку, что долго расходится и, где с каждым тактом добавляется новая тарелочка или звук, ту, где я уже полностью поглощен ритмом, и головушка моя довольно кивает, но я знаю, что лучший проигрыш еще впереди. В бытность Советского союза я мог битый час ехал на другой конец Москвы к другу, где мы долго подключали допотопную технику, протирали головки и валики, и потом только к вечеру, когда вокруг темнело и уже нестерпимо хотелось есть, получались две или три новых кассеты. Я смотрел на них с трепетом, и понимал, вот он – новый этап моей жизни, радость и горе, смех и слезы – все будет теперь отпечатываться на этой музыке, как сцены из нашей жизни хранятся на фотобумаге. И вот открыли границы…. Самой большой пробоиной, самым широким горловищем, через которое хлынула к нам западная культура, был Арбат. Мы видели, как одеваются иностранцы. Здесь можно было выменять у «фирмы» джинсы, которые отличались от тех, что продавались в СССР как отличается роба от добротного продуманного до мелочей костюма. Здесь можно добыть западный журнал, кассету с новой музыкой, иногда прямо с плеером. Однако, главное – здесь собрались люди, которые во все это «врубались». После бесславной смерти союза молодежь поделилась на две основные категории. Одна из них делала упор на физическое развитие, занятия боевыми искусствами, они были однообразны и дружны, обычно держались большими компаниями и часто стояли друг за друга. Имя им было гопота или бычье. Гордились они своей силой и «пацанским» кодексом чести, что, дескать, нас было двое, а их десять, но мы друг друга не бросили и бились пока стояли. Другая, к которой относился и я, – была более образованной и интеллектуальной, но совершенно не организованной, да и просто не дружной. Мы всегда проигрывали в столкновениях с первой группой, так как тут же начинали выживать каждый как мог. Однажды я стоял у своего стола на Арбате и вдруг по рядам пронесся зловещий ропот: «Казань…. Казань приехала….». Я повернул голову и опешил. Как же они выделялись на пестром Арбате! Человек тридцать, совершенно одинаково одетые в серые телогрейки и черные вязанные шапки, все широкоплечие, грудь колесом, у всех широкая 15 морская походка и наглый взгляд исподлобья. При такой схожести, из них было сложного выделить кого-то одного, и от того они казались одним, очень страшным существом. Оставалось стоять и молиться, что бы этот осьминог с десятком сокращающихся щупалец не задержался напротив моего стола. Вторая группа не имела общего названия, поскольку к ней относились разнородные элементы: и утюги и растоманы и неформалы всех мастей. Нас объединяла общая нелюбовь к «бычьим радостям»: бравирование физической силой, жесткая иерархия, включающая подчинение старшим, отсутствие индивидуальности. У нас была своя гордость – «мы врубались!»…: в стильные вещи, в странную и глубокую музыку. Нашей бравадой, было, когда такие быки, не обратив внимания на мою неброскую серую толстовку «Champion», приставали, надеясь запугать, и снять поддельную китайскую олимпийку с моего соседа. – Не врубились, лошары – хихикали мы потом – на цветастенькое запали. И тоже было с музыкой, увидев меня в наушниках, не раз подходила ко мне арбатская шушера: – От чего колбасишься, браток? Дай приколоться – и если музыка им нравилась, то легко можно было бы остаться без плеера. Но я слушал «Acid House» и потому ждал, пока надменное лицо предо мной скривиться и вернет плеер: – Это че за писк?! Ты, браток, обдолбился что ли чем? Мы, подобно дикарям, получивших вдоволь сверкающих стеклянных бус, искренне радовались пришедшей западной цивилизации. Восхищались красотой, наслаждались удобством импортных вещей. Ведь все западное, что попадало в наши цепкие ручки, было на порядок лучше, всего того мы видели здесь с рождения. Западные журналы и фильмы становились для нас эталоном для подражания. Нас не покидало чувство какой-то вседозволенности, ведь раньше нельзя было иметь такие вещи, ну или, по крайней мере, как-то нехорошо. Ведь мы были суровым трудовым народом, ведь нам было положено не выделяться, а выделяться богатством, в том числе хорошими вещами, считалось постыдным, и все эти цветастые буржуйские штучки существовали на каком-то полулегальном положении. Помню, как моя первая учительница, уже совсем старушка, во втором или третьем классе говорила нам: – Что.., нравятся вам американские карандаши? А знаете, почему они у них такие красивые? – и по той паузе, которую она здесь выдерживала, и по ее старческому осуждающему прищуру, становилось понятно, что всем нам сейчас станет совестно. – А потому, что у них не было такой страшной войны! Их страну так не разрушили! Они их как клепали, так и клепают! А нам пришлось все заводы строить заново! После этого становилось понятно, что мы народ-победитель и это гораздо выше хороших карандашей, и что мы должны разделять трудности нашей родины, также как и должны быть сопричастными к судьбе наших воевавших дедов, а потому должны иметь наши суровые карандаши, и не делать проблему из того, что они скорее процарапывают тетрадных лист, чем на нем пишут. И когда кто хвалился своей диковинной западной штучкой, было понятно, что это плохо, но в жизни случается, также как, когда трое в темном переулке бьют одного. Сникерсы стали продавать в «Союзпечати», появились первые западные магазины типа «Irish house» на Новом Арбате. Когда я впервые переступил его порог, мне показалось, что я попал в саму Ирландию: приятный запах, чистое ковровое покрытие, аккуратно разложенные вещи. Одновременно пришел страх, появилось ощущение, что меня тут же отсюда выгонят, потому что я, как объект, совершенно не вписываюсь в этот интерьер, и, казалось, даже порту его. Но меня не выгоняли, и тогда сильный страх переходил в трепетное волнение. Много раз видел я в магазинах щуку. Как-то, когда отдыхал у бабушки, шел с местным другом по мосту, под которым был пруд. Вдруг он мне сказал – смотри щука. Я увидел в воде достаточно большую палку или скорее ракету, которая, совершенно не изгибаясь телом, немного поворачивалась за счет боковых плавников – наводилась на цель. Подобное чувство я испытал и сейчас, те джинсы, которые выменивались и переменивались у коллег-утюгов на Арбате, теперь спокойно лежали в своем пруду – так вот откуда они берутся! 16 Скот лишил меня покоя. До обеда день шел неплохо, покупали немного, но я был целиком занят своим хозяйством, которое состояло из маек с надписями типа «Party is over» на фоне советского флага или «Mс Lenin’s» с силуэтом вождя на фоне макдональсовской М. Все утро меня не покидала надежда на «грядку фирмы» - сплоченную туристическую группу, которая могла в любой момент, подобно ветру, обрушиться на мой стол и скупить добрую половину хозяйства. Мой друг и компаньон Суй, как всегда по сравнению со мной взволнованный и подвижный, ходил вокруг меня и что-то говорил. Пришел Скот, Суй лишь немного скорректировал дугу, по которой он ходил вокруг меня, чтобы очутиться около него. Скот улыбался всепрощающей христианской улыбкой, как будто он принес нам всем спасение, и больше нет причин огорчаться или гневаться. На все вопросы Суя Скот утвердительно кивал, казалось, что он ждал каждого нового вопроса, как новую возможность своим согласием сделать Сую приятное и казалось даже, что если сейчас подойти к нему и как-то душевно попросить разрешения прожечь окурком его куртку, он поотечески махнет рукой и улыбнется. Когда Скот быстро ушел, мое хозяйство вдруг перестало меня волновать, больше того, расправлять майки и записывать в тетрадку сколько видов надо докупить стало резко скучно. В груди моей завелся шустрый зверек, он щекотал там своей пушистый шкуркой, отчего хотелось дышать глубже, чтобы прочистить легкие. Голова стала непроизвольно поворачиваться в сторону, куда ушел Скот. Я постарался успокоиться, сказав себе, а что собственно произошло? Че ты так разошелся то? Но понял, что состояния этого мне не изменить. Первым его увидел Суй. Уже издалека он, сияющий, начал нам кивать в сторону арки в доме на противоположной стороне Арбата. В подъезде, Скот достал маленьких кусочек пластилина: – Все делать? – Да, да, давай – нервно говорит Суй и потом с улыбкой мне – ты давай через раз, я то прикурился уже... Повисла пауза, дым, рисовал в воздухе невероятно красивые узоры, которые на глазах теряли свои очертания. Стараясь успеть увидеть последние серые закорючки дыма, я поднял глаза вверх и открыл для себя мир лепнины. Ничего себе! Угол, где стена сходилась с потолком, был украшен переплетенными стеблями винограда с листиками, цветочками и усиками. Листики были маленькими бледно-желтыми и так точно слеплены, что, казалось, покрась их в зеленый цвет и не отличишь от настоящих. Вокруг ярко синих цветочков насыщенно-серые стебли и усики скручивались и переплетались, образовывали дуги, по изгибам которых было приятно вести взглядом до следующего цветка. Как же прекрасно то открытие, которое происходит совершенно неожиданно и в совершенно обыденном месте! Сколько раз я бывал в подъездах старых арбатских домов! Когда то бывал очень занят – к примеру, прятал в трусы или носки валюту, но много раз просто стоял и курил или же ждал того же Суя, часто скучал или даже злился, а надо было просто поднять глаза вверх. – Да, потолки здесь высокие – одобрительно сказал Скот. Мир лепнины перестал для меня существовать, а потолки были действительно высокими. – Метров семь – предположил я. – А… ха-ха, ты чего дурак? Семь метров! Здесь можно тогда было бы еще один этаж построить – посмеиваясь, возразил Суй. – Ведь и в квартирах такие. Ни фига себе! Так жить! Как на стадионе! А спать как? Спишь, а над головой ветра дуют… – посыпал я вопросами. – Да в квартирах ниже потолки – возразил Скот. Я подошел к двери квартиры, надеясь увидеть на стене шов на том месте, где внутри находиться потолок. – Так ты не увидишь – сказал Скот – надо с улицы заглянуть. Он открыл окно и, высунувшись, пытался заглянуть в ближайшее окно квартиры. – Ну, в туалете точно ниже или туалет как шахта лифта получиться – серьезно сказал Суй. – Ну, если в туалете ниже, то и в ванной тоже – сказал, балансируя на подоконнике Скот 17 – Да, как так? В квартире одни потолки, а в туалете другие?! Что это у всего дома туалеты тогда ниже получаются? А на последнем этаже уже, наверное, на целый этаж ниже. То есть сидишь на толчке, а за стеной у тебя соседи?! – удивился я. – Да, на одном уровне, конечно, просто над туалетом есть пустоты – уверенно сказал Скот – И чего в этих пустотах? Мыши живут? Или… – Стоп, стоп! Подожди! – резко зашипел на меня Суй, его лицо выражало напряжение и искреннее недоумение – зачем мы потолки-то меряем?! Я уже готов был спорить, и доказывать, что везде, конечно, потолки одинаковые, ведь это так очевидно! Когда прозвучало слово потолок, все остальное перестало для меня существовать: мой одинокий стол на Арбате, около которого, быть может, давно крутиться фирма тыкая пальцем на майки и с фразой “This one, please”, ища меня глазами. Еще немного спора, чудь больше жара и я бы абсолютно серьезно позвонил в ближайшую дверь и стараясь быть вежливым, чтобы произвести хорошее впечатление на хозяев, потому что только расположив их к себе можно было узнать столь важный для меня ответ – позвонил бы и поинтересовался, сколько метров у них потолок в туалете. И мне уже представлялись добрые и отзывчивые люди, которые, конечно же, безоговорочно засвидетельствовали мою правоту, как единственное здесь проявление здравомыслия! При всем при этом, мне ни разу не пришла в голову простейшая мысль, а зачем мне знать какие здесь потолки? А если бы мне сказали любую другую фразу? Скажем, «грязные стекла», я бы не задумываюсь, все свои силы употребил, чтобы оценить степень загрязнения стекла, дату последней их мойки, вывел бы влияние сезонности на скорость загрязнения и безусловно бы спорил с пеной на губах по каждому из этих пунктов. От осознания этой своей беспомощности и от того каким дураком я только что был, мне стало невероятно весело. Подъезд наполнили звонкие раскаты смеха. Как раньше меня впечатлила лепнина, а потом увлекла высота потолков, так и теперь убивала на повал моя же глупость. Я еле успевал вдохнуть, как тут же проваливался в судороги радости. Скот также согнулся пополам и, не выпуская сигареты из зубов, часто кивал головой. Лишь Суй был непричастен к нашему веселью, подобно герою-зануде старой советской комедии, когда уже в конце все ее конфликты благополучно разрешены, герои счастливо дурачатся и зовут зануду с собой плюнуть на старые обиды, а он все еще стоит недовольно поджав губы и кажется уже весь зал кинотеатра сейчас закричит ему «да ладно, ну брось ты дуться», так и Суй стоял и недовольно смотрел на нас. На его лице было написано, ну вы чего как дураки из одной крайности в другую? Если я смеялся громко и звонко, то у Скота выяснилась противоположная особенность – его смех оказался беззвучным и слышно было лишь частое и глубокое дыхание, будто он задыхается от астмы. Поначалу мне показалось, что к нам с улицы прибежала большая и бодрая собака, и я даже стал искать ее глазами за Суем и Скотом. Суй, как и я, заподозрил по близости собаку и, видимо, даже успел перепугаться, но поняв, что это дышит Скот, наконец-то, тоже залился смехом. В голове много мыльных пузырей, они как будто чешут голову изнутри, в мышцах невероятная легкость, все плывет перед глазами, но упасть почему-то не страшно. Я совсем потерял логическую нить происходящего: я слышу дыхание и думаю «да где же эта чертова собака?!», я знаю, что уже слышал ее, но не помню, чем та ситуация закончилось – я же явно слышу собаку – она совсем близко, ну ведь она не может быть прозрачной, мой взор падает на согнутого пополам Скота и я вновь проваливаюсь в смех. Улица, но и она теперь совершенно другая: в постельных тонах, деревья, заборы, стены домов – все кажется мягким, плюшевым. Мы направляемся обратно в арку. Скот, наш арбатский товарищ – ни я, ни Суй толком не знаем его и откуда у него такое прозвище, но это и не важно – он «старый» утюг и через него можно замутить план. Скот идет передо мною: голова его не покрыта, далее кожаная куртка «косуха», ниже кожаные штаны, на ногах чоперсы i, которыми он гремит как солдат кирзовыми сапогами. Скот – байкер. Интересно.., а ведь он совершенно подругому одет и, наверное, у него есть любимый мотоцикл, и компания таких же отличных от нас с Суем людей. И тут я осознаю смысл байкерского движения, но не то поверхностное, что витает в воздухе про мотоцикл и вольный ветер, а истинную, глубинную их сущность. Это людиживотные! Точнее люди, в которых еще силен прошлый животный дух. И ведомые им, вполне возможно, сами того не разумея, они создали завуалированный культ поклонения животности. 18 Судите сами: байкеры без ума от рева моторов, подобно слонам они любят громогласно демонстрировать свою мощь, они предпочитают одежду из толстой кожи, которую не надо стирать, их не очень-то заботят вопросы гигиены – вонь бензина и дорожная грязь воспринимается байкерами как нечто естественное, наконец, они любят бороды и свободу в передвижении, куда захотел туда и поскакал. Боже! Как же раньше все эти факты не складывались у меня в одну прямую? Но хватит! Я вышел в шум Арбата, становиться страшно: такое ощущение, что я все бросил и уехал на месяц. Что же там с моим столиком, с моими маячками? Вдруг – мусора, прием, бандиты, грабеж…?! Ах, слава небесам, нет – все на месте и продавец с соседнего стола, такой родной сейчас, смотрит на меня и улыбается. Те времена были еще полны доброй советской глупостью, которая, впрочем, представляла реальную опасность для моего хозяйства. Официально никакой торговли на Арбате не было. И все эти, в общем то, неплохие, хоть и с некоторой ушловатостью во взгляде, молодые люди приехали сюда, чтобы показать иностранцам русское народное ремесло. Да, да, весь свой день они на то, чтобы у наших гостей осталось хорошее впечатление от пребывания в России. Однако, если кто-то из ремесленников поддавался на иностранную провокацию, если в чьей-то душе брала верх страсть к наживе и он был готов уже продать экспонат – конечно, на помощь приходила милиция. Которая, почему-то, не пыталась предотвратить преступление, а терпеливо, где-то за углом, ждала окончания сделки. Ну, это, видимо, чтобы не травмировать гостей столицы, потому что как только те уходили, она тут же оказывалась у стола…. Советские люди не привыкли противиться законам государства, но очень хорошо научились под них подстраиваться. И при этом, где то в воздухе, тут же писался новый рабочий закон, по которому все собственно и жили. Когда старший милиционер подходил к столу, то вежливо интересовался, сколько было продано. Согласно этому, витающему в воздухе закону, предполагалось, что утюг честно ответит и тогда, милиционер назначал сумму штрафа. Но побожески – так чтобы и утюгу что-то осталось! Если же утюг нарушал закон и пытался схитрить, допустим, говорил что продана одна майка, а милиционеры то, хоть и стояли за углом, но по ходу иностранца и своими глазами видели у него в руках все четыре! В таком случае, штраф назначался за четыре майки и был уже не божеским. Вечером, почти трезвый, я решил проехать часть пути домой на трамвае. Сидел в этом светящимся и стучащим колесами волшебном коробчонке и не мог оторвать глаз от окошка. Всякий раз после остановки трамвай быстро набирал скорость, неистово гремел и несся вперед, я думал о том, какой он тяжелый и мощный, как страшно было бы попасть ему под колеса, но здесь и сейчас так уютно и интересно. При мысли о сегодняшнем вечере приятная взволнованность перемещалась по моему телу мочалкой с маленькими иголочками и там, где она прикасались изнутри к моей плоти по коже бежали мурашки. Мне была свойственна робость и не выраженность чувств, памятуя, как в школе мои наивные реакции и необдуманные слова быстро обращались против меня насмешками или уже серьезными претензиями, я стал эмоционально ровным, чтобы прицепиться ко мне было сложнее. В этом своем замороженном виде, который, к тому же, из-за незначительной шутки в мой адрес, мог смениться обидой и агрессией, я, конечно, мало был интересен для общения. Но сегодня меня брали с собой на ночную «тусу». Боже, как много в той моей жизни было минусов, как порой тяжело мне было, но как же теперь я, более уверенный в себе и часто веселый, скучаю по тому восемнадцатилетнему чувству многогранности и непредсказуемости мира, когда вся жизнь была одним большим приключением. Мы встречались в десять часов вечера и что будет дальше никто не знал. Обычно начинался «замут» чего-нибудь веселого или «шарашущего» то, что сулило новыми впечатлениями, путешествием в другое измерение. Совершенно случайно, но и нередко, мы знакомились с разными интересными персонажами. Со спивающимся, и, отчего то, стремящимся общаться с молодежью новым русским (тогда слово бизнесмен в адрес наших граждан воспринималось иронично), который, подпив в нашей компании, вдруг мог сказать: 19 - а хотите ко мне в офис поедем?! Мы оказывались там, где днем взрослые люди делали серьезную работу, и там нам можно было все: ходить в грязной обуви, сидеть на столах, брать любые вещи, кидать их друг другу, даже забрать домой чей-то компьютер, или новенький телевизор из приемной генерального директора. Порой, знакомство случалось с растоманом какой-то породы – так мы назвали людей, которые употребление наркотиков возвели в некий культ и которые, заговорчески подмигивая, могли часами рассказывать о пользе этого употребления и о том, как много в жизни не понимают лохи никогда не пробывшие этот наркотик. Мы могли легко пуститься в откровенный криминал, например, разбить стекло и обворовать палатку. Могли вдруг уехать в Питер «чисто потусить», не зная куда, и толком не зная, как будем возвращаться. В компании нашей как-то сами собой моги появиться прекрасные девушки, и тогда у меня могла получиться телесная близость, такая редкая, желанная и важная для меня в те годы. Мы встречались и главной, единственной целью этой встречи было развлечь себя любыми доступными способами. Однажды, кто-то сказал, что в больнице можно купить морфин. Мы тихонько перелезли через забор большой районной больницы и стали рыскать по территории в поисках медсестер. Мое положение в компании было зыбким и я особенно старался быть забавным и полезным. Вот мы наткнулись на белый приближающийся к нам силуэт. Эта было женщина лет сорока, Аниськин скрывая волнение, непринужденно спросил: - Нам четыре, сколько они там? - Четыре чего? - Ну…, как всегда, морфинчика. Лицо женщины вытянулось - Морфинчика вам, как всегда….? Ну…, а я то тут причем? – тут она внимательно, как любила делать моя матушка, будто желая испепелить взглядом, стала рассматривать нас по очереди. Я с детства привык быть хорошим и всем взрослым нравиться, поэтому и теперь, будучи уже расцветающей дрянью, я все равно, видимо, благодаря своему поведению, умудрялся производить впечатление хорошего мальчика, просто попавшего в дурную компанию. Ее взгляд остановился на мне: - И давно…? Что без этого уже никак? - Да, - грустно протянул я – все понимаю, обязательно слезу, но только так сразу нельзя – плохо очень будет. - Откуда же у меня морфин!? Это вам в хирургию надо… - А наводочку не дадите? Женщина изумленно посмотрела на Аниськина: - Тебе что, стакан водки налить?! - Ай, нет, нет…, к кому в хирургии подойти? - Мне уже пора, тетенька, а то плохо очень станет – поймал я свою жалостливую волну. Да, никого я там не знаю, отставьте меня в покое! – будто очнувшись, проговорила женщина, и резко пошла прочь. Происшедшим был я весьма доволен. Что такое морфин я тогда не знал, а потому в нем не нуждался. Как спортивный кубок, его хотелось добыть, не потому что кубок этот состоял из золота, а только лишь как факт победы в игре. И сейчас мне удалось перед всеми проявить себя, показать, что и от меня есть польза общему делу, что и я могу ловко над кем-то посмеяться. Где-то глубоко проступал стыд, но я оправдывался, что поделаешь, если ее так легко надурить? И было мне тогда невдомек, что дело не в моих актерских способностях, а она, безусловно, поняла, что я играю, и грусть ее происходила от того, что в отличие от меня, она понимала, чем такие игры заканчиваются. Синие тучи лениво весят над Москвой. Постепенно они темнеют, очень хочется почувствовать сильную стихию, чтобы вдруг сильный ветер поднял гараж «ракушку», и как спичечный коробок и пронес со страшным воем мимо меня и, хотелось этого страшного и 20 приятное чувства – неужели такое может быть, неужели все это я действительно вижу. Однако московская природа редко балует нас такими катаклизмами. Я стою у метро с пакетом в руках. Вот подходит Аниськин, он доброжелательно здоровается и, невозмутимо, лезет в мой пакет, как в свой: - Ой, а что это у тебя в пакете, дай посмотреть? Журнальчик? а что за журнальчик? Я боялся, что он будет недоволен, увидев меня на месте общего сбора, и рад его приветливости, но и совершенно растерян от его бесцеремонности. Вот, наконец, осмотрев содержимое, он отпускает мой пакет, и я выдыхаю. Чуть вдали я различаю по походке пару - Суй и Ухан, первый из них плывет над землей – размашисто и неуклюже гребет ногами, как тюлень ластами. Ухан семенит подстраиваясь под походку Суя, он с ухмылкой поглядывает на нас и быстро говорит, видимо, хочет успеть что-то дорассказать. Мне мерещится заговор, что от меня могут соскочить, в какой-то момент, предложив немного подождать всех в укромном месте, или как-то подшутить, что было бы особенно досадным. - Здорово, ну че все нормально? – немного с грубинкой с голосе спрашивает Суй. - Да, все хорошо – после небольшой паузы мягко по-кошачьи отвечает Анискин - А че за хрень? Эта, что ли, питерская кислота? – щурится Ухан. Он вглядывается в глаза Анискина – ты чего уже залился? - Да, нет, нет. Зачем я без вас? – также после паузы с трагичной ноткой в голосе отвечает он. - Пойдем в дьяковскую девятиэтажку – предлагает Суй и мы гуськом спускаемся в переход. Кто-то нажарил картошки и котлет, выше этажом некто так громко говорит, что его дверь кажется бутафорской – мы пробираемся выше и приглядываем межэтажную площадку поспокойнее. Это место просто кишит людьми, их слышно со всех сторон, но они нас не видят, они даже не знают что мы здесь. Одно маленькое движение может сорвать все наши планы, но в эту секунду ни одна дверь не открылась и в следующую тоже. – Надо по вене, под язык может не торкнуть – слышу сзади голос Анискина – Егорка, а ты тоже будешь? – Да-а-а – говорю я с такой интонацией, как будто у меня чего-то отнимают, но я готов за это драться. – Да-а-а? Ну, смотри, а то как полезут чертики из-за всех углов… – Тихо! – говорит Суй и все останавливаются. Ухан деловито поднимается на этаж выше, и сосредоточено прислушивается, удовлетворительно кивает головой, и спускается к нам. Я чувствую, как быстро и, не сговариваясь, мы сплотились, сам становлюсь последним, и решаю, что буду контролировать этаж снизу. Анискин достает большой, 20-ти кубовый, шприц. У меня сразу возникает ассоциация с «Кавказкой пленницей», момент, когда самому толстому из злодеев подбирали шприц, чтобы вести снотворное. Ухан и Суй начинают нервно хихикать. – Есть новый баян… – говорит Анискин – Нет, нет – давай по кишке – вертит головой Суй – Открывай рот – тонкая, но мощная струйка бьет из шприца. Ухан уже встал рядом с Суем и готов открыть рот следом. – Ну, язык подними! – говорит Анискин Ухану. Потом подходит ко мне. – Я по вене. Суй подержи руку?! Суй раздражен, но все таки соглашается, Анискин сливает раствор в маленький шприц и дает мне. Меня несколько раз кололи, но сам себя я никогда. Вдруг мне становиться страшно втыкать в руку острую железку, но отказываться поздно. Суй пережимает руку в районе бицепса и все время меня подгоняет. Я подавляю волнение и решаю, что сделаю это как угодно и будь что будет… Перед глазами много мелких деталей: камушки грязи, спичка без серы, моя щека лежит на плитке. Слышу удаляющиеся прыжки по лестнице и крик Суя: – Эй, эй, стойте, этот скапытился! 21 В руке шприц с растровом. Я сразу понимаю, что потерял на доли секунды сознание, быстро вскакиваю как ванька-встанька, выливаю раствор себе в рот и бегу вслед за Суем: – Да, нет, нет, все нормально, я решил тоже залиться. Мы долго бродим по району, передо мной меняется хоровод знакомых и незнакомых людей. Все они в небольших компаниях или парочками, к кому-то подходим мы, кто-то сам подходит к нам. Я пытаюсь уловить тот момент, когда меня начнет накрывать, но тщетно. Я подобен немощному старику, который решил собрать в лукошко котят – вот он с трудом схватил одного, тот извивается и кусается, а остальные сейчас же устроили чехарду, стоит на секунду отвлечься на них, как из рук уже выскользнул первый. К счастью, я забываю о этом желании и прекращаю попытки контролировать свои мысли. Напряжение в теле проходит. Начинаю просто как-то жить. Тучи не просто темные, а какие-то уже зловещие, появляется ощущение, что просто так таких туч не бывает – это знамение. Я не только вижу, но отчетливо чувствую их холодную влажность, они так близко, что кажется, сейчас прикоснутся своим мягким и вязким телом к моей макушке. Становиться холодно, очень хочется кого-то обнять, все равно кого – всякая брезгливость уходит, просто чтобы почувствовать тепло другого человека. Так очевидно, что печки и батареи – это лишь синтетический заменитель, это тяжелое, удушающие тепло, как жар во время болезни, а настоящее приятное и полезное тепло в этом мире исходит только от людей. Я начинаю понимать, что всегда жил среди больших туч, белых и синих, что тучи эти как будто моя родина, мне даже припомнилось, как, вроде, я шел мимо какого-то большого облака (оно, как гора, начиналось у моих ног) и дивился его причудливой форме… какое-то знакомое лицо предо мной улыбается, потом выпрямляет губы в две четких прямых и на них, как на струнах гитары появляется вибрация. Я понимаю, что это Грач: – Ха-ха-ха, ой, а что это у нас с Егоркой?! Тучки красивые?! Ха-ха-ха, да тучки действительно красивые, но слюнки-то терять не надо… Есть у тебя платочек (достает из моего кармана платок), есть у нас платочек, сейчас вытрем Егорке слюнки, а то вдруг дядя милиционер пойдет мимо и подумает, а что это у такого большого мальчика и слюнки текут? Грач добродушно улыбается, он не брит, от него пахнет сигаретами. Мне безумно хочется его крепко и надолго обнять, так, чтобы соприкоснуться щеками. Я боюсь, что далекое и глубокое во мне подсказывает, что в этом состоянии лучше ничего не делать. Вот и не стало рядом ни Грача, ни Суя, ни Ухана, ни Анискина. Иду с какой-то компанией кому-то домой, в воздухе витает: «а потом поедем в клуб» – эту мысль, подобно мячику, подкинули над головой, и теперь не дают ей упасть, кто-то спрашивает в какой клуб, кто-то предлагает, кто спорит, кто вспоминает забавную историю во время прошлого похождения. Свет в квартире не зажигают, люди расходятся по комнатам, квартира представляется волшебным царством: непонятно, где окна, а где картины, невидно, сколько дверей и где заканчиваются стены. Балкон с низкими перилами, вокруг меня много людей, сверху срывается голубь, и летит строго от нас – кажется, что он висит на месте. Женский голос рядом заголосил нараспев «вау, птички, вот бы сейчас полететь как птичка!» Вниз этажей десять, думаю, если прямо сейчас прыгнуть, то еще можно схватиться за голубя. Я понимаю, если прыгну – разобьюсь, но страха нет совсем. Мысль о том, что если я окажусь за балконом, то как камень полечу вниз, кажется, примитивной. Да, с одной стороны, я знаю, что можно и упасть, но с другой – там между балконом и землей точно есть что-то еще и, если прыгнуть – сначала попадешь в это нечто, где сейчас висит голубь, а вот куда из него выйдешь – неизвестно. Опять что-то глубокое велит мне уходить с балкона. Сижу или лежу в комнате, не могу понять один я или нет – стены представляются условностью, жирными линиями, нарисованными на полу и тоже, что и на балконе странное двоякое чувство: я знаю, что стены есть, но я и точно знаю, что за ними происходит, как будто их нет. Подхожу к телефону, звоню Сую домой, перед глазами четкая картинка: я со стороны вижу одновременно и себя с телефоном в руке на 10 этаже шестнадцатиэтажки и дом Суя, где он на своем четвертом идет к телефону. Стены не то что бы прозрачные, они просто не мешают мне все это видеть, главное, вижу, что нахожусь в одном 22 квадрате пространства, а Суй в другом и эти наши квадраты по разному окрашены, но дело не разном освещении, светиться как бы сущность, энергетический заряд квадрата. - Да, что-то, денег не намутили… я дома – на выдохе говорит Суй. - Поехали в Эрмитаж, там сегодня техно фестиваль – говорю я, и удивляюсь своему металлическому голосу. - Да лавэ нет, на что ехать? - Кинем такси, а там пролезем - Ты останешься? И туда и обратно? Это означает, что по приезду Суй типа пойдет за деньгами, а я останусь с водителем, а потом типа пойду подгонять застрявшего дома Суя. Эта роль при кидалове опасна, но сегодня этой мой билет в клуб, я говорю да и мы едем. На следующий день я, Суй и Анискин едем в метро на Арбат. Мы наперебой рассказываем Аниськину как круто сходили ночью в клуб. По приезду в сад Эрмитаж, я так вдохновился доносящейся музыкой, что фантастическим образом просочился между прутьями забора, просто как-то пролез. Теперь у меня сильно болела грудь, но боль эта меня не тяготила, напротив, она была подтверждением моего геройского поступка. Суй, к моему большому удовлетворению, свидетельствовал Анискину, что встал как вкопанный, когда я вдруг оказался уже за забором, и что самому ему пришлось лезть поверх забора. А бодрый утренний поезд гремел, и несся в центр Москвы. i Чоперсы – кожаные сапоги с тупым носом для удобной езды на мотоцикле. 23