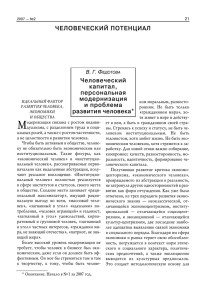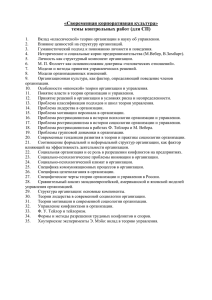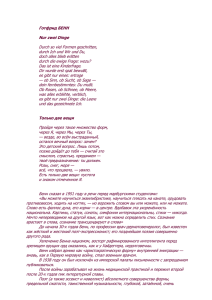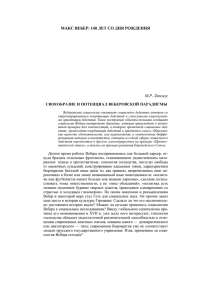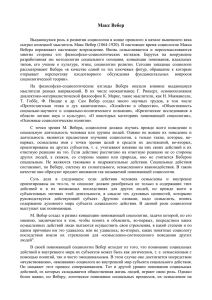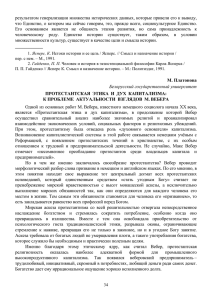идеи, интересы и их исторические «констелляции
advertisement
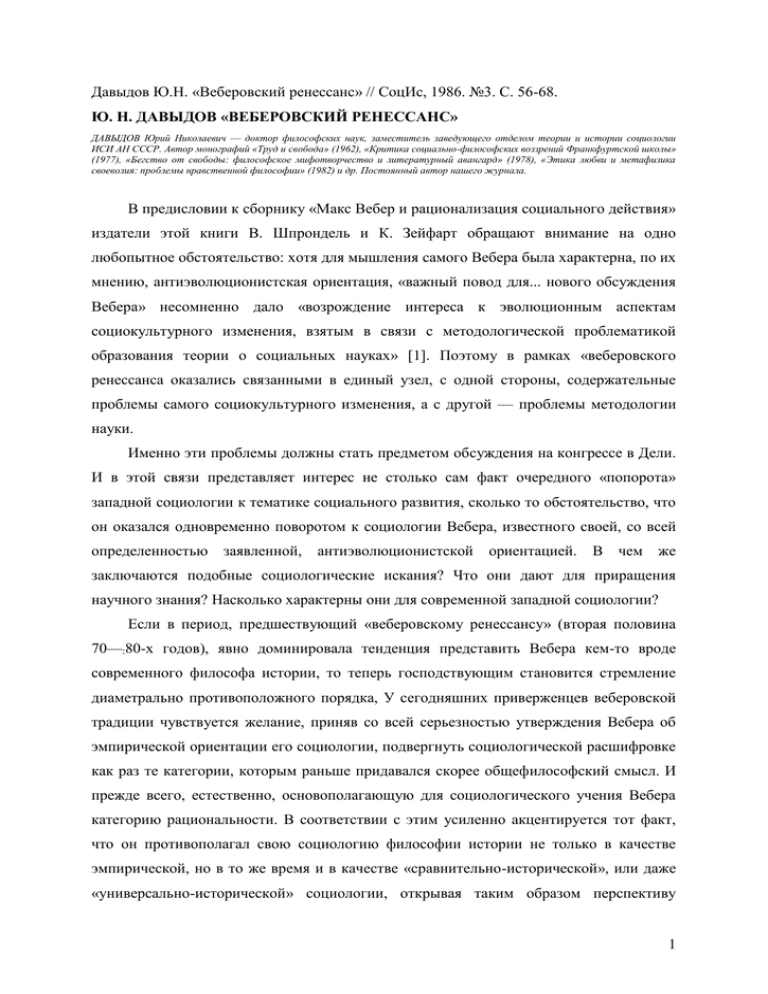
Давыдов Ю.Н. «Веберовский ренессанс» // СоцИс, 1986. №3. С. 56-68. Ю. Н. ДАВЫДОВ «ВЕБЕРОВСКИЙ РЕНЕССАНС» ДАВЫДОВ Юрий Николаевич — доктор философских наук, заместитель заведующего отделом теории и истории социологии ИСИ АН СССР. Автор монографий «Труд и свобода» (1962), «Критика социально-философских воззрений Франкфуртской школы» (1977), «Бегство от свободы: философское мифотворчество и литературный авангард» (1978), «Этика любви и метафизика своеволия: проблемы нравственной философии» (1982) и др. Постоянный автор нашего журнала. В предисловии к сборнику «Макс Вебер и рационализация социального действия» издатели этой книги В. Шпрондель и К. Зейфарт обращают внимание на одно любопытное обстоятельство: хотя для мышления самого Вебера была характерна, по их мнению, антиэволюционистская ориентация, «важный повод для... нового обсуждения Вебера» несомненно дало «возрождение интереса к эволюционным аспектам социокультурного изменения, взятым в связи с методологической проблематикой образования теории о социальных науках» [1]. Поэтому в рамках «веберовского ренессанса оказались связанными в единый узел, с одной стороны, содержательные проблемы самого социокультурного изменения, а с другой — проблемы методологии науки. Именно эти проблемы должны стать предметом обсуждения на конгрессе в Дели. И в этой связи представляет интерес не столько сам факт очередного «попорота» западной социологии к тематике социального развития, сколько то обстоятельство, что он оказался одновременно поворотом к социологии Вебера, известного своей, со всей определенностью заявленной, антиэволюционистской ориентацией. В чем же заключаются подобные социологические искания? Что они дают для приращения научного знания? Насколько характерны они для современной западной социологии? Если в период, предшествующий «веберовскому ренессансу» (вторая половина 70—:80-х годов), явно доминировала тенденция представить Вебера кем-то вроде современного философа истории, то теперь господствующим становится стремление диаметрально противоположного порядка, У сегодняшних приверженцев веберовской традиции чувствуется желание, приняв со всей серьезностью утверждения Вебера об эмпирической ориентации его социологии, подвергнуть социологической расшифровке как раз те категории, которым раньше придавался скорее общефилософский смысл. И прежде всего, естественно, основополагающую для социологического учения Вебера категорию рациональности. В соответствии с этим усиленно акцентируется тот факт, что он противополагал свою социологию философии истории не только в качестве эмпирической, но в то же время и в качестве «сравнительно-исторической», или даже «универсально-исторической» социологии, открывая таким образом перспективу 1 конкретно-социологического изучения тех измерений истории, которые могли казаться недоступными для детальной социологической артикуляции. В русле этого «сравнительно-», или «универсально-исторического» подхода и получает свою собственно социологическую функцию такая общая категория веберовского учения как рациональность. Неовебериански ориентированная социологическая мысль вновь оказывается в той же самой ситуации, в какой в свое время оказался и Вебер. В работах его последователей (или благожелательно настроенных истолкователей) ощущается, с одной стороны, стремление «критически дистанцироваться» от материалистического понимания истории, а с другой — неспособность последовательно развить «альтернативную» концепцию, ведущую к новым и новым (подчас, весьма далеко идущим) заимствованиям из марксистского учения. И подобно тому, как сам Вебер оказывался в конце концов где-то посредине между марксизмом и идеалистической философией истории, его нынешние приверженцы продолжают колебаться между веберовским учением и различными вариантами «западного марксизма» (в основном неомарксистского типа). Причем — что весьма показательно — в этих своих колебаниях нынешние веберианцы вновь артикулируют ту проблематику, что уже была однажды предметом полемики между марксизмом и буржуазной социологией. ИДЕИ, ИНТЕРЕСЫ И ИХ ИСТОРИЧЕСКИЕ «КОНСТЕЛЛЯЦИИ» Индивидуальный интерес и логика рациональности. На фоне «поворота к Веберу», который предчувствовался уже в работах начала 70-х годов, отражавших общую неудовлетворенность господствовавшими «социологическими парадигмами»1, можно, пожалуй, понять тот — опять-таки не лишенный парадоксальности — резонанс, который, несмотря на все свои недостатки, вызвала статья Ф. Тенбрука «Творчество Макса Вебера». По-прежнему представляя Вебера главным образом как философа истории, конструирующего абстрактную схему исторического процесса, причем едва ли не чисто умозрительным способом, автор статьи как бы завершает линию социально-философского истолкования веберовской концепции рациональности. Но в то же время он дал новый импульс и более конкретным толкованиям веберовского учения, в частности по вопросу об источниках и движущих силах общественного развития. Напомним, что период, предшествующий «повороту к Веберу», отмеченному статьей Тенбрука (как и вышедшей в том же, 1975, году книгой И. Вайса «Обоснование 2 социологии Максом Вебером» [2, 3]), характеризовался стремлением толковать веберовское учение в духе сравнительно-типологического подхода. Сообразно с этим Веберу приписывалась концепция, согласно которой развитие Запада в Новое и Новейшее время объясняется однократной исторической «констелляцией» (случайным сочетанием разнородных факторов), которая оказалась иной, чем «констелляции», обусловившие направление эволюции восточных цивилизаций. Фактически все сводилось к утверждению этой «однократности», по сравнению с которой вопрос о последующей эволюции возникшего таким образом культурно-исторического типа утрачивал свою значимость. «Синхронии» отдавались все предпочтения перед «диахронией», так как последующее развитие однажды возникших «констелляций», казалось, не прибавляло к ним ничего существенно нового. На этом фоне приобретает особое значение уже сам поворот к эволюционно-теоретическому осмыслению социологии Вебера, к акцентированию в его наследии всего того, что способствовало анализу динамики исторического развития. Он-то и обеспечил повышенный интерес к статье Тенбрука, дававшей повод для размышления о нетрадиционных вариантах «эволюционной парадигмы», которая однажды уже обнаружила свою несостоятельность. Дело в том, что и сам Тенбрук пытается, опираясь на «антиэволюциониста» Вебера, отойти от традиционного однолинейного понимания исторической эволюции, явно не выдержавшего испытания временем. В его концепции (приписываемой комментируемому им автору) поток исторического развития хотя и имеет общий исток, но все-таки не остается равным себе, разветвляясь в связи с радикальными решениями, принимаемыми людьми на переломных этапах эволюции — на ряд обособленных рукавов. Таким образом в общую картину эволюционного процесса вписывается «дерево решений», определяющих направление исторических поворотов, которые расщепляют единый поток социально-культурного развития на его различные модификации. Правда, во всех случаях подобных метаморфоз прослеживается, согласно Тенбруку, главное направление эволюции: всемирно-историческое развитие Запада, по сравнению с которым другие («незападные») варианты эволюционного процесса рискуют показаться побочными ветвями эволюции, если не выпасть из нее вообще. В рамках своей концепции Тенбрук не мог обойти и вопрос об источнике этогоразвития: движущим механизмом у него оказалась имманентная логика развития «картины мира», вызываемая необходимостью ее рационализации. Тайна этого 3 механизма предстала в тенбруковой концепции как некая антропологическая константа — неистребимая потребность человека найти объяснение непосредственно переживаемой им иррациональности мира, т.е. открыть для себя его смысл. Движимый этой изначальной? потребностью, человек выстраивает «картину мира», в рамках которой он по возможности более последовательным, логически непротиворечивым и в этом смысле рациональным образом решает для себя проблему смысла, Таким образом, рациональность,, рационализация — это основное средство построения «картины мира», которое толкуется на чисто идеалистический манер, заставляя вспомнить о гегелевском панлогизме. А Вебер со своей концепцией рациональности выглядит как типичный философ истории. Резюмируя, «позднюю социологию» Вебера, Тенбрук приписывает ему взгляд, согласно которому хотя интересы индивидов и являются непосредственными импульсами человеческих действий, общее направление истории зависит от долговременных процессов, определяемых идеями. Таким образом, получается нечто вроде гегелевской картины исторического развития: каждый из людей действует во имя собственного интереса, но все они вместе только «льют воду истории на мельницу идей» [4, S. 648]. Динамика их собственной логики делает идеи указателями путей истории — таков, согласно автору статьи, основной вывод веберовских исследований в области «этики мировых религий» [4, S. 585]. Что же касается самой конкретной деятельности людей, то она оказывается лишь бессознательным осуществлением предначертаний идей, подспудно управляющих универсально-историческим процессом. Таким образом толкуется в статье Тенбрука знаменитое веберовское высказывание, до сих пор являющееся предметом ожесточенных споров между интерпретаторами Вебера: «Не интересы (материальные и идеальные), не идеи непосредственно господствуют над поведением человека, но „картины мира", которые создавались идеями. Они, как стрелочники, очень часто определяли пути, по> которым динамика интересов продвигала дальше (человеческое) действие» [5, S. 252]. В свете такого толкования Вебер оказывается представителем «спиритуалистического», по выражению одного из критиков Тенбрука, понимания истории, а веберовская «поздняя социология» зачисляется, как ни парадоксально, в разряд эволюционистских ориентации [2, S. 682]. Характерно, что фундаментальные идеи, структурирующие, согласно тенбруковскому толкованию Вебера, всемирно-исторический процесс, замыкаются в кругу религии. Вопрос о роли идей и интересов в социально-историческом развитии у 4 Вебера, если верить его комментатору, решается путем выяснения исторического значения основополагающих религиозных учений [2, S. 677]. «Решающим открытием для Вебера,— пишет Тенбрук,— было постижение того, что ... рационализация (общественной действительности.— Ю. Д.) осуществлялась под давлением внутренней логики, которая обеспечивалась неудержимым стремлением к рационализации религиозных идей» [2, S. 675]. Однако всякая рационализация, как утверждает комментатор, для Вебера неизменно была «расколдовыванием» того, что рационализуется, лишением его покрова тайны, своеобразного магического ореола. Первым актом подобного «разволшебствления» было превращение первобытной магии в рационально артикулированную религию. Затем этот акт повторялся в сферах, все дальше и дальше отстоящих от собственно религиозной, сопровождаясь «расколдовыванием» человеческого мира и отчуждением его от человека. Стремление к последовательному рациональному развертыванию религиозной «картины мира», из которого Тенбрук (рассуждающий не только от имени Вебера, но и за пего), хочет вывести процесс всемирно-исторического развития, обращается здесь против самого себя. За всю последующую рационализацию мира, за его тотальное «расколдовывание», в том числе и за вытекающую отсюда антирелигиозность, оказывается ответственной именно религия. Она сама дала «бесконечный толчок» процессу, сформировавшему мир, в котором для нее не осталось места. Стремясь в полемике с современными «неомарксистами» опровергнуть марксистское положение о том, что идеи посрамляются всякий раз, когда они сталкиваются с интересами, Тенбрук доказал гораздо больше, чем хотел. Утвердив примат идей, послушных одной лишь внутренней логике, над интересами, комментатор Вебера, сам того не заметив, открыл в глубинах этой логики ее собственный, так сказать, «логический интерес» к самоцельной реализации. Причем оказалось, что интерес этот склонен пожирать любое содержание, на почве которого он возникает. Идеи восторжествовали над интересами в качестве одержимых едва ли не безумным интересом к бесконечной, самодавлеющей, ничего кроме самое себя не желающей знать и в этом смысле одичавшей рациональности, оставляющей позади пустыню бездуховности, скрежещущий формализм. Социальные детерминанты процесса рационализации. Положительные моменты тенбруковской интерпретации Вебера не могли перекрыть ее очевидных слабостей и натяжек; наоборот, они скорее привлекали критическое внимание социологов, особенно неовеберианской ориентации. Один из таких критиков—М. 5 Ризеброд [6], сопоставляя тенбруковское истолкование с собственными текстами Вебера, обращает внимание на следующие немаловажные моменты: «В то время как Вебер приписывает „картинам мира" определенную функцию стрелочников — указателей пути, у Тенбрука в той же связи идет речь об идеях, которые он в другом месте определяет как синоним религии. В то время как Вебер говорит о „динамике интересов", у Тенбрука получается „динамика идей". В то время как Вебер говорит о „самозаконности" (подвластности своему собственному закону,— Ю. Д.) различных ценностных сфер, Тенбрук использует понятие „собственной логики", ограничивая ее сферу религией и приписывая этой специфической самологике собственную динамику, которая якобы продуцирует процесс рационализации. Тем самым Тенбрук неявным образом предполагает, будто Вебер пожертвовал своей концепцией внутренней независимости факторов в пользу объяснения по образцу апелляции к „конечной инстанции"» [6, S. 119—120]. Подчеркивая в противоположность Тенбруку социологический аспект проблематики «картины мира», Ризебродт сосредоточивает внимание на «концепции спасения», поскольку в ней находит свое выражение связь между «картиной мира» и соответствующим типом деятельности человека. Согласно Веберу, «концепция спасения» существовала с незапамятных времен, однако своего специфического значения она впервые достигла лишь там, где представала в качестве систематической рациональной «картины мира» и, соответственно, позиции по отношению к миру [9, 1, S. 252]. Что же касается идей, то по утверждению Ризебродта, их социальная значимость вторична, по крайней мере в том смысле, что она опосредуется «картиной мира», имеющей отнюдь не одни только логически-рациональные источники. У самого Вебера идеи представляют собой конечный продукт процесса рационализации, осуществляемого в рамках и на основе той или иной «картины миря», причем сам этот процесс «соопределяется» как интересами общественного слоя, к которому принадлежат носители этих идей, так и заранее данными «последними ценностями» [6, S. 120], отнюдь не религиозного происхождения. А это значит, что Тенбрук, приписывающий комментируемому им происхождении идей, его институционализированные толкует в „картинах автору мысль абсолютно мира",— о чисто ложно, не чисто религиозном ибо «идеи, религиозного происхождения», да и собственно религиозные идеи получают здесь «специфическую чеканку», которая сильно зависит от других факторов — экономических, политических и т.д. [6, S. 120]. 6 При последовательной рационализации общая цель «спасение» — все теснее сопрягается с каким-нибудь одним из возможных «путей спасения». В этом смысле, согласно Ризебродту, Вебер и приписывает «картинам мира» историческую действенность, отмечая, что «степень рационализации религиозных идей и тем самым их специфического влияния на исторический процесс, существенно зависит ... от слоя носителей этих идей и, следовательно, от идеальных и материальных интересов этого слоя» [6, S. 121]. Развивая дальше этот веберовский тезис, Ризебродт делает вывод, что источник социально-исторического процесса рационализации заключается не в «собственной логике» («самологике») религиозных идей, а в специфической потребности интеллектуалов иметь замкнутые, непротиворечивые, чистые мыслительные построения, которые имеют хождение главным образом в их собственной среде. Направление же, в каком протекает этот процесс рационализации, «зависит от предпосылок, которые сами иррациональны» [6, S. 122J. Иначе говоря, идеалистически исторического и интеллектуалистски процесса, идею ориентированной которой Тенбрук «монокаузальности» находит у Вебера, противопоставляется мысль о «соучастии» различных факторов — как идеальных, так и материальных — в структурировании этого процесса. Выдвигая против Тенбрука этот аспект веберовского учения, Ризебродт оказывается в русле основного устремления «веберовского ренессанса» с характерным для него акцентом на анализе социологической механики возникновения, развития, словом «судьбы» религиозных идей. Правда, не выяснив общего принципа, на основе которого происходит «соопределяющих» сочетание исторический идеальных процесс и материальных рационализации, критик факторов, Тенбрука оказывается перед необходимостью ссылаться на некий «х» как раз там, где требуется конкретное социологическое объяснение тех или иных решающих, поворотных моментов этого процесса. Ибо таков, основной методологический недостаток «теории факторов», на позиции которой отступает Ризебродт в ходе своей полемики против тенбруковского истолкования Вебера, в духе идеалистического монизма. В ряде случаев стремление расшифровать социологически факторы духовного порядка приводит этого автора к формулировкам, довольно близким к марксистским; однако за счет этих формулировок ему не удается преодолеть релятивистского «плюрализма» (если не сказать — эклектичности) своей общей позиции. «ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ СРОДСТВО» ИСТОРИЧЕСКИ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ 7 Институционализация идей ФАКТОРОВ и интересов как осуществление их «избирательного сродства». В отличие от Ризебродта, другие современные комментаторы и прежде всего В. Шлюхтер, толкующий веберовское учение в духе «диалектической» версии, критического рационализма, отчетливо представляют себе теоретико-методологические трудности, возникающие при попытке сослаться на историческую «констелляцию» различных факторов в целях объяснения того или иного радикального поворота эволюционного процесса. В центре его внимания находится как раз вопрос о принципе связи разнообразных и разнокачественных «факторов» — и прежде всего идеальных и материальных, который Ризебродт так и не артикулировал для себя с необходимой отчетливостью. И для того, чтобы решить этот вопрос, Шлюхтер обращается к одному из малопроясненных понятий веберовского социологического учения — понятию «избирательного сродства», заимствованному Вебером у Гёте и примененному для объяснения типа взаимодействия разнокачественных исторических факторов. С точки зрения Шлюхтера, Вебер, не оспаривая тривиальных прав ни идеалистического, ни материалистического понимания истории, предложил диалектическое решение проблемы взаимоотношения идей и интересов в ходе исторического развития. Он (таково мнение его комментатора) выделяет не два, как обычно полагают вебероведы, а три основополагающих отношения: идей друг к другу, идей и интересов и наконец, идей, интересов и организаций, в лоне которых осуществляется институционализация как первых, так и вторых. На почве третьего из выделенных здесь отношений и находит, если верить Шлюхтеру, свое диалектическое разрешение антиномия идей и интересов, так как именно в процессе их организующей ипституционализации обнаруживается самое главное и основное — «избирательное сродство между ними, которое является также избирательным сродством между „образом" и „духом" [7, S. 12]. В социальном институте (организации) гарантируется соответствие, соразмерность идей и интересов, задается норма их отнесенности друг к другу, «Избирательное сродство» заключается в том, что определенная идея (группа идей) вызывает определенный интерес и, наоборот, определенный интерес (сочетание интересов) предполагает соответствующую идею. «Это соображение,— рассуждает далее Шлюхтер,— ставит макросоциологический анализ в позицию двойной перспективы: социальное действие можно понимать и как выражение 8 институционализированных интересов, и как манифестацию институционализированных идей» [7, S. 12]. Причем и в первом и во втором-случае предполагается «диалектическая связь» идей и интересов — «связь функциональности и самозаконности (подчиненности исключительно своей внутренней закономерности.— Ю. Д.)» [там же]. Дело в том, что «социологически релевантны», то есть выступают в качестве значимых явлений социальной жизни, не просто идеи, но «идеи,, вызывающие интерес», и не просто интересы, по «интересы, подвергнувшиеся интерпретации» [там же]. Л это и обеспечивает их неслучайную внутреннюю связь друг с другом, которая и обнаруживается в случае их взаимного сопряжения (организации) в лоне социальных институтов. Здесь-то они и выступают одновременно и как функционально обусловленные, и как развертывающиеся в соответствии со своей внутренней логикой (что обеспечивает тривиальное право идеалистическому толкованию интересов, поскольку они всегда выступают как осмысленные, а их логика — как содержательно-смысловая). А отсюда следует, по Шлюхтеру, что «во-первых, общественная формация состоит не только из классов, сословий и партий, но из ценностных сфер, из внутримировых порядков, которые подчинены собственной „прагме" (здесь „логика дела".— Ю. Д.) и в которых поэтому специфически для каждой области реализуется избирательное сродство „образа" и „духа". Во-вторых, эти внутримировые порядки находятся в исторически определенном отношении друг к другу, так что преобладание одного из них над остальными меняется, а вместе с ним меняется и доминирующий жизненный стиль, специфичный для данной области» [7, S. 13]. В связи с этим каждый из веберовских терминов, которыми оперирует Шлюхтер, оказывается у него двух- или даже многоаспектным. Особенно это касается понятия рациональности и рационализма, которое Шлюхтер считает основополагающим в веберовской «социологии истории». «Рационализм,— пишет он,— означает, noпервых, способность овладения вещами с помощью расчета. Он является следствием эмпирического знания и практических возможностей, следовательно, представляет собой научно-технический рационализм в самом широком смысле слова. Во-вторых, рационализм означает систематизацию смысловых связей, интеллектуальную переработку и научную сублимацию осмысленных целей. Он есть следствие „внутреннего принуждения", побуждающего культурного человека не только постигать мир как осмысленный космос, но также занимать по отношению к нему определенную позицию и, стало быть, является метафизически-этическим рационализмом в самом 9 широком смысле. Но рационализм означает, наконец, также выработку методического образа жизни. Он — результат институционализации смысловых связей и интересов, следовательно, представляет собой практический рационализм в самом широком смысле» [7, S. 10]. В данном случае Шлюхтер пользуется термином «рационализм», а не «рациональность», беря его в самом широком социокультурном смысле, который сопрягает с понятием «картины мира». На этой основе он хочет реконструировать веберовскую концепцию происхождения и современной формы «западного этоса», ответив одновременно и на вопрос об «этическом жизненном стиле», соответсвующем современному обществу [7, S. 13]. В этой постановке проблемы Шлюхтер близок другому неовеберианцу— Вайсу, который также убежден, что «определяющий вопрос, который фигурирует как высший пункт ориентации веберовских исследований,— это вопрос о происхождении современного западного рационализма» и что «проблема для Макса Вебера не стоит (как зачастую у других авторов) в форме простой альтернативы: здесь — религия, там — рационализм, при которой рационализация мира была бы тождественна распаду религии в любом смысле этого слова» [3, S. 152]. Религия ведь тоже определенная форма рационализации и «расколдования» мира,— и вопрос, следовательно, в том, по какому пути пойдет этот процесс, какое направление он выберет. Направление же это, согласно Веберу, задается именно «картиной мира», в рамкax которой определенный круг идей сопрягается с соответствующим кругом поступков, в силу чего и выявляется внутренняя связь «картины мира» с «это-сом», этическим стилем жизни, образом жизни вообще. Отсюда — особый интерес как самого Вебера, так и его комментатора к сопоставлению различных типов религиозного отношения к миру, которое само, в свою очередь, выясняется на основе сравнения развития религиозных идей и связанных с ними «картин мира» [7, S. 13], «картин мира» и сопряженных с ними этических стилей, образов жизни. «Картина мира» и образ жизни. В своем стремлении выделить специально социологический аспект религии Вебер шел, отправляясь от рассмотрения того, какой «хозяйственный этос», какой экономический стиль поведения, деятельности, практической жизни вообще находится в отношении «избирательного сродства» с соответствующим комплексом религиозных идей, которые сами, в свою очередь, артикулируются в рамках соответствующей «картины мира». На основе сопоставления различных религий, он сделал вывод о существовании трех основных типов отношения 10 к миру, различающих эти религии в этическом аспекте: «бегство от мира», характерное для индуистского и буддистского типа религиозности, «приспособление к миру», отличающее конфуцианство и даосизм, и «овладение миром», составляющее особенность иудаистского и христианского мировоззрений. Однако, подчеркивает комментатор веберовской социологии религии, между этими различными типами можно установить и некоторую внутреннюю общность. Индийская религиозная традиция, с одной стороны, и иудаистско-христианская — с другой, обе являются формами неприятия мира, его отрицания. Только в первом случае оно побуждает бежать от мира, а во втором — овладевать им, преобразовывать его. В лоне восточных религиозно-этических воззрений взгляд на божественное как «вечный порядок» с необходимостью рождал идею человека — «сосуда», а не «орудия». С этими представлениями, в свою очередь, связаны основополагающие установки, определяющие этический стиль, образ жизни людей. Взгляд на человека как на «орудие» внутренне сопряжен с установкой на аскезу (индивид должен неустанно совершенствовать себя как деятельный инструмент божественной воли), тогда как представление о «сосуде» скорее связано с созерцанием, с мистикой [7, 17—181. В одном случае конечной целью человеческой жизнедеятельности оказывается действие, активность, в другом — «мудрое недеяние», пассивность. Таковы две существенно отличающиеся друг от друга формы теоретического рационализма, которым на практике соответствуют «рациональное формирование земных порядков с помощью образа жизни, методически ориентированного на внешний успех», с одной стороны, и «относительно •индифферентное по отношению к миру, во всяком случае безропотное принятие данного социального порядка» [7, S. 18] —с другой. Представив таким образом веберовское понимание самых общих источников своеобразия христиански-западного типа развития, объясняющих возникновение современного капитализма, Шлюхтер видит свою задачу в том, чтобы выразить этот исторический процесс в понятиях диалектики. Он вновь возвращается ко временной рацирна-лизации магической «картины мира», которая привела к расколу прежнего «непосредственного единства события и значения» [7, S. 20], разрушив тем самым «изначальную непосредственность отношения человека к внешнему миру и вызвав к жизни чреватый напряжением дуализм [5, 1, S. 541]. Источником напряжения в рамках дуалистического религиозного воззрения является, по Шлюхтеру, разлад между постулируемой религией идеей божественного совершенства и несовершенством мира, Степень же этого напряжения зависит от того, как, каким образом «рационализируется 11 религиозно-дуалистическая „картина мира" и в каком направлении эта рационализация будет протекать в последующем» [7, S. 19]. Перед людьми вообще, а перед интеллектуалами в особенности возникает задача как-то преодолеть подобное «двоемирие», создав единство па почве, расколотой дуализмом земного и небесного миров. По логике комментатора, люди могут справиться с возникшим здесь напряжением только путем все той же рационализации, которая, дав человеку определенную степень свободы по отношению к миру, вместе с тем ввергла его в конфликт с ним. А потому все попытки ликвидировать напряжение таким способом не могут устранить его фундаментального источника. Здесь — трагическая диалектика: «чем свободнее рационализируются земные порядки по своим собственным законам, тем яснее, следовательно, становится расхождение, существующее между религиозным постулатом и эмпирическими реалиями», и тем настоятельнее, стало быть, выступает требование «на почве дуализма мысленно создать единство» [7, S. 20]. Решением проблемы, вытекающей из религиозного дуализма, в рамках теоретического рационализма была теодицея, в частности индийская, которая предлагает онтологическую интерпретацию этого дуализма, толкуемого как противоположность — по словам Вебера — «преходящих событий и действий в мире застывшего, покоящегося вечного порядка бытия и тождественного этому порядку божественного начала, неподвижно пребывающего в сне без сновидений» [8, S. 319]. Диаметральную противоположность индийской теодицее представляет христианскизападная, самым последовательным образом выразившаяся, согласно тому же Веберу, в кальвинистском учении о предопределении. Здесь рассматриваемый дуализм истолковывается этически как противоположность совершенного бога и греховного мира. Что же касается «религиозной судьбы» отдельного человека, то она толкуется «как исключительное следствие божественной милости, на которую в конечном счете не могут повлиять ни добрые, ни дурные дела». В то время как индийское учение о карме побуждает человека не изменять мир, а вырваться из него, убежать от «вечного колеса новых рождений и новых смертей», учение о предопределении обусловливает принципиально иную мотивировку жизненной позиции; оно вызывает и верующего стремление овладеть миром, поскольку это единственный способ оказаться достойным того «состояния благодати», в которое бог «принял греховную человеческую тварь» [7, S. 21]. 12 Заостряя этический характер религиозного дуализма, то есть связывая его не с конечностью человека в противоположность вечности божественного порядка, как это было на Востоке, а с его греховностью в противоположность святости бога, иудиаистски-христианская традиция в конечном счете лишала почвы меру в осмысленность эмпирического мира, открывала возможность тотального отрицания какой бы то пи было «самостоятельной ценности мира» [7, S. 22]. Оказывалось, что чем больше трудится верующий христианин во славу божию над покорением «посюстороннего» мира, тем глубже и отчетливее раскрывается его абсолютная противоположность миру потустороннему. Протестанская реформация привела к демократизации решения о религиозном«спасении»: монашеский путь к святости, путь аскетизма был утвержден как общий для всех верующих, и содержание богоугодного дела также получило совершенно иную направленность, Теперь речь шла о вполне конкретных мирских делах, тех, что выполняются людьми в рамках их конкретной профессии. При таком повороте слово «профессия» расшифровывалось как нечто более высокое, чем просто специальность. Оно толковалось как призвание служить богу вот этим определенным профессиональным образом. Как отмечал Вебер, решительно усилились нравственный акцент и религиозное воздаяние за внутримирскую, профессионально упорядоченную работу [9, 1, S. 119]: хочешь «спастись» — работай не покладая рук над покорением «посюстороннего» мира во славу потустороннего. Однако именно в данном пункте скрывался парадокс, который очень трудно было преодолеть самому Веберу, не говоря уже о таких его комментаторах, как Шлюхтер, Дело в том, что в рамках протестантизма каждый индивид оказывался предопределенным к «спасению» или, наоборот, «вечной гибели» единственно в силу божественного промысла и, следовательно, безотносительно к его мирским делам. Основанием и оправданием «спасения» считались не дела людские, а милость бога. Так, на основы кальвинистской «картины мира», где по словам Шлюхтера, «абсолютность требования подчиняться богу комбинируется с представлением не только об абсолютной неизменности, но и абсолютной непроницаемости судьбы индивидуального „спасения", возникает уверенность в благодати, степень которой была недостижима даже для виртуозов религиозности» [7, S, 28], то есть монахов. Страх не познать блаженства доходит в кальвинизме до такой степени напряжения, что уже одна возможность отделаться от него на путях внутримирской деятельности принимается за реальное основание самого искомого «спасения». Тотальное 13 религиозное обесценение «мира» вызывает у кальвиниста непреодолимую внутреннюю потребность трудиться, рассматривая свою профессиональную деятельность по аналогии с тем, как монах рассматривал свою аскезу. Парадокс рационализации «западного типа». За этот предельно парадоксальный способ решения извечной проблемы религиозного дуализма людям буржуазнокапиталистической цивилизации, родившейся из духа протестантизма, пришлось заплатить огромную цену. Согласно Веберу, представление о том, что всякое творение отделено от бога «непреодолимой пропастью» [9, I, S. 94], имело своим неизбежным следствием «разволшебствление» отношений не только между богом и человеком, но и между человеком и миром, в котором не оставалось буквально ничего святого. Под воздействием протестантского постулата подвергается эрозии не только религиозная, но и мирская культура чувств. Ведь больше всего кальвинист страшится обоготворить тварь (творение), а избежать этого способен лишь тот, кто все свои отношения к миру строит как предметные, дистанцируясь от всего вещественного. Таким образом религиозное одиночество, ставящее кальвиниста один на один с богом, дополняется мирским одиночеством — одиночеством человека, сознательно отстраняющегося от окружающих его предметов и вещей. Здесь же видит Вебер и «корень того лишенного иллюзий и пессимистически окрашенного индивидуализма», каковой еще сегодня сказывается в народном характере и в институтах народов, имеющих пуританское прошлое» [9, I, S. 95]. Даже любовь к ближнему, поскольку и она должна быть служением во славу бога, с самого начала принимает «безлично — предметный характер, характер службы по рациональному формированию окружающего нас общественного космоса» [9, I, S. 100]. Тот великий религиозно-исторический процесс «разволшебствления» мира, «который был начат древнееврейскими пророками в союзе с эллинистическим научным мышлением, отбросивший вес магические средства достижения спасения как предрассудок и кощунство, нашел здесь свое завершение» [9, 1, S. 94]. В специфичном для западного «этоса» отрицании мира уже видны предпосылки и последствия определенного типа рационализма, составляющего неотъемлемый элемент «идеального базиса современного общества» [3, S. 30]. А на этом базисе разворачивается уже своя диалектика, свидетелем которой стал и наш иск: окончательно «обезбоженный», лишенный всего идеального, мир платит взаимностью полностью отрешенному от него религиозному принципу — взаимностью абсолютного равнодушия. Если протестантский бог исключил мир из своей нерушимой 14 «абсолютности», то мир со своей стороны исключает бога: им просто нет дела друг до друга. И как полное равнодушие бога по отношению к безнадежно падшему миру представляет кальвинизм, такое же равнодушие «посюстороннего» мира по отношению к потустороннему богу персонифицирует наука Нового времени. Однако, если верить Шлюхтеру, науке все-таки никогда не удавалось последовательно придерживаться этой позиции: дело в том, что и в этом овеществленном, рационализированном мире существует метафизическая потребность духа постичь мир и занять определенную позицию по отношению к нему. Теперь различие между религиозным «разволшебствлением» и научным проводится со ссылкой на то, что первое было, так сказать, непредусмотренным и скорее побочным результатом рационализации определенной «картины мира» и соответствующего ей типа человеческой деятельности, тогда как второе — предусмотрено, а потому является прямым и непосредственным итогом вполне осознанного целеполагания. Религиозной «картине мира» наука противопоставляет свою, а научный рационализм пропагандирует овладение миром уже не во славу божию, а во имя человека: на место теоцентризма выступает антропоцентризм, на место теодицеи — антроподицея [3, S. 3]. Предлагая свою интерпретацию веберовской социологии религии, с одной стороны, и социологии науки — с другой, Шлюхтер утверждает, что наука «не имеет значения антитезы религиозному притязанию, поскольку она сама в известном смысле религия». Ее религиозность усматривается в том, что утверждая себя в качестве «единственно возможной формы мыслящего рассмотрения мира» (слова Вебера), научный рационализм «предполагает также, что тем самым может быть решен вопрос об объективном смысле мира». И таким образом, заключает свое рассуждение о науке комментатор веберовской сравнительно-исторической социологии, «она целиком следует путями христианства» [3, S. 35]: задаваясь вопросом о смысле конструируемых ею фактов, она сама впадает в религиозный дуализм, хотя и в рамках жестко имманентной «картины мира». Вместе с научным рационализмом в мире окончательно утверждается противоположность насилия и добра, деловитого объективизма и любви, и этот рационализм вовлекает каждого, кто действует, в диалектику формальной, озабоченной одним лишь успехом материальной рациональности. Но это значит, что та «картина мира», которую утверждает сегодня наука, заключает в себе источник конфликта, раскалывающего ее собственную безрелигиозную этику. Этот раскол засвидетельствован уже вопросом Вебера: «исходя из чего в каждом отдельном случае 15 должна определяться этическая ценность человеческого действия: из успеха или из этически определенной ценности этого деяния самого по себе?» [9, 1, S. 552]. Сообразно тому, как люди отвечают на этот основной вопрос, формулируются принципы двух различных этических стилей, образов жизни. Первый из них Шлюхтер определяет как «этически-ответственный», то есть ориентированный на успех и вытекающую из него «этику ответственности». Второй он характеризует как «этически-убежденный», то есть предполагающий самоценность действия, предстающего в таком случае, не просто как дело, но как «деяние». Героический пессимизм человека долга, знающего, однако, что любое его действие, любой поступок сегодня он совершает без расчета на общезначимость ценности, которая при этом утверждается,— вот итоговая позиция, к которой «критический рационалист» Шлюхтер последовательно ведет своего читателя. «ЭТИКА» И «МИР» Прогресс рациональности и антиномии социальной дифференциации. Концепция Шлюхтера подверглась детальной и разрушительной критике сначала в статье [10], а затем в книге [11] Р. Мюнха. Критика шлюхтеровских толкований универсальноисторической социологии Вебера дала Мюнху удобный повод развернуть свою концепцию, альтернативную теорию рациональности вообще, я не только ее «диалектической» версии. И, что характерно, при этом оппонент Шлюхтера опять-таки апеллирует к Веберу — правда, иначе понятому. Главным объектом мюнховского критического анализа является концепция взаимоотношения «этики» и «мира», предложенная Шлюхтером как одна из важнейших для осмысления социологического учения Вебера. Взаимоотношения этих двух измерений человеческого существования, институциализирусмые в рамках целой системы соответствующих социальных организаций, представляются Шлюхтеру крайне напряженными; причем напряжения эти не столько смягчаются, сколько, наоборот, обостряются в ходе исторического процесса рационализации. Да рационализация и не может смягчить эти напряжения, достигшие последней черты в нашем XX м веке: ведь они возникают — так комментирует Шлюхтера его оппонент — вследствие углубления социальной дифференциации, расхождения соответствующих общественных сфер и т.д., а глубинным источником, движущей силой этого процесса оказывается именно рационализация. А это значит, что если мы и в самом деле хотим решить проблему взаимоотношения «этики» и «мира», не ограничиваясь — как это делает Шлюхтер — 16 нагромождением здесь новых и новых «диалектических» антиномий, мы должны, по убеждению Мюнха, отказаться от рассмотрения этой проблемы «в перспективе теории рационализации». Согласно основополагающему утверждению Мюнха, решающей тенденцией, определившей своеобразие исторического развития на Западе, была вовсе не рационализация и сопровождающая ее дифференциация ранее тесно взаимосвязанных социальных сфер, а нечто диаметрально противоположное — взаимопроникновение этих обособившихся областей, полагающее пределы их дальнейшей рационализации и дифференциации. Тенденция к дифференциации, взаимному отталкиванию обособляющихся друг от друга социальных сфер вовсе не составляет, вопреки тому, что думает Шлюхтер, специфическую черту развития «западного типа». Наоборот, она является общей как для Запада, так и для Востока, хотя, разумеется, содержательное, смысловое наполнение одной и той же тенденции могло быть различным в разных культурно-исторических контекстах. Но что отличает «западный тип» социального развития от «незападных»? Это способность Запада решать, обеспечив взаимопроникновение разошедшихся друг с другом социальных сфер, проблемы, называемые рационализацией и дифференциацией, не доводя дело до «парадоксов», подобных тем, о которых говорит Шлюхтер. Поскольку же идею «парадоксальности» исторического развития Запада Шлюхтер развивал па основе осмысления соответствующих веберовских текстов, постольку перед Мюнхом, который также хотел бы опереться на возрастающий авторитет Вебера, вставала задача — доказать ошибочность шлюхтеровской, интерпретации, По словам Мюнха, Шлюятер неправомерно толкует эмпирически то, что у Вебера (например, во фрагменте. «Промежуточное рассмотрение» в исследованиях по социологии религии) предстает как «аналитическая конструкция сфер, подчиняющихся собственным закономерностям» [12, S. 494]. Он считает: в случае корректной интерпретации веберовской мысли прежде, чем применять ату модель эмпирически, «над аналитической дифференциацией следовало бы еще раз поместить схему эмпирических отношений между упомянутыми сферами» [там же]. Функцию такой схемы у Вебера, согласно утверждению Мюнха, выполняет модель различных отношений между религиозной этикой и «миром», которые развиваются от приспособления этики к «миру» через примирение с ним, затем дифференциацию и бегство от «мира» вплоть до их современного взаимопроникновения. Модель, с которой, согласно Мюнху, явно работал Вебер, и общие условия конкретизации 17 которой он указал в своей систематической социологии религии, например, связывая пророчество и образование общины в качестве «основы взаимопроникновения этики и „мира"» [там же]. В рамках этой модели кальвинизм рассматривался как «парадигматический пример» взаимного проникновения религиозной этики и «мира» и «решающее условие конституции нового порядка, а не парадоксальный случай внедрения этики в „мир", неизбежным следствием которого является последующее изгнание ее из „мира"» [там же], Фундамент и механизм взаимопроникновения социальных сфер. Основой, на которой осуществляется взаимопроникновение этики и «мира», является, согласно Мюнху, «гемайншафт» — понятие, означавшее у Ф. Тенниса, предложившего его, глубинную, органическую социальную общность. В отличие от Тенниса Мюнх считает, что по мере развития общества (с соответствующими ему более поверхностными и формализованными социальными связями) «гемайншафт» не ликвидируется и даже не редуцируется, а только универсализируется, приобретая более общезначимые характеристики, что вовсе не означает перерождения его в нечто другое. Так вот не учитывая посреднической роли «гемайншафта», авторы вроде Шлюхтера заходят в тупик, проецируя веберовские аналитические абстракции непосредственно на общественную реальность и получая неразрешимые антиномии там, где нет ничего подобного. Мюнх соглашается с критикуемым им автором в том, что науку как сферу, подчиняющуюся своим внутренним законам, рационализация действительно толкает вперед по пути, на котором уже не допускается религиозное толкование процессов, происходящих в «расколдованном» мире. Для ученого, который «следует закономерностям опытной науки», толкование мира по масштабам, предлагаемым религией, больше уже невозможно «без принесения в жертву интеллекта» [там же, S. 612]. «Тот, кто поступает строго научно, неизбежно утрачивает доказательную силу, когда он пытается с помощью своих методов и по своим масштабам доказательности обосновать обязательность системы ценностей». Но, по мысли Мюнха, это вовсе не означает, что общество вообще не располагает уже никакой «интегрирующей и обязательной системой ценностей» [12, S. 496], как это представляется, скажем, тому же. Шлюхтеру. Правда, институционализация этой системы осуществляется вовсе не ученымиинтеллектуалами и даже не интеллектуалами-священниками, чья функция всегда заключалась лишь в генерализации, систематизации и развитии новых идей. Корнем же 18 ценностных представлений и гарантом их обязательного характера всегда были только «гемайншафты», потому-то и ошибочно «усматривать в религии как чистой системе идей базис основного нормативного образца для общества» [там лее]. Нормативный образец, предлагает Мюнх свое решение вопроса об отношении этики и «мира», может осуществиться только путем взаимопроникновения с «гемайншафтами», что делает возможным универсализацию процесса образования «гсмайшнафта», а также путем взаимопроникновения этого универсализированного «гемайншафта» и других сфер деятельности — религиозной, научной, экономической или политической. При этом, как утверждает Мюнх, взаимопроникновение «гемайнгаафта» и пауки оказывает в принципе то же самое воздействие, что и взаимопроникновение «гемайншафта» и религии, взятой в качестве интеллектуального продукта. Наука воздействует Е направлении генерализации л систематизации этики «гемайншлфта» и в направлении распространения неортодоксальных ее интерпретаций [12, S. 497]. По этой причине ожидать от науки институализаци новой этики так же ошибочно, как приписывать выполнение этой задачи религии. Поскольку наука могла оказывать «расколдовывающее» воздействие повсюду, где существовала известная степень обособления (отдифференцирования) интеллектуальной деятельности, постольку источником различия между «незападной» и современной западной наукой является не степень интеллектуализации, логической рационализации науки, но степень объединения в ее лоне противоположных компонентов, а именно — теоретических абстракций с практической технологией и аналитической логики доказательства с эмпирией [там же]. Для Мюнха все это — не что иное, как объединение теории и практики, ставшее возможным лишь благодаря «взаимопроникновению интеллектуальной сферы со сферами практической деятельности», как оно осуществлялось уже : в «научных „гемайншафтах" в период итальянского ренессанса и в Англии XVII века» [12, S. 498]. Там, где наука беспрепятственно развивалась на основе такого взаимопроникновения (согласно Мюнху, оно дальше всего зашло в Англии и особенно США, что серьезно отличает их от «приотставших» в этом отношении ФРГ и Франции, не говоря уже о «незападных» обществах) она участвует и создании рационализированной и абстрактной и в то же время практически конкретизируемой и обязательной этики [12, S. 499]. "Научное «соучастие» в процессе формирования такого 19 рода этики составляет, по Мюнху, основную черту современного западного учения о естественном праве и теории морали. Перед Шлюхтером, если верить Мюнху, открывалась возможность понять всю значимость взаимопроникновения там, где он сталкивается с отношением между формально-рациональным правом, с одной стороны, и содержательно-рациональной моралью — с другой. Но Шлюхтер не сделал этого, и современная мораль предстает в его глазах только как продукт чисто формальной рационализации. Подобная «интеллектуально рационализированная этика», лишенная общественного укоренения, как бы витающая над социальной реальностью, не является адекватным базисом современного общества [10, S. 785]. В конце концов вопрос об отношении этики и «мира» упирается для Мюнха в то, насколько сегодняшняя этика помогает решить современному обществу «свою проблему порядка». По мнению Мюнха, этого возможно добиться лишь на основе этики убеждения — единственно допустимой в настоящее время ее западной модификации [там же, S. 786]. *** Контраверзу Шлюхтера — Мюнха можно представить как продолжение на почве «веберовского ренессанса» противоборства «конфликтной» и «интегративной» (назовем ее так) социологических «парадигм». Противопоставляя Шлюхтеру свою концепцию социально-исторического развития Запада, Мюнх утверждает, что для Вебера-социолога этот процесс был связан с «особым родом интеграции дифференцированных сфер» [10, S, 778], который не означал ни господства определенных социальных сфер — «приспособления к миру», ни их взаимной изоляции — «бегства от мира», ни даже их простого примирения друг с другом, а представлял собою именно их примиряющее взаимопроникновение. Современный капитализм предстает у Мюнха прежде всего как тотальная интеграция, осуществляемая путем взаимопроникновения хозяйственной деятельности и таких сфер ее оформляющего структурирования, как этика и наука, политика и право. Причем основой этого взаимопроникновения у него оказывается «включение в общественный „гемайншафт"» рыночных интересов и «экономических классов» и прежде всего «гражданских, политических и социальных прав» рабочего класса [10, S. 778]. В этом выводе с особой наглядностью выражается стабилизационная установка Мюнха, выступающая здесь как тенденция определенно неоконсервативного характера. С точки зрения этой версии и стабилизированного сознания, концепция Шлюхтера является выражением «кризисного сознания» западных социологов, и в той мере, в 20 какой она действительно опиралась на определенные элементы веберовского учения, Мюнх доказал, что Вебер по подходит для решения задачи выхода из кризиса современной буржуазной социологии, так как сам он был теоретическим выразителем «кризисного сознания». Мюнх хотел бы несколько ослабить это впечатление, отделив шлюхтеровское истолкование от учения самого Вебера. Однако стремление Мюнха прочесть Вебера глазами Парсонса, т.е. приглушить интонацию героического пессимизма, явственно звучащую в веберовском толковании перспектив, а вернее бесперспективности развития Запада, говорит само за себя. Классик немецкой социологии, каким хотят видеть его сегодня представители стабилизационного устремления в буржуазной науке, мало похож на действительного Вебера. ЛИТЕРАТУРА 1. Max Weber und die Rationalisierung sozialen Handelns. W. M. Sprondel und C. Say-farth (Hg.) Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag, 1981. 2. Tenbruck F. H. Das Werk Max Webers.—In: Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie, 1975, N 4. 3. Weiss J. Max Webers Grundlegung der Soziologie. Mimchen: UTW, 1975. 4. Tenbruck F. H. Die Genesis der Mcthodologie Max Webers.— In: Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie, 1959, N 3. 5. Weber M. Gesammelte Aufsatze zur Wissenschaftslehre. Tubingen: Mohr Siback, 1973. 6. Riesebrodt M. Ideen, Interessen, Rationalisierung: Kiitische Ammcrkungcn zu F. H. Tenbrucks Interpretation des Werks Max Webers.—In: Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie, 1981, N 1. 7. Schluchter W, Die Paradoxie der Rationalisierung. Zum Verhaltnis von «Ethik» und «Welt» bei Max Weber.— In: R0ationalismus der Weltbcherrschung Studien uber Max Weber. Frankfurt: Suhrkamp. 1980. 8. Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Tubingen: Mobr Sibcck, 1970. 9. Weber M. Gesammelte Aufsatze zur Religionssoziologie, B. I—III. Tubingen: Mohr Siebeck, 1971—1973. 10. Munch R. Max Wcbers Gesellschaftsgcschichte als Entwicklungslogik der Gesellschaftlichen Rationalisierung.— In: Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie,, 1980, N 4. 21 11. Munch R. Ober Parsons zu Weber: Von der Theorie der Rationalisierung zur Theorie-der Interpenstration. In: Max Weber und die. Ralionalisierung sozialen Handelns. Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag, 1981. 12. Munch R. Theorie des Handelns. Zur Rekonstruktion der Beitrage von Talcott Parsons, Emile Durkheim und Max Weber. Frankfurt: Suhrkamp, 1982. Среди претендовавших на руководящую роль в социальных науках, в этот период на передний план выдвинулись неомарксистская и феноменологическая «парадигмы». 1 22