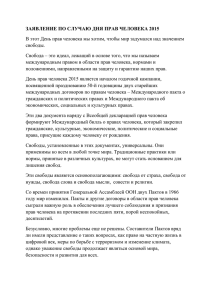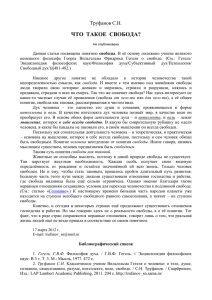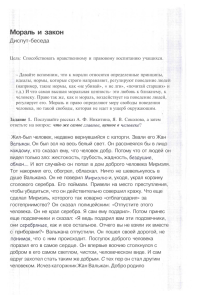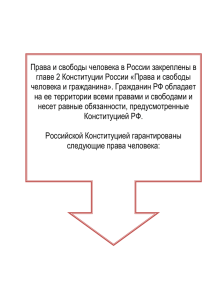ЕЩЁ РАЗ О СВОБОДЕ И О ВОЛЕ
advertisement

МИФОПОЭТИКА СВОБОДЫ И ВОЛИ: анализ трёх возможных положений. Козолупенко Д.П. Не избрать своей свободы – вот крайняя абсурдность и высший трагизм существования. Э.Левинас. [6, 284] Предложенную к размышлению тему можно озаглавить трояко: «свобода воли», «свобода и воля» и, наконец, «свобода или воля». Все три постановки вопроса вполне уместны и имеют, на мой взгляд, равные права на существование. Одно из первейших и насущных требований человеческой природы – это требование свободы. «По своей глупой воле пожить», как выразился герой Ф.М.Достоевского в своих «Записках из подполья» – вот чего хочет и на чём упорно настаивает человек, вот что ценит он если и не превыше всего, то уж, во всяком случае, весьма и весьма высоко. «Своё собственное, вольное и свободное хотение, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздражённая иногда хоть бы даже до сумасшествия, - вот это-то всё и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую квалификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к чёрту… Человеку надо – одного 1 только самостоятельного1 хотения, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела.» [4, 469-470] Уже из этой цитаты можно вывести несколько следствий в размышлениях о свободе и воле. Так, выделенная Ф.М.Достоевским проблема самостоятельности наталкивает не только на вопрос о свободе воли, но и на проблематичность самого соотношения свободы и воли, ибо из приведённых слов явственно следует, что и своё хотение может быть не самостоятельным, и «свободная воля» – не свободной, а естественным следствием и эманацией человеческой природы. Это именно то, против чего восстаёт человек подполья: ситуация, когда воля, вроде бы свободная, т.е. никакими внешними воздействиями не ограниченная, есть, а свободы-то как таковой всё равно нет, ибо во всех проявлениях этой самой «свободной воли» прослеживается полная предопределённость – зависимость от «естественных человеческих надобностей и выгод», а значит, нет и не может быть никакого выбора, тем более – свободного выбора, никакого своеволия, никакого отступления от правил – вроде бы собственных, присущих человеку и только ему, но – вот что важно! – не им самим созданных и не поддающихся нарушению. Парадокс оказывается в том, что свободная воля, не ограниченная ничем извне (по крайней мере, о таковых ограничениях нигде не упоминается), но следующая своему собственному природному началу, кажется препятствием для ощущения свободы, ибо исключает свободу выбора и предполагает – в данном конкретном случае – внутреннюю несвободу, т.е. фактически зависимость человека от его свободной воли, которая выступает тут как бы сама по себе и руководит всеми его действиями. 1 Выделено Ф.М,Достоевским 2 Отсутствие ощущения свободы приводит нас в ужас и отчаяние. «То, что я необходимо предназначен к тому, чтобы быть мудрецом и добрым или дураком и злым, что я не могу ничего изменить в этой определённости, что в первом случае за мной нет никакой заслуги, а в последнем – никакой вины, - вот то, что наполнило меня отвращением и ужасом. Вне меня находящаяся причина моего бытия и всех свойств этого бытия, проявления которой определяются опять-таки другими причинами, внешними по отношению к этой, - вот то, что оттолкнуло меня с такой силой. Та свобода, которая не есть моя собственная свобода, но свобода чуждой силы вне меня, да и то только обусловленная, только половинная, - такая свобода меня не удовлетворила.»[8, с.88-89]. Так заявляет И.Фихте, размышляя в своей работе о “Назначении человека”. Он, как и герой Ф.М.Достоевского восстаёт против такой “несвободной свободы”, бунтом своим уже демонстрируя её неполноту. Ибо если б он был истинно свободен, то с чего бы ему вздумалось бунтовать и от чего ещё освобождаться? Посмотрим, однако же, более внимательно на этого «бунтующего человека». Какой же именно свободы требует он себе, о каком «вольном хотении» хлопочет»? И.Фихте так отвечает на этот вопрос: “Во мне есть стремление к безусловной, независимой самодеятельности. Для меня нет ничего более невыносимого, как существование в другом, через другого, для другого; я хочу быть чем-нибудь для себя и через самого себя. Это стремление я 3 чувствую тогда, как только я ощущаю самого себя; оно неразрывно связано с осознанием меня самого.” [8, 145-146] И несколько ранее он говорит о том же иными словами: «Я хочу свободно хотеть согласно свободно избранной цели; я хочу, чтобы эта воля как последняя причина, т.е. не определяемая никакими другими высшими причинами, могла бы приводить в движение прежде всего моё тело, а посредством его и все окружающее меня, и производить в нём изменения. Моя деятельная естественная сила должна находиться во власти воли и не приводиться в движение ничем иным кроме неё… Из моей воли должны вытекать мои поступки, а без неё не может совершиться ни один мой поступок, потому что не должно быть никакой другой возможной силы, направляющей мои поступки, кроме моей воли.» [8, 89-90] Странная получается картина. Человек требует для себя – единственно своей свободной воли и её проявления во всех своих поступках (по Фихте), и человек восстаёт – против давления над своей жизнью проявлений этой самой свободной воли, превращающей его в «штифтик» и, в конечном итоге, лишающей его ощущения свободы (по Достоевскому) – и вновь требует свободы, но на сей раз уже – от собственной свободной и не-глупой воли. «Вы кричите мне (если только ещё удостоите меня своим криком), что тут никто с меня воли не снимает; что тут только и хлопочут как-нибудь так устроить, чтоб воля моя сама, своей собственной волей, совпадала с моими нормальными интересами, с законами природы и с арифметикой. 4 - Эх, господа, какая уж тут своя воля будет, когда дело доходит до таблички и до арифметики…? Такая ли своя воля бывает!» [4, с.474] Проблема свободы и бунта человека в его ощущении собственной несвободы, как внешней, так и внутренней, представлена в философии и литературе достаточно широко. Особенно яркое воплощение экзистенциалистов: Камю, получает Сартра, она в Хайдеггера. творчестве Но везде «бунтующий человек» приходит к поражению в своих поисках собственной свободы (не считать же, в самом деле, достойным выходом то, что предлагает нам в поисках свободы А.Камю – смерть и, более того, самоубийство; к тому же и этот «выход» весьма иллюзорен, ибо избрание такого шага оказывается опять же не вполне самостоятельным и не вполне свободным. Но это уж совсем особая тема). В чём же кроется главная проблема и причина неудач в «борьбе за свободу»? Интересное решение предлагает в своём исследовании Э.Левинас, смещая акценты таким образом, что свобода сама по себе оказывается поставлена под сомнение и требуется уже не поиск собственной свободы, но оправдание свободы. «У Сартра встреча с Другим угрожает моей свободе, она означает угасание моей свободы под взглядом другой свободы. В этом, может быть, с наибольшей силой проявляется несовместимость бытия с тем, что остаётся действительно внешним. Однако здесь скорее встаёт проблема оправдания свободы: не ставит ли присутствие другого под вопрос наивную легитимность свободы? Не воспринимает ли себя свобода как стыд за самое себя? Не является ли её сведение к себе узурпацией? Иррациональность 5 свободы обусловлена не её пределами, а бесконечностью её произвола. Свобода должна себя обосновывать. Сведённая к себе самой, она осуществляет себя не в суверенности, а в произволе… Свобода не оправдывает себя с помощью свободы….» [6, 284] Но если свобода нуждается в оправдании вне самой себя – а судя по безвыходности ситуации «бунтующего человека» она в нём безусловно нуждается – то очевидно она не может быть представлена только лишь как «свобода от». Ведь именно требование «свободы от» и лежит в основании любого из рассмотренных и упомянутых бунтов во имя свободы, но «свобода от» не может содержать в себе оправдания, ибо она носит лишь разрушительный характер. «Освобождённая» от внешних воздействий и от ответственности, такая свобода воли оказывается всего лишь своеволием, которое само по себе закрепощает человека хуже внешней несвободы, делая его несвободным внутренне, подвластным случайным капризам и влечениям и потому ужас и отчаяние, овладевающие человеком при ощущении внешней несвободы перерастают в Ужас и Отчаяние при попытках достигнуть «свободы от» и стать свободным только «для себя и через себя» - и при последующем неизбежном появлении сильнейшей внутренней несвободы как следствий бунта и своеволия – вместо свободы и воли. Получается, что ни одна, ни другая представленная здесь позиции не разрешают вопроса о свободе в полной мере и оставляют противостояние свободы и воли, а значит, и проблематичность свободы как таковой. В то же время, в мифопоэтическом мировосприятии, которое, казалось бы, является базисным для 6 любой культуры и даже при отсутствии доминирования проявляется так или иначе в её периферийных или частных явлениях, проблематика свободы отсутствует. Как это возможно? Думается, для ответа на этот вопрос необходимо вновь чётко сформулировать, что представляет собой эта проблематика и какие основные требования она выдвигает. Итак, что понимаем мы под требованием свободы? 1. Мы просим свободы от предопределённости, то есть хотим, чтобы происходящее не было абсолютно независимо от нас и бездушно к нам. Мы просим внешней свободы как «свободы от». Но в мифе предопределённость весьма специфична и состоит… из случайностей, зависящих от сущности личности и выбора героя, то есть, в конечном итоге, от его поступков, которые, в свою очередь, внешне ничем не мотивированы. Однако это же и является своего рода мотивировкой, только мотивировкой другого порядка, можно сказать, скрытой мотивировкой. Герои мифопоэтического мира внешне абсолютно свободны в своих поступках, ничто не влияет на их выбор, но, в то же время, действия любого со-бытийствующего с ними, да и их собственные поступки никак нельзя назвать чисто случайными. Так и хочется добавить, что мифопоэтические герои совершают «свободный выбор согласно своей собственной свободной воле». Но не будем торопиться. В самом деле, как можно объяснить, что в сказках, к примеру, герои оказываются "в нужное время в нужном месте"? И в то же время - постоянные "вдруг" и "оказывается" сопровождают их по ходу всего повествования. В неразрешимой обычным образом ситуации возникают чудо-помощники: вырастают из-под земли, 7 падают с неба, в конце концов, просто выходят из-за соседнего дерева. И потом так же бесследно исчезают. В.Я.Пропп пишет: "Очень часто развитие действия определяется случайностью. В волшебной сказке герой сам по себе бессилен; но вот, когда он, не зная дороги, идёт "куда глаза глядят", он на пути вдруг встречает старичка или бабу-ягу и т. д., которые указывают ему, куда идти, и помогают ему; эта встреча внешне ничем не мотивирована, но она определяет собой всё дальнейшее повествование. Художественная же логика сказки состоит в том, что в руки героя должно попасть волшебное средство, и этим определяется встреча героя с таким персонажем, который это средство ему даёт или поможет его найти."[7, 315] Но так ли уж случайны все эти "случайности"? Ведь они повторяются с удивительным постоянством: нет ни одной сказки, где герой "вдруг" не встретил бы чудесного помощника, или не услышал неожиданной подсказки, или просто не нашёл бы по дороге то самое волшебное средство, "случайно" кем-то оброненное. К тому же, встречающие, как правило, хорошо знают и о герое, и о его пути. Об этом говорит и обращение к герою, которого "случайные встречные" всегда называют по имени, как старого знакомого. Так, в сказке "Кощей Бессмертный" можно прочесть: "Приехал ко крыльцу, привязал коня к серебряному кольцу, в сени да в избу, богу помолился, ночевать попросился. Говорит старуха: "Фу-фу! Доселева было русской коски видом не видать, слыхом не слыхать, а ноне русская коска сама на двор приехала. Откуль, Иванцаревич, взялся?""[2, 183] Почти теми же словами обращается БабаЯга к гостю и во многих других сказках. Также и другие волшебные 8 герои в различных сказках встречают героя, окликая его по имени. В сказке "Звериное молоко" - "Слышит: кто-то зовёт сзади: -Эй, Иван Иванович, русский царевич, возьми меня с собой! Смотрит - а это волчонок.»[3, 136] Примеры можно было бы множить и множить. Встречаются, хотя и значительно реже, даже сказки, где оба героя приветствуют друг друга как старые знакомые, при том, что по ходу сказки это их первая встреча: "Получил Иванушка- Медвежье ушко благословение, распростился с отцом-матерью, пошёл. Идет он лесом, видит с горы Горыню. Иван-Медвежье ушко говорит: - Здорово, Горыня. - Здорово, Иванушка-Медвежье ушко! Далеко ль ты путь держишь?"[2, 303] Случайные встречные будто бы ожидают сказочного героя и всегда попадаются на его пути крайне вовремя, никогда не оставляя без внимания ни его самого, ни его дороги, помогая либо мешая ему. "Нейтральных" встреч мифологический мир, кажется, не знает вовсе. Да и герой попадает неизменно туда, где он необходим, хоть, вроде бы, и выезжает "в никуда". Безо всяких видимых причин, он всегда оказывается в самом центре событий, заезжая дорогой не в спокойные и благополучные места, а тяготящиеся неизбывной бедой, от которой никто до него не мог избавить. Хотя, как и в случае со встречными, никогда заранее об этих бедах не знает и не догадывается. Они как бы сами собой возникают на его пути. В былинах эту особенность подметил Ю.И.Юдин: «Одним из наиболее интересных свойств песен … является немотивированность или случайная и необязательная мотивировка выезда героя из дома. Часто никак не разъясняются цели выезда 9 Добрыни, Алёши или Ильи Муромца. Иногда такое разъяснение есть, но оно носит непостоянный и поверхностный характер (Добрыня хочет искупаться, поохотиться; Илья спешит на пир к Владимиру и т. п.). Но даже и в том случае, когда цели оказываются существенными… не они определяют будущие события.»[9, 549] Поэтому же не ставится и вопрос о цели. “В былине о Добрыне и Змее (в первой её части, кончая победой богатыря над Змеем и до похищения Змеем княжеской племянницы), об Алёше Поповиче и Тугарине (в “степной” версии былины), об Илье Муромце и Соловье-разбойнике (до прибытия богатыря в Киев), об Илье и Святогоре, о поездке Василия Буслаева описываются непреднамеренные встречи героев и события, разыгрывающиеся во время таких встреч. Герой никогда не ставит себе целью, выезжая из дома, встретиться со Змеем, Тугариным или Соловьём-разбойником, разыскать Святогора или вместе с ним найти таинственный гроб. Напротив, цели, с которыми герой выезжает из дома, не предполагают событий, которые развернутся во время его поездки.”[9, 546-547] То есть цель либо не упоминается вовсе, либо упоминается, но так, что результат её превосходит. То же самое мы встречаем и в сказках, где герой либо просто едет «людей посмотреть, себя показать», либо, едучи за одним (например, за молодильными яблочками), привозит помимо этого и другое, и третье (коня, жар-птицу, невесту), да ещё и царём, как правило, становится, о чём вначале вовсе не думал, не гадал. Таким образом, цель, высказанная вначале как таковая, на поверку оказывается лишь поводом, чтобы пуститься в путь, а далее вступает в игру всё тот же принцип «дорожных встреч и приключений». 10 Казалось бы, как возможен разговор о свободе и тем более ощущение свободы в такой ситуации? Ведь на первый взгляд, если даже и цель героя «не учитывается» дальнейшими событиями и всё происходит как бы случайно и как бы само собой, то о какой свободе вообще может идти речь? Разве что о предопределённости или свободе от ответственности... Так да не так. Отмеченное мною «как бы» играет здесь самую что ни на есть существенную роль – ибо свобода героя проявляется в мифопоэтике не в выборе цели или полного пути – они-то как раз и в самом деле несущественны и иногда даже вовсе отсутствуют, - но в выборе поведения в каждой, казалось бы, случайной ситуации, которая (вернее, не она сама, а реакция на неё героя), в свою очередь, определяет появление следующего испытания и т.д. В мифе тем более никому не приходит в голову спрашивать о цели божества. Равно как и говорить о "случайности" его появления и его действий. Такой разговор может быть расценен не иначе, как кощунство. К тому же, каково бы ни было божественное действие, даже самое малейшее движение бога, даже если и допустить, что оно могло быть совершено "просто так", имеет для мира первостепенную важность, изменяет его, и потому не может быть для этого самого мира незначительным. А потому важнейшая задача человека в мифологическом мире - прислушиваться к этому миру и к его изменениям не менее внимательно, чем этот мир прислушивается к нему. И иначе, как взаимным вниманием, взаимопроникновением различных живых существ мифологического мира, их взаимозаинтересованностью друг в друге, всех этих многочисленных "случайных" встреч и совпадений не объяснить. И олицетворение, о котором говорят так часто при 11 исследовании мифологического, - лишь внешнее проявление этой всеобщей взаимозаинтересованности, названной в данной работе законом участного внимания или небезразличия. Отсюда - особое внимание к мелочам, к частностям и случайностям: ведь именно в них проявляется особенное, а следовательно необходимое для этой конкретной ситуации, а следовательно - самое важное. Повторяемое, сходное, устоявшееся, принимается как бы само собой и не требует особого внимания. Оно не обращено ни к кому конкретно, то есть, с точки зрения мифопоэтического мира, немотствует, а значит и не требует ответа и участия. Потому его замечают, но не задерживают на нём внимания надолго: устойчивое и текущее "само собой" такого повышенного внимания не требует. Понятна и слитность эмоционально-волевого, образного и поведенческого в мифопоэтическом. Ибо сам термин "небезразличие" предполагает эмоцию и действенный отклик. Включённость в жизнь другого влечёт за собой участие в его жизни. Позиция "меня это не касается", позиция стороннего наблюдателя становится невозможна из-за того, что, где бы ни оказался герой, он всегда оказывается внутри, а не вовне, в гуще событий, затрагивающих непосредственно его и от него напрямую зависящих. "Личностная история", как называл её А.Ф.Лосев, не может не быть историей эмоционально окрашенной. Эмоциональность же связана с действием. С другой стороны, если мы говорим о «личностной истории», то тем самым мы как бы подразумеваем свободу в её проявлении: ибо личность тем и отличается от простого индивида, что сама творит себя и окружающий мир, выбирая из всех возможных дорог одну самостоятельным усилием воли. И никакие 12 внешние обстоятельства не окажут на неё решающего влияния, они могут лишь облегчить или затруднить её путь, но не заставят свернуть с него и выбрать иное. Именно поэтому основой мифопоэтического мировосприятия, главным его стержнем и его динамическим центром оказывается мифопоэтический герой. С ним связано пространство и время, и мифопоэтическое восприятие причинности формируется так, что ход действия зависит в первую очередь от пересечения различных героев и от их личностных качеств. В самом деле, говоря об особенностях мифопоэтического мировосприятия, неизменно приходится обращаться к тому, о ком идёт речь. Ибо главный вопрос мифопоэтики - "кто?" - отвечает вторым планом (но только лишь вторым) и на прочие вопросы: "что?", "зачем?" и "как?". Именно поэтому мифы, сказки и былины начинаются с именования, то есть с определения героя. Невольно или вольно, обсуждая вопросы специфики мифопоэтической причинности, пространства и времени, снова и снова приходится обращаться к герою и вырисовывать его черты. Ибо он - главная точка, определяющая все эти особенности, вокруг него вертится мифопоэтический мир, им он определяется и им изменяется. Можно сказать, что герой является динамическим центром мифопоэтического мира, организующим этот мир. Если попытаться собрать воедино те черты мифопоэтического героя, о которых так или иначе говорилось, когда шла речь о специфике восприятия пространства, времени и причинности в мифопоэтике, то складывается определённый мифопоэтического героя, особенностями которого являются: 13 образ 1. необыкновенность (особость): героем или, вернее сказать, действующим лицом в мифопоэтике является либо божество, либо богатырь, либо некое чудесное существо (Снегурочка, Быковий сын), либо дурак; 2. небезразличие; повестование в мифопоэтике всегда строится как цепочка значимых встреч или со-бытий; 3. время и пространство неразрывно связаны с героем, таким образом, что они и существуют-то только "около героя (действующего)", являясь фрагментарными с точки зрения синхронического целого ("картина мира" как таковая не складывается), но непрерывными по отношению к герою - как его "след"; 4. бессмертие и неостановимость: герой нигде не остаётся "насовсем"; так как мифопоэтическому мировосприятию свойственна принципиальная незавершённость и принцип перетекания, то нет ни "конечной цели", ни "центра" пространства; 5. архетипичность и неповторимость. В целом мифологическое делает акцент скорее на неповторимости, на различии, нежели на едином. Неповторимое особенно важно и требует к себе особого внимания. Боги, да и вообще все живые существа говорят каждый по-своему и с каждым по-своему. Видимо, именно поэтому одинаковое восприятие чеголибо (как у нас было бы в случае свидетельства нескольких очевидцев) выглядит для мифологического мира менее достоверным, чем восприятие особенное. И поэтому же опыт играет не самую большую роль в доказательстве и веровании: нет такого 14 опыта, который не может быть в некоторый (любой) момент опровергнут, и нет такой ситуации, которая с точностью повторила бы предыдущую Изменчивость и многообразие должны быть замечены не менее, а даже более, чем сходство, ибо именно они таят в себе неожиданность и требуют каждый раз новой реакции, а значит - и повышенного внимания, дабы не ошибиться в этой реакции. "Для нас одним из основных признаков, по которому узнаётся объективная ценность восприятия, является то обстоятельство, что воспринимаемое явление или существо при одинаковых условиях одинаково воспринимается всеми… У первобытных людей, однако, мы видим нечто совершенно противоположное: у них постоянно случается так, что некоторые существа и предметы открываются только некоторым лицам, исключая всех остальных присутствующих. Это никого не поражает, все находят это естественным"[5, 37] Однако, если мистическая сила разлита во всех и во всём равным образом, то, казалось бы, такая абсолютная разница восприятия должна быть исключена, и прочие должны слышать и видеть, если не само это "нечто" в полной мере, то хотя бы его отголосок - в силу всеобщей мистической причастности. На деле же получается, что слышит и видит только один и именно тот, кому это нужно. И это воспринимается как должное. Следовательно, особенность признаётся более важной и сильнее выраженной, чем взаимопроникновение. Основным законом мифопоэтического мира можно считать закон участного внимания или небезразличия. Закон этот, на первый взгляд совершенно простой, предполагает принципиально другую картину мира, нежели ту, что 15 может основываться на абстрактных понятиях и общих законах, содержать принцип объективности и принцип противоречия как свои основные столпы. Заинтересованность и особенность каждого существующего исключает вопрос об обобщении и типичности. Напротив, отличие и необходимость связаны между собой таким образом, что одно обуславливает другое. В сказках выбор попутчика происходит странным образом: встретившиеся как бы "узнают" друг друга; так, коня герой выбирает по ответному ржанию. Баба-Яга встречает путника словами: "Ну, вот и ты, Иван." Ошибок не бывает, как не бывает и замены одного помощника другим. Если же говорить о мифологии, то божество и вовсе незаменимо, иначе какое же это божество? Соответственно, повышается и степень ответственности. Ибо, вопервых, нарушение одного приводит к нарушению всего мира (а потому в мифопоэтическом мире нет неважных мелочей и все стремятся помочь исправить любое нарушение), а во-вторых, - нет возможности "переложить ответственность" на другого (ибо то, что делает один, доступно только ему одному - другой неизбежно, в силу его отличия, сделает иначе). Поэтому "в эпосе нет одинаковых судеб и одинаковых героев. Былины про Чурилу Пленковича и Василия Игнатьевича вполне могут начинаться одинаково, но сами герои - разные. Разные по характеру, по типу и даже по социальному положению… И жену Ставра Годиновича никак не спутаешь с женой Ивана Годиновича… И никто из богатырей не умирает так, как Дунай, как Сухман, как Данило Ловчанин или Василий Буслаев. И никто из богатырей не спускается на дно Ильмень-озера к самому царю морскому - это суждено только Садко, как только Михайло Потыку суждено 16 оказаться в подземном царстве и выйти из него."[1, 15-16] Так же, как и в сказках Иван-царевич и Иванушка-Медвежье ушко - совсем иные герои, чем Иванушка-дурачок, и судьбы у них разные, и помощники. Да и Иван-царевич в разных сказках не один и тот же, в зависимости от того, один ли он сын, либо есть у него братья или сёстры, и каковы они. В мифах сказания о разных божествах порою кажутся на первый взгляд похожими, но иное имя - иной образ, иное действие, иная ситуация - иной миф. Таким образом, специфика мифопоэтического мировосприятия позволяет совместить в герое две, на первый взгляд, трудно совместимые черты: устойчивость и изменчивость образа. Ибо, с одной стороны, герой всегда архетепичен - и благодаря этому миф оказывается потрясающе живуч, так как структура мифа укоренена в самом основании человеческой психики; с другой стороны, герой всегда изменчив и всегда выступает как символ, отсылающий ко множеству различных образов и конкретизирующийся каждый раз по-иному в зависимости от ситуации - и потому миф адаптивен практически к любым социо-культурным изменениям. Поэтому же герой всегда сам выбирает свою судьбу и создает – post factum – своеобразную предопределённость, являющуюся ни чем иным, как следом – следствием его по-ступка. Момент выбора есть момент абсолютной свободы, но момент, следующий за ним, оказывается моментом ответа на выбор как ответственности за свою свободу. И потому свободному выбору всегда предшествует в мифопоэтике участное внимание, а следствием его оказывается поступок. 17 ответственный Однако здесь мы уже затрагиваем вопрос о втором требовании свободы, так ярко предъявленном героем Достоевского: 2. Мы просим свободы внутренней, т.е. желаем в своих поисках свободной воли не оказаться в плену у самих себя, не оказаться в роли простых ведомых этой волей, не стать существами внутренне предопределёнными. Но в мифе герой в принципе не может быть предопределён, в том числе и внутренне, ибо изменчивость присуща ему изначально и не носит однозначного характера. Он живёт по закону участного внимания и меняется согласно ситуации. Его выбор – всегда самостоятельный выбор, но при том не отделённый от других, ибо он в принципе не может существовать только «для себя и через себя», но всегда – в со-бытии и в со-участии. Свобода его является одновременно и свободой выбора (ибо никто, кроме него самого, не может определить его участь и судьбу – и в этом смысле он практически «обречён на выбор» – свой, собственный, самостоятельный, свободный и потому необходимо «отягощённый» ответственностью) и свободой воли (ибо лишь согласно собственной воле он может сделать свободный выбор, который будет определять его дальнейший путь и его жизнь: всё прочее и все прочие, безусловно, учитываются, при совершении этого выбора – как требует этого закон участного внимания – но не оказывают решающего влияния на само совершение выбора, ибо у каждого свой путь и «каждый выбирает по себе», на свой страх и риск, сам – и в этом особенность мифопоэтики – усилием собственной свободной воли). И потому он свободен не только «от», как того хотели и требовали И.Фихте и герой Ф.М.Достоевского, но и – в первую очередь – «для», и – более того - именно «свобода для» 18 создаёт для него ощущение «свободы от». Ибо оказываясь перед выбором, он не задумывается, как он должен поступить или почему ему стоило бы пойти по некоторой дороге – эти вопросы для мифопоэтики вообще не характерны – а решает, зачем ему эти дороги, т.е. нужно ил ему (или кому-то, для кого он свершает свой путь) то, что они предлагают. Иными словами, он не соглашается на некий выбор под давлением обстоятельств или влечений, но просто отказывается от того, что ему не надобно (богатства, славы), или стремится сберечь то, что ему ценнее всего (или, скорее, рискует пожертвовать тем, что ему не так ценно, выбирая между своей жизнью и жизнью своего коня) – и выбор его при этом оказывается естественен и свободен и согласуется с его собственной, глупой ли или умной, но своей волей. Он свободен внешне – и это вполне очевидно, ибо выбор свершается «в чистом поле», где нет не только никакого внешнего давления на героя, но даже и малейшей подсказки. Но он свободен и внутренне, и следование своей воле не является для него простым своеволием, ибо повинуется он при выборе не случайному капризу или влечению, пусть бы даже и собственному, но именно и только своей сущности и закону участного внимания. Герой выбирает согласно своей воле свой путь, но именно выбирает, но не автоматически следует «по воле своей природы», чего так опасались и «подпольный человек», и И.Фихте – в противном случае не было бы нужды в остановках и раздумьях у придорожных камней. Таким образом, мифопоэтика представляет нам установку на «свободу для», в связи с чем все проблемы «свободы от» в ней 19 автоматически снимаются и вопрос выбора «свободы или воли» решается в пользу того и другого одновременно. Думается, это единственно возможный вариант решения проблемы свободы и воли, устраняющий ощущение несвободы. Мы выбираем, и мы вольны в своём выборе. Мы поступаем, согласуясь со своей волей и её усилием претворяем наш выбор в жизнь. Но тем самым мы устанавливаем и ограничения – сами себе и миру, – совершая выбор и отказываясь от иного. И несём ответственность за свой выбор и, в конечном итоге, - за свою свободу – ибо мы сами её избрали и некого в том винить и некого благодарить за неё. Благодаря такому подходу к вопросам свободы мы оказываемся в той самой ситуации, о которой говорил Э.Левинас в своей попытке «оправдания свободы»: «Свобода обосновывает себя… в бесконечной требовательности к себе, в преодолении самоуспокоенности».[6, 284-285] Так обретаем мы, наконец, желанную свободу - «свободу для»: свободу поступка и творчества, свершения и выбора, самоопределения и ответственности. Свободу, ограничивающую саму себя гораздо сильнее, нежели может быть ограничена «свобода от», но, тем не менее, дающую нам то, чего никакая «свобода от» дать нам не в состоянии: ощущение собственной свободы. Ибо ощущение истинной свободы может появиться и появляется только тогда, когда свобода является для нас не целью, а средством, когда мы ищем свободы для чего-то, а не от чего-то – ибо только в этом случае свобода оказывается направленной на созидание, а не на разрушение, - и связывается в нашем восприятии с ответственностью, а не с произволом. исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 07-06-00066а 20 Библиография 1. Былины. М., 1991 2. Восточнославянские волшебные сказки. Составитель Т.В.Зуева. М., 1992 3. Гой еси вы, добры молодцы. Русское народно-поэтическое творчество. М., 1997 4. Достоевский Ф.М. Записки из подполья.\\ Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в 15-ти тт. Т.4. М., 1989 5. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1937 6. Левинас Э. Тотальность и бесконечное. \\ Левинас Э. Избранное : тотальность и бесконечное. М.-Спб., 2000 7. Пропп В.Я. Поэтика фольклора. М., 1998 8. Фихте И. Назначение человека.\\ Фихте И. Несколько лекций о назначении учёного. Назначение человека. Основные черты современной эпохи. Минск, 1998 9. Фроянов И.Я, Юдин Ю.И. Былинная история. СПб., 1997 Козолупенко Дарья Павловна (девичья фамилия – Пашинина), кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры философской антропологии философского факультета МГУ. 142092 Московская обл., г.Троицк, мкрн «В», д.1, кв.82 8-501-443-25-26 8-(27- для Москвы или 096- для прочих регионов) 51-42-90 (095)135-21-97 ( родители: Павел Павлович, Людмила Владимировна) 21