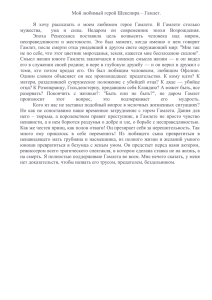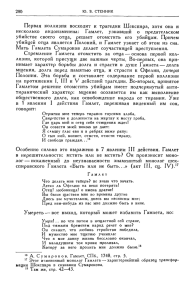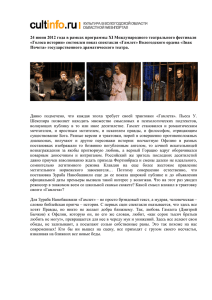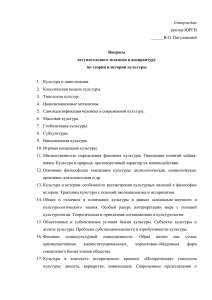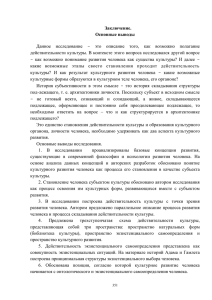Введение в онтологию культурного развития человека.
advertisement
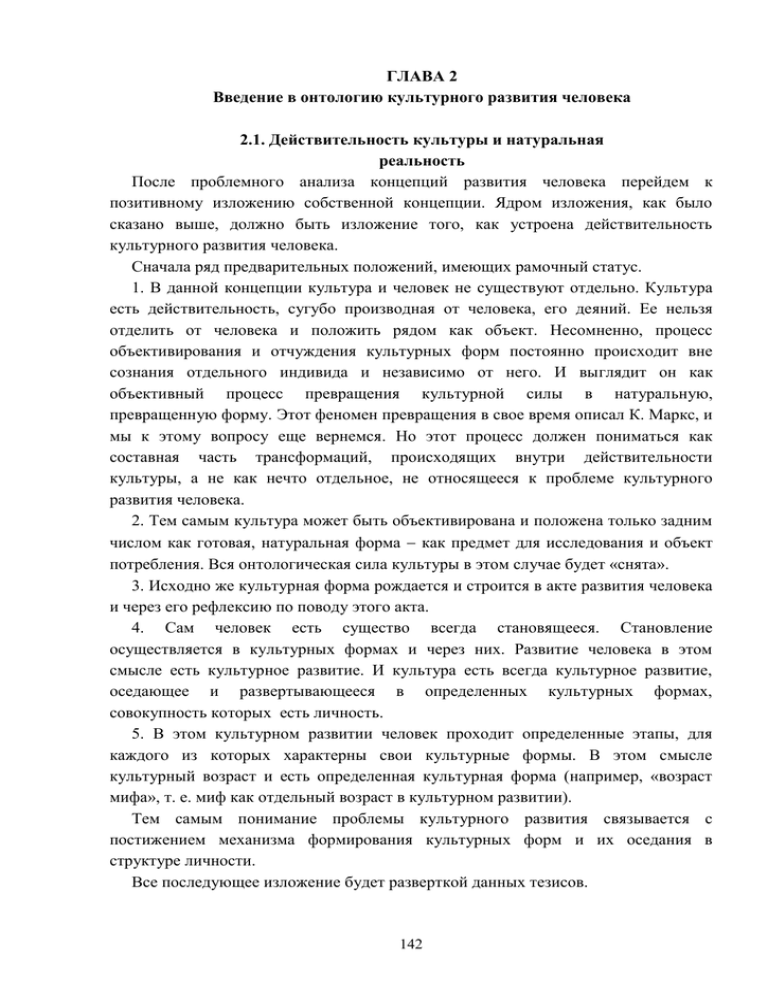
ГЛАВА 2 Введение в онтологию культурного развития человека 2.1. Действительность культуры и натуральная реальность После проблемного анализа концепций развития человека перейдем к позитивному изложению собственной концепции. Ядром изложения, как было сказано выше, должно быть изложение того, как устроена действительность культурного развития человека. Сначала ряд предварительных положений, имеющих рамочный статус. 1. В данной концепции культура и человек не существуют отдельно. Культура есть действительность, сугубо производная от человека, его деяний. Ее нельзя отделить от человека и положить рядом как объект. Несомненно, процесс объективирования и отчуждения культурных форм постоянно происходит вне сознания отдельного индивида и независимо от него. И выглядит он как объективный процесс превращения культурной силы в натуральную, превращенную форму. Этот феномен превращения в свое время описал К. Маркс, и мы к этому вопросу еще вернемся. Но этот процесс должен пониматься как составная часть трансформаций, происходящих внутри действительности культуры, а не как нечто отдельное, не относящееся к проблеме культурного развития человека. 2. Тем самым культура может быть объективирована и положена только задним числом как готовая, натуральная форма как предмет для исследования и объект потребления. Вся онтологическая сила культуры в этом случае будет «снята». 3. Исходно же культурная форма рождается и строится в акте развития человека и через его рефлексию по поводу этого акта. 4. Сам человек есть существо всегда становящееся. Становление осуществляется в культурных формах и через них. Развитие человека в этом смысле есть культурное развитие. И культура есть всегда культурное развитие, оседающее и развертывающееся в определенных культурных формах, совокупность которых есть личность. 5. В этом культурном развитии человек проходит определенные этапы, для каждого из которых характерны свои культурные формы. В этом смысле культурный возраст и есть определенная культурная форма (например, «возраст мифа», т. е. миф как отдельный возраст в культурном развитии). Тем самым понимание проблемы культурного развития связывается с постижением механизма формирования культурных форм и их оседания в структуре личности. Все последующее изложение будет разверткой данных тезисов. 142 Вернемся к нашему началу, к разговору о действительности культуры. Почему так называется данная глава? Что она означает? По существу, речь идет о бытии культуры, по поводу которой философ, находясь «по краям», пытается построить онтологию культуры. Причем, учитывая все сказанное выше, становится понятно, что культура не пребывает как некая готовая субстанция. Это всегда живая форма, именно форма, человечески рукотворная. Эта форма дышит. Она осуществляется человеком в актах его культурного развития, как вдох-выдох. И каждый раз в акте развития культура возобновляется, восходит к своим истокам, своему началу, своему пределу. Мысль о таком начале, пределе, мысль о пороге бытия рождает акт культурного самоопределения. Через этот акт рождается собственно культура, тот феномен, та форма, в которой и может пребывать человек. Человек как человек существует, собственно, в этой форме как в сосуде. Вне такой формы человек теряет свои устои, они размываются. Бытие человека, его антропология, устроена по принципу как культурная форма. И это его единственное главное и самое практическое дело - выделывать эту форму. Такое практическое дело, то есть, собственное, самому себе родовспоможение, рождение человеческого в человеке, осуществляется в культуре как в форме человеческого акта развития. И только этим по существу своему занят человек в своей жизни. Все остальное - лишь фон, лишь подготовка. Потому что только такой акт культурного развития и остается в истории как прецедент, как опыт, и оседает в разных артефактах, натуральных формах, эргонах, продуктах деятельности. Поэтому бытие культуры - это бытие человека в актах культурного развития. В них он действителен. Последнее же как-то по особому осуществляется и затем оседает, воплощается в определенных формах. Оно, это развитие, осуществляется в формах культурных практик - философии, религии, искусстве (об этом см. ниже в главе 3, раздел 5.). Тем самым необходимо помыслить то, что представляет собой онтология культуры и как устроена ее архитектоника, попытаться ответить на вопрос, как устроена действительность культуры, в чем состоит предметность ее онтологии. Сначала попытаемся обозначить исходные рамки понятия действительности культуры. Какие предельные основания лежат в представлениях о действительности по принципу, независимо от того, о чем мы помыслим – о культуре, человеке, природе, сознании и т. д.? Что значит - быть действительным? То есть пребывать, обладать полнотой бытия? Тем самым мы вступаем в область особой онтологической работы, одновременно задавая и содержательную специфику таких понятий, как бытие, действительность, онтология. 143 Специально касаться истории этого вопроса мы не будем. Это не наш предмет разговора (см. об этом в работах А.В. Ахутина, П. Бурдье, П. Бергера, Т. Лукмана, А.П. Доброхотова, П.П. Гайденко, В.М. Розина, Г.Г.Копылова, В.В. Никитаева, Г.П. Щедровицкого, П.Г. Щедровицкого и в наших работах [8; 16; 39; 53; 54; 87; 125; 126; 184; 185; 247; 248; 280; 281; 370; 377]). Отметим только принципиально важный момент. Разговор о мирах, о мире миров, о возможных мирах, о построении онтологий в настоящее время перешел из плоскости академических штудий и классического дискурса в разряд проектных разработок. Разные авторы ведут исследования и разработки концепций множественности миров и их онтологических оснований. Сами действительности социального, культурного и иных миров проектируются, конструируются, строятся, а не лежат готовыми в виде неких объектов. Об этом сказано в работах таких авторов, как В.П. Визгин, В.М. Розин, В.В. Бибихин [20; 48; 247; 248]. Поэтому мы говорим не о том, что есть мир, а о том, как устроена по принципу действительность культурного развития, какие исходные основания необходимо положить для выстраивания ее онтологии. Ответом же и является построенная нами онтология, в которой, разумеется, используется названная философская традиция. Пока же дадим ряд предварительных замечаний. Вопрос об онтологии напрямую связан с современной ситуацией в мировой науке и мировой философии. Эта ситуация понимается самыми разными авторами как кризисная, межпарадигмальная (см. также во введении и в главе 2, раздел 2). Последнее объясняется в том числе и тем, что мировая философия и психология пошли по пути англосаксонского эмпиризма. Атлантическая философия давно не является философией, она утратила онтологические корни. Утратила прежде всего потому, что потеряла главное трансцендентальный метод философствования, который разрабатывался в классической, континентальной европейской традиции в лице Платона, Р. Декарта, И. Канта, И. Фихте. В ХХ веке этот принцип-метод воссоздавался в лице феноменологии Э. Гуссерля, онтологии М. Хайдеггера, новой антропологии М.М. Бахтина и неклассической психологии Л.С. Выготского. В послевоенный период этот принцип пытаются реконструировать представители Мюнхенской школы трансцендентальной философии (Р. Лаут, Ф. Бадер и др. [69; 181]). Эта школа близка к тем онтологическим построениям, которые осуществлялись в рамках Московского методологического кружка (это прежде всего работы Г.П. Щедровицкого [367-370]) и в философской топологии пути М.К.Мамардашвили ([152-158], см. также выше анализ идей этих авторов в главе 1). 144 Все эти названные попытки заключались в преодолении господствовавших в традиционной метафизике тенденций роста натурализма и объективизма, с одной стороны, и психологизма и гносеологизма - с другой. В работах названных авторов онтология, гносеология, эпистемология, феноменология и методология связаны неразрывно в единый узел, в единую предметность, основой которой являются понимание и конструирование в акте мышления универсума действительности человека. Действительность не задана и не предзадана до человека, до его акта мышления. В самом акте мышления предметность действительности восстанавливается, реконструируется, и ей придается онтологический статус. Через призму этого трансцендентального принципа рассматривается и вся история философии. Исходя из этого важно выстраивать сам способ развертывания мышления. «Развертывание мышления определяет саму форму построения объекта: структура объекта, структуры знания о нем порождаются субъектом в свободе, они никогда не даются в готовой форме, но фактически каждый раз восстанавливаются заново благодаря деятельности субъекта, работе его сознания», - так пишет современная исследовательница философии Мюнхенской школы Н.В. Громыко [181, с. 4]. В этом смысле теряется необходимость говорить о бытии и небытии, о субъекте и объекте в логике традиционного парного мышления. Даже суждение о небытии как о том, что это нечто невыразимое, немыслимое, несуществующее, есть тоже суждение, которое разворачивается в акте мышления и через которое небытие получает онтологический статус. Ф. Бадер, реконструируя миф Платона о бытии и небытии, устанавливает, что субъект в самом моменте рассуждения о бытии и небытии как раз конструирует отношения между ними, и через эту реконструкцию небытие становится «бытийствующим» благодаря самому этому рассуждению [181, с. 13] Обнаружение и построение действительности происходит в самом акте мышления. Стало быть, форма мышления, его способ развертывания есть качество онтологическое, то, которое конституирует само бытие, иначе говоря, действительность самого предмета мышления. В методологии Г.П. Щедровицкого эта операция называется преодолением натуралистического подхода и развертыванием мыследеятельностного подхода, согласно которому исследователь занимается не описанием, якобы, готового, ставшего объекта, не сбором его свойств и признаков, заранее заданных, а исследованием собственных мыслительных средств рефлексии и понимания и выстраиванием с их помощью действительности своего культурного развития, своей субъектности [368]. Тем самым, мы пришли к необходимости говорить о построении новой онтологии, структура которой, сама ее предметность, зависит от способа, от 145 структуры мыслительной деятельности субъекта развития, то есть самого автора акта мышления. Таким образом, онтология и антропология переплетаются в единый универсум, внутри которого нельзя говорить отдельно о некоем гносеологическом субъекте или готовом, натуральном объекте. Есть универсум культурного развития, который переживает акты своего саморазвертывания. Действительность такого универсума может быть и отдельно положена как объект исследования, и задана в действии субъекта развития, который больше эмпирического индивида. Это антропологический универсум, собирающий свое культурное тело в действительности культурного развития с помощью культурных форм. Когда Ф. Бадер реконструирует философию И.Г. Фихте, то он отмечает у последнего именно этот заход. Заход, который оказался утерян потом в атлантической философии: заход, заключающийся в том, что И.Г. Фихте сделал «предметом анализа и рефлексии эволюцию собственного сознания, переосмысляющего уже накопленные в истории и культуре мыслительные образцы и превращающего их в средства личного антропологического развития» [181, с. 16]. Именно так работали до него и Платон, и И. Кант, а после него и М.Хайдеггер, и М.М. Бахтин, а далее – М. Фуко. Поэтому необходим переход от ставших традиционными объективистской онтологии и субъективистской гносеологии к онтологически укоренной антропологии, в которой человек признается как онтологическая идея, участвующая в конституировании универсума действительности культурного развития, и в котором (универсуме) сняты оппозиции субъект - объект, человек мир. А сам человек преодолевает собственный индивидуализм, психологизм и натурализм, а также связанные с этим онтологическую заброшенность и ущербность. Но здесь есть иная крайность – антропоцентризм, результатом чего становится забвение бытийных истоков самой идеи человека. Об этой крайности писал и М.Хайдеггер, споривший с И. Кантом о возможности обоснования метафизики из философской антропологии [344] (см. выше в главе 1). Но сейчас, в нынешней ситуации, уже не надо доказывать, что виновата не сама идея человека, т.е. не сами по себе онтология или антропология. Мы попали в перманентный кризис, длящийся в течение всего ХХ в. Мы попали в ситуацию порога, онтологического предела в такую ситуацию, в которой исчерпывается сам исток бытия, онтологический ресурс. Это ситуация «кризиса» в его исконном смысле слова, ситуация «суда» над способом бытия человека (см. также [227]). Бытие человека приходит к концу, обнажается начало, «архэ», приведшее сущее к кризису-суду. На этот суд собираются свидетели - культурные герои, которые однажды проходили весь цикл культурного развития, начиная с идеи Единого и кончая идеей Техники. Используя эту культурную метафору, можно сказать, что 146 описать цикл культурного развития - значит допросить всех культурных свидетелей: человека мифа, человека природы, человека деятельности, человека техники, а также - Адама, Гамлета, Иисуса Христа, Иова и многих других. История культуры - это долгий процесс допроса свидетелей, показа их свидетельств падения и спасения. Итак, речь в данном исследовании идет, повторяю, об особом мире, отличном от так называемого реального, натурального мира. Это мир опыта переживания действительности культурного развития, о котором человек пытается помыслить. В натуральной реальности нет культуры. Точнее есть лишь осевшие превращенные формы. В ней нет и действительности. Последняя обнаруживается всегда в актах мышления - в жанре философии или искусства (мы пока их не разделяем, по существу, они ставят одни и те же вопросы - об онтологических пределах – см. ниже в главе 3, раздел 5.). Далее попытаемся обозначить принципиальную схему строения действительности культуры, но для начала напомним о проблеме натуральных превращенных форм. Сошлемся на пример из образования. В современной педагогической теории и практике до сих пор доминирует представление, согласно которому содержание образования заключено в учебном материале, упакованном в программах обучения. В массовом педагогическом сознании допускается идея, что некий готовый предметный материал по математике или истории и есть содержание обучения. А усвоение этого материала составляет базовую образовательную практику. Такое понимание является следствием действия особого феномена натурализации действительности в сознании человека. Этот феномен превращенных форм (verwandelte Form) известен. Его в свое время открыл и описал К. Маркс и подробно исследовал М.К. Мамардашвили (см. [154, 162]). Эту проблему на материале культурологии К.Маркса в свое время глубоко проанализировал Ю.Н. Давыдов [82]. В чем заключается феномен превращения? Результатами различных действий людей в разных сферах жизни являются те или иные продукты. Их можно назвать натуральными формами. Они являются результатом процесса опредмечивания и овеществления деятельности, т.е. оседания в готовых формах. Речь идет не только о собственно вещных формах, но и об овнешнении любого акта сознания и любого, условно говоря, непредметного действия. Например, такие явно непредметные, «невещные вещи», как любовь, долг, идея, мысль и т. д. опредмечиваются, во всяком случае, им ищутся вещные аналоги, как требуются вещественные доказательства и улики в любом судебном расследовании. Человеку, чтобы удержаться в этом сложном, подчас абсурдном мире, необходимы подпорки, костыли. Их удобнее иметь в виде вещественных определений, их удобно буквально иметь. Такое натуралистическое сознание 147 нуждается в помочах. Оно нуждается в конкретном объекте нужды, объекте «имения». Понятно при этом, что такое сознание будет постоянно находиться в ситуации невротической тревоги, в состоянии постоянного неудовлетворения и страха, поскольку эти костыли всегда не полны, не совершенны. Их всегда не хватает. «Усвоить», а точнее, поиметь этот натуральный материал до конца никогда не удается. И он всегда будет довлеть над всегда раненным натуральным сознанием, он всегда будет чужим, восприниматься как угрожающая тебе сила, мертвая и косная материя. Таким образом, массовое натуралистическое сознание (а оно, как ясно из сказанного, есть больное сознание), заражая массовую педагогическую практику, превращает обучение в постоянную мýку в борьбе над обладанием этой косной материей. Учитель, этот комок страхов и комплексов, не владеющий собой, поскольку перед ним постоянно стоит огромный чужой мир натуральных форм, этот учитель транслирует не только эти превращенные формы, но и прежде всего свое больное сознание, заражая им же и ученика, также больного и заблудшего, сценируя в нем его поведение. Как быть? Точнее, быть или не быть? Мы попадаем в ситуацию Гамлета. То есть «иметь или быть»? Или пытаться гоняться за натуральными формами, объективируя свои действия, не вскрывая за ними действительной человеческой сущности, или пытаться осуществлять действия по распредмечиванию натуральных форм и тем самым становиться в бытии? Второе, конечно, предпочтительнее, хотя и труднее. Оно и определяет действительность образования человека, а значит, действительность культуры. М.К. Мамардашвили в свое время специально обращал внимание на эту проблему, анализируя проблему сознания и опираясь на работы К. Маркса [154, с. 249-268, 269-282] (см. также из последних работ блестящий анализ идеологического сознания, проделанный современным автором Славоем Жижеком на материале работ К. Маркса и Ж. Лакана [94]). Из этих работ следует, что сознание - это не форма отражения объективного мира (к чему привыкло натуралистическое сознание), а своего рода метаморфоз, превращение. Последнее заключается в том, что, условно говоря, «внутренние», не натуральные, не видимые явления овеществляются, воплощаются и оседают в натуральных формах. Последние наделяются при этом социальными человеческими качествами и свойствами, которых в них как в натуральных формах нет. Поэтому они кажутся сверхъестественными и мистическими. Эта теперь уже хрестоматийная проблема товарного (и иного) фетишизма на самом деле до сих пор не стала инструментом в науках о человеке, хотя это явление превращения вообще характерно для человеческого сознания. И оно всякий раз повторяется. И сами идеи К. Маркса стали такими же превращенными иррациональными формами. 148 Идея же принципиальна, поскольку о человеке можно судить не по неким внутренним процессам, происходящим где-то в нем, а по внешним по отношению к отдельному эмпирическому индивиду процессам превращения - опредмечивания и распредмечивания. Сознание кажется записанным, закодированным на индивидах. Самим этим индивидам с их эмпирическим сознанием кажется, что то самое человеческое находится в них самих как индивидах, внутри их физического тела, в голове. Это вводит в заблуждение натуралистически ориентированных психологов и педагогов, считающих, что сознание это плод усилий отдельных индивидов, плод их ассоциаций и воображения, результат работы их мозга. Как будто сознание, точнее, психика есть нечто, что происходит внутри этих эмпирических, натуральных существ. Этот психологистический и натуралистический подход и пытались преодолеть Л.С. Выготский, а позднее по его стопам Г.П. Щедровицкий, Э.В. Ильенков, М.К.Мамардашвили, А.М. Пятигорский и другие исследователи, понявшие суть Марксова анализа сознания [108; 154; 155; 157; 367-371] (см. выше в главе 1). Не надо пытаться понимать так называемую индивидуальную психику субъекта, чтобы понять его мышление. Это фикция. Не надо собирать и анатомировать его ассоциации. Ничего, кроме собственных фантазий и галлюцинаций, исследователь здесь не увидит. Этим можно заниматься бесконечно, и никакая наука с этим не справится. Мы здесь имеем одни сплошные интерпретации и допущения. Проблема состоит в том, что работает вполне определенный, объективный процесс (т. е. находящийся за пределами отдельного индивида, но на нем реализующийся и паразитирующий), процесс превращения деятельностных форм в вещные, шире – в натуральные формы. И это происходит помимо чувств и воли отдельного существа, помимо его проекций и допущений. Поэтому весь парадокс культуры состоит в том, что она кажется такой же готовой и представленной в неких образцах и нормах, натурально данных, которые можно взять и иметь, которым можно подражать, которые можно созерцать как натуральные объекты. Тем самым мифологические структуры К. Леви-Строса, архетипы К.Г. Юнга, бессознательные комплексы З. Фрейда, товарный фетишизм К. Маркса, структуры языка Ж. Лакана - это, по сути, явления одного порядка. Явления, показывающие один процесс: процесс превращения акта мышления в натуральные, превращенные, иррациональные формы, в «чувственно-сверхчувственные вещи», или в «объективные мыслительные формы» [162, с. 84]. Эти формы в процессе отчуждения получают самостоятельный статус, отрываясь от своего источника, первоначального акта собственного творения. Но 149 одновременно с этим в этих формах скрыт действительный шифр, код культурного развития. Они являются чем-то вроде иероглифов культурного опыта (ср. у К. Маркса: «стоимость превращает каждый продукт труда в общественный иероглиф» [162, с. 84]). Они несут в себе не только собственную превращенность, но и скрытый код, поскольку в этих архетипах, первообразах, закодированы культурные формы субъекта развития, его образовательный Путь. Этим формам приписывается статус объективности, а значит, действительности. В них видится, будто именно они суть действительность мира. Вернее, это приписывание и осуществляет натуральное сознание (у К. Маркса «идеологическое сознание»). Всякий неофит, обладающий этим сознанием, т. е. несущий клише и стереотипы чужого опыта, попадая в мир культуры, воспринимает ее натурально, как готовую форму, которой можно обладать, которую, как ему кажется, можно просто взять и поиметь. Почему это происходит? Дело в том, что между миром экзистенции, миром экзистенциального самоопределения, то есть началом актов развития, о котором мы скажем ниже по поводу описания «ситуаций Адама и Гамлета», и миром натуральных форм культуры (результатом развития) лежит некая граница. Мало задать вопрос «Быть или не быть?». Надо пытаться состояться в акте культурного развития. Поэтому, как мы уже говорили, действительность культуры устроена тройным образом. Все начинается с ситуации Адама и Гамлета. Но потом самоопределение человека воплощается и оседает в натуральных формах. Для неофита результат актов культуры предстает как набор этих форм. Без специальной работы по распредмечиванию натуральная форма будет просто проглатываться неофитом и имитироваться. Тем самым необходим некий буфер между этими двумя пространствами - пространство практики культурного развития, в рамках которого человек осуществляет практику освоения культурных форм и тем самым формирует в себе субъектность развития. Таким образом, мы можем представить некое сложное пространство движения человека как культурного существа. Это пространство на данный момент рассуждения мы можем обозначить как совокупность трех миров, соотнесенных друг с другом и связанных единой практикой культурного развития. Прямой лобовой ход «взять культуру» не только бессмыслен, но и весьма опасен для неофита, поскольку у него не отработана машина культурных практик. У него нет того специального «культурного органа», который выращивается в процессе проделывания культурных практик. Он рискует себе сломать шею, попасть в экзистенциальный тупик, тупик псевдосамоопределения, иллюзорного, обманного хода в имитацию культуры. Это все равно, что инвалида без ног заставлять прыгать, не обучая его прыганью с помощью других средств. 150 Натуральное сознание пытается сразу взять, «поиметь» готовую форму, поиметь любой предмет (предмет любви в том числе) как готовую вещь, которой можно обладать. Это сознание стремится присвоить предмет, не проходя зону культурного развития, сплющив ее (эту зону), не проделывая работы по освоению. В то время как объектно, как объект обладания, культура существует лишь как готовая, натуральная форма. Но онтологическая сила культуры пребывает, т. е. набирает, наращивает свое бытие, всегда актуально, через акт развития, преодоления человеком собственного отчуждения от самого себя. До сих пор остается поэтому актуальной проблематика отчуждения, опредмечивания и распредмечивания, поставленная К. Марксом и имеющая прямое отношение к культурному развитию, поскольку, как он писал, «положительное упразднение частной собственности, то есть чувственное присвоение человеком и для человека человеческой сущности и человеческой жизни, предметного человека и человеческих произведений, надо понимать не только в смысле непосредственного, одностороннего пользования вещью, не только в смысле владения, обладания. Человек присваивает себе свою всестороннюю сущность всесторонним образом, следовательно, как целостный человек...» [161, с. 119-120]. Вся предметность культурного развития заключается в его посюсторонности и практичности. Это сугубо практический вопрос, как практическим является вопрос о предметности мышления и личности. Неизменным и бессмертным остается тем самым знаменитый тезис К. Маркса о практичности сознания. Смыслом образования является личность - «моя личность выступает как предметная, чувственная, созерцающая, а потому находящаяся вне всяких сомнений сила» [161, с. 36]. Содержанием культурного развития является в этом смысле не само по себе усвоение неких готовых форм в виде учебного материала, а практика человека по выделыванию в себе культурных качеств мыслящей личности и тем самым выращивание на себе культурных органов, неорганического тела тела личности. Эта практика требует от него постоянного выхода из так называемого реального мира натуральных форм в мир действительности культуры. Натуральное сознание живет в реальном мире, в мире житейском, эмпирическом, как вещь среди вещей. И это нормально. То есть естественно для человека еще не ставшего, для существа натурального, еще необразованного, не ставшего самим собой, не нашедшего свой образ. В этом смысле образование и есть практика выхода из мира натурального в мир действительный. Человек как человек становится действительным именно через этот образовательный ход, превозмогая всякий раз натуральный вывих, свою всегда натуральную недоделанность (см. подробней об институте образования в главе 2, раздел 2). 151 Тем самым нам необходимо понять - как устроена, в отличие от натуральной реальности, эта действительность культурного развития? Из каких, грубо говоря, частей она состоит (понятно, что этот лексикон опять же содержит в себе рецидивы натурализма). Итак, мы выделяем в идеальной действительности культуры три пространства: - пространство натуральных форм; - пространство культурного развития; - пространство экзистенциального самоопределения. Как они связаны, эти три мира? Как устроен каждый из них? Обозначим общую схему действительности культуры (рис. 13). Пространство натуральных форм Эмпирический индивид Лобовой ход «поиметь» культуру Каналы распредмечивания и опредмечивания -------------------------------------------------------------------------------------------------Субъект Пространство развития действительности культурного развития -------------------------------------------------------------------------------------------------Экзистенциальный Пространство герой экзистенциального самоопределения Рис. 13 Эта онтологическая схема выступает для нас в качестве схемы-принципа. Ее нельзя взять и приложить к эмпирическому материалу. Тем более никакие так называемые реальные процессы она не отражает. Единственное, что мы можем сделать с ее помощью, так это организовать свое собственное мышление, конституировать свои представления о культуре, выстраивая ее идеальную действительность. С ее помощью мы ставим себе рамку, задаем онтологические пределы действительности культуры. Теперь рассмотрим данную схему. С чего начинается культурное развитие? При своем «первом» рождении индивид появляется в мире вещей, в мире натуральных форм, которые ему хочется сразу взять (верхний «этаж» схемы). Ему хочется взять культуру как вещь и использовать в качестве средства для собственного натурального устройства. Но он не может просто взять готовую форму. Поскольку она сложно устроена. Проще говоря, нельзя взять книгу и 152 прочитать, не умея читать. Тем самым он попадает в ситуацию Адама (нижний «этаж» схемы), ввергается вниз, в пропасть, переживая свое первое и главное онтологическое самоопределение, поскольку культура оказывается не по зубам. Нельзя взять культурную форму как вещь и проглотить ее. Ее приходится осваивать. Поняв свою неумелость и свою ничтожность (свое ничто), человек попадает в ситуацию голого короля. Попав в ситуацию экзистенциального искушения, индивид вынужден, барахтаясь в ней, как-то из нее выходить, буквально выползать, выскребаться, поскольку опыта испытания и выдерживания онтологического самоопределения у него нет. От первого рождения он не имеет культурных органов, чтобы выдержать эту экзистенциальную мýку. Он не выдерживает ситуации максимальной свободы быть и экзистенциального ужаса от осознания своей смертности и своего ничто. Тем самым он снова вылезает наверх, к натуральным формам с тем, чтобы взять их в качестве рецептов спасения и ими загородиться, как щитом, использовать их как костыли-подпорки, которые кажутся ему готовым средством спасения. Но коль скоро практики выделывания себя, т. е. практики собственного метаморфоза подобный индивид еще не проделывал, не вырастил в себе новую культурную органику, поэтому он снова сверзается вниз. И так может продолжаться неопределенно долго. Так индивид может и не стать субъектом культурного развития, пока не попытается войти в третье, промежуточное, пространство, пытаясь осуществлять акты овладения культурными формами. Таким образом устроен своеобразный «маятник» культуры, или «качели» культурного развития. Такие переходы по трем мирам культуры и есть, собственно, самые опасные возрастные кризисы в культурном развитии человека. Иначе говоря, в этих переходах и ставится главный вопрос - возможно ли удержание человеком предельных рамок своего опыта? Важно то, что индивид не может напрямую попасть в цикл развития. В него не попадают. Его обретают после попадания и выхода из ситуации Адама, после культурного развития (промежуток между натурой и экзистенцией), после «сумасшествия Гамлета», после того, как индивид изживает синдромы подобных экзистенциальных болезней. После того, как натуральное существо попадает в метафизическую ситуацию онтологического самоопределения и в нем начинает рождаться субъект развития. Теперь несколько подробнее о пространстве натуральных форм. Последние кажутся индивидам объективными, наделенными самостоятельной силой. Об этом мы сказали выше. На самом деле они являются превращенными формами. Это означает, что в ежедневной социальной практике деятельностные силы человека превращаются в натуральные, вещные формы и существуют вне отдельных индивидов, а потому кажутся им сверхъестественными. Процесс 153 превращения и замещения деятельностных и социальных практик натуральными формами, т.е. их опредмечивание, и есть, по существу, феномен сознания. Оно и выступает внутренней структурой этого процесса, подосновой социальных, деятельностных связей. Обратный процесс распредмечивания есть акт развития, который по сути своей есть акт мыслительный. По этим двум каналам опредмечивания и распредмечивания и осуществляется связь двух миров - мира натуральных форм и мира культурного развития. Эта связка показана на схеме. Надо сказать, что пространство натуральных форм устроено вполне определенным образом. Это не свалка мусора. Если мир натуральных форм представить как архив культуры, как ее ресурс, то этот мир представлен как своеобразная библиотека, по которой можно ориентироваться по некоему каталогу-указателю. По последнему можно судить о том, как устроена библиотека культуры, какова ее классификация, систематизация и типология. Подобную работу по описанию этой библиотеки культуры проделал, как нам кажется, Э.Кассирер в своей фундаментальной «Философии символических форм» [116]. Но можно говорить о разных классификаторах натуральных форм. Как организован этот архив? В том и проблема, что исходно эмпирический индивид – это пока что «робинзон», желающий взять культуру как готовую вещь, но не понявший ключа, шифра культурного развития. Ключи же лежат также в этих «ящичках», в архиве культуры. Натуральные формы суть не просто осколки остывшей лавы когда-то взорвавшегося вулкана, акта развития, а свернутые, упакованные и положенные в библиотеку культуры формы. Назовем ее «антропотекой», т. е. архивом культурных форм развития человека. Неофиту предстоит проделать специальную работу по распредмечиванию этих форм. Если так, то натуральные формы определенным образом могут быть отклассифицированы. Таких классификаций много (см., например, работы С.С. Розовой по проблеме классификации в науке [240]). Например, тот же Э. Кассирер пытался построить свою «грамматику» культурных форм, правда, только на одном основании, поставив во главу угла проблему символизации и образования символических форм в мифе, религии, познании, искусстве. М. Коул (вслед за М. Вартофским) выделяет три класса культурных артефактов (artifacts), т. е. натуральных форм [128; 420]. Первый класс - это мир вещей, «первичных артефактов», которые непосредственно используются как вещи. То есть это определенные орудия, вещи, изделия, предметы производства, буквально материальные, натуральные предметы, включая и собственно овеществленные духовные формы книги, картины, здания и другие вещественные формы-знаки культуры. 154 Вторичные артефакты - это сами первичные артефакты, взятые со своим способом употребления. Например, книга и способ ее чтения. Орудие труда и способ его использования. В этом смысле вещи никогда не бывают только вещами. Они становятся таковыми лишь благодаря своему использованию, своей орудийности и функциональности. И главное здесь, разумеется, второе. Тем самым в архиве культуры есть отдельные, условно говоря, разделы, в которых должны быть представлены описания функционального использования этих первичных артефактов, т. е. техники и технологии. И третичные артефакты - это схемы и сценарии поведения людей, их архетипы, модели взаимодействия и коммуникации, всевозможные культурные траектории и ходы, составляющие своеобразную паутину, связывающую людей в действительность культуры, создающую ту самую культурную среду, тот самый культурный бульон, без которого мы можем глотать только «мертвый воздух» (О.Э. Мандельштам). Этот класс самый сложный и идеально организованный. В нем сокрыты описания идеальных форм, символов и смыслов, без которых проблематично в принципе культурное рождение. Но в архиве эти смыслы и символы в натуральном виде лежат рядом с натуральными формами. И неофиту каждый раз приходится осуществлять практику «распознавания образов», практику «вскрытия печатей». Тем более символы кажутся такими же натуральными и простыми, как и всякая вещь. Итак, в качестве эмпирического существа индивид обитает среди натуральных форм, как вещь среди вещей. В качестве субъекта развития он пытается осуществить акт культурного развития, т.е. распредметить натуральные формы. Тем самым он попадает в иное пространство, которое устроено совсем по-другому. Но заход в это пространство, как мы отметили выше, весьма сложен, поскольку он сопряжен с попаданием в иной мир - мир экзистенциальных ситуаций, ситуаций Адама, Гамлета, Иисуса Христа. То есть действительное онтологическое самоопределение человек совершает в этих ситуациях. И в них он черпает силу и решимость осуществлять акты развития, поскольку мир натуральных форм косный и инертный. Косная материя сопротивляется. Прежде всего, сопротивляется собственный вчерашний опыт, который, как гири, тянет вниз. Эмпирический индивид в человеке не найдет в себе сил этому сопротивляться. Но он сможет преодолеть силу натурального материала, если на себе вынесет ситуацию Гамлета. Итак, связку мира натуральных форм и действительности культурного развития осуществляют процессы опредмечивания и распредмечивания. Первый означает образование натуральной формы, второй - вскрытие деятельностной силы в натуральной форме и выделку из ее материала культурной формы и далее – ее освоение субъектом развития. 155 Эта схема кардинально иная, нежели привычные парные схемы объект субъект, общество - человек, среда – индивид, стимул – реакция, субъект – орудие – объект. В них без конца барахтаются бихевиоризм и натуралистически ориентированные психология и педагогика. В этих схемах невозможно объяснить феномен культурного развития. Он действительно выглядит как чудо, как некий мистический акт, поскольку ни из общества, ни из индивида, ни из натуральной формы никакой акт развития не вытекает естественным образом. Поэтому Л.С. Выготский вслед за К. Марксом пытался сделать заявку на неклассическую психологию, которая в своем предмете пытается ухватить процесс освоения этих «объективных мыслительных форм». Не объективный мир и отдельный индивид, а единство опредмечивания и распредмечивания, происходящих вне отдельного индивида, есть предмет неклассической науки. В процессе же распредмечивания человек участвует уже как субъект развития, который больше индивида, не равен ему. Здесь корень объективного метода, о котором мы писали выше (подробно проблематику распредмечивания см. в работах Г.С. Батищева, Ю.Н. Давыдова, О.Г. Дробницкого и др. [11; 82; 88]). Традиционная же, натуралистически ориентированная наука продолжает строить иллюзию, что сознание находится в некоем отдельном, эмпирическом индивиде, как будто ассоциации и представления этого индивида и есть сознание и с ними, этими представлениями, связано его развитие. Поэтому внутри такой схемы понимания исследователи продолжают толковать и интерпретировать ассоциации, сплетни, страхи, комплексы, сновидения и прочие превращенные формы, поскольку представления отдельных индивидов не могут быть ничем иным, как картинками-слепками этих натуральных форм, существующих вне этих индивидов. Вместо этого надо вскрывать объективный механизм превращения деятельностной формы в натуральную и обратно. Эта работа и должна лежать в основании методологии неклассической науки. Индивид же думает (т.е. представляет), что та натуральная реальность, которая находится вне его, и есть объективная действительность. Вся драма проблемы развития заключается в том, что эмпирическое существо, живя среди натуральных форм, находится за пределами пространства культурного развития и еще дальше экзистенциальных ситуаций. Заставлять его проделывать над собой некое усилие бессмысленно. Нельзя сказать человеку - будь личностью! Будь субъектом своего развития! Но все не так трагично. Сам того не ведая, человек периодически попадает в экзистенциальные ситуации с самого рождения. С первого крика любой человек хочет состояться в этом мире. Состояться как субъект. Ему только не надо мешать. Ему надо создавать условия. За это призваны отвечать специальные институты церковь и образование. Для этого они и были созданы издревле, дабы помогать человеку осуществлять «заботу» о самом себе. 156 Но оба эти института перестали выполнять эту функцию в настоящее время. Церковь превратилась в нишу для сирых и убогих, а религия – в предмет суеверий. Школа же по понятным причинам стала конвейером и выполняет в лучшем случае функции социализации и адаптации. Впрочем, оно и к лучшему. Это закономерно. Как сказал П.Г. Щедровицкий, никакой школьный предмет не выдержит проблемы Гамлета [376]. В конце концов, развитие есть проблема самого субъекта. Оно, это развитие, не дано в виде натуральной формы, как и культура. Оно всякий раз рождается в конкретном акте конкретного субъекта. Развитие не лежит на дороге, его нельзя взять и положить в карман. Но в то же время социум должен создавать условия, помогающие человеку становиться субъектом. Социум призван помогать этому субъекту выдерживать ситуацию Гамлета. Это необходимо по той простой причине, что сам-то индивид изначально хочет всегда просто иметь культуру в виде натуральной формы. То есть иметь буквально как вещь (к примеру, когда учителя кричат - дайте нам методику и мы перевернем весь мир!). Дайте мне культуру! И больше ничего не надо. А дать и взять можно только вещь. Причем со снятой у нее деятельностной силой. Я уж не говорю об искусстве и философии. Поэтому не получается у этого индивида «поиметь» культуру. У него не отработана машина культурного хода. У него нет культурного, функционального органа. Он, этот орган, от рождения ему не дан, его надо вырастить в практике распредмечивания, постоянно проделывая ходы вниз-вверх, проходя через все три этажа действительности культуры. В этом смысле человек - существо транзитное или трансцендентное, как писал И. Кант. Он не живет на одном этаже, в одном мире. Ему необходимо быть транзитным, переходным существом всех трех миров. Если же индивид будет оставаться только в верхнем этаже, то его сознание не может быть ничем иным, как натуральным (у К. Маркса - идеологическим) сознанием. Это сознание фетишистское, суеверное. Именно это сознание устроено по парным схемам (мир - человек, объект - субъект, свой - чужой), поскольку и мир представляется в нем устроенным по принципу: Я и остальной мир, мир вещей, данный вне меня как отдельного физического существа. С этим связаны и все проекции на свои действия и на мир в целом. Но коль скоро такое натуральное существо не знает, как устроен этот вещный мир, почему он такой, а не другой, то это существо либо защищается и боится этого мира, либо нападает на него, захватывает его, пытается его поиметь. И если оно попадает в экзистенциальную ситуацию «быть или не быть», то оно теряется и распадается на мелкие кусочки. У него нет опыта бытия в культуре, нет культурного органа, который бы его спас. Это устрашившийся и растерявшийся Адам. Сделаем замечание несколько в сторону. В свое время Б.Ф. Поршнев, а до него А. Лебон, Г. Тард и другие вывели психологические механизмы воздействия 157 одного индивида на другого в рамках феномена натурального («массового») сознания [105; 134, 218-220, 302]. Правда, они имели в виду психологию масс, больших социальных групп, идущую своими корнями в далекую первобытность, к ископаемым антропоидам, но природа механизма воздействия в принципе указана здесь верно. Б.Ф. Поршнев отмечает, что в межгрупповом взаимодействии прежде всего работает механизм подражания и внушения (суггестии) (особенно это проявляется в раннем детстве, в состоянии гипноза и в случайно образованной группе людей, в «толпе», «массе»). Суггестия является базовой функцией речи. Через нее осуществляется работа на подражание, т.е. на автоматическое воспроизведение действия индивидом. Суггестия основана на феномене суеверия, на полном принятии одним другого, на принадлежности большой группы людей к единому и безликому «мы», которому противопоставлена такая же иная масса «они». Логику истории в этом смысле Б.Ф.Поршнев понимает как движение от отношения «мы - они» к отношению «я - ты». Мы специально привели пример с концепцией Б.Ф. Поршнева. Свою социальную психологию он строил на странной смеси физиологии, психологии, философии. С одной стороны им используются понятия о первой и второй сигнальных системах, активность и торможение мозга (активная и тормозная доминанта), с другой стороны, он употребляет понятия мы - они, я - ты, мышление, развитие. Фактически социум у него представлен как совокупность активных существ с мозгом. Но в результате отсутствует действительность культурного развития, по особому выстроенная и адекватными средствами понятая и описанная. Б.Ф. Поршнев совершает скачок из физиологии в культуру, сохраняя слова про тормозную доминанту. У него получается, что именно некий индивид совершает акт культурного развития. Но у этого индивида нет органа для такого акта. Как я рукой хватаю вещь или потребляю пищу с помощью физиологического органа, так и акт культурного развития я должен осуществить с помощью специфического культурного органона, а не с помощью мозга как такового. И сам этот акт не строится на основе механизмов активности и торможения мозга. Этот натуральный субстрат здесь является не больше чем условием, исходным для акта культурного развития. У Б.Ф. Поршнева же отсутствует представление о культурном органоне. И не выстроена разница между эмпирическим индивидом и субъектом развития. В настоящее время мало говорить о социальной и культурной природе человека. Это тривиально. Так же тривиально говорить о развитии. И просто неверно пытаться увидеть некий развивающийся объект, указывать на него мыслящим пальцем (не говоря уже о вульгаризмах типа мыслящего и развивающегося мозга). Мыслит и развивается не мозг. И не эмпирический индивид. На феномен мышления и развития пальцем не укажешь. 158 Парадокс состоит в том, что индивид, совершая определенное усилие, направленное на развитие, только в этом акте и через это усилие и начинает выращивать субъекта развития, способного мыслить и развиваться. И только сам этот индивид, становящийся через это усилие субъектом развития, и может через свою рефлексию помыслить собственный акт развития, который по определению и есть акт мышления, поскольку связан с распредмечиванием натуральной формы и ее освоением уже в виде культурной формы и далее - превращением ее в новый функциональный, уже культурный, орган. Этим последним данный субъект и может совершать усилие с большей или меньшей долей успешности в зависимости от степени сформированности этого органона (т. е. в разных культурных возрастах по-своему и по-разному). Поэтому фактически говорить о культурном развитии и культурном возрасте – это значит строить онтологию этого развития адекватными средствами как особую идеальную действительность, не замещая ее вульгарной, натуралистически ориентированной физиологией и социологией. Тем не менее, объективно Б.Ф. Поршнев оказался прав в том, что в натуральном сознании, которое является превращенной формой культурного развития (в данном случае – мифа), основным механизмом воздействия является именно механизм внушения и подражания. Исходно этот механизм был выработан в мифологической действительности, будучи исторически самым первым способом развития. В мифе есть еще много чего, о чем мы скажем ниже в главе 3, раздел 1. Впоследствии внушение и подражание отслоились и остались как отдельная натуральная форма, единственно удобная и подходящая для натурального сознания, поскольку других опор и костылей в окружающем мире, кроме подражания и внушения, у него просто нет. Такое натуральное сознание и такой способ бытия К. Маркс называл первой формой коммунизма (казарменный, натуральный), первой формой упразднения отчуждения, когда вместо акта распредмечивания (т. е. акта развития) проделывается акт обладания, непосредственного захвата чего-то, находящегося вне индивида в виде вещи. Тем самым человек не овладевает самим собой, своим поведением. Он просто как бы проглатывает натуральную форму. А постоянные слова Л.С. Выготского об «овладении своим поведением» есть рецидив так и не изжитого им бихевиоризма и неомарксизма. Проблема же не в этом. Существо культурного развития заключается в формовке культурного органона, осуществляющейся вне индивида через процесс распредмечивания натуральных форм. Индивид не сможет никогда овладеть своим поведением. То есть идея взята принципиально верная. Но терминология - из другого ряда, поскольку речь идет не об индивиде и не о поведении, а о субъекте и о развитии. 159 И не надо нам пытаться понимать отдельного индивида. Мы будем оставаться в плену интерпретаций действий и представлений отдельных индивидов и ничего не понимать про них при этом. Никакая психология так и не поймет загадки души, если будет оставаться в пределах толкований - что такое сказал ребенок, что он сделал, что он подумал. Итак, человек появляется на свет как натуральное существо. Как вещь среди вещей. И мир ему дан также как вещь. И он, этот человек, не ставший еще пока человеком, может этим миром и собой только обладать как вещью и зависеть от него, от этого мира и от самого себя, именно как вещь. Поэтому он, конечно, крайне уязвим в таком положении. Уязвим именно как конечное смертное существо (болезни, голод, войны, борьба за выживание и проч.). И это существо всего боится и от всего зависит. Представьте себе ситуацию. Жил-был один студент. Однажды его зовут домой и сообщают ему о смерти отца. Он также узнает о том, что мать его выходит замуж за дядю. В нем, студенте, что-то начинает происходить. Так в нем начинает рождаться другой человек. Так начинается история Гамлета. В одном Гамлете рождается другой Гамлет. В течение всей истории он выращивает в себе «культурного героя», устроенного совсем по-другому, с другими «органами», позволяющими ему выдержать эту ситуацию. И происходит метаморфоз. Гамлет сжигает свое тело, свое физическое тело, в конце концов, убивает его, наращивая одновременно другой, культурный органон. В данном случае этим органоном является художественная форма трагедии У. Шекспира. Как роман М. Пруста являлся новым органом писателя, новой культурной формой, которая спасала его от астмы. В итоге М. Пруст сжег свое тело. Тело умирает, а новая культурная форма остается как артефакт. Натуральное существо сжигается как дрова в печи. Материал натуральной формы уходит для лепки культурной формы. Тем самым парадоксально, но факт - искусство и философия есть необходимые для человека формы жизни. Это не занятие для интеллектуалов и снобов (последние, впрочем, такие же натуральные существа, поскольку хотят «иметь» культуру). Это необходимое средство для исцеления и спасения человека. Остается загадкой - почему же Гамлетом не стал Лаэрт, который пережил также смерть отца и родной сестры? Но об этом ниже в главе 2, раздел 3. Итак, что делает человека субъектом своего развития? Что значит выдержать ситуацию Гамлета? Можно ли об этом что-то вразумительно, по содержанию, сказать? Является ли смерть другого, тяжелая болезнь, война необходимым условием для попадания в экзистенциальную ситуацию и ее удержания? Это мы обсудим на примере культурных ситуаций Адама и Гамлета. Но перед этим необходимо предметно описать функцию, которую выполняет в культуре образование, и ситуацию, в которой мы находимся в настоящее время с точки зрения нашей проблемы исследования. Этот переход связан с тем, что по 160 культурному заданию именно образование как культурная практика расположена в середине, в среднем пространстве между экзистенциальным самоопределением и пространством натуральных форм. Именно образование призвано запускать практики культурного развития человека. О том, что есть действительность образования, что есть его онтология, какие образовательные модели можно представить и какова нынешняя культурная ситуация с точки зрения образования – об этом дальше в следующем разделе. 161 2.2. Место образования в культуре. Образование как институт посредничества. Онтологические пределы образования. Итак, нам необходимо определить место образования в социуме и культуре. Это означает фактически определение онтологической рамки образования. Этой проблеме посвящен целый ряд работ различных авторов. В них специальным образом обсуждается проблема онтологических оснований образования, его культурная функция, виды образовательных моделей, современная культурная ситуация в образовании (см. у об этом у И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, Х-.Г.Гадамера, М.Хайдеггера, Ю.В. Громыко, В.В. Давыдова, В.С. Ефимова, А.П.Зинченко, Г.И.Петровой, В.В. Рубцова, Б. Сазонова, Г.П. Щедровицкого, П.Г.Щедровицкого и др., а также наши работы [54; 56; 57; 72; 78; 92; 93; 103; 104; 114; 202; 203; 250; 251; 253; 271; 272; 276; 280; 285; 315; 338]). Как было сказано выше, культура понимается нами как определенное пространство, в котором человек осуществляет опыт становления и построения на себе человеческих, родовых качеств (мышления, любви, рефлексии, понимания и др.). Результатом такого опыта являются формы, откладывающиеся в архиве культуры, в ее библиотеке. Эти формы (художественные, философские, технические, научные, религиозные и др.) воплощаются в текстах, в камне, в вещах, и становятся культурными нормами, к которым могут приобщаться новые поколения и осуществлять свой опыт становления, то есть образования. Внешне они представлены новым поколениям в виде натуральных, превращенных форм. Последние в скрытом виде содержат в себе определенные культурные нормы, описанные технологии их освоения, а также ценности и идеалы, положенные в основании культурных норм. Базовой функцией образования является, таким образом, осуществление посреднической практики – практики обеспечения перехода новых поколений к архиву культуры, «антропотеке», в которой положены выработанные культурные нормы и образцы, и освоение новыми поколениями культурных образцов. Посредничество осуществляется с помощью групп профессионалов, которые являются носителями этих культурных норм, носителями образцов мышления и деятельности. Культурная этимология слова «professio» связана как раз с пониманием данной посреднической функции (professio – объявление о статусе, публичное присвоение человеку статуса, знания, социальной роли). Профессионал в таком случае есть тот, кто является носителем статуса, культурной нормы, воплощенной в знаниях. Стать профессионалом в этом смысле – значит присвоить культурную норму, стать ее носителем. Культурные нормы – это оседающие в культурных формах культурные практики, которым (формам) придается статус образцов и которые переводятся в 162 библиотеку культуры с целью их хранения и последующих распредмечивания и актуализации и передачи новым поколениям. Итак, культурная форма демонстрируется и транслируется профессионалами новым поколениям неофитов. Сами по себе культурные образцы не могут быть переданы напрямую новым поколениям в натуральном, опредмеченном и овеществленном виде. Демонстрацию, трансляцию и распредмечивание образцов осуществляют профессионалы, носители культурных норм. Итак, обозначим образовательный универсум как пространство связи новых поколений с архивом культуры и выделим место образования как института посредничества (рис. 14). Архив культуры (нормы, образцы, ценности) Институт образования Профессионалы, носители образцов Новые поколения Рис. 14 Теперь, в рамках данной принципиальной схемы рассмотрим различные исторически сложившиеся идеалы и модели образования. Их разные авторы называют либо образовательными моделями, либо образовательными парадигмами. Историческая траектория идеи образования человека. Антропологический идеал образования. В истории сложился определенный, классический идеал образования. Под классическим идеалом мы понимаем те культурные нормы, которые воплотились в культурных образцах европейской истории – с античности до нашего времени. В пределах этих образцов в культуре закладывалось вполне определенное понимание содержания образования и в целом его антропологии. Это то в образовании, что относится прежде всего к воссозданию типа гуманитарности, образа человека и его базовых качеств (мышления, восприятия, воли, воображения, чувств). Другими словами, то в человеке, что прежде всего востребовано и воспроизводится в социуме как социальный, культурный и антропологический заказ. 163 Собственно идея гуманитарности как «человечности», понимаемая как определенный масштаб развития человеческого в человеке, была заложена в древнегреческой идее ί, понимаемой как забота о себе, возделывание в себе человеческого через философские, художественные и всякого рода эзотерические и мистические практики «второго рождения». В целом эта практика заботы объединялась в понятии «έέ» – заботы о человеческом в человеке. Само образование человека понималось как забота о себе, чеканка своего облика, выделывание своей персоны, то есть собственно личности (см. также у М.Хайдеггера и М. Фуко [331; 338]. Но масштаб возделывания этой гуманитарности распространялся в пределах лишь греческого полиса. Остальные неграждане не считались собственно людьми, а считались варварами, то есть были «нелюди». Они были выведены за скобки культуры и образованности, а стало быть – и человечности. Человеческое распространялось лишь в пределах полиса. Далее гуманитарность Древнего Рима распространялась в пределах римской империи. За ее воспроизводство отвечали практики политического и ораторского искусства. В пределах римской гуманитарности человек – это прежде всего римлянин, осуществляющий заботу о римской добродетели, virtus, перенимая у греков их культурный корень образованности – пайдейю. Последняя трансформируется в собственно humanitas. Тем самым римскость совпадает с человечностью. Это был первый тип гуманизма, его первая форма, как пишет М.Хайдеггер в «Письме о гуманизме» [331]. С эпохой христианства стал развертываться новый идеал человечности. Идея человека как христианина, причащающегося к Образу Христа, была положена в основание христианского гуманизма. Все средневековое образование с его трехпутьем и четырехпутьем (trivium et quadrivium) выстраивается как «лестница» (от лат. skalae), по которой человек совершает восхождение ко всеобщей человечности, воплощенной во Христе. Но христианство ограничивает человечность границами веры («нехристь» суть «нелюдь»). Эпоха Возрождения стала именно возрождением (renessantia humanitatis) античных идеалов человечности, попыткой восстановления на античных образцах практики заботы о человечности в человеке. Тем самым наступает новая эпоха гуманизма, который собственно и является «культивированием человечности» (studia humanitatis), то есть образованием человека по понятию, то есть его культурному этимону. Ренессансный гуманизм осуществил прецедент не только раздвигания географических пределов человечности, но и переосмысления античного культурного этимона гуманитарности: последнее понимается теперь и как то, что возделывается и выделывается предприимчивым человеком через практику предпринимательства. Образование становится делом предприимчивых людей и 164 доступно каждому. Практика предприимчивых бюргеров и купцов становится в Новое время культурным символом эпохи и общим смысловым корнем образованности человека, то есть его человечности. Предприимчивый человек при этом – не столько тот, кто ищет наживы и обогащения, сколько тот, кто обладает инициативой, социально и культурно значимой для общества, и ищет пути ее реализации ради всеобщего блага. А личная прибыль приходит потом – как результат воплощения блага. Результатом предприимчивости становится расцвет наук и искусств. И тогда Новое время осуществляет эмансипацию и секуляризацию разума, поставив во главу угла систему наук и искусств как карту-идеал всеобщего образования. С карты наук снималась калька и воспроизводилась в разных образовательных европейских моделях в виде системы учебных предметов. С умножением наук умножались учебные предметы. Растет объем знаний – соответственно растет объем учебных программ. Человек Нового времени – это человек просвещенный, то есть достигающий своего культурного совершеннолетия с помощью своего личного ума и предприимчивости, а не как гражданин полиса, член общины, рода, клана – то есть как сугубо частное, автономное лицо. Это достижение совершеннолетия есть истинное просвещение, то есть действительное образование человечности (см. в нашем введении). Таким образом, все классические идеалы образованности (то есть, гуманитарности, что то же самое) так или иначе сводились ко вполне определенному пониманию человеческого в человеке. Воспроизводство какой-то одной базовой идеи человека ставилось во главу угла. Тем самым горизонты и масштабы человеческого были всегда узки, детерминированы и закрыты для иных версий человеческого (здесь рождается деление «свой-чужой», «запад-восток», «мы-они»). Тем не менее, к XX веку в результате демократизации и тем самым массовизации образования идея гуманитарности была распространена на все человечество в целом. Но массовизация образования одновременно и упростила культурную задачу, сведя образовательную практику к услуге. В условиях массовых коммуникаций, в условиях массового образовательного конвейера говорить об образовании как о заботе о себе и выделивании собственного образа не приходится Последнее остается уделом частных лиц, личным заданием индивида самому себе. Образование, которое исторически понималось как забота о человечности через приобщение человека к образцам и нормам культуры в актах культурного развития, теперь сводится к тому, что образование становится одним из видов индустрии услуг, предоставляемых населению. В этом смысле образование не 165 отличается от любой другой индустрии и сферы услуг. Особенно явно такая тенденция начала проявляться после второй мировой войны. Современная культурная ситуация. Теперь, чтобы понять специфику современной образовательной практики, необходимо вкратце описать в целом современную культурную ситуацию. Ее специфика именно с точки образовательного и антропологического идеала уже описана у разных авторов и в наших работах (см. работы Ж.-Ф. Лиотара, А.П.Огурцова, Г.И. Петровой, Б. Сазонова, П.Г. Щедровицкого и др.). Попробуем суммировать то, что в них сказано [139; 140; 194; 202; 203; 253; 276; 279; 285]. В основании всех кризисных явлений нашего века лежит сугубо антропологическая проблема. Все до ныне эксплуатируемые проекты человека, или идеи гуманитарности, зиждились на главной идее – идее «человека желания». Свою человечность человек возделывал, уничтожая при этом ту среду, которая его вскормила (см. в главе о проектах М.Шелера). В итоге к XX веку мы получили ресурсный кризис, в основании которого лежит антропологический кризис, то есть ущербность и катастрофичность базового проекта «человека желания». Этот монстр пожирает Мир, уничтожая тем самым и самого себя, превращая свое развитие в постоянную войну за выживание. Нынешний век, приведший в этой связи к Освенциму, Хиросиме и ГУЛАГУ, показал, что пока будет доминировать «баррикадное», закрытое сознание, разделяющее человечество на людей и нелюдей, до той поры такая гуманитарность будет всякий раз ввергать нас в новые печи новых Освенцимов. Пока доминирует единственный проект «человека желания» – никакие культурные идеалы античности и христианства нас не спасут, поскольку все они являются результатом этого базового проекта. В настоящее время мы оказались в ситуации «после ГУЛАГА и Освенцима», то есть в ситуации запредельной, после которой мыслить и поступать так, как раньше не просто нельзя, а преступно и чревато самоубийством. Тем самым мы приходим к настоятельной необходимости выращивания нового, неклассического идеала человечности, или, что то же самое, антропологического идеала образования, цель которого – возделывание человеческого в человеке на основе выращивания нового проекта человека, отличного от проекта «человека желания». Таким образом, классический идеал (или идеалы, которые в своем онтологическом пределе однотипны), базируется на ряде моментов. 1. Все практики образования человека основывались на проекте человека желания, который предполагает израсходование готового, лежащего в среде ресурса (будь то лес, вода, воздух, или знания, деньги, мозги и проч.). 166 2. Классический идеал сводит идею человека к определенному, фиксированному, осевшему в определенных образцах человеку, его идеалу (в пределах человека желания – человек античный, христианский, человек нового времени – все они ориентированы на свои образцы, закрытые от других; доступ к идеалам античности и христианства организован для вполне избранных и посвященных). 3. С этим связано и классическое представление о профессионализме: профессионал – тот, кто является носителем каких-то фиксированных культурных норм, образцов, которые этот носитель передает новым поколениям (с этим связан и жесткий предметоцентризм, знаниецентризм и другие негативы локализованности культурных норм на определенных носителях). 4. С этим связана и элитарность образования (в разных смыслах: классическое образование является мужским, европейски ориентированным, рационально организованным). Итак, после исторического экскурса перейдем к анализу современной ситуации в культуре. Как мы уже сказали, мир переживает в течение последних 100 лет некий цивилизационный сдвиг, который разными исследователями описывается и называется по-разному. Но в целом его можно охарактеризовать следующим образом (если держать заданную нами выше рамку понимания образования как института-посредника, помогающего новым поколением осваивать культурные нормы и формировать в себе тот идеал гуманитарности, который заложен и описан в этих культурных нормах). В целом необходимо зафиксировать, что мир переживает антропологический кризис, который заключается в исчерпании проекта «человека желания». Современный человек испытывает в настоящее время хроническую недостаточность человечности. Все существовавшие и эксплуатируемые ранее идеи или проекты человека строились на идеале человека желания, то есть на таком понимании существа человека, согласно которому свое развитие он, человек, рассматривает как: расширение сферы обитания в среде, которая его породила; использование наличных ресурсов этой среды для собственного экстенсивного роста; экстенсивное увеличение собственных масштабов, собственного расселения за счет использования и в конечном счете уничтожения, превращения в энергию готовых, натуральных ресурсов среды. Результатом такого развития, осуществляемом как экспансия «человека желания», являются ресурсный, демографический, экологический и прочие кризисы. Выделим из них прежде всего те, которые напрямую влияют на ситуацию в культуре и образовании. 167 Ресурсный кризис В ХХ веке стало ясно, что ресурсный подход к среде и самому себе (экспансия за счет эксплуатации и растраты натуральных ресурсов – не важно, нефть это, людские ресурсы или деньги, или знания) – такой подход изначально является порочным и тупиковым. Все предыдущие образовательные модели строились по такой затратной схеме. Но современная ситуация диктует нам условие: нельзя рассматривать среду или знания, или деньги как то, что берется и тратится. В этом случае любой ресурс, натурально данный, положенный, тот, который можно иметь и постепенно проедать – он всегда когда-то кончается. Необходимо менять стратегию, саму образовательную и культурную политику. Необходимо менять саму философию образования, переходить от затратной философии человека желания – к философии развития, построенной на принципах «автопоэзиса», то есть на основе наращивания ресурса мышления, самостроительства, саморазвития, при котором имеющийся натуральный ресурс не проедается, а сохраняется, воспроизводится и даже увеличивается, поскольку меняются формы и способы его расходования. В таком случае мы должны говорить не о затратной модели образования, а о действительно развивающейся. Но для этого ее необходимо выстраивать по иным основаниям, отказываясь прежде всего от привычных, но порочных антропологических привычек человека желания. В отличие от последнего человек культуры может выдержать нулевую ситуацию «после Освенцима» и «после ГУЛАГА» и выйти из нее, формируя в себе субъекта автопоэзиса. В таком случае развитие образования понимается не как увеличение или перетасовка дисциплин, не как пресловутые гуманизацию и гуманитаризацию, а как коренное изменение ситуации учения-обучения, формирование субъектности человека, но не человека желания, а человека автопоэзиса или человека культуры. Образовательный кризис В силу выше названных кризисных факторов образование перестает выполнять свою главную культурную функцию – функцию посредника. Каналы трансляции культурных норм засоряются, перестают работать. Новые поколения вместо образцов берут эрзац-культуру, попсу (культуру жевательных резинок, психологию на каждый день и др.). С прошлого века образование начинает переживать тенденции демократизации и массовизации, которые усилились после второй мировой войны, вследствие чего образование начало превращаться в сферу услуг. В этих условиях все более увеличивается промежуточная зона между носителями культурных образцов (собственно профессионалами) и теми, кто транслирует культурные образцы, выстраивая учебные формы и модели. В таком случае образуется второй слой профессионалов – педагогов, носителей учебного 168 знания и образовательных услуг (не ученых и художников, а педагоговкоммуникаторов). Эти профессионалы – носители не культурных образцов, а методик передачи и освоения, то есть культурных норм второго порядка. Таким образом, расстояние между библиотекой культуры и новыми поколениями все более увеличивается. И тем самым с ростом знаний и информации образование из культурной практики второго рождения (или практики культурного развития) трансформируется в сферу оказания услуг. А собственно развитие становится уделом самого человека как частного лица, то есть «идиота» (ίώ), каковым себя считал Сократ. Одновременно в результате массовизации и демократизации образования, в результате того, что этатистски ориентированное и организованное образование переживает кризис, расширяется область доступности образования как услуги, а значит, расширяется область доступности культурных норм и образцов, которые упрощаются и уплощаются до простых учебных и адаптированных форм. Но одновременно с этим размываются границы профессиональных групп. Последние маргинализируются и люмпенизируются. Профессиональные группы в своем классическом составе и наборе «плывут» в результате того, что все более внедряются идеи непрерывного образования, социальной динамики и мобильности, необходимости постоянной смены работы и переквалификации специалистов. Растет и расширяется круг институтов, которые могли бы предоставлять образовательные услуги. Тем самым зона посредничества между новыми поколениями и архивом культуры стала очень пестрой, динамичной, неоднородной. С этим связаны как позитивная, так и негативная тенденции. Позитивная заключается в расширении границ доступности образования. Оно становится все более демократичным и открытым. Оно перестает быть только мужским, только европейски ориентированным и рационалистическим. Но с другой стороны, растет дефицит профессионализма. Профессионалов на всех не хватает. Всех учить в режиме школьного конвейера и при массовом спросе на образовательные услуги – значит, превращать образование в простейшую операцию купли-продажи услуги. С этим связаны и усреднение, стандартизация, улегчение образовательного уровня, образовательного ценза и одновременно – закрепление и распространение модели конвейера, которого пытались избежать педагоги-гуманисты. Образование, превращаясь в массовую сферу услуг, которые можно купить и продать, люмпенизируется. Тем самым культурные нормы перестают быть главными критериями образованности. Когда культура превращается в услугу, тогда она становится продажной девкой или официантом в ресторане. Это похоже на метаморфоз, который пережил древний институт храмовой, священной любви, превратившийся за две тысячи лет в институт проституции. 169 Профессиональный кризис С выше сказанным связан и профессиональный кризис: физически утончается слой профессионалов, носителей культурных норм. Их доля в общей массе людей уменьшается. Профессиональные группы испытывают процессы маргинализации и люмпенизации. Массовизация и демократизация образования расширяют его границы и увеличивает степень его доступности (в силу той же экстенсивности развития). Место профессионалов занимают специалисты и массовики-затейники, которые на пальцах и фокусах показывают азы той или иной работы, достаточной, чтобы прокормиться и выжить. Культурный смысл образования в принципе уходит из образовательной практики. Превращение образования в массовую сферу услуг приводит к депрофессионализации образования. В лучшем случае вместо профессионалов остаются преподаватели, носители добротного учебного знания, в худшем – фокусники-официанты, работающие с учениками как с клиентами по принципу «чего изволите?». В связи с этим новым поколениям передаются эрзац-образцы, муляжи, заменители культурных норм. С другой стороны, наряду с негативной тенденцией можно выявить и позитивную. Она связана с изменением самого типа профессионализма. Если в классических образовательных моделях профессионал был носителем определенного культурного образца, то в нынешней ситуации профессионал – тот, кто способен меняться, способен к мобильности, как географической, так и карьерной и культурной. Профессионал – не тот, кто много знает и умеет, а тот, что способен постоянно переучиваться и осваивать все новые виды деятельности. Такой идеал если и не стал господствующим, то все более входит в современные образовательные практики переподготовки и повышения квалификации. Кризис этатизма Одновременно становится очевидным неэффективность тех образовательных моделей, которые были ранее ориентированы целиком на государственное регулирование и управление. При доминировании образовательного конвейера и экстенсивно развивающегося образования особую и главную роль в управлении им играет, конечно, государство с его структурами контроля и надзора. В этом смысле тоталитарные модели образования, построенные ранее в СССР и США, являлись одинаково бесперспективными. В крайних вариантах при этакратии все население с его ресурсами, рабочей силой, превращается в форму собственности государства. Россия, еще не вышедшая из недр тоталитаризма, особенно явно испытывает на себе родимые пятна этатизма именно в образовании, в котором консервируются предыдущие типы отношений между людьми. 170 Сдвиг власти (powershift). Во все времена одной из ключевых проблем являлась проблема власти. Но если в предыдущие эпохи главным ресурсом у власти была сила денег, сырья и оружия, то в последние десятилетия складывается новый ресурс власти – знание, или «информационный и символический капитал» (см. в работах П. Бурдье, А.Тоффлера [39; 308]). Знания человека превращаются в его главную производительную силу. А среди разных типов знаний начинает доминировать знание об управлении, о системах, об инфраструктурах. В этой связи изменяется и тип конфликтов. Мы вступили в эпоху информационных войн, войн за знания и за мозги. В этих войнах главным оружием становятся информационные сети и управление ими. В таком случае главным образовательным ресурсом становится не столько сам по себе объем знаний, сколько способность добывать знания, передавать их, отфильтровывать, инвентаризировать, интегрировать, превращать в новый тип знаний. Таким образом, проблема власти усугубилась. Власть над отдельным индивидом стала еще более изощренной, она получила еще более изощренное орудие для манипуляций. Человек (если он действует по принципам человека желания!) становится винтиком не только в государственной машине, но и во «всемирной паутине», в информационных сетях. Он превращается в рабапользователя информационной сети. В этом смысле идеалы западной демократии, построенные на идее экспансии человека желания, не могут быть взяты некритично и целиком для формирования новой философии образования в России в условиях нынешнего инновационного сдвига. Забота о человеке в западной модели – это не более, чем забота об инструменте, который должен быть отлажен и отточен. Человеку создается максимум комфорта (зарплата, ссуда в банке на жилье, страховка и проч.) – для того, чтобы он был эффективной и исправной рабочей силой, машинкой для зарабатывания денег. Максимальный комфорт создает иллюзию действительной заботы о человеке. Этим объясняется тезис Д. Сороса о том, что на Западе не привились идеалы открытого общества, и что последние как раз прорастут не где-нибудь, а именно в России [299]. Но пока в России доминирует старая тоталитарная модель конвейера и старая политика, основанная на оружии и сырье, то есть на затратной идеологии и государственном регулировании и перераспределении имеющихся ресурсов. В этой связи власть как сила, манипулирующая отдельным человеком, отдельным частным лицом, и решающая, куда ему идти, какое образование выстраивать, всецело заинтересована в сохранении образовательного конвейера. При этом такая власть становится еще более изощренной. Эта сила власти (государства, церкви, 171 денег, информации или коллективного бессознательного – не важно) остается могущественной и является главным тормозом в деле осуществления инновационного сдвига в сторону выращивания новых образовательных моделей. В связи с тотальной властью над индивидом главной проблемой содержания образования остается проблема формирования в человеке его собственной субъектности, его мыслительных и личностных качеств. Таким образом, проблема самоопределения всегда остается личной проблемой частного лица. И она всегда существует как открытая для новых поколений. Если человечество, взяв в руки вместо топора компьютер, не меняет проекта человека желания, то это чревато катастрофой. Неклассический идеал образования. На чем должен базироваться неклассический идеал гуманитарности и образованности? Неклассический идеал образования (то есть человечности) не нашел еще окончательного понятийного выражения. Поэтому обозначим его через ряд базовых пунктов. 1. Главный смысл образования – это осуществление практики автопоэзиса, то есть возделывания в себе культурных качества, опираясь не на уничтожение среды, тебя вскормившей, а опираясь на твою собственную деятельность. В своем образовании человек опирается прежде всего на свои руки и ноги, на свою голову, на свою чистую антропологию. В этом смысле образование и есть всегда попадание в чистую, нулевую ситуацию. Человек образованный – значит выстраивающий свою антропологию. 2. Предметность образования не сводима к набору предметов, традиционно (пределы этой традиции – всего лишь Новое время) называемых гуманитарными, точными или естественнонаучными. К примеру, в физике и математике может быть столько же гуманитарности, сколько и в истории. Точнее, гуманитарности в любом предмете, а точнее в культурной практике, которая осуществляется в пределах того или иного предмета, столько, сколько в ней идеи человека. А масштаб идеи человека измеряется его самоопределением. 3. Акт самоопределения начинается в точке онтологического вопрошания: что есть человек? Что есть человеческого в человеке? Это вопрошание закладывается в основание всякой культурной практики, какой бы она ни была по своему материалу, по своей содержательной нагрузке (будь то открытие законов математики и физики или архивные разыскания по истории). От масштаба и глубины этого вопрошания зависит степень гуманитарности этой практики и этого предмета. 4. Гуманитарность, то есть собственно образованность человека, не сводится к сумме определенных знаний и умений, получаемых человеком, не сводится к знанию, в том числе к знанию о самом человеке. Гуманитарность не есть вообще знание. Последнее, в силу выше сказанного, означает масштаб и степень 172 самоопределения человека в культуре. В этом смысле гуманитарно образованный – не значит обязательно историк или культуролог. Становиться образованным – значит самоопределяться в культуре с помощью разных культурных практик (в том числе и практик инженерии, проектирования, дизайна, программирования и проч. – то есть тех практик, которые отвечают именно за воспроизводство культуры, за ее собственное осуществление и воплощение). К примеру, в истории будет столько гуманитарности, сколько в ней проектирования и программирования, сколько в ней инженерного подхода. Иначе история превращается в занятие высоколобых интеллектуалов, богемных болтунов, беспочвенных интеллигентов. 5. Гуманитарность есть не профессия, а «трансфессия» (термин О.И.Генисаретского), то есть практика, выводящая субъекта за пределы какоголибо учебного предмета. Трансфессия по принципу своему устроена как открытая и сетевая организованность. В этом смысле трансфессионал – это сетевикнавигатор, то есть тот, кто является наводчиком и обучателем того, как пользоваться сетями знаний и главное – как их добывать. 6. В настоящее время в силу распространения «всемирной паутины» эта проблема навигации и сетевого принципа устройства мира знаний и в целом мира культуры (ее архива-библиотеки), эта проблема становится не просто актуальной. Она ставится во главу угла всей философии образования. Образованный – это тот, кто становится трансфессионалом и сетевиком-навигаторм. Он обучается добывать не просто знания. Он проторяет себе свой путь, выстраивает свою собственную траекторию своего образовательного Пути. Его образование принципиально открыто и безгранично. 7. В таком случае имеет принципиальное значение организационное устройство учебных заведений (особенно высших, отвечающих за профессиональное самоопределение студентов). Если вуз не выстраивается как часть сетевой модели, если он не обучает навигации, то он не имеет культурной перспективы. Если в этом вузе доминируют такие организационные формы, как лекции и семинары, на которых преподаватели транслируют готовое и мертвое, архивное знание (даже не знание, а некий материал, некое нечто, что преподаватель когда-то прочел и запомнил и принес это нечто в аудиторию) – то в таком случае вуз будет стремительно отставать, поскольку он практически не сможет преодолеть этот образовательный и цивилизационный сдвиг, этот переход к новой, неклассической образовательной парадигме, новому идеалу образованности. Исторически сложившиеся модели образования. Понятие образовательной модели. В рамках заданной выше онтологии образования можно выделить (вырезать как отдельные культурные формы) разные модели, которые вырабатывались в истории культуры (см. также в [103; 250; 251; 274; 285]. Это означает, что культурная 173 практика посредничества выстраивалась в истории по-разному. Попробуем выделить некий ряд таких идеальных типов, моделей, культурный ресурс которых можно и нужно использовать в современной практике образования. Основания для выделения тех или иных моделей могут быть разные. Что такое образовательная модель? Вопрос о модели решается внутри вопроса о том, что такое образование как институт. В данном случае он понимается как институтпосредник, осуществляющий работу по трансляции культурных образцов новым поколениям. Но процесс передачи (трансляции) культурных норм в рамках образовательного универсума осуществлялся по-разному. Можно выделить ряд типов устройства указанных выше каналов трансляции культурных норм или образовательных моделей. Все они, выращенные в истории культуры, в настоящее время присутствуют в той или иной мере в разных образовательных практиках. Внутри каждой модели существует свой базовый тип отношений между профессионалом-носителем культурного образца и учеником. С этим типом связан и тип образовательной практики, доминирующий в той или иной модели. Модель подражания образцу. Передача образца по принципу подражания. В этом случае мастер лепит ученика по своему образу и подобию. Сам учитель когда-то тоже был учеником, имел своего учителя, тот имел своего – и так до некоего мифологического начала. Образец понимается как данный свыше Образ Бога, передаваемый от поколения к поколению. В этом смысле знания носят сакральный характер. Содержанием образования является собственно образ учителя, который и должен передаваться из рук в руки. Учитель умирает в ученике. Каждый ученик – уникальное изделие, повторяющее собой своего учителя. В этом случае обучение строится прежде всего на личном контакте учителя и ученика, на харизме живой личности учителя, его обаянии. Знания при этом никак не отчуждены от своих носителей. Они (знания) сидят на людях и слабо технологизируемы. В таком случае обучение есть магия, искусство учителя. Такая модель, выращенная в недрах действительности мифа, описана в ряде работ (см. также работы М. Элиаде, В.С. Семенцова [261; 262; 285] (рис. 15). Образец Образец Учитель Ученик Учитель Ученик .... Рис. 15 174 Модель понимания и толкования священного текста. В этой модели между учителем и учеником появляется священный текст. Ученик повторяет не личность учителя – он на себя примеривает тот образец, который описан в тексте. Живая личность учителя может при этом отсутствовать. Его замещает сакральный текст (к примеру, Библия). Тем самым возникает фигура толкователя этого текста, знатока-экзегета. Этот толкователь учит ученика технологии и искусству толкования. Благодаря этой практике толкования экзегеты решали и решают проблему ликвидации безграмотности, ибо для освоения любого текста необходимо знание языка, на котором он написан, будь то русский, латынь, или язык истории или философии). Тем самым над фигурами ученика и учителя строится второй этаж – текст и его толкователь. Образуются группы людей, знатоков текстов, отличных от первой группы – учителей, носителей образцов. В таком случае мы говорим о профессионализме второго порядка. Условно говоря, есть Учитель, есть его ближайшие ученики, и есть экзегеты, не общавшиеся с учителем, но знающие священный текст, который сам по себе признается за образец (рис. 16). Текст Учитель Толкователь Ученик Рис. 16 Модель конвейера. Эта классическая модель оформилась на примере европейского (немецкого) университета. Она ориентирована прежде всего на передачу твердых и глубоких знаний классических текстов из наук и искусств. В результате массовизации и секуляризации образования культурные нормы отчуждаются от своего носителя (учителя-мастера) и упаковываются в «учебные предметы». Над исходными культурными текстами надстраиваются учебные тексты (учебники), в которых в учебной, доступной форме излагаются культурные нормы и технологии, массивы знаний, которые накапливают все новые и новые поколения. Тем самым выделяется особая группа людей-профессионалов, знатоков этих учебных текстов (преподавателей, методистов). Это носители отчужденного знания, преподаватели, со своей профессиональной, собственно учебной спецификой (профессура). Развитие образования в этой модели выстраивается как все большее умножение учебных текстов и расширение учебных программ. С развитием наук и искусств увеличивается объем знаний о них, усложняются по материалу учебные программы. С появлением очередной научной дисциплины появляется новый учебный предмет. Таким образом, образование по своей организации становится 175 некоей калькой с системы наук и искусств, в которой (кальке) совокупность отчужденного знания упаковывается в учебные программы и предметы и транслируется по конвейеру новым поколениям. В силу массового характера образования все учебное знание выстраивается в определенную последовательность (конвейер), оно закрепляется за носителем (преподавателем). Студент на входе проходит отбор, затем проходит по этому конвейеру как по цепочке и на выходе выпускается как специалист, знающий и прослушавший тот или иной курс. Управление данным конвейером осуществляется с помощью государственной, ведомственной лестницы, построенной по иерархическому принципу. Данная модель распространена в обществах с огосударствленными экономикой и социальной сферой и в обществах, которые вышли недавно из тоталитарных режимов. Российское образование в целом построено по образцу данной модели. Применительно к России следует особо выделить доминирующую роль государственных структур (конститутов) в управлении образованием. Все население в тоталитарных режимах представляет собой сословие, подчиненное по иерархической лестнице номенклатурной элите. Всеобщий этатизм был распространен на все сферы жизни. Этим объясняются частые разговоры о госстандартах, которые понимаются не как культурные нормы, необходимые для освоения и развития человека, а как некий набор отчужденных от своих носителей ЗУНов, необходимых для тиражирования и воспроизводства, и по которым легче осуществлять контроль и надзор. Необходимо также отметить следующее. С учетом выше сказанного образование нами понимается как гуманитарное по принципу, по своей природе. Понятие studia humanitatis, «культивирование человечности», введенное гуманистами Возрождения в XV веке, означало некую программу очеловечивания человека, становления в нем человечности, взращивания гуманитарности, то есть формирования культурных и социальных способностей в человеке. Но с доминированием модели конвейера и при введении на рубеже XIX-XX веков разделения наук на гуманитарные и естественнонаучные (при забвении потом базовых методов – герменевтики и номотетики, выработанных в рамках модели толкования текста) массивы знаний стали окончательно делиться на типы знаний, и, соответственно, образование стало делиться на гуманитарное, математическое, естественнонаучное, инженерное и проч. С тех пор доминирует точка зрения, согласно которой есть гуманитарные учебные предметы, есть математические, есть предметы естественнонаучного цикла и т.д. Но с точки зрения типа деятельности они не отличаются друг от друга ничем, кроме наборов учебного материала. Принципы же преподавания этих предметов 176 остаются в пределах модели конвейера в целом едиными, построенными на трансляции отчужденного учебного материала от его носителей к ученикам и обратном его воспроизводстве на экзамене. В рамках данной модели вполне определенно понимается и реформа образования – как совершенствование преподавания предметов, утряска и перетасовка часов и дисциплин, перекройка учебных планов и программ при сохранении базовой иерархированной модели. Теряется при этом главное – посредническая функция образовательного института. А про человека и его развитие никто не думает. Представим себе эту модель конвейера (рис. 17). Преподаватели Учебные предметы Ученики Ученики (выпуск) фильтры отбора Рис. 17 Проектная модель. Эта модель выращена на примере практики американских университетов, которая предполагает практико-ориентированное проектное образование, прикрепление студентов к кафедральным проектам, выстраивание индивидуальных траекторий обучаемых. Она формируется после второй мировой войны как проектно-игровая, в которой образование строится как пространство опережающего имитационного проигрывания различных ситуаций, в ходе которого готовятся профессионалы, способные сами создавать новые нормы и образцы, новые типы и структуры деятельностей. В этом смысле данная модель готовит на основе знания о прошлой деятельности, игры в настоящем – профессионала, работающего в будущем. Главный результат работы данной модели – способность создавать новые способы и структуры деятельности. Таким образом, в образовательном пространстве кроме культурных текстов, учебников и их носителей, необходимо выстраивать пространство тренажеров и игровых имитаций, а также целевых предпрофессиональных работ (дипломных проектов), работая в которых и над которыми у человека формируется профессионализм нового типа – проектнопрограммного или метапредметного (см. обоснование такой модели в работах разных методологов и педагогов Ю.В. Громыко, О.И. Генисаретского, А.П.Зинченко, Б. Сазонова, О.Анисимова, С.Б. Чернышева, П.Г. Щедровицкого). При всем богатстве и различии разных прецедентов проектного обучения в целом данная модель может быть показана следующим образом (рис. 18). 177 Дипломные проекты на рабочей площадке Имитационные проекты Тренажеры Преподаватели Учебные предметы Ученики на входе Ученики на выходе Рис. 18 Итак, на нижних этажах модели – привычный набор знаний, упакованных в учебные предметы, которые закреплены за преподавателями. Здесь проходят лекции и семинары. Эти знания необходимо использовать как средства в будущей профессиональной работе. Но собственно содержанием образования являются не эти знания. Собственно содержание наращивается на следующих этажах. Следующий этаж – система тренажеров. Здесь педагог-мастер обучает ученика основам той или иной профессиональной деятельности (как на тренажере автомобиля). Здесь ставится навык, ставится способность. А знания получаются параллельно на нижнем этаже. И далее в игровом, имитационном режиме ученики проигрывают будущие профессиональные ситуации, те или иные проекты будущей профессиональной деятельности. Тем самым снимается риск разрушения ставших производственных структур. При подготовке на тренажерах и играх становится возможным осуществлять работу в целевых дипломных проектах. Через них ученик включается уже в собственно профессиональную деятельность на конкретных рабочих площадках вместе с работающими там профессионалами. Здесь от ученика требуется уже не игровая имитация (которая сама по себе эффективна, но проводится без реальных людей, участников, вне социального контекста), а действительная профессиональная работа. Из движений по вертикали строится собственно образовательная траектория ученика. Сетевая модель. Учитывая все выше сказанное, отметим следующее. Человечеству нужна мощная идея, нужен сильный культурный вызов, перспектива, прорыв. Для того, чтобы не сбросить себя в пропасть, ему нужна мощная культурная идея, которая перевесит сиюминутный интерес толпы. Идеалы интеллигентов-одиночек, гуманистов прошлых веков здесь не годятся. В то же время идеалы массового, демократического, доступного образования (то 178 есть ликбез) также чреваты. Массовое образование не может быть только благом. Во-первых, в мире никогда не хватит столько профессионалов, чтобы учить всех. Во-вторых, массовизация образования ведет к профанации и образовательной попсе, к обезличке, к усилению конвейера. В-третьих, как ни странно, но демократизация и доступность образования в этом смысле усиливает тоталитарную модель обучения. Но субъектов больше от этого не становится, поскольку проблема самоопределения всегда остается открытой проблемой частного лица. Тем самым человек образованный – не тот, кто пользуется тем знанием, которое ему дают, а тот, кто совершает рискованный шаг и умеет выдерживать нулевую ситуацию самоопределения, кто становится автономным существом и предпринимает шаг в сторону своего собственного культурного развития. Образовательная траектория – это всегда ход первопроходца, предприимчивого субъекта. Таким образом, задача конститутов и институтов заключается в понимании образования как такого пространства, в котором создаются условия для выстраивания территории субъективности, на которой возможно было бы конкретному индивиду строить свою траекторию. Вариантом движения к такому образованию является создание образования по сетевому принципу. Сетевой инновационный менеджмент, менеджмент пятого поколения давно известен в литературе по управлению. Тем не менее, образовательные модели, построенные по сетевому принципу, только в последнее время входят в образовательную практику и являются большей частью проектами, нежели отработанным и хорошо известным опытом (см. [119; 260; 308]) Инновационный сдвиг к сетевому образованию может быть описан как сдвиг: - от иерархии и функций к сети людей - от отношений господства к отношениям квалифицированных и подчинения команд, работающих под проекты - от профессии как носителя к трансфессии и навигации как нормы способности строить и перестраивать массивы знаний под конкретные цели и проекты, способности ориентироваться в информационных сетях. Открытый «сетевой коммунитас» строится как пространство, в котором конкретный субъект является предпринимателем своего образования, он может осуществлять профессиональную и культурную идентичность. Признаки сетевой организации: отсутствие жесткой вертикальной иерархии, диагональная и круговая коммуникация, открытость, 179 корпоративность (коалиционность), командный принцип работы (под конкретные цели), интегративность, оперативность в принятии решений (гибкость, мобильность). Что должно быть в сетевой модели прежде всего? 1. Блок перспективного видения, который задает рамку развития всего предприятия (образовательного учреждения). 2. Функциональная сеть со своими узлами и фокусами, построенными исходя из целей деятельности. Конкретный индивид при это свободен, откреплен от функциональных мест, не привязан к отделам и подразделениям. 3. Организация людей в команды под проект, под задачу. Команды – многопрофильные и полипрофессиональные. Конкретный профессионал может переходить из одной команды в другую в зависимости от этапа реализации проектов. 4. Мощная информационно-техническая инфраструктура с базами данных, архивами, локальными сетями подключением к мировой паутине, открытая для любого пользователя. 5. Система подготовки переподготовки кадров, участников команд. Организация образования по сетевому принципу – это его устройство в соответствии с нормами соорганизации в постиндустриальном, информационном обществе. Именно сетевая форма может обеспечивать содержательность (культурную событийность) образовательной траектории обучающегося. В такой форме образования события субъектности, ситуации самоопределения, самопроектирования и самоорганизации становятся не случайным, и не уделом частного лица, а педагогически проектируемым эффектом гуманитарного образования. В отличие от предыдущих моделей, которые в культуре состоялись, данная модель является поисковой, она находится еще на стадии проектных и изыскательских работ. В качестве некоторых экспериментальных проектов она разрабатывалась и запускалась в ряде мест группами разработчиков. Но как целостный и исторический, культурный феномен она еще не состоялась. В этой модели, как уже говорилось выше, главной фигурой становится «трансфессионал» (термин, уже принятый и неоднократно озвученный в ряде работ в разных профессиональных сообществах). При переходе к новой модели образования, которая основана на ином базовом методе-принципе, автопоэзисе (причем, не в единичном случае, для специально посвященных и приобщенных к эзотерике, узких групп лиц, а в массовом масштабе), в такой ситуации профессия перерастает в трансфессию, которая означает одновременно открепленность носителя от одной какой-то нормы и 180 знания и способность плавать по сетям мирового знания, по коммуникациям и культурам и становиться сетевиком-навигатором в мировом образовании. Трансфессионал – это ведущий поиск путник-навигатор, идущий по лабиринтутраектории своего образования, выделывающий себя и постоянно себя проблематизирующий, не останавливающийся на ставшем состоянии и взрывающий себя. Парадокс заключается в том, что именно в результате массовизации образования необходим переход к сетевой модели и трансфессии. В ситуации размывания границ (социальных, географических, политических), в ситуации перехода образования к открытым моделям в рамках мировой коммуникации, образование как культурная практика должна допускать разные модели (как перечисленные выше, так и смешанные, и новые). А значит образование вынуждено становиться сетевым не только в смысле создания информационных сетей, банков и потоков знаний и обеспечения доступа к ним через систему «мировой паутины», но и в смысле открытости и доступности разных культурных практик для разных потребителей и субъектов образования. Тем самым в настоящее время формируется представление о «сетевом образовательном коммунитасе» как пространстве, в котором конкретный человек, становящийся субъектом, собирающий сугубо свой вариант своего образования (начиная с освоения глубоко продвинутых культурных практик и кончая простыми формами адаптации и социализации), являющийся сам предпринимателем своего образования, меняющий свою профессиональную и культурную идентичность. С учетом сказанного понятным становится, что инновационный сдвиг не обязательно связан с созданием каких-то новых типов образовательных учреждений. Если ранее смена образовательных моделей влекла за собой и смену базовых типов образовательных учреждений (от мастерской и цеха – к массовой школе, от классического немецкого университета – к американскому), то теперь сдвиг происходит по линии подключения разных (и классических, и неклассических) учреждений, групп людей к мировым образовательным сетям. Сетевая организация характерна (или нет) не для отдельного учреждения, а для системы культуры и образования в целом. В этом смысле трансфессионал – это мировой навигатор, специалист, который участвует в мировых проектах, живет и спит, условно говоря, в самолете, с мобильником и лабтопом. Для него нет политических и географических границ. Надо сказать, что мировая паутина (как было сказано, построенная не только как информационная сеть, но и как проектно-программная сеть, сеть команд профессионалов, сеть людей и ресурсов и т.д.) является новым испытанием для человека. 181 Либо эта сеть еще больше подавляет конкретного человека, индивида (и он переживает эпоху информационного тоталитаризма), тогда все силы человека подчиняются тотальному контролю, и он сам становится лишь ячейкой в банке данных (частью мировой матрицы). Либо наступает еще большая экспансия одиночек-террористов (хакеры, информационные войны и проч.). Надо сказать что и то, и другое чревато прежде всего тогда, когда сохраняется в качестве доминирующего проект «человека желания», классическая модель, эксплуатируемая человечеством в течение последних двух тысяч лет. Тотальность современного сдвига и витальность ситуации заставляет рано или поздно преодолевать ущербность и частичность этого проекта, который фактически и вверг человечество (которое его и породило) в этот тотальный кризис. Сеть является и испытанием, и смертью человека, но человека желания. Одновременно сеть является возможностью, формой-способом спасения человека, то есть рождения нового проекта человека, человека культуры, человеканавигатора. Итак, нынешняя ситуация в культуре и образовании заключается в том, что институт образования, сохранившись как организационная структура, почти утратил свою базовую, культурную функцию посредника. Отсюда следует наш главный вывод: нам придется снова переосмыслить и перестроить весь институт образования с точки зрения возврата ему его главной культурной функции. Образованию снова придется становиться посредником между новыми поколениям и образцами культуры. В прошлом веке П.Я. Чаадаев говорил, что России придется саму себя «переначать», ей предстоит переиначить всю мировую историю, показав Европе пример того, что такое самоопределение субъекта истории. Нам всем придется переначать свою историю, выстраивая в новой исторической ситуации новую практику образования человека, то есть практику его культурного развития. Теперь, следуя заявленной выше логике изложения, после описания культурной функции образования, вернемся к базовой схеме действительности. Точнее обратим внимание на ее нижний этаж, то есть посмотрим на то, с чего все начинается. Проанализируем ситуацию начала развития человека и опишем экзистенциальные ситуации, в которые попадает человек. Для этого возьмем известные аналоги, прецеденты такого экзистенциального самоопределения, описанные и положенные в культуре. И затем опишем принципиальную схему экзистенциального выбора. А для описания экзистенциальных ситуаций возьмем истории, известные как история грехопадения Адама и история Гамлета. 182 2.3. Экзистенциальная ситуация человека. Синдром Адама. История Гамлета Итак, как было сказано выше, чтобы описать экзистенциальную ситуацию человека, нам необходимо восстановить две истории историю Адама и историю Гамлета. И далее на их материале мы попробуем построить принципиальную схему, конституирующую то, что называется экзистенцией человека. Итак, для начала воспроизведем первую историю. «...7. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою. 8. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке; и поместил там человека, которого создал. 9. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла... 15. И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. 16. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть; 17. А от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь. 18. И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему. 19. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. 20. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему. 21. И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию. 22. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. 23. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женой, ибо взята от мужа. 24. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут одна плоть. 25. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Глава 3 1. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? 2. И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть. 183 3. Только плодов дерева, которое посреди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. 4. И сказал змей жене: нет, не умрете; 5. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. 6. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его, и ела; и дала также мужу своему, и он ел. 7. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания. 8. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. 9. И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: где ты? 10. Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. 11. И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть? 12. Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. 13. И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела. 14. И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. 15. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. 16. Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рожать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. 17. Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: «не ешь от него», проклята земля за тебя; со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. 18. Терние и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою. 19. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься. 20. И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих. 21. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их. 184 22. И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. 23. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. 24. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» (Быт. 2, 725; 3, 1-24). Вот такая история. Она известна. Но эта известность обманчива. Поскольку как только начнешь задавать вопросы по поводу того, что же на самом деле случилось, в чем заключается вина человека, в чем состоит его грех, почему он первый и самый тяжкий и т. д., - на них не сразу ответишь, начнешь запутываться в противоречиях и неувязках (не логических, а смысловых). Итак, попробуем задать этой истории ряд детских вопросов, т. е. таких, у которых нет второго дна, которые требуют ясности и открытости, точности и недвусмысленности. Это вопросы, отвечая на которые, мы будем постепенно открывать экзистенциальный смысл ситуации, в которую попал Адам, первый человек, и в которую потом попадает каждый человек. При этом мы не собираемся заниматься экзегетикой, толкованием темных мест сакрального текста. Оставим это специалистам для отдельного разговора. [17; 130; 380]. Нам важно понять глубинный, метафизический смысл всей этой истории. Ведь понятно, что это какая-то метафизическая история. То есть не буквальная, житейская и не та, на которую имеет монополию церковь. В ней говорится нечто принципиальное про существо человека, его экзистенцию, про проблему рождения человеческого в человеке. Здесь затронут какой-то важный неустранимый момент метафизического, «за-предельного» Начала, попытка помыслить которое рождает феномен философии. Итак, зададим этой истории ряд на первый взгляд глупых, детских вопросов. У Отца был Сын. Единственный и любимый. И среди всех живых существ – самый главный и сильный. Ему Отец поручил охранять райский сад. Но что это за сад? Точнее, метафора чего этот сад? Что значит пребывать в этом саду? Что значит вообще – быть в раю? И что такое «возделывать» этот рай и «хранить» его? Если Сын - любимый и единственный, то зачем Отец запретил ему вкушать плоды с дерева познания добра и зла? Почему это древо поставлено среди рая, в котором человек пребывал, но вкушать плоды с него ему нельзя, причем под страхом смерти? Почему человеку запрещено знать добро и зло? Почему Отец вообще посадил это дерево? Он искушает Сына? Что же это за Всевидящий и 185 Вселюбящий Отец, который искушает любимого Сына и, более того, устраивает ему проверку? Почему этот запрет настолько строг, что связан со смертью? Что смертельного в познании? Почему стремление познать самое сокровенное, добро и зло, чревато смертью? Почему в самом начале истории не было запрета вкушать с дерева жизни? Отец про него вспомнил потом и только после этого изгнал Адама и жену его из рая. Отец не хочет, чтобы его Сын жил вечно? Отцу позволено все, а Сыну - «от» и «до»? Где же ты, безграничная отцовская любовь? Дальше - змей. Кто это? Что за существо, сотворенное также Богом, является причиной падения человека? Почему тот ведет беседу с женой, а не с Адамом? Почему Адам, не спрашивая у жены, вкусил? Что это за символ – беседа змия с женой человека? Как змей беседует? Он убеждает жену, что они не умрут, а наоборот - вкусят и станут как «боги, знающие добро и зло». И что же, змей оказался прав? И Адам не умер? Или эта смерть есть метафора метафизической смерти, смерти души? Но почему Отец опасается, что Адам вкусит с дерева жизни? Кто его тогда будет искушать? И как? Почему стремление жить вечно есть грех, причем еще более смертельный, чем первый? Отец после своего наказания еще не изгнал Адама и жену его. Они остались жить в раю. И Отец надел на них одежды получше - кожаные, а не из листьев смоковницы. И признал, что Адам стал «как один из Нас». Кого он имеет в виду? Кто это «мы»? Но тут вдруг Отец вспомнил про древо жизни и убоялся. Кого? Своего Сына? Что тот посягнет на его власть и силу? Опять «комплекс Эдипа»? И едва ли не самый трудный вопрос - почему Адам и жена его до вкушения не ведали стыда и страха? Почему познание добра и зла связано с проблемой стыда? Остановимся на некоторых трактовках истории Адама. Попытаемся избежать при этом крайностей богословия и мистицизма. Русский философ и богослов С.Н. Булгаков, правда, не признанный православной церковью и причисленный как и о.П.А. Флоренский, к еретикам, за учение о Софии, Премудрости Божьей, занимает позицию скорее богословскую, нежели философскую. Он писал, что грехопадение стало великой религиозной катастрофой. Бог после этого сделался далек миру и человеку. Грехопадение означает восстание творения против творца, означает бунт подполья. Между Богом и человеком возлегла тьма подполья [37, с. 276]. В раю, пишет С.Н. Булгаков, человек не чувствует расстояния между собой и Богом, а потому и не ведает жажды воссоединения с Ним. Но пафос религии есть пафос расстояния и вопль ее – вопль богооставленности [Там же]. С.Н. Булгаков был «искателем религиозного единства жизни». На этом фоне грехопадение понимается им как ситуация раскола, разрыва связи между человеком и Богом. При этом сам Бог не ставится им под 186 сомнение. В основе религиозного опыта кладется «прожитая в личном опыте встреча с Божеством» [37, с. 16]. С.Н. Булгаков находится внутри этой истории, будучи глубоко религиозным человеком. Он не задает рефлексивных вопросов к этой истории. Он ее толкует изначально по-богословски, как историю отпадения человека от Бога. И не строит никакой модели человеческой экзистенции. Он объясняет историю на языке богословия, не задавая при этом вопроса, что есть Бог. А человек понимается как подобие Божие, его творение, предавшее Его. Если же искать сугубо человеческое объяснение этой истории, пишет С.Н.Булгаков, то видимо речь идет о каком-то грехе в области пола, ибо Адам и Ева познали стыд, они утратили целомудрие. Искусителен был здесь «недолгий, нецеломудренный путь к знанию, вымогательство знания, кичливость гнозиса пред смиренно верующей любовью» [37, с. 273]. С.Н. Булгаков делает вывод, что человек выбрал мир, отвернувшись от Бога, вместо того, чтобы сохранить единство целомудренного бытия, выбрал чувственное плотское желание – вместо сохранения целостного бытия с Богом. Если перевести этот язык на язык человеческий, то нельзя не согласиться здесь с С.Н.Булгаковым: смысл падения Адама – в предательстве самого бытия, в отказе от цельности и целостности своего бытия. Этот отказ связан с искушением в пользу предательского желания. Но об этом чуть ниже. А вот что пишет современный автор о. А. Кураев [131]. Итогом и смыслом падения человека является то, что он забыл Бога. Забыть – значит перестать быть, жить, отпасть от цельного бытия с Богом. Не просто перестать думать о Боге, а именно отпасть от него, перестать жить Им и в Нем. Ибо саму жизнь человек обратил не на Бога, а на самого себя. Он отвержен от Бога. Бог перестал существовать в нем, в человеке. Человек захотел стать Богом не ради Бога, а ради себя самого. Он решил, что может обновить себя из себя. Но может ли он сам раскрыть в себе Бога своими силами? Как он может обрести Бога в себе? Тем самым человек решил потреблять мир, вместо того, чтобы «возделывать его и хранить его». Если перевести это на язык человеческий, то Адам отказался от душевной работы сердца в пользу потребления и желания. Так или иначе, у православных богословов и философов идея победы предательского желания стоит на первом месте в трактовке этой истории. А сама эта победа объясняется тем, что Бога даровал человеку свободу воли. А человек выбрал не то, что нужно. Получается странная антропология. Изначально человек по природе своей создан по образу и подобию Божию. Он обладает в христианской антропологии одной и неизменной природой. И в ее основании лежит христианский миф о творении, искушении, падении и спасении человека. В рамках этого мифа и трактуется сюжет о грехопадении. Человек получает как дар 187 божественную природу, затем ее предает, затем снова всю жизнь взыскует и алкает. Тем самым человеческая судьба изначально под крестом. И крест этот связан с тем, что он, получив как дар свободу воли, обязательно выбирает не то, что нужно, не возделывает душу свою, а отдается низменным желаниям и страстям. Но здесь не объясняется главное: почему человек делает именно этот выбор? Что ввергает его в страхи и страсти? Для этого необходимо выйти за рамки православной и в целом христианской антропологии в иное пространство мысли, в пространство экзистенциального размышления. Это позволил себе сделать в свое время С.Киркегор. Но об этом чуть ниже. Итак, ни у С.Н. Булгакова, ни у А. Кураева не ставится под сомнение проблема Бога. Он полагается как абсолютное, доброе начало, которое было предано человеком. Вопрос о том, что есть Бог, в принципе у них не обсуждается. Вместе с тем, философия требует задавания и этого вопроса, поскольку философия и есть рефлексия по поводу предельных вопросов, и по поводу главного из них: вопроса о встрече человека с Богом. Философия есть авторская мысль человека о том, что есть тот предельный опыт откровения, который он проделывает. В этом смысле слишком просто было бы толковать историю Адама как всего лишь проверку человека на его смирение и послушание перед Богом. Во-первых, что это значит - перед Богом? Что такое Бог, в конце концов? Пожалуй, это главный вопрос. С него и надо начинать. Но ответ на него придется давать в течение всего расследования (см. ниже схему онтологического креста в главе 3). Для нас идея Бога – это аналог полного цельного Бытия, замещающего последнее в ситуации развития культурного цикла. Разговор о Боге возникает в ситуации необходимости спасения и исцеления, в ситуации понимания собственной ущербности и греховности. Но если вера при этом превращается в самообман, в суеверие, а человек сам не проделывает практики душепопечения над собой, если он прячется за Другого как за Силу, которая сама за него все сделает, то Бог для него превращается в идола, чужую и слепую силу, которую боишься. В то же время встреча с Богом – это радость и свет очищения. Во-вторых, наказание за нарушение запрета Отца выглядит как слишком плоское объяснение. Оно не дает ответов на заданные выше вопросы. Оно уводит нас в сторону. Богословская догматика здесь бессильна. История религии - тоже. Никакое объяснение темных мест, поиск неких исходных, языковых глубин или создание новой теологии не объясняют нам метафизического смысла этой ситуации. Никакой язык оригинала или новая вера не объяснят нам, почему человек до того, как познал добро и зло, не ведал стыда и страха. Мы не зря заговорили о страхе. Это понятие стоит в сердцевине понимания этой истории С. Киркегором и вслед за ним Львом Шестовым [121; 362]. 188 Но что порождает страх? Какова природа этого страха? С. Киркегор сравнивает поведение Адама с действиями детей, которые любят играть в рискованные игры. Р. Кайюа, специалист по теории и практике игры, называет такой тип игр игра-ilinx (см. об этом наши работы [272; 278]. Это игры с риском, игра-головокружение. Игры не на победу или на пользу, а игры по ловле кайфа, который человек испытывает от переживания состояния головокружения. Играющий в этой игре погружается в бездну, летит в пропасть. У него захватывает дух от полета в никуда. Это переживание самого полета. Причем полета в неизвестность, в Ничто. Человек этого и страшится, и хочет одновременно. Его тянет, тащит, но нет сил сопротивляться, хотя рассудком он понимает, что это рискованно и страшно. Причем играющий не боится чего-то конкретного. Он просто ужасается от переживания состояния умопомрачительного, щемящего душу чувства, от которого падаешь в обморок, теряешь сознание. Это какое-то пограничное состояние между жизнью и смертью. Понятно, что датский гений так не говорил. Но он имел в виду один очень тонкий момент. Никакой злой умысел не толкал Адама на первый грех (то, в чем подозревают человека все богословы). Его, Адама, потащил страх перед Ничто. Это Ничто неведения порождает страх. Это стремление в никуда. Оно одновременно тянет и страшит [121, с. 145]. Причем именно «возможность мочь», это экзистенциальное право мочь, не выбор между чем-то и чем-то (добром и злом), а сама возможность мочь потянула Адама. С этой экзистенциальной свободой (которая и есть действительная свобода) Адам не справился. Он упал в обморок. Бог не искушает. Каждый искушается сам. Вот эта метафизическая свобода, запредельная возможность стать, состояться в бытии настолько беспредельна, что она превращается в Ничто. Повторяем, это не некая предметная свобода, то есть не выбор в магазине или в ресторане. Меню нет, а есть головокружительное состояние открытости. Эта метафизическая возможность ввергает Адама в состояние метафизического ужаса и бессилия. «Страх - это женственное бессилие, - пишет С. Киркегор, - в котором свобода теряет сознание; с психологической точки зрения грехопадение всегда происходит в состоянии бессилия» [121, с. 161]. Итак, страшит не нечто. Это потом. В Начале, в метафизическом Начале, запредельном, до жизни и смерти, до добра и зла, страшит сама возможность быть. «В страхе содержится эгоистическая беспомощность возможного, которая не исчезает, подобно выбору, но настойчиво страшит своим сладким устрашением» [121, с. 161]. Какой же грех совершает Адам в этом состоянии обморока свободы? Он совершает два преступления. Первое. Смотрите, как происходит искушение. А змей – это и есть фигура искушения. Вы станете такими же, как боги, познаете добро и зло. И Отец это потом подтвердил. Аргумент бьет наповал. И каждый проходит через это. Ты вкуси 189 - и станешь. Ты возьми - и обретешь силу. Обретешь знание, самое сокровенное и тайное, доступное только богам. И с помощью этого знания ты будешь сильным, как боги, поскольку получишь через это великую власть. Причем не затратишь никаких особых усилий. Понятно, что искушение идет через наиболее слабую, податливую сторону человека его женское начало («ребро» - не лучший и единственный вариант перевода, также это «грань», «сторона», т. е. одна из сторон человека [380, с. 43]). Эта часть человека требует ласки, комфорта, уюта, благополучия. Она и толкает его на все тяжкие. Итак, получение Силы и Власти через великое, тайное знание есть первый и самый тяжкий искус. Не само по себе знание, не сам по себе разум греховен, в чем обвиняет Адама Лев Шестов. Знание, полученное ради обретения (чудесного, без усилий!) силы и власти, вот первый грех. За ним же следует и второй. Именно такое знание и порождает добро и зло, то есть раскалывает мир на добрый и злой. Этого знания не ведали Адам и жена его, потому что они были как единое целое и не ведали стыда и страха. Они были целокупны, целомудренны. Они не были расколоты на половинки и части. Именно такое знание, полученное ради власти над другим, порождает раскол в мире и человеке. Познание добра и зла есть действие по расщеплению, расколу в себе и затем в мире. Эта трещина проходит в человеке, делая его ущербным и не полным. Коль скоро я позволяю себе взять знание и стать «как боги», то я позволяю себе считать, что есть мир мой и мир чужой, добрый и злой. Власть и дается для того, чтобы разделять. А поэтому мужское и женское также раскалываются. Бог разъединяет Адама и Еву. Они потеряны друг для друга. Мужское и женское разъединяются навеки. И с тех пор они призваны искать друг друга, искать новой встречи, которая возможна лишь в любви. И потому рождаются добро и зло, которых не было в мире до первого греха. В мире вообще нет добра и зла. Мир ведь никакой. Он цельный и естественный. Мир един. Даже самое искусственное действие человека, его мысль, не может быть доброй или злой, если это действительная мысль, а не уловка, не хитрость, не манипулятивный ход. Итак, мир раскалывается, и появляется фигура Чужого. Последняя появляется именно тогда, когда исходное желание толкает человека на то, чтобы взять тайное знание и иметь его, не затрачивая на его добывание никаких усилий. Взять и поиметь. Не искать в поте лица своего, не идти к нему, а просто взять. Как советовал искуситель. И получить тем самым великую власть, сравнимую с божественной. Тем самым идея власти рождается при появлении Другого как Другого, Чужого. Ибо над своим власть не требуется. Если же появляется дистанция между мной и другим, чужим, то появляется проблема неведения того, что за пределами своего, в ином мире, в котором обитает Другой. 190 Тем самым формируются страх и стыд, которых не ведали Адам и жена его до первого греха. Ребенок до двух лет не ведает стыда и страха. В его сознании не сформирована фигура Чужого, который прикладывается к разным явлениям жизни, и они маркируются как «свои» и «чужие». «Чужой» - исторически первая превращенная форма в сознании человека. Ущербное, падшее сознание (Адам после падения) привыкает воспринимать мир через призму свой - чужой, добрый - злой. Такое понимание рождает сценарий жизни как вечной и непреходящей интриги, вечной войны своего и чужого. В человеке выращивается монстр, тот самый дракон, которого человек подкармливает своими страхами. Дракон, которого однажды, если ты хочешь родиться второй раз, надо убить с помощью выращенного тобою же героя, Тезея. Но это уже другой сценарий из другой культуры. Который, впрочем, в экзистенции выступает как одна из вариаций на ту же тему - тему падения и второго рождения. Итак, что же делать теперь человеку, если он совершил падение, то есть расколол единое свое существо на части? Какой ответ дает С. Киркегор? На что он надеется? Он надеется на веру. «Единственное, что поистине может обезоружить софистику страха, это вера, мужество верить, что само состояние является новым грехом, мужество отказаться от страха без страха, а на это способна только вера; вера не может тем самым уничтожить страх, но сама, будучи вечно юной, снова и снова выпутывается прочь из смертного мгновения страха» [121, с. 209]. Парадокс заключается в том, что это состояние экзистенциального падения и возрождения совершается периодически и всякий раз заново. И всякий раз в состоянии «ух!», в состоянии падения, или прыжка, как говорит С. Киркегор. В этом прыжке человек совершает переход в иное экзистенциальное состояние. Изначально есть только то, что ничего нет, есть Ничто. От страха и отчаяния, от этого Ничто человек ввергается в пропасть. Он не выдерживает. Не выдерживает первого и самого сильного онтологического испытания. Это невозможно выдержать, нельзя выдержать нулевое состояние, не имея никакого опыта такого выдерживания. И коль скоро иных костылей нет, нет иных вариантов состояться, то человек начинает заполнять эту пустоту квази-формами, эрзацами псевдобытия, муляжами. Жизнь превращается в интригу, в набор уловок, обманов, манипуляций. В чем спасение? В вере? Что питает эту самую веру? В этой ситуации у человека начинает вырабатываться первая экзистенциальная способность способность учиться страшиться. «Нужно научиться страшиться, чтобы не погибнуть либо оттого, что тебе никогда не было страшно, либо оттого, что ты слишком отдаешься страху; поэтому тот, кто научился страшиться надлежащим образом, научился высшему» [121, с. 242]. Итак, парадокс и изначальный трагизм человеческого бытия в культуре состоит в том, что первое натуральное рождение не дает человеку никаких онтологических гарантий, никаких культурных подпорок, чтобы не пасть. Его натура, буквальная 191 натура, то, что ему дали родители и среда, то, что ему просто дали, не выдерживает испытания максимальной возможностью быть. Между хлебом и свободой он выбирает первое. Ему предстоит поэтому второй раз родиться и состояться как человек. Это рождение осуществляется именно с помощью культуры как практики второго рождения и развития. В этой метафизической точке рождаются искусство, мировые религии и философии. Но не как системы (системами их делают потом идеологи ради своих целей), а как прецеденты, как свидетельства актов второго культурного рождения. Поскольку ситуация Адама архетипична, постольку она всякий раз повторяется в каждом человеке. Это метафизическая, экзистенциальная ситуация, в которой архетипически скрыт глубинный сценарий (script) каждого человека. Этот архетип актуализируется в определенной ситуации онтологического самоопределения человека. Поэтому каждый человек, рождающийся второй раз, уже в культуре, повторяет, точнее, изживает синдром Адама, который приобрел до этого, на этапе натурального рождения и роста. Итак, что же получается? Какова наша трактовка этой истории Адама? В человеке заданы исходно четыре начала - божественное и желающее, мужское и женское. Они изначально структурируют экзистенцию человека. Первая пара образует вертикаль, вторая - горизонталь. И эти четыре начала формируют в человеке человеческое целое (рис. 19). Начало бытия («верх») Женское начало Мужское начало Начало желания («низ») Рис. 19 Перескажем эту историю на другом языке. Как историю экзистенциальную, объясняющую культурные символы и метафоры ветхозаветной притчи. От первого рождения человек рождается как единое, цельное существо, в котором все части пребывают в мире и согласии. Они не ведают войны друг с другом. Первое начало в человеке – божественное. Через него человеку заповедано, чтобы тот пребывал в раю, то есть жил в мире как в мире, не раскалывал естественное единство мира, который дан ему как цельный, целокупный и целомудренный. Это исходное состояние детства, пребывание в целомудренном естестве и цельности. 192 Второе начало (по человеческой «вертикали») – начало желания. Оно само по себе не греховно. Оно означает желания человеческие, поскольку человек – существо физическое и желающее. И два начала по «горизонтали» – мужское (активное, целеустремленное), и женское (требующее ласки и любви). Все начала пребывают в едином существе. Но рано или поздно человек попадает в ситуацию искуса, испытания своей цельности. Однажды желание желает не только то, что связано с существованием, но и то, что заповедано. Экспансия желания ввергает человеческое существо в самое главное, онтологическое испытание. Человек желает сразу стать, состояться в бытии. Не затрачивая на это усилий. Он желает получить некое знание, делающее его равным богам, то есть получить то, что добывается великим трудом и как результат тяжких испытаний. Он желает на самом деле получить власть, а не постичь истину. Тем самым человек себя обманывает. Он забывает божественную заповедь – хранить рай, в котором пребывал, то есть хранить то единство своего существа, мир всех начал. Итак, греховно не само по себе желание. Оно естественно и неизбывно в любом существе. Но страшно желание, которое разрывает человека на части, то желание, которое искушает и порабощает, становится бесконтрольным, не уравновешивается другими частями в человеке. Страшно то начало, которое кормится другими началами. Как только ослабляется какая-то одна часть за счет усиления другой – сразу же человеческое существо испытывает экспансию этой одной части. Самое слабое место в человеке – этот как раз часть желанная, которая толкает человека на безудержное стремление иметь мир как вещь. Я хочу! Причем, не затрачивая усилий и за счет другого. Вспомним решение Христа, принятое им позже, перед распятием: «Не как я хочу, а как Ты» (Мф, 26, 39). Это и есть преодоление синдрома Адама. Но Христос был потом. На преодолении своего страстного желания, искуса, раскалывающего цельное существо, строится вся последующая христианская этика. Но нам важны принципиальные моменты экзистенциальной ситуации. Итак, первый грех – человек дает себе индульгенцию, право иметь великое знание, не затрачивая на его добывание усилий, и получить за счет этого власть, равную власти богов. Сама идея власти порождает границу между этим и тем миром, своим и чужим, Другим. Другость рождает феномен Чужого. Чужой рождает страх и стыд, феномены, не ведомые цельному и целомудренному сознанию (ребенку в возрасте до 2-х лет). Именно такое знание, греховное и падшее, раскалывает мир на свой и чужой, на добрый и злой. В то время как мир в бытии своем никакой. Он цельный. В нем нет деления на добрый и злой, свой и чужой. 193 Тем самым человек совершает второй тяжкий грех – раскалывает мир на части, которые начинают воевать друг с другом, в том числе, на мужскую и женскую. С тех пор мужская половина, потеряв цельность, вынуждена искать всю жизнь вторую половину, чтобы воссоединиться с ней в любви. Но коль скоро два роковых шага сделаны, то грозит и третий. Бог вспоминает про дерево жизни. Человек, желающий иметь (не знать, не искать, а иметь) тайное знание как средство власти, человек, расколовший мир на части, начинает думать, что ему все дозволено, что он вечен, бессмертен. Если он забывает, что он смертен, конечен, то значит он окончательно теряет рай в душе. Он изгоняется из рая, то есть теряет в себе все божественное. И с тех пор он вынужден искать утраченного Бога. Поэтому нужен пример Христа, чтобы вновь обрести своего Бога. Но пример Христа опять иной. Он не помогает. И не признали его за Спасителя. И распяли его. А посему – «и к злодеям причислен», поскольку синдром Адама не изжит до сих пор. Адам утерял рай, превратив свою жизнь в бесконечную войну со всевозможными фигурами Чужого. Иисуса Христа распяли, а человек желания окончательно победил. На материале этой истории мы далее попробуем построить исходную схему экзистенции человека. А пока перейдем ко второй истории, истории Гамлета. История Гамлета. Теперь о второй истории. В чем она заключается? Это ведь не просто история какого-то принца, это не историческая хроника. В этой истории есть некая мистическая тайна, которую пытаются разгадать вот уже почти 400 лет (если считать с 1600-1601 гг., времени премьеры пьесы в шекспировском театре «Глобус»). Хотя была легенда, была хроника Саксона Грамматика из «Истории Дании». Была долгая устная традиция, тянущаяся с IX в. Но загадочный текст У.Шекспира тем и глубок, даже мистичен, поскольку он не про быт, а про бытие. Как и в случае с Адамом, эта история про первое рождение и первую смерть. Сын, родившись у отца и живя в раю (храня рай в душе, некое естественное состояние равновесия), не имея опыта болезни и исцеления, не в силах справиться с тем ужасом, который охватывает его при мысли о запредельном мире, о «той стране, откуда ни один не возвращался». И не будучи хозяином самому себе, будучи «не в себе», он умирает, т. е. умирает экзистенциальной смертью, заболевает, его пожирает черный человек страха и стыда. И он вынужден второй раз рождаться, обретать культурное совершеннолетие. Это демонстрирует потом, после Адама, Иисус Христос, прошедший все те же тяготы смерти и второго рождения, экзистенциальной болезни, греха и страха. Бродяга, бывший плотником и делавший по заказу римских легионеров распятия, ушедший потом в скитания и ставший Учителем. 194 Но с материалом истории Иисуса Христа нам работать трудно. Он не стал еще предметом культурной антропологии. Слишком силен налет сакральности и церковной традиции. Хотя это тоже архетип, образец смерти и второго рождения. Но для более ясного и полного описания не хватает опыта художественной и философской рефлексии, равного опыту осмысления истории Гамлета. История Гамлета уже вошла в неклассическую психологию. Ее фактически открыл заново Л.С. Выготский [50]. Открыл на себе, проживая миф Гамлета, проверив на себе этот архетип как экзистенциальный сценарий (см. подробно об этом в нашей работе [275] , а также работы П.Г. Щедровицкого [374; 375]). Правда, этим открытием не воспользовалась мировая психология. Остановимся на ряде моментов, помогающих раскрыть этот миф по имени Гамлет. Итак, история Гамлета - это такая своеобразная культурная метафора, повествующая про метафизическое, т.е. про пограничное, предельное самоопределение человека. Про то, как человек попадает в точку экзистенциального испытания и как он из него выходит. К Гамлету пришел отец. Точнее призрак отца. Пришел из «той страны, откуда ни один не возвращался». Пришел из «неоткрытой страны» (undiscover’d country). С этого момента в трагедии разыгрываются два плана: первый, сюжетный, который обычно и ставится в театре, некая семейная драма. Про то, как брат убил брата, завладев короной и королевой, и про то, как сын мучается от такого быстрого решения («два месяца как умер, двух не будет...»). Про то, как он пытается отомстить, но все почему-то медлит. Про то, любит или не любит он Офелию (но он же не Ромео, и она не Джульетта), про то, как он неожиданно убивает Полония, про его знаменитую «мышеловку», про его метания и страсти и т. д. Но все это на самом деле один Гамлет, мечущийся, затравленный, обозленный, потерявший себя, сеющий ужас и смерть (Клавдий о нем - «ужас, гуляющий на воле»). Есть и второй план, который труднее сыграть, если это вообще возможно. Это план экзистенциального безумия и борьбы Гамлета с самим собой. Ведь не то важно, что ему сообщил призрак Гамлета-отца, а то, что Гамлет-сын заглянул в глазницы смерти. Экзистенциальный ужас охватил его, сковал его члены. И вся остальная история про Гамлета разворачивается на фоне борьбы двух Гамлетов ужаснувшегося, убоявшегося и борющегося. То есть история борьбы Гамлета со своей болезнью, с тем самым синдромом Адама. Ведь это действительно покажется помешательством. Представьте себе. Вам говорят, что вашего отца убил ваш дядя и завладел тем самым короной и королевой, вашей матерью. А вы вместо того, чтобы хвататься за меч и в благородном гневе бежать мстить, ходите и произносите какие-то монологи про «быть или не быть». 195 Для нормального сознания, точнее, для здравого смысла, житейского рассудка, это - признак помешательства. Но это как раз то ненормальное состояние, которое делает обычного частного человека философом и поэтом. С Гамлетом происходит некий психический вывих. Он переживает глубинный метаморфоз. Гамлет раскололся, в нем появились два Гамлета белый и черный. Хотя окружающие его воспринимают по-старому, как прежнего, бывшего до смерти Гамлета-отца (тот самый «милейший принц», «добрейший принц» у бывших дружков Розенкранца и Гильдернстерна). Для Гамлета же наступает момент испытания и взросления, совершеннолетия личности. Он вступает в новый культурный возраст. В то время как за ним тянется шлейф личной истории, которая застит глаза. Он теперь другой, а его воспринимают как того, прежнего, но помешанного, сдвинутого. Об этом говорил индеец Дон Хуан у К. Кастанеды - о стирании личной истории. Это бывает с каждым. Когда ты приходишь, спустя много лет, в родной дом, и тебя не узнают. Или когда ты приходишь в alma mater, где когда-то учился. И растроганные учителя говорят: «Как он вырос! Неужели это он?!» Они тебя помнят другим и не могут допустить возможности иного, другого возраста, который за пределами их представлений, т. е. за пределами их натурального опыта, зримого образа. Это дает о себе знать «зачарованность превращенной формой» (М.К. Мамардашвили), зависимость от натурального опыта - когда зримый образ человека маячит перед глазами. О человеке судишь по ставшему, зримому, знакомому опыту. Зона его развития, способность быть за собственными пределами, за рамками здравого смысла, натуральным сознанием в расчет не берется. Выход за пределы натуральной формы натуральным опытом не схватывается. А посему история второго рождения воспринимается им, этим натуральным сознанием, как нечто мистическое, необъяснимое. Как вывих, как сумасшествие. А этот мистический план экзистенциальной болезни и есть сердцевина драмы о Гамлете. Не его выяснение отношений с Клавдием или Лаэртом (это все фон, материал), а глубинная проблема выяснения отношений с хаосом, с небытием. Проблема, о которой писал Г. Гейне: когда «трещина мира проходит через сердце поэта». Точнее, эта метафизическая трещина проходит через сердце обычного человека, частного существа, и делает его поэтом и философом, и через это человек вступает в новый возраст культурного совершеннолетия. Возьмем последнюю ключевую сцену - дуэль Гамлета и Лаэрта. Перед дуэлью Гамлет признается [361, с. 354]: Прошу прощенья, сэр. Я был не прав. Но вы, как дворянин, меня простите. Собравшиеся знают, да и вам 196 Могли сказать, в каком подчас затменьи Бывает ум мой. Все, чем мог задеть Я ваши чувства, честь и положенье, Прошу поверить, сделала болезнь. Ответственен ли Гамлет? Не ответствен. Раз Гамлет невменяем и нанес Лаэрту оскорбленье, оскорбленье Нанес не Гамлет, а совсем другой. Кто ж этому виной? Его безумье. А если так, то Гамлетов недуг - его обидчик. Прошу во всеуслышанье при всех Сложить с меня упрек в предумышленьи. Пусть знают все: я не желал вам зла. Ошибкой я пустил стрелу над домом И ранил брата. (Пер. Б. Пастернака). Нам придется потом остановиться на проблеме перевода. Но пока отметим, что тема болезни Гамлета сохраняется во всех переводах, с большей или меньшей полнотой и ясностью. В оригинале же она звучит недвусмысленно. Итак, Гамлет признается в некоей болезни. Какой? Той ли, в какой его обвинил Клавдий, используя ее как предлог для того, чтобы выслать в Англию? В том ли напускном безумии, которое нужно ему, чтобы скрыть от Клавдия свои истинные намерения? Понятно, что нет. Эта политическая болезнь была предлогом и была пущена как слух и, кстати, была использована в своих интересах Клавдием. Нет, это другая болезнь, настоящая. Та, на фоне которой и из-за которой все и происходило. Во всем, что ни делал до этого Гамлет (вся трагедия, вся история!), во всем этом повинна болезнь, его безумие (madness). И это безумие есть главный враг бедного Гамлета, а не Лаэрт и даже не Клавдий («His madness is poor Hamlet’s enemy»). Кто нанес Лаэрту оскорбленье? Не сам Гамлет. Его рукой кто-то водил. Гамлет сам не свой, он не в себе («If Hamlet from himself»). Все убийства Гамлет совершал в аффекте, в безумии. Кто же водил рукой Гамлета? Другой, черный Гамлет, точнее, его болезнь, его безумие, т. е. тот ужас, который его охватил в начале трагедии, ужас смерти. Причем это признание Лаэрту Гамлет делает в особом состоянии. Это отмечал Л.С. Выготский. В состоянии какой-то метафизической, мистической готовности. Как будто это говорил уже не сам Гамлет, а кто-то другой. Другой Гамлет, понявший, что - Пора! Перед признанием Лаэрту он так и говорит другу Горацио: 197 «Если судьба этому сейчас, значит не потом. Если не потом, значит - сейчас. Если же этому сейчас не бывать, то все равно оно неминуемо. Быть наготове, в этом все дело. Раз никому не известно, с чем когда-нибудь придется расставаться, отчего не расстаться с этим заблаговременно? Будь что будет» [361, с. 554]. Именно так. Пусть будет! Let be! О готовности говорит уже другой Гамлет, побывавший по ту сторону, в метафизическом пределе. Об этой готовности говорил и Л.С. Выготский, когда писал в 1915 г. об истории Гамлета. И потом, в 1934 г., сам Л.С. Выготский, умирая, сказал последнюю фразу: «Я готов». Говорят, что А.П. Чехов, выпив перед смертью бокал шампанского, сказав, что давно не пил такого замечательного шампанского, закончил тем же: «Я готов». Гамлет тоже говорит о готовности. И, сказав это, умолкает. Об истории принца Гамлета потом расскажет Горацио: «Скажи, как все произошло». А про остальное поведать нельзя. Про метафизическое рождение не расскажешь. А посему: «Остальное - молчанье». The rest is silence... Внешнюю историю про принца можно рассказать. Про нее - «слова, слова, слова...». А про онтологическое самоопределение человека и его уход - молчанье. Здесь слова уже не нужны. Они бессильны. Гамлет выздоровел, бросив вызов самой смерти, самой вечности. Он не с Лаэртом бился. С ним он объяснился. Здесь нет обиды. На самом деле в течение всей истории Гамлет выяснял отношения с небытием, с тем черным человеком, который поселился в его душе, с человеком желания, который терзает его и делает его безумным. Он выяснял отношения с Другим, с Чужим, со своим Двойником. Развязка наступает тогда, когда Гамлет бросает вызов этому черному человеку, тому другому Гамлету, который «не в себе», Другому, Двойнику. Потом эта тема двойничества, черного человека, будет сильно волновать А.С. Пушкина («мне днем и ночью покоя не дает мой черный человек»), Ф.М. Достоевского («подпольный человек») (см. нашу работу [282]). Чем отличается Гамлет от других? Тем, что он единственный осознал свою болезнь и принял вызов своего черного человека (как и у А.С. Пушкина его Моцарт принял заказ от черного человека написать «Реквием»). В таком случае не болезнь начинает управлять человеком, а он ею. Это признак выздоровления. Я жил как все, жил интригами, хитростью, хотел мстить, ловил, подстерегал, подглядывал, лелеял желание отыграться. Я ставил капканы врагу, но сам же попадал в них. Моя слабая, смертная натура тянула меня вниз, сжимала меня в тиски, сажала в тюрьму страха. В плену у этой натуры я и был. Мною двигал мой черный человек желания. Примерно такой контекст сквозит в признании Гамлета Лаэрту. 198 История Гамлета в этом смысле - про душу, которая в тюрьме и пытается освободиться. Эту тему любил актер В.И. Качалов, играя Гамлета в знаменитой постановке Г.Крэга на сцене МХТ в 1911 г. Именно эту постановку, по семейной легенде, видел молодой Лев Выготский и ею заразился. В той постановке играли по переводу А. Кронеберга. У него один из ключевых монологов так и начинается [361, с. 227]: О, если б вы, души моей оковы, Ты, крепко сплоченный состав костей, Ниспал росой, туманом испарился... Смотрите, какой разный бывает перевод! У Б. Пастернака [Там же, с. 458]: О, если б этот грузный куль мясной Мог испариться, сгинуть, стать росою! У М. Лозинского [Там же, с. 342]: О, если б этот плотный сгусток мяса Растаял, сгинул, изошел росой! У Н. Полевого [Там же, с. 131]: Для чего Ты не растаешь, ты не распадешься прахом, О, до чего ты крепко, тело человека! В оригинале [Там же, с. 36]: O! that this too, too solid flesh would melt, Thaw and resolve itself into a dew... В данном отрывке речь идет о том, что это смертное тело, эта плоть, твердая, сплошная, солидная, она мешает, давит, гнетет. Когда же ты растворишься, сгинешь, растаешь, превратишься в росу? Но о какой плоти идет речь? У Б. Пастернака и М. Лозинского получилось двусмысленно - как будто говорится о теле Клавдия (поскольку монолог звучит после разговора Гамлета с дядей). Или речь о другом теле? О теле самого Гамлета (который, кстати, был полным по комплекции и страдал одышкой)? Более верным кажется последнее. Тем более здесь же звучит тема самоубийства: «О, если бы предвечный не занес в грехи самоубийство!». Если бы не запрет Богом самоубийства («His cannon gainst self-slaughter»), я бы покончил с этим бренным, смертным, страстным телом, с этим куском мяса! И убить не могу, и не убить не могу! Мое тело - моя тюрьма. Как мочь и не мочь одновременно жить в этой тюрьме? Ситуация - на разрыв! Как у О. Мандельштама [159, с. 92-93]: Дано мне тело - что мне делать с ним, 199 Таким единым и таким моим? И тут же говорит [Там же]: Я и садовник, я же и цветок, В темнице мира я не одинок. Или у Арс. Тарковского [303, с. 240]: У человека тело, Одно, как одиночка. Душе осточертела Сплошная оболочка. С ушами и глазами Величиной в пятак, И кожей - шрам на шраме, Надетой на костяк. Итак, вот такой полоумный Гамлет, кажущийся для других действительно блаженным и опасным (кроме Горацио), выясняющий отношения со своим «куском мяса», ходит и задает себе вопрос быть или не быть! Этот ключевой монолог, с которого все и началось, и монолог-признание Лаэрту, стягивают всю историю в единую трагедию, в единое целое. Между этими двумя монологами - вся история, длиною в жизнь. Воспроизведем этот монолог (выделив ключевые фразы) [361, с. 497]: Быть иль не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль Души терпеть удары и щелчки Обидчицы судьбы иль лучше встретить С оружьем море бед и положить Конец волненьям? Умереть. Забыться. И все. И знать, что этот сон - предел Сердечных мук и тысячи лишений, Присущих телу. Это ли не цель Желанная? Скончаться. Сном забыться. Уснуть. И видеть сны ? Вот и ответ. Какие сны в том смертном сне приснятся, Когда покров земного чувства снят ? Вот объясненье. Вот, что удлиняет Несчастьям нашим жизнь на столько лет. А то кто снес бы униженья века, Позор гоненья, выходки глупца, Отринутую страсть, молчанье права, Надменность власть имущих и судьбу Больших заслуг перед судом ничтожеств, Когда бы неизвестность после смерти, 200 Боязнь страны, откуда ни один Не возвращался, не склоняла воли. Мириться лучше со знакомым злом, Чем бегством к незнакомому стремиться. Так всех нас в трусов превращает мысль, Так блекнет цвет решимости природной При тусклом свете бледного ума, И замыслы с размахом и почином Меняют путь и терпят неуспех У самой цели... (Пер. Б. Пастернака). В оригинале ключевые фразы звучат так [Там же, с. 69]: But that the dread of something after death, The undiscover’d country from whose bourn No traveller returns... Кстати, данный монолог, по мнению известного шекспироведа М.М. Морозова, едва ли не самое слабое место в переводе Б. Пастернака. Имеется в виду слишком вольный его перевод [96]. Что означает данный отрывок? Стоит ли жить в этом абсурде, переносить эту жуткую юдоль? Можно было бы умереть, уснуть (to die, to sleep), если бы... Если бы не «ужас чего-то после смерти», если бы не «неоткрытая страна, откуда ни один путник не возвращался». Именно онтологический ужас (dread), тот самый Адамов страх перед небытием сковывает все члены. Не просто страх, а экзистенциальный ужас небытия после смерти. Не сама смерть страшит, а неоткрытая страна, лежащая по ту сторону. В чем заключается ад? М.К. Мамардашвили ссылался как-то на князя С.Трубецкого, отвечая на этот вопрос. Ад - это возможность не умереть. Или не состояться после жизни и смерти. Это полная неизвестность после ухода. Ад - не сама смерть. Ад - это пустота, небытие, ничто. Такая мысль и делает человека трусом. «Thus conscience does make cowards of us all». Очевидно, что речь идет не о мысли, а о со-вести, т. е. о глубинном знании, о тяжком раздумье, едва переносимом смертным. Поэтому совесть (не просто мысль), т. е. глубинное знание, «весть бытия» (М. Хайдеггер), делает всех нас трусами. Как это звучит в разных переводах? М.П. Вронченко: «Так робкими творит всегда нас совесть». Н.Х. Кетчер: «Так всех нас совесть делает трусами». П.П. Гнедич: «И эта мысль нас в трусов обращает». Н. Полевой: «Ужасное сознанье робкой думы». 201 А. Лозинский: «Так трусами нас делает раздумье». М.М. Морозов: «Так сознание делает нас всех трусами». Итак, есть разные версии. Но ясно одно. Речь идет об особой мысли, о попытке помыслить пределы бытия. Но сама попытка представить эти пределы превращает человека в экзистенциального труса. Не в того, кто боится высоты или темноты. А в того, кто жить боится. Кто не может уже и шага ступить без костылей, без помочей. Он уже на себя не надеется. Он сам не свой. Он выпал, вышел из самого себя. Раскололся. Расщепился. Распался на осколки. То есть пал. Потерял себя. Потерял контроль над собой. Его сожрал его собственный человек желания, его собственный дракон. А распался именно потому, что устрашился смерти после смертию. Не смерть сама по себе страшна. Страшно небытие после смерти. Забвение! Мы умираем в этом смысле тоже дважды, как и рождаемся мы дважды. Сначала умирает тело. Потом нас забывают, и наша душа умирает. Нас забывают. Именно это страшит более всего. Ужас после смерти. Чернота и немота забвения. Абсолютная пустота. Ведь мы живем в памяти. Мы пребываем тогда, когда нас помнят. Когда нас забывают, мы исчезаем. Итак человек от этого ужаса перед небытием раскалывается. И после этого идет тяжкий и одинокий путь собирания осколков души, поиска другой своей части, отколовшейся и забытой. С этой поры и ведется тяжба двух Гамлетов. Кончается она смертью обоих и воскрешением иного, другого Гамлета. Здесь весь корень вершинной психологии и философии человека. С этого момента и начал Лев Выготский. С темы падения и потери себя Гамлетом и дальнейшего обретения, преодоления экзистенциальной болезни. С этого начинается строительство личности. Кстати, тема двух Гамлетов не нова. Об этом писали каждый по-своему о. П. Флоренский и Л. С. Выготский. Отец П. Флоренский в своей ранней и мало известной работе, написанной в 1905 г., отмечал следующее [320]. Трагизм истории состоит не в самой по себе гибели героя. Трагизм заключается в неминуемости его гибели. Его буквально тащит навстречу гибели. Что за сила его тащит? Она может быть только внутренней, присущей самому герою. Никакое внешнее влияние и никакая внешняя угроза не могут быть так гибельны для Гамлета, как то, что сосредоточено в самом Гамлете. Что же это? Это внутренняя борьба двух сил, двух законов, одинаково влекущих героя. Их основа - это старый языческий закон и новый христианский. В Гамлете столкнулись и воплотились две религии, два закона жизни. И ни один не хочет уступать. Выход единственный - гибель героя. Гамлет, пишет о. П. Флоренский, это нескончаемая борьба двух сознаний, раздирающих принца. По сути, вся трагедия - это один гигантский монолог одного героя. Все остальные истории (с Полонием, Лаэртом и др.) всего лишь фон одной истории 202 про борьбу двух сознаний. В итоге Гамлета разорвали два Бога - старый и новый. Два времени, две эпохи сошлись в нем и разорвали его душу. Совсем иначе трактовал тему двух Гамлетов Л.С. Выготский. Он выделяет в герое двух Гамлетов темного и светлого. Соответственно эти два плана выделяются в самой трагедии. Сам Гамлет раздвоен. Один Гамлет - реальный, который действует. И другой мистический, ночной. О первом можно сказать («слова, слова, слова»). О втором нельзя сказать ничего. Здесь можно только молчать («остальное - молчанье»). С первым Гамлетом связаны все интриги, все события и действия. Об этой стороне истории Гамлет и попросил перед своей смертью рассказать своего друга Горацио. Со вторым Гамлетом связан некий вечный, вневременной план. Это план мистический, религиозный. Это момент откровения в трагедии. О первом сказано все. Он - в событиях трагедии. О втором - только молчанье. The rest is silence. С этим молчаньем ушел Гамлет. Ушел, будучи в состоянии готовности. Готовности принять свой удел. В этой готовности вся трагедия, делает вывод Л.С. Выготский. С трудностью удержать баланс между разными частями и гранями Гамлета связаны и крайности в толковании мифа о Гамлете. Г. Крэг, ставивший «Гамлета» в МХТ у К.С. Станиславского, считал, что принц - не человек, это символ, некая идея. И вообще пьеса У. Шекспира не является реалистической. Не надо ее психологизировать, говорил он другу и оппоненту К.С. Станиславскому. Эта пьеса – про идею. Поскольку вообще все искусство только идея. Гамлет - не человек с силой и слабостью, а только символ. Если так, то обсуждать как бы и нечего. Да, конечно, «Гамлет» - это не купеческие пьесы Н.А. Островского. Да, его история - не про двор, не про дворцовые интриги, а про мысль Гамлета о жизни и смерти, про его падение и воскрешение. Но это совершал реальный человек! Весь пафос в том и состоит, что смертный человек сегодня может сидеть дома, в тиши и уюте, болтать о всякой всячине, попивать водочку, закусывая огурчиком, а завтра он же может висеть на кресте. И между этими двумя моментами - день, длиною в жизнь! Речь идет о том, что человек абсолютно реально попадает в метафизическую ситуацию запредельного испытания. ГУЛАГ и Освенцим тому свидетельства. И вопрос в том и состоит, что как возможно этому смертному существу выдержать «человеконесоразмерность» этой ситуации? И это делает один и тот же смертный человек. Сегодня он убоялся («так всех нас в трусов превращает мысль»), завтра - 203 возвысился. И это никак не связано с нравственной чистотой. Это предельное, онтологическое самоопределение, которое находится по «ту сторону добра и зла». А поэтому Гамлет, конечно, не идея. Но он и не просто живое существо. Гамлет - миф в том смысле, что это имя особого состояния человека, которое он обретает, попадая в экзистенциальную ситуацию (как он попадает в ситуацию Адама, Христа, Дон Кихота). Его не надо играть, его не надо узнавать, изучать. Ездить куда-то (как ездил в деревню изучать своих чудиков В.М. Шукшин). Гамлет в этом смысле нигде не живет и одновременно живет в каждом из нас. Но в особые минуты. В минуты онтологического ужаса и самоопределения. Ни в какой натуральной форме, готовой для примера и подражания, он не живет. К нему не примеришься. Единственная возможность понять Гамлета - это попасть в ситуацию Гамлета, открыться, дать волю страсти. Снять оковы души, открыть ворота души-тюрьмы. И вступить в новый возраст, обрести совершеннолетие личности. Кстати, Гамлет совершает скачок и в паспортном возрасте. У. Шекспир использует метафору внезапного взросления Гамлета. Об этом косвенно можно судить из его беседы с могильщиками. Они, кстати, в оригинале называются клоунами (clowns). Смысл здесь двойной. Во-первых, могильщиков в театре «Глобус» играли актерыкомики, чьи шутки должны были вызвать смех в зрительном зале. Во-вторых, шутка клоуна-могильщика - это мудрость шута при короне. Образ придворного шута, часто горбуна, урода, этакого мудреца-скомороха - известный символ в карнавальной культуре, используемый и У. Шекспиром (ср. также с шутом в «Короле Лире»). Гамлет-философ на спине у горбуна-шута – это уже фантастический символ. Тот самый бедный Йорик, придворный шут, умер 23 года назад по пьесе. Он таскал у себя на горбу мальчика Гамлета. Могильщик же работает с того дня, как родился Гамлет. Он здесь работает тридцать лет «I have been sexton here, man and boy, thirty years» [361, с. 108]. В то же время в начале трагедии Гамлет - юноша-студент. При этом видно, что в конце трагедии Гамлет выглядит гораздо взрослее. Некоторые специалисты предлагают это трактовать так. Точный возраст Гамлета надо понимать иносказательно. 30 лет - как вся жизнь. Как жизнь целого поколения. Гамлет перерос свой возраст, он старше своих сверстников. Между началом и концом трагедии - вся жизнь. Бедный Йорик, друг детства, умер так давно, целых 23 года назад. Прожита жизнь целого поколения. Поколения Гамлета. Это поколение уходит. Пора уходить и Гамлету. Но миф Гамлета остается. Философская беседа с клоуном-могильщиком - нечто вроде репетиции, подготовки Гамлета к смерти. А теперь вспомним вопрос, который мы задавали выше - чем отличается Гамлет от Лаэрта? Какая ситуация рождает Гамлета? Почему Лаэрт не стал 204 Гамлетом? Фактически это вопрос и про Сальери у А.С. Пушкина: почему он не стал Моцартом? Лаэрт, в отличие от Гамлета, не раздвоен. Он живет только в этом мире. Он сын, потерявший отца и сестру. Но здесь история его и заканчивается. История же Гамлета со смертью отца только начинается. Но начинается иная, мистическая, по выражению Л.С. Выготского. История второго рождения, культурного взросления. Гамлет взрослее Лаэрта. Точнее, он прошел цикл культурного взросления, осуществил акт перехода в иной мир. По той простой причине, что он взглянул в глаза смерти и принял вызов. А Лаэрт - нет. В этом смысле Лаэрт - человек без судьбы. Как и Ленский у А. С. Пушкина. Ему суждено было погибнуть. Причем погибнуть как самоубийце, как тому, который напрашивается на гибель. Лаэрт и Ленский напросились. Они нарывались. Гамлет просил прощения у Лаэрта и не хотел его смерти (свою же смерть он чуял и к ней шел неотвратимо). Евгений Онегин нарушил все писаные и неписаные правила дворянской дуэли (см. об этом в комментариях к роману у Ю.М. Лотмана). Но Ленскому не терпелось стреляться. И он получил пулю, потому что должен был быть убит, как должна была быть убита юность А.С. Пушкина. Она уходила. Приходила зрелость. Блажен, кто смолоду был молод, Блажен, кто вовремя созрел... Несмотря на свою физическую смерть, Гамлет пережил Лаэрта, поскольку оставил свою жизнь после смерти, свое второе рождение, себя второго, который победил страх. И тем самым победил забвение, которого всего более страшился. После смерти героя остается его миф. Остается миф о борьбе, но уже не просто с Лаэртом, а с более опасным противником, черным человеком. 205 2.4. Структура экзистенциального выбора. Материал историй про Адама и Гамлета нам необходим был для разговора про то, как устроен в нашей базовой схеме нижний этаж действительности культуры, этаж экзистенциального самоопределения (см. выше в главе 2, раздел 1 рис. 13). Выше мы пытались понять, почему происходит падения человека, отпадение его от цельного бытия? С. Киркегор объясняет это, как мы пытались описать, попаданием его в ситуацию Ничто и осознанием самой возможности быть, которая беспредельна. В этой ситуации обморока от возможности быть, то есть от осознания свободы воли, которая сопричастна Богу, и происходит падение человека. Тем самым корневой проблемой является здесь проблема свободы воли. У нас нет возможности подробно останавливаться на ней. Она сама является самостоятельной темой в мировой философии и богословии. Остановимся лишь на ряде базовых допущений, которые выдвигали разные авторы по поводу этой проблемы. Как понимал ее Августин, фактически первый поставивший проблему свободы воли [1; 151]? В онтологическом смысле по Августину бытие есть благо, будучи наиболее цельным и полным. Небытие же и порождает зло. Метафизической основой зла является неполное бытие, то есть несовершенство этого мира. А причиной неполноты вещей является то, что они сотворены из ничего. Ничто и есть фундаментальное зло, от которого производны и иные формы зла. Человек, сотворенный Богом, суть также несовершенное существо, а потому и наделено свободной волей. Он отклоняется от бытия, более полного – к бытию менее цельному и полному. Это отклонение от естества бытия становится возможным, потому что человеческая воля сотворена свободной, а также потому что она сотворена из ничего. Она вообще дарована человеку. Он ее имеет как дар. Но это отклонение воли по Августину не является неизбежным. Сотворение из ничего делает его только возможным. В свободе заключены корни и добра, и зла. Она таит и причину падения, и возможность спасения и возрождения. Поэтому Августин считал, что грехопадение было не необходимым, а лишь возможным. Действительным оно стало в результате свободного волеизъявления. Но в результате падения человек настолько пал, что самостоятельно возвратиться к изначальной божественной природе не в состоянии. Его воли не хватает для этого. Его воли хватает пасть. Но не хватает спастись. Поэтому возникла необходимость в божественной помощи – в благодати. Этим Августин отличается от Пелагия, который считал, что спасение человека является результатом индивидуальных усилий человека, его индивидуальной свободной воли (см. о споре Августина с Пелагием в [1]). 206 Выйдем теперь из богословия в философию, то есть в пространство чистой авторской мысли. Как ставил проблему свободы воли Р. Декарт? В поисках идеи Бога силою чистой мысли, он в своей четвертой «Медитации» сравнил познавательную способность со свободой выбора, которая зависит от свободы воли [83, т. 2]. Чем они отличаются? Познавательная способность будет расширять свои границы познанного мира. Но эти границы всегда будут. Эта способность всегда предельна и несовершенна. Она всегда зависит от средств познания, от его орудий. Наше познание всегда неполно и несовершенно. А свобода воли, хоть и не так совершенна, как божественная, но по сопричастности Богу, по формальным признакам, эта воля устроена во мне так же, как и у Бога. Я волен выбирать или нет, поступать или нет, принимать или не принимать. Я волеизъявляю не по внешнему принуждению, а свободно. И по этой причине я, будучи наделен свободой воли, причастен Богу, точнее признаю его бытие. И чем полнее это бытие, чем более Благости божественной, тем свободнее я, тем естественнее мой выбор. А выбор лежит в пространстве предпочтений между совершенством и несовершенством бытия. Чем я более несовершенен, тем труднее мне делать выбор, тем более я несвободен. Но по своему принципу свобода беспредельна в отличие от познавательной способности, которая всегда предельна. Воля беспредельна, а потому божественна. А вектор направления этой свободы воли задает естественный свет разума, свет идеи совершенного бытия, то есть Бога. Фактически Р. Декарт после крайнего сомнения и введения принципа cogito именно через полагание свободы воли и приходит к идее бытия Бога. Причем, приходит силой чистой мысли и откровения. Без мистических озарений и открытий, без экстазов и песнопений. А сидя в кресле у камина, закутавшись в теплый халат. А теперь рассмотрим эту проблему у И. Канта. Свобода воли понимается у И.Канта в пределах его антропологии (см. также во введении и в главе 1). Как природное существо человек по И. Канту детерминирован и объясним. Его действия как эмпирического существа можно предсказать так же, как и лунные затмения. Как существо свободное, человек суть вещь в себе, трансцендентно, находящееся за пределами чувственного и рассудочного опыта. Человек, свободно совершающий свободный моральный поступок, совершает акт самоопределения и совершеннолетия, независимо от чувств и желаний. Высшая форма свободы воли состоит в нравственном автономном самозаконодательстве разума, в следовании нравственным максимам свободной воли. Но будучи вещью в себе, свобода не доступна рассудку и чувствам. Она не доступна даже продуктивному воображению. На что я могу надеяться в таком 207 случае, вопрошает И. Кант? На веру. На моральную веру. На веру в нравственный свободный поступок человека, поступающего как свободное существо, не детерминированное ничем, кроме высшей нравственной максимы, полагаемой самим субъектом поступка (см. также в нашем введении о культурном возрасте как о возрасте свободы). Что объединяет всех названных авторов? То, что именно феномен свободы, переживание человеком этого феномена проводит его через горнило падения и возвращения к себе. Именно попадание человека в ситуацию свободы делает его одновременно существом сначала падшим, а затем сопричастным Богу. Тем самым ситуация онтологической свободы находится в центре проблемы экзистенциального выбора. И многое объясняет в историях Адама и Гамлета. Эти истории – как раз про эту проблему. Про проблему онтологической свободы. Теперь после небольшого исторического введения вернемся к ситуации Адама и Гамлета, к проблеме экзистенции. Переживание человеком в своей жизни ситуаций Адама и Гамлета есть экзистенциальное условие запуска процесса культурного развития. Последний, как уже было сказано, не задается в качестве готовой, натуральной формы. Культура выстраивается человеком на самом себе. Человек надстраивает на себе новое тело, тело личности. В чем заключается это выстраивание, что есть тело культуры, ее действительность предмет дальнейшего нашего изложения. А пока перейдем в метаплан и покажем, как устроена по принципу структура экзистенциальной ситуации, материалом для которой могут быть разные истории, описанные в культуре и ставшие сценариями (то есть мифами) – про Адама, Гамлета, Иисуса Христа, Эдипа, Иова, Дон Кихота (см. в наших работах об этом [273; 282; 284]). Итак, исходно, при первом рождении человек рождается с онтологической интенцией, онтологической жаждой жить, быть, жаждой состояться в этой жизни. Она неизбывна и не может оцениваться как нечто положительное. Это то, что есть. Это желание не связано с каким-то субъективным усилием и волением. Эта онтологическая жажда распадается на ряд онтологических желаний, о которых знали еще авторы Нового Завета. Иисус Христос искушался хлебом, миром (общение с людьми) и любовью. Затем между хлебом и свободой выбирал Великий Инквизитор у Ф.М. Достоевского. В психологии эти потребности получили название онтологических (см., например, в работах А. Маслоу [165; 166]). Самая нижняя онтологическая потребность – это желание «хлеба», витальная потребность. Это начало – желание иметь. Человек испытывает естественное желание, витальную потребность жить, то, чего хочет любое натуральное, смертное существо. Проще говоря, это потребность в воспроизводстве себя как физического существа. 208 Вторая онтологическая потребность - потребность социальная, сугубо человеческая потребность состояться среди себе подобных, жить в сообществе людей. Эта потребность реализуется в двух исходных версиях - как мужская и женская. Данная потребность состоит в стремлении найти свои формы социальной идентичности, в желании состояться как социальное существо. Третья потребность, самая удивительная и сложная - «божественная», т. е. потребность родиться второй раз, потребность состояться как культурному, свободному существу. Это потребность в свободе, от которой человек падает в обморок, но в которой он хочет быть (не иметь!). С точки зрения материального, натурального существования третья потребность необъяснима. Но она всякий раз актуализируется. Эта актуализация происходит тогда, когда человек попадает в ситуацию Адама, ситуацию искушения онтологической свободой. Итак, изначальная интенция человека «быть» воплощается в базовых онтологических потребностях. Но они вступают друг с другом в противоречия, с которыми человек, не имеющий опыта культурного рождения, не может совладать. Эти потребности человеку просто даны как вещи, как объекты для имения. А материал жизни дан как материал для траты, для потребления. Человек не имеет от первого рождения выработанный культурный орган развития, новый «функциональный орган». Но он уже испытывает от первого рождения все онтологические потребности. Он хочет, он желает. В результате он попадает в ситуацию обморока, максимальной возможности быть. Он считает, что мир его, что его можно брать и тратить. Он относится к миру как подросток, как неумеха. Но он быстро понимает, что мир не его, он сопротивляется. Мир не вещь, его нельзя взять. Тем более, в мире таких «подростков» много. И все хотят. Все испытывают жажду желания. Реальный социальный горизонт слишком узок и беден, чтобы предоставить каждому человеку сию же минуту полноту онтологической реализации и удовлетворения всех онтологических желаний в их полном объеме. Тем более при отсутствии культурных органов человек эти желания стремится удовлетворить обязательно в агрессивной форме, за счет других, считая, что он самый достойный. Грубо говоря, человек попадает мордой в грязь. В итоге человек понимает, что на самом деле он – Ничто. Он НИЧТОжен. От осознания своей онтологической ничтожности человек впадает в страхи и пытается как-то свою пустоту и ничтожность заполнить квазизаменителями полноты жизни. Не успев повзрослеть, он ввергается в страхи и страсти. Ими он пытается загородиться от своего страха перед собственной ничтожностью. Обозначим принципиальную схему экзистенции (см. также об этом в наших работах [273; 287]) (рис. 19). 209 Страх Интенция быть Страсть Онтологические Точка экзистенциального Вилка потребности испытания и раскола падения Рис. 19 В натуральной реальности, в которой человек дан как эмпирическое существо, все базовые потребности не могут быть полностью реализованы. Нет ни сил, ни опыта. И социальная ситуация не позволяет этого – она слишком узка, всегда не полна. Горизонт ее всегда узок по сравнению с онтологическими потребностями. В ситуации предварительного онтологического имения, то есть дара жизни, человек не задумывается о том, что он еще Ничто. Он имеет онтологические потребности. Он ими живет. И они им движут. И его еще нет как существа активного и культурного. Но попадая в ситуацию реального социального горизонта, в котором хотят и жаждут миллионы, человек испытывает дефицит имения. Ему всегда будет не хватать того, что он хочет. Мир для вкушения и потребления принципиально пределен и конечен. В этом мире сам человек конечен и ущербен. И человек расщепляется, не в силах справиться с собственной НИЧТОжностью и со своим страхом перед ним. В такой ситуации он пытается реализовать потребности в превращенных формах, которые одновременно выступают и как формы защиты, укрывающие человека от Другого, который заподозрит его в том, что он не настоящий, что он в страхе и страсти, что он падший и ущербный. Защита от всего, прежде всего от себя, появляется при возникновении этой трещины между мною и иным, другим, чужим. В этой превращенной форме мое Я - не действительное, а капризное и слабое, нуждающееся в помочах. И другой также не действительный Другой, не моя действительная половина, делающая нас цельным (и исцелившимся) существом, а Чужой, угрожающий и также страшащийся. Этот другой такой же потерянный и падший, не родившийся заново Адам. В антропологии М.М. Бахтина эта тема Другого является сквозной (см. выше в главе 1). Выход в преодолении синдрома Другого как Чужого видится в одном – в пути как поиске формы, в построении культурной формы произведения личности, набросками которой являются тексты. В Пути к сопричастности к Богу, главному Автору бытия-события, на фоне которого в соавторстве с ним я выделываю себя иного и преодолеваю и выдерживаю смертный поединок с черным человеком. И в этом, пишет М.М. Бахтин, мое отпущение и благодать. В этом поиске формы я как 210 бы вырезаю на материале жизни облик своего культурного тела, прорисовываю свое лицо. Но сначала я выделяю из себя, отделяю от себя этого Другого. И в этом заключается еще один парадокс. Я, будучи смертным существом, одержимый Другим, как-то умудряюсь сделать шаг к этой благодати, то есть бросить вызов этому черному человеку, вступить с ним в смертный поединок. В этой архитектонике события, то есть борьбы и диалога Я и Другого, выстраивается весь универсум личности. Этот универсум выстраивается по законам культурной формы, формы произведения. Это художественное событие свершается между я и другим. И внутри этого события нет границы между жизнью и искусством. Эти формы сливаются в единое бытие-событие. Фактически тексты автора становятся иным другим, телом культурным. Это уже иное отражение мое. Так, к примеру, и А.С. Пушкин выяснял отношения со своим черным человеком. Именно его художественные формы помогали ему одерживать в этом поединке победу (см. подр. нашу работу [282]). Так боролся со своей астмой М. Пруст. Так пересиливал свою эпилепсию Ф.М. Достоевский. Но пока Адам, «первый человек», то есть в нас сидящий от первого рождения первый человек, попав в ситуацию первого онтологического самоопределения, не выдерживает его и распадается на разные части, на ущербные половинки, на страшащуюся и страстную. Человек защищается либо авторитетом, силой, всяким Чужим (причем это страх другой, не тот первый онтологический ужас, а страх уже убоявшейся натуры, уже потерянной и падшей; это не творческий первый ужас, полезный и необходимый, который надо научиться держать, как боксер учится держать удар), либо страстью, похотью, удовольствиями. То есть происходит защита «верхом» или защита «низом». Это одинаково формы падения, потери себя. В этой абсурдной ситуации раздвоенности и ущербности и живем мы все, эмпирические, смертные натуры. Поэтому причина рождения культуры одна спасение человека. Его действительное второе рождение. Его действительное просвещение (см. введение). Осуществить просвещение, встать в «просвет бытия», превозмогая Ничто, - это то, что сначала страшит, но что потом преодолевается и делает цельной экзистенцию человека. Почему для нас важно понятие existentia? По М. Хайдеггеру, «сущность присутствия заключена в его экзистенции» [338, с. 31]. В этом понятии содержатся четыре момента. 1. Экзистенция обозначает собой «здешность», «тутошность» существования человека, его живость и реальность, его неустранимость. 2. Одновременно экзистенция - это полное существование, цельное, не раздельное, не расчлененное. В противном случае человек переживает 211 экзистенциальную болезнь неполноты и ущербности. Это воплощается собственно в психических расстройствах, неврозах и даже физических недугах. 3. Экзистенция - предельное существование, оно обозначает базовые онтологические характеристики человека, его глубинную архитектонику. Структура экзистенции и есть структура личности. 4. Экзистенция имеет культурное происхождение, она выстраивается, выделывается в долгой практике культурного развития. Много писал об экзистенции М. Хайдеггер. Но необходимо отметить, что он не показал, как устроена структура экзистенции, как ее можно предметно помыслить и как происходит ее культурное строительство. Тем самым мы пришли к главному содержательному вопросу - помыслить о бытии, превозмогая небытие, и есть рождение собственно философии, «первой философии», «ί», или метафизики (по Аристотелю). В свою очередь мысль о бытии есть всегда акт спасения. Это всегда тот самый «прыжок», переход в иное состояние, состояние более полного бытия. А этот акт есть всегда акт культурный, или собственно культура. П. Тиллих называл это «мужеством быть» («the courage to be»), понимая мужество не как волевое усилие, а онтологически, как «самоутверждение человека в бытии» [304]. Самоутверждение вопреки небытию, преодоление небытия, которое является составной частью бытия. П. Тиллих это состояние называет превозмоганием экзистенциальной тревоги того самого ужаса перед Ничто, о котором говорил С. Киркегор. Речь идет о тревоге («anxiety») не как об абстрактном знании о небытии и не о психологическом переживании какого-то страха (высоты, темноты и проч.), а о проживании и изживании собственной конечности, собственного небытия, которое уже задано в твоем бытии и от которого никуда не уйдешь. С этой тревогой нельзя бороться привычным способом, пишет П. Тиллих. От нее каменеешь и немеешь (падаешь в обморок), поскольку она присуща самому существованию. Небытие внутри бытия. У обычного страха есть объект. Его можно победить, побороть, сделать предметом анализа. У тревоги нет такого объекта. В качестве единственного объекта здесь выступает сама тревога, само Ничто. Сосредоточиться человеку не на чем. Поэтому человек теряет ориентировку [304, с. 31]. Отметим, кстати, что и П. Тиллих, и Р. Мэй, чья работа «Смысл тревоги» («Meaning of Anxiety») вышла в 1953 г., на следующий год после работы П. Тиллиха, восприняли проблематику страха и тревоги от М. Хайдеггера времен его работ по метафизике [180]. Тот, в свою очередь, воспринял проблему от С. Киркегора. В свое время Э. Гуссерль признался своему другу и оппоненту Льву Шестову, что идеи М. Хайдеггера - это переложенный на язык гуссерлианства С.. Киркегор [362, с.240]. Мы не будем подробно анализировать работы данных 212 авторов. Это отдельная тема - экзистенциальный анализ в неклассической антропологии и новой психотерапии. Оставим это для особого разговора (см. работы Л. Бинсвангера, Р. Мэя, М. Босса, Дж. Бьюдженталя по экзистенциальному анализу и экзистенциальной психотерапии [21; 22; 26; 32; 179; 180; 186; 187; 252; 406]). Тем не менее, отметим, что Л. Бинсвангер был первым, кто в свое время сумел положить в основы терапии душевных болезней необходимость мыслить о бытии и постигать Dasein [21; 22; 186; 187; 252]. Он строил терапевтическую антропологию. Вопрошание о том, что есть человек в мире и в истине, становится необходимой частью терапии исцеления. Вместо метапсихологии З. Фрейда экзистенциальные аналитики предложили философскую антропологию. Л. Бинсвангер показал возможность использовать понятия бытия и времени М. Хайдеггера в клинической психотерапевтической практике и дал первую формулировку экзистенциального анализа как философского фундамента психотерапии. Пафос Л. Бинсвангера состоял в том, чтобы описать человеческое существо в его цельности. Смысл исцеления заключался для него в расширении онтологических горизонтов, трансцендировании и заботе человека о всех трех модусах бытия, в которых пребывает человек. Это бытие в мире вещей и объектов (Unwelt), бытие среди людей (Mitwelt), бытие в собственном мире (Eigenwelt). Психологическая болезнь в этом смысле заключалась в расщеплении этих миров и в сужении онтологического горизонта, в утрате цельности и полноты бытия, в онтологической пустоте. Трансцендирование за собственные пределы становится у него главной характеристикой психического здоровья. Вслед за ним Р. Мэй, а также М. Босс, а позже И. Ялом, Дж. Бьюдженталь стремились совместить реформированный психоанализ З. Фрейда с идеями С. Киркегора, прочитанного через призму идей М.Хайдеггера. Плюс к этому они пытались использовать некий синтез идей Л. Бинсвангера и теологии П. Тиллиха. Причиной падения человека Р. Мэй считал его онтологический эгоизм, отделение от Бога. Следование христианскому учению становится главным условием исцеления человека. Иисус Христос выступает у него главным целителем-терапевтом человечества. Главное в терапии заключается в открытии личностью своего бытия, своего Dasein. Существо процесса терапии составляет оказание помощи пациенту в осознании и испытании им своей экзистенции. М. Босс главной целью терапии считал обучение людей открытости. Речь должна идти не о бессознательном, как считают психоаналитики, не о бессознательных влечениях, а о том, что горизонт сознания заужен. Необходимо его раскрыть, расширить видение мира, раздвинуть горизонт. Главным принципом становится полная открытость. Необходимо учить пациента снимать барьеры закрытости. Исходно человек открыт, он существует в бытии. Но потом он начинает возводить барьеры. Снятие же барьеров возможно при условии бытия как 213 есть. Обретение утраченного онтологического естества помогает человеку быть. Невротику мешают барьеры, которые устанавливаются из-за социальных норм и правил, которые суживают горизонт. Надо сказать, что попытки построить психотерапию на основе фундаментальной онтологии М. Хайдеггера этими авторами были достаточно декларативны и идеологичны. Это отмечал ранее А.М. Руткевич [252]. Тем не менее, заход был верен и впоследствии плодотворен. Заход этот заключался в том, что вопрошание о своем бытии может стать для человека главным условием его экзистенциального исцеления. А практика философствования в этом случае является формой этого исцеления, а не неким занятием интеллектуалов. Теперь вернемся к П. Тиллиху. Переводя его язык на язык нашей трактовки истории Адама, скажем, что тревога - не просто боязнь чего-то, того же небытия, которое при желании можно как-то объективировать. Это ужас от осознания неспособности справиться с этим небытием, или, что то же самое, от возможной неспособности состояться в бытии. Это и есть ситуация Гамлета - «так всех нас в трусов превращает мысль...». Мысль-боязнь «той страны, откуда ни один не возвращался». Это боязнь неизвестности после смерти. Это ужас от допустимости адовых мук вечной смерти. Страшит даже не просто конечная смерть, кончина, а небытие после смерти, или невозможность действительного второго рождения. Такова тема его монолога «Быть или не быть». Кстати, в тексте У. Шекспира стоит слово «dread», обозначающее ужас - «когда б не страх чего-то после смерти» («but that the dread of something after death») [361, с. 69]. «Dread» ближе по смыслу к ситуации Адама по С. Киркегору, оно обозначает тот самый ужас, от которого немеешь и падаешь в обморок. От него чуть не сошел было с ума Гамлет. «Anxiety» П. Тиллиха и Р. Мэя означает уже тревогу, некое постоянное беспокойство о себе, заботу о своей экзистенции, некий шаг за пределы ужаса от небытия. Понятно, они взяли понятие у М. Хайдеггера - «Ängst», немецкий вариант. У С. Киркегора было также два варианта (в немецких переводах, которые читал М. Хайдеггер) - «Furht», страх, от которого немеешь, и «Angst», тревога, забота о себе, падшем. Итак, еще раз. Речь идет не об устранении тревоги, а о том, чтобы уметь ее изживать, учиться страшиться, всякий раз вновь возрождаясь, творя себя заново. Не будем подробно пересказывать интересную (но спекулятивную, точнее, схоластическую) диалектику П. Тиллиха. Отметим, что он выделяет три типа тревоги, или три типа угрозы небытия бытию: - угроза онтологическому самоутверждению человека (в виде судьбы и смерти); - угроза его духовному самоутверждению (в виде пустоты и отсутствия смысла); - угроза его нравственному самоутверждению (в виде вины и осуждения) [304, с. 33-34 и др.]. 214 С указанными типами угроз связаны и три типа тревоги - онтическая, духовная, нравственная. В итоге П. Тиллих признает, что онтология говорит языком аналогий. Мол, буквально понять самоутверждение в бытии нельзя. Заканчивает он тем, что приходится уповать на веру, которая также понимается онтологически как «состояние захваченности силой самого бытия». Вера есть «опыт этой силы» [304, с. 120]. В таком случае Бога никакого не надо. И П. Тиллих делает вывод о вере в Бога без Бога, о «Боге над Богом». Эту религию без Бога ранее предложил и другой богослов, представитель новой теологии, Д. Бонхеффер [25]. П. Тиллих решается на отказ от теистического Бога. Мужество быть и есть преодолевание, радикальное сомнение в теистической идее Бога. Теизм во всех формах «трансцендируется в опыте безусловной веры». Она есть «принятие приятия» при отсутствии кого-либо или чего-либо. То есть отказ от любого центра и иерархии. Приятие происходит от самого бытия, а не от человека, мира или Бога. Силу бытия невозможно описать на языке, которым осмысляется Бог теизма всех типов [304, с. 129]. Таким образом, мужество быть способно принять в себе тревогу лишь при условии, что трансцендирован сам Бог теизма. Такое мужество понимается как Бог над Богом. Остановимся на этом. Приходится признать, что в пределах богословия проблему экзистенции человека в принципе решить невозможно. Она решаема в рамках широких культурных практик построения целостных человеческих структур, не только практик религиозного откровения, но и практик философии и искусства. Хотя начало у П. Тиллиха принципиально и нетривиально. Проблематизировать теолог еще может, но решать не может. Поскольку экзистенциальная проблема лежит за пределом не только конфессии, но и даже просто индивидуального опыта любого человека. П. Тиллих остается проповедником. А проповедь имеет четкую границу - границу призыва без действия. Действительно, где источник спасения? Догматика, пусть и в форме новой теологии, - все же такая же натуральная форма. Ведь этот онтологический ужас задан в самом моем бытии, разрывает мое бытие на страхи и страсти. И ничто в этой реальной, данной мне жизни этот ужас сам по себе не заглушит, не снимет ни новая религия, ни уловки хитроумного сознания. Готового инструмента борьбы с ним нет. Никто ничего не даст, поскольку небытие это – мое. Смерть - личная вещь, она только моя. Умираю я сам, за меня никто не умрет. Каждый умирает и возрождается сам лично. Поэтому надо раздвинуть горизонт личного до онтологического, до метафизических горизонтов, помыслить само бытие. Пронизывание бытия мыслью как поступком, как авторским актом (а не интеллектуальной операцией) может спасти меня от метафизического ужаса, а значит, спасти по принципу. 215 Именно идею раздвигания онтологических горизонтов использовали в своей психотерапевтической практике экзистенциальные психотерапевты Л. Бинсвангер, Р. Мэй, М. Босс. Поэтому экзистенциальное усилие - это не интеллектуальное усилие, и не волевое, не аффективное, и не зов бессознательного. Это усилие всей экзистенции, состояние открытости бытию и небытию. Поэтому это усилие нельзя совершить телом, мозгом или как-то или чем-то еще. Моя натура, моя натуральная, унаследованная психика не может выдержать экзистенциального напряжения. Для данного усилия нужен особый культурный орган, специально создаваемый, мною выращиваемый. Он выстраивается в особой работе, в особых культурных практиках. Из отечественных философов про это выделывание культурного органа постоянно говорил М.К. Мамардашвили. Но он не был теологом. Он был философом. И пытался описать акт спасения на примере экзистенциального исследования Пути спасения М. Пруста (и своего собственного, впрочем) [152]. Для М.К. Мамардашвили роман М. Пруста - не просто литературный жанр. Это средство спасения. Такое специальное средство, помогающее человеку выбираться из ситуации немощи и абсурда. Попадая в эту ситуацию, человек изобретает некую «машинку», которая по мере ее создания помогает решать экзистенциальную проблему выхода из небытия. Такого культурного средства нет ни в первой природе, ни в социуме, ни в моем теле. Мир романа создается неким чудодейственным способом, как бы из ничего. Понятно, что М.К. Мамардашвили не пересказывает сам роман, не толкует его. Он пытается понять опыт исцеления самого М. Пруста. Исцеления буквального. Он в процессе написания романа спасался от своей астмы, которая его душила. При писании романа в нем самом формировался новый Марсель Пруст, само произведение по имени «Пруст», не тот эмпирический автор, к которому привык читатель, а автор как культурное произведение, создаваемое самим романом. Тем самым роман становится таким культурным орудием или новым функциональным органом, которого нет в теле М. Пруста, но который становится структурой неорганического тела, тела личности. Таким образом, как философия, так и искусство, выступают в качестве специально организованных и осуществляемых практик душевной работы по спасению. Произведение искусства - это специальный организм, та самая культурная форма, благодаря которой человек, автор этой формы, двигается по колодцу своей души. Это такой специальный орган по выделке культурной формы. На этом Пути спасения человек проделывает особую работу выстраивания новой неорганической структуры, структуры личности. Философские и художественные тексты на этом Пути - это треки, следы, запись смертного Пути, крестного хода (о понятии личности, культурном органоне см. в главе 3, раздел 3.). 216 Тем самым «первая философия» есть терапия личности, есть путь излечения и исцеления. Тексты философа - это записи болезни и исцеления, треки-следы от шагов на этом пути, стигматы на его ладонях. Тем самым, говорит М.К. Мамардашвили, М. Пруст восстановил декартовский принцип «cogito», т.е. введение «Я» мыслящего как живого существа, достоверность которого и есть единственная истина [152, с. 335-337]. Cogito это принцип включения в мир через акт живого существования в акте мысли. Но это живое состояние в акте мысли не может быть удержано тем, что дано мне от родителей или от среды. Это состояние может быть удержано специальным органом, производящим произведением, той самой структурой романа. Не произведением как просто текстом, в котором что-то описано, что-то изображается. А произведением, которое внутри себя содержит главное произведение - личность по имени «Пруст». Это существо по имени «Пруст» рождается внутри романа. Это существо и рождалось в процессе писания романа. В этом существе, культурном произведении, человек и возрождается второй раз. Тем самым М.К. Мамардашвили восстанавливает античный смысл понятия искусства как «технэ» (έ), как мира творения, которое совершается всякий раз заново [152, с. 531]. Человек, становящийся на путь в неизвестную страну, путь из темноты, становится демиургом, творцом. Мир творится действительно через эти культурные акты-прецеденты, акты творения. И он, этот мир, удерживается не натурально, не материально в готовых, натуральных формах. Ведь мир - не только и не столько внешняя природа, деревья, небо и земля, здания, реки, города и проч. Мир это мир актов творения. Только на них он и удерживается. На демиургахтворцах, на «костях» этих искупительных, исцеляющих структур. На артефактах, устройствах, специально созданных для трансмутации, трансформации, для процесса, в котором происходит метаморфоз индивида, «превращение героя», перевод его в действительное «участное» бытие субъекта развития. Сами эти акты невозможно насадить на некие натуральные формы. Культурное состояние не есть нечто, присутствующее само по себе. На это постоянно указывает М.К. Мамардашвили. Нет готовых актов, нет готовых, условно говоря, «высоких» объектов, «добрых», «злых», «духовных» и проч. Об этом мы уже говорили выше по поводу Адама. Мы можем передать нечто как доброе, проимитировав это доброе и эту передачу по аналогии передачи вещи. Понятно, так в обыденной жизни и делается. Мы передаем слова, настроения, благие намерения и т. д. Но метафизический акт спасения не передается. Поэтому можно передать «квази», «псевдо», некую «гримасу», можно передать действительно только вещь и не что иное, как вещь. Мы привыкли, не совершая ничего, не делая усилия над собой, не преодолевая синдрома Адама, маркировать вещи, явления, людей, события в категориях высшего порядка. Но понятно, что это только превращенные формы, которые, впрочем, вполне объективны и надиндивидуальны. 217 В то же время в обыденной жизни люди страдают опасной манией - наделять друг друга готовыми культурными качествами (добрый, умный, культурный и проч.). Особенно это характерно для русской ситуации. У нас если поэт, так обязательно совесть народная («поэт в России больше, чем поэт»). Философ обязательно умный и немного сдвинутый. Учитель - обязательно добрый, бескорыстный. У нас любят говорить о мессианстве русского народа, о русской идее, русской душе. То есть на самом деле говорят о готовых неких иррациональных формах, отчужденных от конкретных носителей, от когда-то осуществленного прецедента спасения. Вся русская литература заражена этой магией натуральной формы. Евгений Базаров у И. С. Тургенева говорил, что «человек хорош, обстоятельства плохи». Это сакраментальное «среда заела» тянется через всю гуманистическую традицию русской прозы, как художественной, так и философской. Эта зачарованность натуральной формой породила потом и 1917 год. Так натуральное, идеологическое сознание маркирует мир и людей. Мир изначально либо добрый, либо злой. И люди как бы изначально добрые и злые, плохие и хорошие. И культурные качества превращаются в некие самостоятельные субстанции - дух, власть, красоту, добро, совесть и проч. Со мной-то все в порядке, а вот мир надо спасать. Мир злой и порочный, погряз в грехе, а я тут как бы и ни при чем. Разговоры об ущербном мире, о порочности бытия порождают ту самую бесовщину, тот самый большевизм. От благих намерений спасти мир, а не себя, рождаются бесы. Забывается при этом, что спасать надо себя, из своей темноты выходить. «В поисках утраченного времени» нет готовых, натуральных форм. Есть мир «личных вещей». К нему относятся такие «личные вещи», как смерть, понимание, мое спасение, как говорил М.К. Мамардашвили. Каждый умирает сам. За меня никто не умрет. И понимаю я сам. И исцеляюсь я сам. Есть моя тьма, из которой я выхожу. Таких личных вещей немного. Все остальное - мир натуральных вещей, которые можно передать, но в превращенной форме. О проблеме превращенных форм, поставленной К. Марксом, мы уже говорили. Здесь же еще раз зафиксируем идею двух миров, соседствующих друг с другом, мир экзистенции и мир превращенных форм. Сначала, как было сказано выше, человек переживает ситуацию падения. Затем он совершает попытку исцелиться. Результатом актов исцеления являются специальные культурные орудия, артефакты. Они объективируются и выводятся во внешний мир, предъявляются для других людей и новых поколений как готовые формы. Такое опредмечивание и овнешнение предыдущего экзистенциального опыта создает целый мир превращенных форм, скрывающих потаенный опыт. 218 Возникает ощущение «готовости» и вещности такого опыта, ощущение, что его можно просто взять, поиметь (тот самый синдром Адама). А между этими двумя мирами как бы и нет отдельного мира. На самом деле, конечно, есть. Есть тот самый мир действительности культурного развития, мир содержательный и деятельностный, в котором культура как действительность только и существует. Мир, в котором человек пребывает как действительное деятельное существо и как действительно культурное. В этом мире снимаются крайности первого и второго, экзистенции и превращенных форм. Сама по себе страсть исцелиться, плач по спасению мало что значат. Если это экзистенциальное состояние ужаса перед небытием не приводит к содержательной деятельностной работе по выстраиванию культурных миров, то этот ужас из нормального творческого начала переводит человека в шизоидное состояние бесконечной невротической тревоги. Человек становится вечным психотиком. Впрочем, такой образ человека и рисуется, как правило, в постмодернистской философии, поскольку лозунг «человек умер!» уже провозглашен. А последнее неизбежно происходит после смерти Бога (см. интересную и спорную работу А.П. Огурцова о постмодернистском образе человека [194]). Об этом писал и П. Тиллих. Мало страшиться и всякий раз писать о порочности и абсурдности нашего бытия. Этим грешат многие беспочвенники-философы. В лучшем случае такой философ осуществляет терапию себя. И создает иллюзию исцеления. Но осуществляется ли само культурное строительство? Выгодно от них отличается Л.С. Выготский, прошедший полный круг культурного цикла. Но это тема отдельного разговора (см. специально нашу работу о Л.С. Выготском [275]). Итак, необходимо построить такое конфигуративное понятие о всех трех мирах культуры, которое дает представление о действительности культуры: мир экзистенции, мир превращенных форм и мир между ними, мир культурного развития, внутри которого и происходит строительство тела личности в процессе культурного развития. Первый мир есть мир первого онтологического самоопределения человека, мир падения и становления на путь спасения. Мир, в котором фиксируется точка экзистенциального разрыва на страхи и страсти. Это мир падения и начала второго рождения. Мир Адама и Гамлета, мир индивидов, в котором рождаются их культурные герои, Адам и Гамлет. Второй мир есть мир превращенных форм, готовых натуральных форм. Это мир, в котором предыдущий мир актов спасения кажется представленным в актах натуральных, как вещи - в артефактах, книгах, картинах, домах, нормах, правилах, морали, канонах, ритуалах и проч. Это мир, в котором культура как бы закодирована. Ее предстоит декодировать, расшифровать, осуществить практику 219 распредмечивания, снятия отчужденных форм, овладения ими и через них самим собой. Если вернуться к нашей схеме экзистенции, то между планами падения, между страхом и страстью необходимым образом выстраивается пространство снятия этих форм падения, преодоления страха и страсти, пространство личностного строительства (рис.20). Страх Феномен личности Точка разрыва Страсть Рис. 20 Тем самым выстраивается третий мир - собственно мир культурного развития, результатом которого становится феномен личности, осуществляющей с помощью культурных средств образовательную практику выстраивания себя как неорганической целостности. К анализу архитектоники личности мы перейдем в главе 3. Но прежде нам необходимо описать устройство срединного мира культурного развития. К нему мы и переходим. 220 5. Действительность культурного развития Онтологический крест. Чтобы положить рамку действительности культурного развития, необходимо начать с исходного пункта – выкладывания базовых, предельных категорий, с помощью которых далее можно разворачивать всю действительность культурного развития. Мы полагаем, что в качестве таковых выступают категории, фиксирующие отношения человек и мир, искусственное и естественное. Рассмотрим эти отношения. 1. Человек и мир. Сама идея мира относится к одной из самых фундаментальных интуиций человека, согласно которой человек допускает наличие заданного, предзаданного объективного нечто. Мир есть. Бытие есть. Это начало беспредпосылочно и безусловно. Это некое совокупное Всеобщее, включающее в себя все многообразие целого предметного мира. От этого посыла распространяются и иные его дериваты (типа «мир человека», «мир искусства», «мир кино», «мир Пушкина»). В сущности, эта пара означает антропологизированный вариант главного вопроса философии «Что такое человек?». Это та же пара бытие - сознание, но только рассмотренная через антропологическую призму. Этой парой ставится исходная проблема, задающая два вектора всех остальных вопросов: человек и его рефлексия по отношению к себе, всевозможные коннотации по поводу разных видов отношений к миру. Это, что называется, первая, горизонтальная, онтологическая ось. По этой оси можно выделить две противоположные друг другу тенденции, порождающие эту ось. Чем ближе к полюсу «человек», тем более выражен момент субъективности, отдельности, индивидуальности, так называемой человечности, к которой любит апеллировать обыденное сознание. Чем ближе к полюсу «мир», тем более выражена тенденция объективации, «овнешнения» (в отличие от «овнутрения» - к этому слову наш язык еще не привык). Тем самым можно выделить две тенденции, порождающие данную ось (рис. 21). «Овнешнение» или объективация Человек Мир «Овнутрение» или субъективация Рис. 21 221 2. На горизонтальную ось накладывается вторая, вертикальная, онтологическая ось: отношение искусственное - естественное. Это одна из базовых онтологически укоренных понятийных пар в истории европейской мысли: от полюса естественного к полюсу искусственному. Эта пара показывает вектор движения человеческой цивилизации. Аристотель в «Физике» определяет, что «из существующих [предметов] одни существуют по природе, другие – в силу иных причин» (В 1, 192 в 8-17) [5, т. 3]. То, что довлеет к естеству, то имеет причину в самих себе, иначе, оно есть как есть (естество, «естина», как писал о. П.А. Флоренский). Чем дальше от этой точки «есть», тем ближе к искусственному полюсу, то есть производному, сделанному, к тому, что не есть само по себе, а что полагается сделанным, производным от человека. И сама эволюция человечества построена таким образом – от все более естественного ко все более искусственному. Эта пара задает собственно момент культуры в отношении человек - мир. Чем ближе к полюсу естественного, тем больше выражена тяга к материи, к материалу, к стихии, к натуральному, первозданному. Чем ближе к полюсу искусственного, тем более выражены моменты внедрения человека в стихийный, первозданный материал, моменты сделанного, технического (в смысле «έ»). Тем более выражена тенденция управления со стороны человека миром, природой, собой (всяким материалом, стихией, страстью). По этой оси откладывается степень артификации, или «оискусствления» материала, выделки его в культурную форму. И обратно - по этой оси идет процесс «оестествления» или натурализации культурных форм, артефактов. Тем самым мы выделяем здесь две тенденции - артификации и натурализации (рис. 22). Искусственное Натурализация или «оестествление» Артификация или «оискусствление» Естественное Рис. 22 Эти предельные понятийные пары положены для организации мира как порядка, космоса, то есть порядка мысли человека. Речь идет не о противопоставлении человека и мира, а о различении планов и этапов постижения мира и становления человеческого универсума. Налагая обе оси друг на друга, мы получаем то, что условно назовем «онтологическим крестом». Этот крест будет выступать у нас схемой-принципом, 222 с помощью которого мы сможем построить действительность культурного развития. В точке пересечения осей находится (обнаруживается) та самая мера бытия, исходное Единое Платона или «Самое Само», как писал А.Ф. Лосев, еще не расколотое, не растасканное, не раскрученное Бытие, цельное, целокупное и целомудренное (рис. 23). Искусственное Человек Мир Единое, Самое Само Естественное Рис. 23 Данный онтологический крест выступает формой, каркасом для построения модели культурного развития человека, а не для утверждения того, что так мир устроен на самом деле, и что человек и мир разделены. Крайние точки этих двух осей – это стяжки, точки, инстанции, между которыми происходит развертывание всего многообразия миров культурного развития человека (см. также работы В.П.Визгина, В.В. Бибихина о возможных мирах [20; 48]). Эти оси могут двигаться вверх или вниз, вправо или влево, ближе или дальше к тем или иным полюсам. Тогда мы можем говорить о разных эпохах культурного развития. В пределах указанных четырех точек образуются миры культурного развития. В каждом из миров предельный горизонт задается онтологической идеей. Между полюсом «естественное» и «человек» образуется мир мифа. Между полюсом «искусственное» и «мир» образуется мир деятельности или искусственнопроектный мир. Между полюсом «естественное» и «мир» образуется мир природы или мир естественно-научный. Между полюсом «искусственное» и «мир» образуется мир техники. Отмечу, что несмотря на сопряженность понятий «естественно-научный» и «природный», их необходимо разводить. Например, мы говорим, что есть природа человека, природа мышления. В данном случае речь идет об онтологической идее Природы, а не о субстанции природы периода Нового времени (см. также у А.В.Ахутина [8]). Подробнее мы рассмотрим этот вопрос в главе 3. Итак, после анализа экзистенциальной ситуации человека мы делаем вывод: раскол уже осуществился и этот раскол повторяет каждый человек, появляющийся 223 на свет (тот самый первородный грех). В таком случае исходная точка Единое, или Самое Само, осталась как мечта. К ней человек больше никогда не вернется. На языке христианской мифологии она останется метафорой утраченного рая. Человеку же ничего не остается, кроме как всякий раз заново пытаться вернуть утраченную целостность, цельную мудрость, т. е. действительное бытие. Через такую же работу каждому индивиду предстоит обретать «бытие личности» (ó стремясь к Единому как к первоисточнику и изначальному ориентиру. По сопричастности этой точке будут потом строиться и все остальные действительности культурного развития, все миры, которые, как видно из рис. 23, будут располагаться в четырех образовавшихся секторах между онтологическими осями. Начало начал культурного развития - эта точка Единого, являющаяся одновременно точкой первого разрыва и падения и точкой первого шага возрождения и воскресения (άά и άά Вспоминая наш разговор об Адаме, мы возвращаемся к этой исходной точке, точке экзистенциального разрыва. Только тогда мы ее не ставили в центр онтологического креста. Теперь мы соединили два мира, две части культуры действительность культурного развития и момент Первоначала. Мы заглянули внутрь круга, обозначенного на рис. 20, и пока пустого. Этот момент потому и первоначален, поскольку, как мы говорили, эта точка означает для человека одновременно и ситуацию онтологической свободы, максимальной возможности Быть, и точку экзистенциального разрыва (см. рис. 19). Сама интенция быть, желание состояться, стать (которое никакого отношения к субъективной воле, к желаниям и страстям не имеет) задает момент движения, вектор. В этой точке нет еще выбора между чем-то и чем-то. Это пребывание в состоянии рая, в котором возможно все. С этой точки разрыва начинается движение бытия, означающее одновременно утерю Первобытия и попытку его повторного обретения, второго рождения. Каждый человек, будучи воплощением макрокосмоса в микрокосмосе, переживает раскол Единого в себе, после которого вынужден собирать свои осколки, собирать себя в онтологическую точку, осуществлять процесс собирания своей личности, являющейся аналогом Бога, его воплощением. В этой экзистенциальной точке разрыва невозможно пока определить и выстроить определенную культурную форму или конкретную культурную практику. Они появляются при осуществлении первого зиждительного шага. Этот шаг воплощается в форме мифа. Но прежде чем выстраивать уже более конкретно действительность миров культурного развития, начиная с мифа, необходимо остановиться на исходных принципах этого выстраивания, иначе - на том, что есть онтология и онтологическая работа, что есть по принципу онтология культурного развития, 224 независимо от того, о каком типе действительности культурного развития идет речь. Для этого нам необходимо выделить ряд базовых онтологических категорий, на которых, как на сваях, и покоится онтология культурного развития. Остановимся на этих категориях. Онтологическая идея и онтологическая рамка. Зафиксируем исходный пункт рассуждения. Онтологическая работа суть специальная работа мышления по выстраиванию рамок действительности предмета, по выделению природы этого предмета - того, без чего он не может быть самим собой. С помощью таких рамок мы можем фиксировать онтологические границы той или иной действительности, той или иной картины мира, того или иного образа человека. В истории человеческой культуры можно выделить ряд таких онтологических «укладов», в рамках которых вполне определенно понималось устройство действительности, ее природа (ύ) и соответственно природа человека, его базовая идея, порождающий образ. В этом смысле чередование исторических эпох культурного развития связано со сменой онтологической рамки и сменой базовой идеи человека, с выработкой его нового «проекта». Как мы уже отмечали во введении, переход и рефлексия по этому поводу есть «бытие-событие» (М.М. Бахтин) в культуре, онтологический сдвиг, знаменующий собой переход от одной парадигмы к другой, от одной онтологической идеи к другой. Эту фиксацию проделывает философия, которая призвана заниматься мышлением «по краям», мышлением о пределах, т. е. об онтологических пределах. Но для того, чтобы проделывать такую работу, сама философия призвана всякий раз выходить за собственные границы и становиться неклассической. Мы должны признать наличие неких онтологических идей, «ставящих» те или иные онтологические рамки действительности. Иначе говоря, идей, выполняющих функцию рамки. Например, идея Природы. Или идея Бога. Сколько таких базовых онтологических идей можно перечислить в истории культуры? И можно ли это сделать? П.Г. Щедровицкий, например, выделяет семь таких базовых идей идеи Космоса, Бога, Природы, Истории, Деятельности, Мышления и Человека (последняя, с его точки зрения, ставится в переломные эпохи [377]). Можно, видимо, говорить об идее Единого как об исторически первой онтологической рамке. А.Л. Доброхотов, например, говорит о том, что философия начинается с попытки уловить и зафиксировать некие «единицы бытия». В античной философии это были «число» (άó) Пифагора, «логос» (ó) Гераклита, «бытие» () Парменида [87]. Это также исторически первые прецеденты мышления об онтологических идеях, лежащих в основе бытия и задающих ему рамки. Поиск этих основ и рамок и есть, собственно, предмет и 225 самообоснование «первой философии». В зависимости от полагания базовой идеи формируется определенная онтология. Представление становится онтологическим, если имеет рамочный статус. Тем самым предельных онтологий по версии П.Г.Щедровицкого можно перечислить семь. У А.Л. Доброхотова их гораздо больше. Но дело не в этом. Нет необходимости перечислять, сколько было онтологий и сколько было онтологических, рамочных идей. Важно зафиксировать принципиальный вопрос: когда идея становится рамочной? Или - когда идее или совокупности представлений и знаний приписывается онтологический статус? Попробуем зафиксировать ряд моментов. Первое. Идея становится онтологической тогда, когда с ее помощью ставится рамка действительности, которой приписываются свойства объекта (будь то общество, природа, явление, человек, состояние, вещь и проч.). Рамку ставит разный субъект развития - будь то единичный индивид, берущий на себя функции рефлексии культурного развития (и через это становящийся субъектом), или социум, или группа. Масштаб субъекта развития тоже может быть разным. Например, внутри господствующей действительности в масштабах социума могут быть разные действительности в масштабах отдельных индивидов. Или, например, обсуждая в городе проблемы городского развития, необходимо ставить рамку Города. Обсуждая проблемы детского развития, возрастной динамики, необходимо ставить рамку Развития. Обсуждая, например, проблемы школьного или вузовского образования, его реформирования, необходимо ставить рамку Образования. Если же обсуждается необходимость запуска и управления базовым процессом развития в образовании, ставятся рамки Процесса и Развития. Еще точнее. В данном случае речь идет о наличии и выработке средств построения рамки, т. е. осуществления онтологической работы. Например, если мы говорим о мифе, то мы должны иметь адекватные средства понимания, описания, построения мифологической действительности, без которых последняя теряет свою предметность, она просто отсутствует как действительность, т. е. существует только как мертвая натуральная форма. Тем самым ситуация как бы выворачивается. Сама онтологическая идея должна становиться одновременно и рамкой, и средством. Например, число у пифагорейцев было одновременно и онтологической идеей, и средством описания и построения всего космоса. Второе. Идея обретает рамочный статус, становится онтологической в том случае, если она становится «объяснительным принципом», который кладется в основу определенной картины мира. Например, как это сделал Э.Г. Юдин с понятием деятельности [396]. 226 Для патристики, для отцов церкви, идея Бога также была объяснительным принципом, а не только предметом веры. И этот принцип конституирует все то, что укладывается в ту или иную действительность. Третье. Идея работает как рамочная, если она поддерживается базовым процессом, выступающим как механизм воспроизводства той или иной действительности. Например, забегая вперед, скажем, что без механизма подражания не может работать идея Мифа. Без механизма проектирования не может работать идея Деятельности. Итак, необходима рамочная идея, задающая существо той или иной действительности, ее природу, ее механизм порождения. И в зависимости от масштаба субъекта, от ситуации порождения и потребления в культуре мы можем выделять разные рамочные идеи. Если возвратиться к нашей базовой схеме, онтологическому кресту, положенному на точку Единого (см. рис. 23), то заметим, что исторически первой онтологической идеей, как указывает А.Л. Доброхотов, и была идея Единого (É), означающая полное наличное присутствие (άή). Собственно феномен философии и рождается как акт рефлексии по поводу единого бытия. Исходно мышление не было неким интеллектуальным актом. А бытие не может быть набором деятельностей. Исходное É дано как нераздельное целое, беспредпосылочное начало, источник всего сущего, сопричастность которому задает человеку-антропосу исток и исход жизни. Метафорой цельного Единого Бытия выступает шар Парменида. Единство с этим Éи задает всему миру бытие, Через практику сопричастности Единому человек становится действительным субъектом, т. е. «под-лежащим» (лат. subjektus - калька с греч. ύóέ«подлежащий») (об этом говорил и М. Хайдеггер). Быть подлежащим - значит иметь выстроенные основания для всех последующих действий. Прежде, чем понимать и действовать, человек должен выстраивать в себе подлежащую структуру личности, причастную целостности бытия (микрокосм, равный макрокосму). Тогда мышление равно бытию, поскольку мышление и есть полагание онтологических границ. Акт мышления есть онтологический акт. В противном случае, за неимением этой «подлежащей» структуры, человек превращает мышление в интеллектуальные операции, а бытие в деятельностные манипуляции. Бытие ведь не просто слово, обозначающее некую действительность. Бытие у Платона и есть такое понимание и ухватывание в акте мышления мира, которое задает ему единство и полноту. Бытие - это Единое, в котором сочетаются сверхбытийное Благо и вещь. Бытие вещи - это ее единство в своей сущности и существовании. Бытие вещи есть существование вещи согласно своей природе (ύ ). Бытие - не просто житие. Это высшая форма существования, в 227 котором соединяются Бог и мир, Благо и вещь, сущность и существование. Бытие человека - это совпадение человека с самим собой, единство essentia и existentia. Онтология в этом смысле есть удержание в поступке целостной личности, этого подлежащего человека, бытия в его идее Единого. Что происходит потом? Потом субъект мышления, мыслящий о едином бытии, впускает в это спокойное океан-бытие идею Развития. Социально-исторически это было связано с тем, что древнегреческая цивилизация была морской державой. И первые корабли моряков и пиратов, пентекантеры, разбили спокойствие культурного социокода этой цивилизации. И кормчий, «кибернетес», пират и капитан на корабле стал первым, кто разрушил порядок мира и порядок космоса. Это привело к чеканке монет, появлению алфавита и первых философских школ как формы рефлексии по поводу происходящих изменений (см. оригинальную концепцию М.К. Петрова [200; 201]). Тем самым, по прошествии времени, целокупное, целомудренное Бытие раскалывается, поскольку антропос вводит в мир новую идею, идею Развития, а за ней - и идею Истории. Исходная цельность саморазворачивается и начинает разбегаться, как волны по воде, в разные стороны от первоначального взрыва. Идея развития взрывает Единое, разносит его на разные сферы. Если пользоваться языком И. Канта, то можно выделить два класса онтологических идей - конститутивные и регулятивные. Конститутивные идеи по своей задаче призваны упорядочить мир, конституировать его. Через них мир удерживается в своей целостности, в своих рамках. Эти идеи и ставят ему рамки. Регулятивные идеи - это динамические идеипринципы, выступающие в качестве орудий, средств, оформляющих момент движения бытия. Это двигатели бытия, его рычаги, задающие ему его динамику. Благодаря им бытие начинает дышать и двигаться. Но это движение чревато расколом. Так вот, после раскола Единого Бытия, первичной онтологической идеи, человек пытается удержаться и восстановить утраченное единство. Тем самым рождается необходимость новых онтологических идей. Это идеи Бога и Человека. Бог потому и появляется, что в нем нуждается Человек, чтобы постичь, вернее, возродить утраченное Бытие. А Бог есть одно из имен Бытия, самое сокровенное. Он становится именем субстанции-силы, Единого Бытия, самодовлеющего себе. Бог – это аналог Единого Бытия. Итак, Единое раскалывается на Бога и Человека (ó и Á .). С этого момента все остальные онтологии суть результат отношений, взаимодействия, синергии или конфликта этих двух начал Бога как воплощенного Бытия и Человека как воплощенного творения. Энергия развития 228 рождается в точке сопряжения Бога и Человека, двух полюсов вокруг Единого (рис. 24). Бог Единое Человек Рис. 24 Рождение этой пары есть исторически первый прецедент культурной рефлексии, когда само по себе Единое расщепляется, внутри его возникает первый вариант отношения - Человек и Бог соотносятся друг с другом, между ними появляется дистанция, которой ранее не было. Ранее человек был растворен в Едином бытии, пребывал в нем. Все последующие миры и онтологические идеи, конституирующие их, появляются именно как дальнейшие попытки восстановить утраченное единство, вернуться в центр, от которого миры все дальше и дальше разбегаются. Человек в своей культурной рефлексии пытается вернуть это Единое в лице Бога. Но дальше - следующий раскол. Колесо развития раскручивается дальше, все более отдаляя человека от онтологического источника. Тем самым рождается идея Мифа как осознание первого прецедента возврата к Единому. Синергия Бога и Человека рождает первый культурный мир, мир Мифа. Бог имеет в Мифе свои воплощения. И прежде всего он воплощается в самой идее нового творения мира по принципу архетипа-образца, через подражание первому прецеденту, самому первому акту творения, который свершился когда-то во Время Оно. Этот прецедент и есть мифологический аналог идеи Бога. Затем по той же логике формируются такие же идеи, воплощающие идею Бога, - это идеи Природы, Деятельности, Техники. Они все представляют собой попытки помыслить и удержать в акте мышления Единое Бытие. Тем самым каждый раз человек ведет тяжбу с Богом в новой действительности, по существу, проделывая все ту же работу по удержанию рамок Бытия, которые всякий раз расшатываются, разбегаются. Но им же, человеком, этот маховик раскрутки уже запущен через идеи Развития и Истории. Забегая вперед, скажем, что эти идеи (Мифа, Природы, Деятельности, Техники) объемлют собою полный цикл культурного развития, довлеющего к центру и 229 выстраивающегося вокруг онтологического креста. Представим себе все четыре рамочные идеи вокруг онтологического креста (рис. 25). Деятельность Человек Техника Человек Бог Бог Человек Бог Единое Бог Человек Миф Природа Рис. 25 Фактически идеи Мифа, Природы, Деятельности, Техники, как уже было отмечено выше, это миры, воплощения Бога, его разные имена. Это Бог, понятый в мышлении человека в разные культурные эпохи. В разных действительностях Бог имеет свои ипостаси. Бог в Мифе - это архетип-прецедент, прадействие, порождающее мир-космос, по образцу которого должны действовать все последующие поколения богов, героев и людей. Бог в Деятельности - это сила творящая, энергия. Действительность, порожденная через действие. Это двигатель, активный субъект творения. Бог в Природе - это субстанция, отдельный мир, отделенный от человека. Бог в самих вещах. Бог в Технике - это демиург, мастер, инженер-конструктор, конструирующий мир как машину, со всеми частями, узлами, функциями. Бог как космический механизм. По мере продвижения по циклу полюс Человека все более отдаляется от полюса Бога. Исходно они были в нераздельном единстве, в точке Единого бытия. Затем совершается первый шаг отпадения от Бога, и рождается первый прецедент его возврата - мир Мифа. Затем человек периодически пытался восстановить идею Бога в ее разных воплощениях. Но первое имя Бога (Единое Бытие) было утрачено. Поэтому человеку приходится проходить через центр мира к новому Мифу. И снова попадание в точку, и снова отпадение. И так до бесконечности, в ритме рождения и падения. 230 Итак, аналогом Единого выступает идея Бога. Результатом встречи Человека с Богом, их соработничества (синергии) посредством разных культурных практик выстраиваются не просто разные миры, а действительности культурного развития. Эти действительности «насаживаются» на Человека, но не на самого по себе, а на того, кто действует по сопричастности с Единым и через это делает действительной культуру - как живую среду для собственного обитания, без которой он не может жить, как тело не может жить без воды и пищи. Человек должен пройти полный цикл этого движения. Он собирает расколотое на части Единое. Только пройдя все миры, он может собрать Единое Бытие в точке. М. Хайдеггер так и переводил идею Бытия как собирание единого через «логос» (греч. έ собирать). Культурные практики при этом рождаются не сами по себе, не бог весть откуда взявшиеся. Они потому и рождаются, что призваны на себе выстраивать онтологический круг развития вокруг онтологического центра Единого. Через них Единое силой Человека пытается вернуть себе себя, утраченного когда-то однажды, вернуться к себе через иное себе инобытие. Четыре действительности культурного развития, конституирующиеся онтологическими идеями-рамками и векторами онтологического креста, это миры инобытия Единого. И первая форма инобытия - действительность Мифа. Последняя - действительность Мира как Техники-машины. Каждая действительность - очередной шаг отхода от центра Единого и возврата к нему. Это каждый раз петля отхода и возвращения. И весь цикл, если объять все четыре шага, все четыре мира, повторяет графику ленты Мебиуса или знака бесконечности (рис. 26). Потому что это мир сначала падшего, потом вечно спасающегося антропоса. Это круг падения и спасения, вечного возвращения, вечного лабиринта (см. о лабиринте как о культурной модели [298]). Рис. 26 Подытоживая разговор об онтологических идеях, зафиксируем указанную лестницу идей как их эманацию из исходного центра, первоисточника (рис. 27): Идея Единого Бытия Идеи Бога и Человека Идеи Развития и Истории 231 Идеи Мифа, Деятельности, Природы, Техники Рис. 27 Теперь посмотрим на культурное развитие исторически, как на смену эпох (независимо от масштаба субъекта - индивид это или социум). Мы можем выделить здесь четыре базовые рамочные идеи: идеи Мифа, Природы, Деятельности, Техники. Все эти идеи, напоминаем, крутятся вокруг исходного корня, точки, которую А.Ф. Лосев называл «Самое Само». Это то Единое, исходное начало, которое не разложимо на части и вокруг которого разворачивается все многообразие действительностей. Единое, задающее главный смысл Бытию, выступающее не отдельной формой существования, а исходным условием всех остальных форм и способов существования. Смена указанных четырех рамочных идей означает полный культурный цикл или цикл культурного развития по принципу. Эти базовые идеи порождают четыре действительности культурного развития мифологическую, искусственно-проектную, естественнонаучную и техническую. Каждая действительность нуждается в самостоятельном описании и подробной развертке. Об этом будет сказано в главе 3. Здесь же зафиксируем, что независимо от хронологии, т. е. натурального времянахождения, субъект может пребывать в разных действительностях в зависимости от средств собственной жизнедеятельности и средств рефлексии по отношению к этой жизнедеятельности. При этом можно говорить о парадигмальных, классических эпохах культурного развития, и эпохах межпарадигмальных, эпохах кризисных. Классические эпохи – это и есть собственно эпохи Мифа или Природы. Смена же онтологической, рамочной идеи означает смену эпохи. Период между эпохами становится периодом межпарадигмальным, неклассическим. В таких случаях мы говорим о неклассических ситуациях культурного развития. Из нашего введения ясно, что в настоящее время мы переживаем именно эту, неклассическую ситуацию перехода. Итак, от понятия онтологической идеи идем дальше, к следующим ключевым понятиям, с помощью которых строится всякая действительность культурного развития. Культурная норма. Это понятие, фиксирующее максимальную степень воплощения той рамочной, онтологической идеи, которая была положена в основу той или иной действительности культурного развития. Она означает также максимальное осуществление той или иной культурной практики. 232 Эмпирическое сознание привыкло к натуральному, среднестатистическому выражению нормы - средняя температура, среднее содержание гемоглобина в крови. С этим связано, например, представление о здоровье «среднего» пациента, о норме и патологии. Что же касается феномена культурного развития, то его невозможно ухватить с точки зрения «средней нормы». В акте человеческого культурного рождения не может быть средних показателей. Здесь можно говорить о полноте и глубине постижения и спасения. О полноте овладения культурными практиками. Поэтому культурная норма обозначает некий идеал, т. е. максимальное воплощение базовой онтологической идеи, ее осуществление. В этом смысле можно говорить о классических образцах той или иной эпохи культурного развития. Классика в этом случае есть во всех действительностях культуры, во всех эпохах. Классика в античности, классика в эпоху Возрождения и т. д. Классическое в пределах той или иной действительности означает полноту осуществления онтологической идеи. Тогда «неклассическое» в этом смысле есть переход, фиксация сдвига к новой культурной норме, точнее, фиксация несоответствия новой культурной практики старой онтологической идее и связанная с этим необходимость выработки новой культурной нормы, которая еще не достигнута. Но для этого необходимо достаточно ясное представление о новой онтологической идее. К примеру, какова она сейчас, в настоящее время? Какова онтологическая и антропологическая рамки бытия и мышления в современную эпоху? Что фиксирует современный постмодерн? Пока он фиксирует полное разложение классических образцов и сознательный отказ вообще от идеи образца, от идеи культурной нормы (см., например, работу А.П. Огурцова [194]). Но это вопросы в сторону, не относящиеся напрямую к данному исследованию. Вкратце мы остановимся на них ниже. Пока же зафиксируем нашу позицию. В недрах старой действительности (например, мифологической) зреет новая культурная практика (например, практика проектирования). Последняя зреет тогда, когда начинает не хватать ресурса у практики, порождающей действительность мифа, практики подражания образцу. Тогда и наступает необходимость смены онтологической идеи. Тогда и наступает тот самый онтологический хаос, преодолеть который можно с помощью новой онтологической идеи. Разговор о культурной норме - едва ли не ключевой в данной проблеме. Поскольку с ней связан вопрос о диагностике культурного возраста, о выработке адекватных средств, с помощью которых можно осмысленно говорить об эпохах культурного развития, т. е. о культурных возрастах. Если вернуться к концепции Б.Д. Эльконина (см. главу 1), то на его языке культурная норма есть, по сути, единство, момент встречи реального материала и идеальной формы. 233 А исследователь К.Н. Поливанова говорит о «норме развития» [209]. При этом она отмечает, что проблему нормы развития нельзя обсуждать в какой-то одной плоскости. Норма развития формируется в точке встречи двух типов анализа теоретического (исходя из выделения исходных, абстрактных понятий) и эмпирического (исходя из обобщения и описания реальных характеристик детского развития). Представления о норме развития в этом смысле зависят от того, из каких оснований исходит исследователь - из теоретических или эмпирических. Эмпирический материал может дать некую среднюю (мы бы сказали, натуральную. - С.С.) норму, относящуюся к эмпирической реальности, в которой живут эмпирические индивиды. Абстрактный же анализ дает представление об идеальной норме. Связь, встреча этих двух анализов и может дать преставление о норме развития. Иначе говоря, делает вывод К.Н. Поливанова, норма развития - это отношение реального (наличного) и идеального, освоенного и осваиваемого. Эта встреча двух анализов выступает как результат отношения двух форм формы трансляции культурной (идеальной) формы и культурной нормы. Там, где культурно и социально задана форма трансляции от взрослого к ребенку, речь идет о норме развития и, соответственно, о понятии возраста. Это происходит в случае со стабильными возрастами (например, дошкольные возрасты). Там же, где нет формы трансляции идеальной формы, там нет ни нормы развития, ни понятия возраста (например, в случае с подростковым возрастом, в случае с критическими возрастами). Необходимо отметить, что К.Н. Поливанова отмечает важность не самой идеальной формы как таковой. В стабильных возрастах ребенок сталкивается не с ней, а с культурой ее трансляции. Ребенок не знает, что такое эта форма, но он знает то, как ему ее предъявляют в пространстве перехода, в месте встречи со взрослым. Естественно, сама культурная форма не зависит от того, знают что-либо про нее взрослый и ребенок или нет. Она имеет некое устройство, онтологически укорененное. Но К.Н. Поливанова права в том, что субъект развития должен знать формы трансляции, адекватные той или иной культурной форме. И именно от них зависит, произойдет ли с ее помощью встреча взрослого и ребенка. Если же быть более точным, то следует говорить не о норме развития (в отличие от натуральной, средней нормы), а о культурной норме. В известном смысле само сочетание «норма развития» - это оксюморон, поскольку, с одной стороны, представления о норме требуют полагания ставшего и законченного процесса, осевшего в продукте и принятого за эталон. Она должна быть выражена в формальных показателях. С другой стороны, акт развития это всегда выход из ставшего состояния, причем выход, совершаемый конкретным субъектом. Развитие в этом смысле есть всегда исключение из правил, отклонение от нормы. Норма 234 развития это как белые ночи, как черный снег, которые бывают, но редко, всегда в некое промежуточное время. Поэтому мы предпочитаем говорить о культурной норме как о степени полноты осуществления онтологической идеи в практике культурного развития. Например, полнота осуществления мифа в античности или в каком-либо возрасте в онтогенезе ребенка. Или полнота Игры в играх детей (сколько Игры в конкретной игре?). Иначе говоря, культурная норма - это представление о полноте сформированности культурной формы, которую (полноту) субъект развития всякий раз отслеживает в своей рефлексии по поводу своих шагов развития. Что для этого нужно? 1. Нужна полнота представлений о данной культурной форме (например, о Природе, или о Понятии, или о Символе). В свою очередь, эти работы по формированию полноты представлений о форме проделываются в специальной философской и методологической практике и откладываются в библиотеке культуры, в ее архиве. 2. Необходимо осуществление адекватной рефлексии по поводу шага развития. Последний заключается как раз в акте овладения культурной формой. 3. Необходимо прохождение полного испытания на себе культурной практики с той или иной культурной формой. 4. Нужен выбор адекватной формы актуализации культурной формы. Необходимо наличие каналов перевода культурных форм из архива культуры в пространство культурного развития (каналы опредмечивания и распредмечивания). Таким образом, фактически проблематика культурного развития и культурного возраста стягивается к одной проблеме - проблеме культурной нормы. Единица действительности. Базовая практика с культурной единицей. В зависимости от тех или иных средств и способов мышления и деятельности выстраиваются разные базовые культурные практики, лежащие в основе разных действительностей. Иначе говоря, в основе каждой действительности лежит определенная практика, которая и порождает эту действительность. Последняя не дана как готовая. В том смысле, что хотя она и оседает как готовая натуральная форма в архиве культуры, но она прежде всего порождается той или иной культурной практикой. Каковы эти практики? Это практика порождения мира по принципу подражания образцу-архетипу (мир Мифа), практика описания естественного объекта (мир Природы), практика трансцендирования (мир Деятельности) и практика организации (мир Техники). Эти практики вырабатываются в соответствии с полаганием четырех типов действительностей согласно четырем онтологическим идеям. Чем отличаются эти практики друг от друга? Прежде всего, они разные потому, что связаны с действиями с разными единицами культуры. 235 Каждая практика есть оперирование с определенной базовой культурной единицей. Например, в случае с мифологической действительностью в качестве единицы культуры выступает образец-архетип. Он задает прецедент, пример для подражания. Через него новые поколения приобщаются к священному прошлому, к отцам-первопредкам, задающим образец, который они взяли сами от своих предков, и так до самого Начала, до Времени Оного, до «Самого Самогό». Миф рождает новое время, раздвигает горизонт. Он действует, разумеется, на примере для подражания, на образце. Поэтому всякое новое начинается с харизмы личности зачинателя, с его голоса и образа, принятого за образец. Нужен новый Бог, новый Вождь, новый Отец. Об этом подробно писал М. Элиаде (см. подробнее о мифе в главе 3). Затем наступает кризис - когда онтологическая рамка перестает действовать, т.е. базовая идея перестает быть рамочной, не является объяснительным принципом. В связи с этим истощаются средства построения данной действительности. Почему это происходит? Почему в принципе происходит смена онтологической рамки? Это происходит тогда, когда субъект развития перестает отвечать на «зов бытия» (М. Хайдеггер). То есть его онтология и выстроенная в соответствии с ней антропология становятся узкими для рамок бытия. Живой материал бытия начинает разрушать положенные рамки. Наступает хаос, господство неуправляемой стихии. Субъект снова попадает в экзистенциальную ситуацию «быть или не быть», или, как было сказано, в неклассическую, межпарадигмальную эпоху. Так происходит по принципу. Другими словами, средства, выработанные внутри определенной действительности (например, Мифа), перестают быть таковыми при построении иной действительности, актуальность которой все более нарастает с накоплением жизненного материала. То есть средства при построении действительности Мифа не годятся как средства при построении действительности Природы. Культурная форма. На материале концепций Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина и Б.Д. Эльконина мы уже обсуждали проблему развития как проблему овладения идеальной формой. Сказанного достаточно, чтобы зафиксировать следующую принципиальную идею. Действительность культурного развития состоит из актов формирования культурной формы. Последние являются единством натурального материала и идеальной формы. Как мы пытались отметить «на полях» работ Л.С. Выготского, он на разном материале (слабоумные дети, игра, спор с К. Левиным и проч.), выходя в пространство разработок проблематики сознания и личности в 1933-1934 гг., фактически пытался осуществить один принципиальный, стратегический ход 236 трансцендирование из натурального пространства в пространство идеальное, которое при этом оформляет первое. В месте встречи двух пространств и происходит событие - акт развития, или, что то же самое, рождается феномен культуры. Последний и может быть главным событием в жизни человека, тем, ради чего он и живет. На первый взгляд, эмпирический индивид в ситуации «видимого поля» (по аналогии с шимпанзе, с ребенком, играющим кубиками) манипулирует вещьюорудием или знаком как вещью. Через овладение этим орудием он научается управлять собой, овладевать своим поведением, одновременно освобождаясь от рабства перед зрительным полем. И через это индивид как бы надстраивает над этим видимым, натуральным пространством новое, культурное. И здесь он, оставаясь эмпирическим существом, вырастает из коротких штанишек, становясь субъектом развития. На проверку выходит, что источник этого действия по овладению находится не в натуральном поле. Его, это действие, осуществляет не индивид, а субъект. Точнее, на субъекта пальцем (пусть даже и умозрительным) не покажешь. Это некий способ существования, метод, фигурально выражаясь, метод с ногами, персонифицированный способ. Сам акт овладения и есть субъектность. Так вот, эта субъектность не сидит в индивиде как готовое качество. Она постепенно формируется в актах развития. И через них образуется двойное пространство натурального и идеального, вещного и знаково-орудийного, индивидуального и субъектного. В целом культурная форма как главная организованность действительности культурного развития представляет собой некое двойное единство. С одной стороны, в ней представлен индивид в натуральном поле, овладевающий собой через знак-орудие. С другой стороны, на это поле накладывается второй план план субъекта развития, овладевающего формой, распредмечивающего и превращающего ее в культурную форму, и через это превращающего себя в иное, в субъекта развития. Иначе говоря, субъект - это культурный метаморфоз индивида. Покажем это (рис. 28). Знак - идеальная форма Субъект ______________________________________________ Знак - натуральный материал Индивид Рис. 28 237 С одной стороны, вещь, знак (всякий артефакт) даны индивиду как натуральный материал, как вещь среди вещей. С другой стороны, в другом пространстве тому же индивиду, но уже в акте развития знак дан как идеальная форма, т. е. как смысл, как программа-сценарий, как идея. Единство этих двух планов и представляет собой в данный момент нашего рассуждения то, что мы называем культурной формой. Более предметно представление о культурных формах будет дано ниже в главе 3, на конкретном материале малого цикла культурного развития. Здесь же заметим, что каждая действительность культурного развития и состоит из своих культурных форм. Идея культурного цикла. Как было сказано выше, от идеи образца-архетипа происходит переход к идее проекта, к следующей единице культуры. Это происходит при необходимости сознательного проектирования и программирования культурного развития. Тогда из мира Мифа, мира образцов-архетипов, субъект развития переходит в мир Деятельности, в мир проектов и программ развития. Тем самым в деятельностной практике трансцендирования рождается искусственно-проектная действительность, устроенная в принципе по-другому. Осознание философом этой границы, этой ситуации перехода есть осознание неклассической ситуации, когда бы хронологически она ни происходила. Это может быть эллинизм, Возрождение или конец ХХ в. Этим переходом фиксируется онтологический сдвиг, смена онтологической рамки. Фиксация новой рамки означает порождение неклассической ситуации в культуре. После осуществления практики трансцендирования субъекту развития необходимо как бы отойти от результатов своей деятельности и положить их в качестве предмета анализа. Тем самым он проделывает практику описания какоголибо предмета как объекта с присущими ему теми или иными качествами. И все иное субъект берет как объект, как ставшее нечто. В качестве объекта он может взять любой живой опыт, любую деятельность или акт мышления. Это специальная работа, в ходе которой выстраивается уже иная действительность – естественнонаучная, то есть мир Природы. В качестве главной культурной единицы здесь выступает идеальный объект, точнее, любой предмет, понимаемый и построенный как идеальный объект. После того, как акт культурного развития осуществлен как прецедент (в мифе), затем спроектирован и осуществлен в деятельности, затем описан и исследован (как идеальный объект), он должен быть построен в качестве организации, в которой, как в машине, заложены и закреплены все функции и места разных субъектов. Тем самым наступает этап разворачивания технической действительности или мира Техники. 238 После определенного функционирования действительности как функциональной машины наступает ее кризис. Наступает старение функциональной машины. Ситуация в культуре меняется, и нужен новый прецедент, новый миф, новый образец. Наступает эпоха нового культурного цикла. Круг замкнулся. Завершился культурный цикл. И снова по кругу: архетип деятельностный сдвиг - объект - организация. Соединение в цикле этих единиц и практик образует полноту культурного цикла. Полнота цикла является главным признаком культурного развития. В процессе прохождения эпох культурного цикла субъект развития овладевает теми или иными базовыми практиками. Тем самым он переживает эпохи культурного взросления. В таких случаях мы можем говорить о культурных возрастах субъекта развития (например, возраст мифа или возраст природы). Итак, онтологическая рамочная идея, культурная единица, базовая практика с культурной единицей, культурная норма и идея культурного цикла помогают нам построить онтологию культурного развития человека, то есть понятие о действительности культурного развития. Теперь перейдем к описанию этой действительности культурного цикла, опираясь на введенные выше онтологические категории. 239