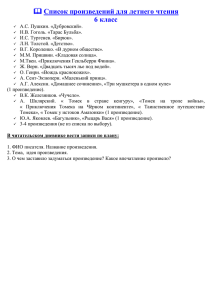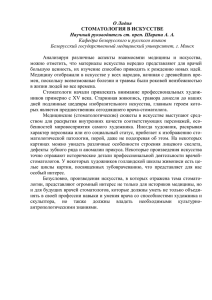Опыт построения научной критики Эмиль Геннекен От издателя
advertisement
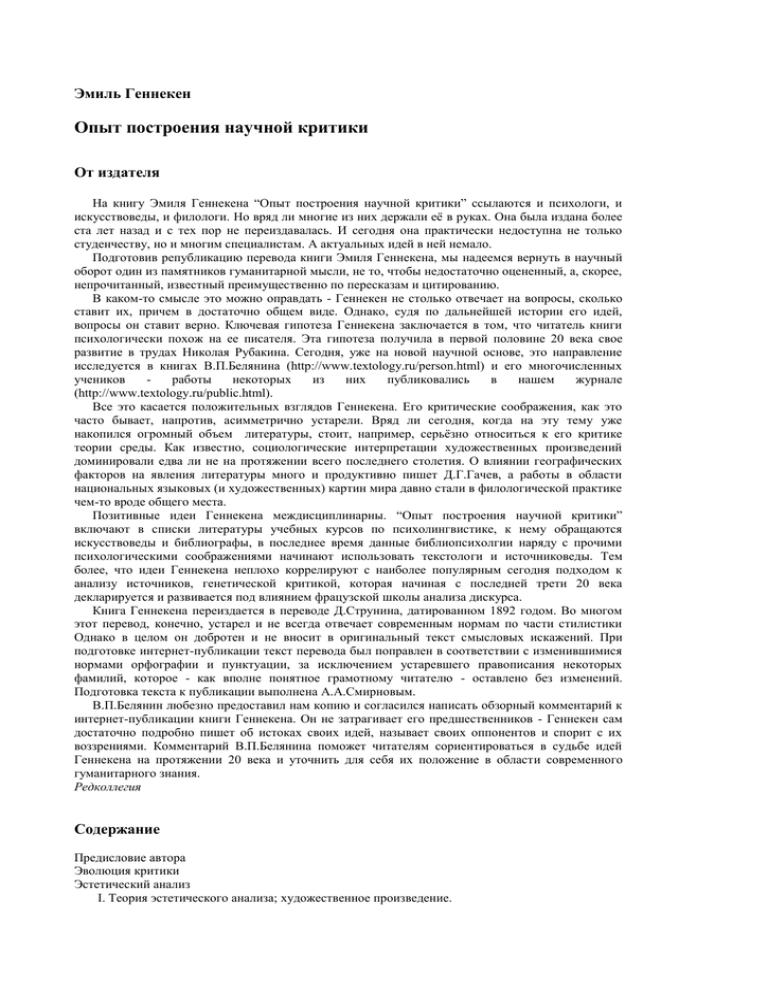
Эмиль Геннекен Опыт построения научной критики От издателя На книгу Эмиля Геннекена “Опыт построения научной критики” ссылаются и психологи, и искусствоведы, и филологи. Но вряд ли многие из них держали её в руках. Она была издана более ста лет назад и с тех пор не переиздавалась. И сегодня она практически недоступна не только студенчеству, но и многим специалистам. А актуальных идей в ней немало. Подготовив републикацию перевода книги Эмиля Геннекена, мы надеемся вернуть в научный оборот один из памятников гуманитарной мысли, не то, чтобы недостаточно оцененный, а, скорее, непрочитанный, известный преимущественно по пересказам и цитированию. В каком-то смысле это можно оправдать - Геннекен не столько отвечает на вопросы, сколько ставит их, причем в достаточно общем виде. Однако, судя по дальнейшей истории его идей, вопросы он ставит верно. Ключевая гипотеза Геннекена заключается в том, что читатель книги психологически похож на ее писателя. Эта гипотеза получила в первой половине 20 века свое развитие в трудах Николая Рубакина. Сегодня, уже на новой научной основе, это направление исследуется в книгах В.П.Белянина (http://www.textology.ru/person.html) и его многочисленных учеников работы некоторых из них публиковались в нашем журнале (http://www.textology.ru/public.html). Все это касается положительных взглядов Геннекена. Его критические соображения, как это часто бывает, напротив, асимметрично устарели. Вряд ли сегодня, когда на эту тему уже накопился огромный объем литературы, стоит, например, серьёзно относиться к его критике теории среды. Как известно, социологические интерпретации художественных произведений доминировали едва ли не на протяжении всего последнего столетия. О влиянии географических факторов на явления литературы много и продуктивно пишет Д.Г.Гачев, а работы в области национальных языковых (и художественных) картин мира давно стали в филологической практике чем-то вроде общего места. Позитивные идеи Геннекена междисциплинарны. “Опыт построения научной критики” включают в списки литературы учебных курсов по психолингвистике, к нему обращаются искусствоведы и библиографы, в последнее время данные библиопсихолгии наряду с прочими психологическими соображениями начинают использовать текстологи и источниковеды. Тем более, что идеи Геннекена неплохо коррелируют с наиболее популярным сегодня подходом к анализу источников, генетической критикой, которая начиная с последней трети 20 века декларируется и развивается под влиянием фрацузской школы анализа дискурса. Книга Геннекена переиздается в переводе Д.Струнина, датированном 1892 годом. Во многом этот перевод, конечно, устарел и не всегда отвечает современным нормам по части стилистики Однако в целом он добротен и не вносит в оригинальный текст смысловых искажений. При подготовке интернет-публикации текст перевода был поправлен в соответствии с изменившимися нормами орфографии и пунктуации, за исключением устаревшего правописания некоторых фамилий, которое - как вполне понятное грамотному читателю - оставлено без изменений. Подготовка текста к публикации выполнена А.А.Смирновым. В.П.Белянин любезно предоставил нам копию и согласился написать обзорный комментарий к интернет-публикации книги Геннекена. Он не затрагивает его предшественников - Геннекен сам достаточно подробно пишет об истоках своих идей, называет своих оппонентов и спорит с их воззрениями. Комментарий В.П.Белянина поможет читателям сориентироваться в судьбе идей Геннекена на протяжении 20 века и уточнить для себя их положение в области современного гуманитарного знания. Редколлегия Содержание Предисловие автора Эволюция критики Эстетический анализ I. Теория эстетического анализа; художественное произведение. II. Практическое приложение анализа. III. Эстетический анализ и отношение его к другим наукам. Психологический анализ I. Теория исихологического анализа. II. Практическое приложение анализа; частные положения. III. Практическое приложение анализа; общие положения. IV. Психологический анализ и отношение его к другим наукам. Социологический анализ I. Теория социологического анализа; теория Тэна. II. Практическое приложение анализа; частные положения. III. Практическое приложение анализа; общие положения. IV. Социологический анализ и отношение его к другим наукам Научно-критический синтез I. Синтез эстетический II. Синтез психологический III. Синтез социологический Критика и история I. Общий взгляд на историю; художник, герой, толпа. II. Практические следствия; художественное произведение. III. Критика IV. Заключение Предисловие автора Со времени своего возникновения до настоящего момента критика художественных произведений идет двумя различными путями. Несходство их слишком резко и слишком очевидно. С одной стороны можно указать на всем известные заметки о новых книгах (библиография), на фельетоны о различных выставках и пр.; с другой, на такие этюды, как, напр., этюды Тэна, как, напр., этюд о живописи Rood’a, на исследования Posnett’a, Parker’a, Benton’a, Rain’a. В то время как произведения первого рода заботятся о том, чтобы действительно критиковать, судить, произносить определенный приговор насчет значения известной книги, драмы, картины, симфонии, - произведения второго рода преследуют совсем другую цель; они стремятся выяснить особенности данного произведения искусства, то связывая их с известными принципами эстетики, то изучая вместе с тем и личность автора, то изучая известный общественный, склад, в условиях которого произведение сложилось; они стремятся выяснить, сообразуясь с данными наук о человеке и человеческом обществе, эмоции, которые оно способно вызвать, и ряд идей, в нем заключенных и им навеянных. Нет ничего общего между тем способом изучения произведения искусства, когда его разбирают только для того, чтобы одобрить или осудить, - и тем анализом произведения, когда стремятся изучить его с трех точек зрения - эстетической, психологической, социологической и уяснить без всякого пристрастия законы изучаемых явлений. Критика первого рода отлично может сохранить и впредь свое первоначальное название название “литературной критики”, тогда как критике второго рода гораздо лучше называться эстопсихологией. Последнее название могло бы соответствовать тому, что в данном случае произведения искусства рассматриваются, как выражение души - и представителей искусства, да и народа, к которому они принадлежат. Название это однако некрасиво и неудобно; а потому, пользуясь им иногда, мы будем чаще всего употреблять другое название - научной критики, противополагая научную критику собственно-литературной критике. Эволюция критики краткий очерк. [Желающих подробнее ознакомиться с эволюцией критики отсылаем к книге Брюнетьера “L’evolution des genres dans 1’histoire de la litterature” - tome I-er. ─ Примеч. Переводч.] Литературная критика, ведущая во Франции свое начало по преимуществу со времени Буало и Перроля [Литературная деятельность Буало и Перроля относится к 17-му столетию. Нужно однако заметить, что вернее было бы относить начало французской критики к 16-му столетию, когда она появилась в лице Du Bellay и Scaliger’a. Критика Du Bellay может быть названа исключительно филологической. ─ Прим. Переводч.], явилась в обособленном виде во второй половине 18-го столетия - вместе с Лагарпом во Франции, вместе с Аддисоном в Англии и с Лессингом в Германии. Она представляла тогда изучение писателей классических и современных с точки зрения личного вкуса; свойственного данному критику, а иногда определенной группе лиц, и с точки зрения известных, установившихся положений. Обыкновенно критик делал так, что приговор его включал в себя не только его личный взгляд, а вместе с тем взгляд многочисленных читателей; он обращался также к общим положениям предшествовавших критиков или мыслителей, вплоть до самого Аристотеля. Писать о данной книге значило ответить на такие вопросы: нравится ли эта книга известному критику или нет? Нравится ли она тем многим, кто обыкновенно разделяет его мнение? Могла ли бы она понравиться известным авторитетным мыслителям, о мнении которых можно догадаться на основании их общих положений? Этот род критики есть собственно единственный, который был в ходу в прошлом столетии и в начале настоящего. Всякий критик стремился отдать ему дань Библиографический отдел журналов и других изданий, отчеты о художественных выставках и о концертах составляются обыкновенно по этому типу. Сюда же надо отнести ряд полемических статей, отметивших собою появление в литературе романтизма и реализма, фельетоны, напр. те фельетоны г. Sarcey’a, в которых он защищает свои личные взгляды на театр, мнения парижской буржуазии и пр. Несмотря на некоторое внешнее различие, сюда же надо отнести большинство так наз. “портретов” писателей; статьи Брюнетьера [Последние сочинения Брюнетьера заставляют смотреть на него несколько иначе чем предполагает Геннекен. ─ Прим. переводч.], большую часть исторических изысканий о литературе - таких, как главное произведение Низара, отмеченных печатью доктринерства. Этот род критики предполагает в том, кто его практикует, начитанность, память, восприимчивый ум, вполне определенные, но ординарные наклонности, своего рода скромность, благодаря которой его суждения не могут расходиться с суждениями публики и потому ею принимаются. Наряду с критическими очерками этого рода существовали и существуют другие очерки по поводу художественных произведений; не имеющие ничего общего с предыдущими. В то время, как во Франции расцвела наука, и в частности история, Сорбонские профессора особенно Кузэн и Виллеман, в основу своих критических суждений положили размышления по поводу жизни изучаемых писателей и нравов того времени, когда те жили. Вопрос об удовольствии, которое способно возбудить в читателей известное произведение, ими оставлен. Они стремятся знать, каков сам автор, каков душевный склад, которому обязано произведение, и какова вся совокупность исторических, точнее говоря, общественных условий, среди которых оно появилось. Критик этого рода должен быть или биографом или историком. Исследования этого рода соединяются прежде всего и больше всего с именами Сен-Бёва и Тэна. Первый из них был по преимуществу критик-биограф, изучавший в писателе только то, что в нем было личного, индивидуального. Таков же Шерер. Совсем другое Тэн. Это - критик-историк; точнее говоря, он критик-социолог, умевший углядеть в произведении и в авторе произведения эпоху, типичным представителем которой тот является. По этому пути пошли потом Мезьер и Дешанелль. Метод, которого держался С.Бев, и цель, которую он преследовал, достаточно уясняются из его статьи “Chateaubriand juge par un ami intime”, в III томе его книги “Nouveaux Lundis”. С.Бев говорит, что он не может разбирать известное произведение “независимо от личности автора, который его написал”. Он сожалеет - в июле 1862 г. - что наши научные знания еще слишком незначительны, а потому он убежден, что критика от тех, кто ею занимается, требует врожденных и исключительных способностей. Раз эти способности есть, можно приступить к изучению данного автора, и для того, чтобы уяснить его, надо знать его непосредственное отечество, его род, его родителей и выводить его способности на основании способностей его предшественников. Когда это оказалось возможным, нужно сделать поверку показаний, собранным таким путем, изучая свойства братьев, сестер и всех его родных по нисходящей линии. Затем надо изучить его детство, его воспитание и, наконец, литературный круг, из которого он вышел. “Всякое произведение, изученное с этой точки зрения, в связи со всем, что его породило, - говорит С.Бев - приобретает и литературный, и исторический смысл... Для критика и для историка литературы необходимо быть учеником Бакона (т.е. следовать индуктивному методу); тогда лишь все его суждения приобретут известную основательность”. Так как С.Бев не отказывается и от оценки данного писателя, то он предлагает для этого сравнить его с его соперниками, с его учениками, отметить различные стороны его таланта, уяснить его отношение к наиболее важным вопросам и резюмировать в конце концов все это в формуле возможно боле точной и краткой. С.Бев старается обосновать два рода изысканий. С одной стороны, он хочет судить или ценить известного автора и в этом отношении он примыкает к той самой собственно литературной критике, о которой мы говорили раньше. С другой стороны, он хочет просто знать автора, без отношения к тому эстетическому наслаждению, которое способны вызвать его книги. И с этой целью он старается уяснить ce6е факторы, которые могли влиять известным образом на умственную жизнь писателя - т.е. физическую среду, фактор наследственности и воспитания. Тэн в своих критических суждениях обнаружил чрезвычайно ясный и могучий ум; вооруженный наукой, способный и к широким обобщениям, и к тщательному изучению частностей, одушевленный делом новаторства - он сразу поднял критику до состояния науки. Он с самого начала отказался порицать или хвалить произведения и авторов, о которых ему приходилось писать. Занявшись известным писателем, он этим самым признает его заслуги и его достоинства, - затем он разрешает две задачи, которые в связи с произведением искусства всегда возникают в его уме. Первая задача касается отношения автора к его произведению, а вторая отношения авторов к тому общественному строю, и условиях которого им приходилось творить. Вот благодарные задачи, которые впервые наметил Тэн и разработал в своих наиболее выдающихся произведениях - в “Истории английской литературы” и в “Философии искусства”. В предисловии к первому из этих произведений Тэн объясняет, что его метод состоит в том, чтобы перейти от литературного произведения к физической личности автора, затем к его духовной личности и, наконец, к причинам, вызвавшим известный склад его психической организации. Эти причины, по мнению Тэна, лежат в определенной совокупности физических и социальных условий, окружавших автора, и могут быть разделены на три главных категории: 1) раса, 2) среда - физическая и остальная, 3) момент. Таким образом, он выдвигает закон взаимной зависимости между данным обществом и его литературой. Перебрасывая естественным образом мост между историей и психологией и выдвигая тот глубокий взгляд, что из всех исторических документов наиболее важным является книга; и из всех книг наиболее важной является та, которая обладает наибольшей литературной силой, - Тэн проходит к следующему заключению, которое отлично резюмирует сущность его системы: “Я собираюсь написать историю литературы и уяснить по ней психологию народа”. Такова в общих чертах теория Тэна. В первой части “Философии искусства” он снова возвращается к одному из частных пунктов своей системы; и, оставив в стороне расу и физическую среду, он трактует опять о влиянии на всякого художника общественной и исторической среды. Он говорит о том, как то участие, которое художник принимает в деле своих современников, как подражание, как, наконец, невольная покорность в связи с советами, какие получает он, и наконец в связи с приемом, какой оказан его произведениям - как это все подавляет в его уме различные стремления, расходящиеся с общим характером данной эпохи, как это все препятствует по крайней мере проявиться им с надлежащею силою. Как эту систему, так и предыдущую он старается обосновать и выяснить на фактах. Таким образом, Тэн пытается уяснить дух английской литературы на основании природных свойств англо-норманской расы. Греческая скульптура, голландская и фламандская живопись ему представляются так же, как точное отражение стран и эпох, которым они принадлежат. В других своих произведениях, уже менее важных - в “Essnis de critique et d’histoire”, в “Tite Live”, в “La Fontaine”, “L’idealisme anglais” - Тэн продолжает и пытается усовершенствовать ту самую биографическую критику, с которой связано имя С.Бева; а вместе с тем, по отношению к отдельным личностям он прилагает и свою теорию - влияния расы, среды и прочих факторов. Исходя из того положения, что явления душевные, по образцу физических, всегда подчинены причинности, он очерчивает жизнь каждого писателя, которого он хочет изучать, рисует страну, где он родился; ту местность, где он жил; анализируя его произведение и отмечая его характерные свойства, он раскрывает этим самым душу автора и выражает сделанный им вывод в сжатой формуле. Так С.Симон, в его глазах, это “gentilhomme feodal, contraint а lа vie des course” честолюбивый, увлекающийся, художник по призванию... Тит Ливий - отличный оратор, вынужденный обстоятельствами писать историю. Бальзак - истый парижанин, сангвиник, с умом философским и вместе с тем мечтательным. Все труды Тэна отмечены одним стремлением - рассматривать историю литературы в связи с психологией. Он старается уяснить сущность исторического метода и доказать, что целая серия исторических документов, почти отброшенных, отлично может послужить для того, чтобы понять людей и прошлого, и настоящего времени. Поэтому он собирает факты, берет рассказы, анекдоты, исторические речи и литературные документы - излагает все это и уясняет, обобщает и заключает, стремится, одним словом, дать картину нравов, не делая оценки личностей, не защищая и не обвиняя. Он анализирует и уясняет - вместо того, чтобы хвалить; он резюмирует вместо того, чтобы порицать. Он изучает всякое произведение искусства, не само по себе (non еn soi), а как характеристику, как символ, поясняющий человека и народ, который подлежит его изучению. Рассмотрев его красоты, отметив беспристрастно и, уклоняясь от оценки, ряд вызванных произведением эмоций, он смотрит на него, как на простое и удобное средство для того, чтобы узнать и душу автора, и душу его современников. Исходя из литературы, он приходит к выводам более глубоким даже, чем выводы истории, потому что он знает о характере душевных настроений, свойственных данному народу в данный момент. В области чисто научной критики Тэн пошел дальше всех. После “Истории английской литературы” в области научной критики не появилось ничего достойного особого упоминания. Поль Бурже обнародовал “Психологические этюды” - книгу, достойную того, чтобы с ней познакомиться; но эти этюды не содержат в себе каких-нибудь оригинальных, научных взглядов. И кроме этого, те положения, которые он выставил, не обоснованы в достаточной степени. Очерчивая писателя общими штрихами, по примру Тэна, Поль Бурже не озаботился обосновать главное положение своих этюдов, а именно, что писатели известной эпохи определяют характер следующей художественной эпохи. Статьи Леметра и Франка изобилуют множеством прекрасных, но мало значащих рассуждений. Статьи Жоффруа являются только оценкой; опыты Sarrazin’a, какова бы не была их заслуга, не достаточно глубоки по своему анализу. Вогюэ - по преимуществу нравоучитель в своих прекрасных этюдах о русских писателях. Художественная критика не обнаружила ни свойств научности, ни интереса в такой высокой степени, как Тэн. Музыкальная критика, - если оставить в стороне некоторые труды по чистой эстетике, - и драматическая критика не представляют тоже ничего выдающегося. Касаться иностранной критики тоже бесполезно - будь то труды Брандеса, который следует С.Беву; будь то английская критика, которая является теологической в лице Matthew Arnolds’a, исторической и риторической в лице Pater’a, эстетической у Vernon’a Lee и Symonds’a, идеалистической у Ruskin’a. Один Posuett в своей книге “Comparative litterature” освещает в несколько новом духе вопрос о художественной морфологии и пытается выяснить, но к сожалению поверхностно, какое влияние производят различные формы общественной жизни на свойства литературы. История развития эстопсихологии на этом и останавливается. Лучшие труды по эстопсихологии состояли в том, чтобы определить свойства художественных произведений, уклоняясь от их оценки, и чтобы уяснить душевную организацию их авторов, а также тех, типичным представителем которых является определенный автор. Отсюда видно, что эстопсихология есть наука, которая дает возможность от частных проявлений интеллекта перейти к самому интеллекту и к группе интеллектов, нашедшей себе выражение в художественном творчестве. Все эти проявления интеллекта, все эти символические знаки, к числу которых относятся книги, картины, партитуры, статуи, монументы и пр., заключают в себе элемент “прекрасного”, эстетического. Но эстопсихология, анализируя произведения, стремится не к тому только, чтобы определить, в какой степени достигается это “прекрасное”, но чтобы знать, в каких формах оно проявляется, чем данное произведение оригинально и какова та сумма его свойств, благодаря которой можно заключать об известной душевной организации автора и ему подобных. Короче говоря, эстопсихология не ставит себе целью определить достоинство произведения и главные средства его архитектоники, потому что это задача чистой эстетики и литературной критики. Эстопсихология не имеет целью изучать произведение искусства, само по себе, ни с точки зрения его содержания, ни цели, ни построения. Она заботится единственно об отношении его особенностей к психологическим с одной и к общественным особенностям с другой стороны. Она интересуется произведением искусства, как символом, отметкой, разоблачением душевной и общественной организации. Если эстопсихология принуждена иногда пользоваться известными положениями эстетики, то только как предварительными данными и в той же степени, как физика - законами механики. Кроме этого, стараясь определить наиболее точным образом душевную организацию художника, она принуждена прибегать к общим положениям психологии. Стараясь разобраться в общественных группах, типичным выразителем которых является художник, она принуждена обращаться к социологии и этнологии. И именно, между этими тремя науками: эстетикой, психологией и социологией нужно поместить область научной критики. Следующие страницы нашей книги будут посвящены тому, чтобы уяснить свойства этой науки и отношение ее к другим наукам - как отношение активное, так и пассивное. Так как эстопсихология является еще наукой новой, не определившейся достаточно ни в целом, ни в частях, то наша книга носит скорее характер программы, чем полного законченного сочинения. Эстетический анализ I. Teopия эстетического анализа; художественное произведение Теперь, когда нами дано определение научной критики, и прежде чем приступить к вопросу о переходе от художественного произведения к душевным свойствам известной группы лиц, выражением которых оно является — нам нужно будет дать определение того, что значит, по своему существу, книга, картина, симфония. Все эти произведения искусства являются совокупностью средств воздействия на чувства, способных возбудить известного рода эмоцию. Что касается именно книги, то она есть словесное произведение, предназначенное для того, чтобы помощью различных образов — живых и точных или фантастических — возбудить в читателях или слушателях особый род эмоций, эмоции эстетические, особенности которых заключаются в том, что они в самих себе находят оправдание и смысл, не сопровождаясь непосредственно действием. Это определение довольно мало разнится от сделанного Спенсером. И доказательство его — несмотря на то, что им уже отчасти занимался Спенсер в своих “Principes de Psychologie” и в “Essais” — потребовало бы целого трактата. Оно опровергалось недавно некоторыми французскими эстетиками, особенно Гюйо; и в самом деле оно может оказаться недостаточно полным. Несмотря на это, мы намерены его удержать; и оно, как нам кажется, по примеру всех полных определений, касается не просто внешности, а уясняет и характер построения, и цель, которой достигают лучшие произведения искусства. Во всяком случае, нам кажется, что принятое нами мнение недалеко от истины. Это лучше уяснится на частном случае. Возьмем роман. Роман дает ряд сцен, способных сообщить волнение, эмоцию. Эмоция, которую обыкновенно ощущают при чтении или после чтения, является целью романа. Она разнится от той эмоции, какая могла бы возникнуть при виде действительных сцен, положенных в основу данного романа, тем, что она значительно слабее, как всякое воспроизведение или подражание, и тем, что никогда не сопровождается непосредственным действием. Никто не кинется на помощь, когда убивают героя романа в последней главе; а если женится герой, то радость, которую почувствует читатель, не повлечет практических последствий. В том случае, когда художник рисует жизнь и действует на чувства своею правдивостью, и в том, когда он предается вымыслу; в том случае, когда он тщательно рисует факты, как делают прозаики и реалисты, и в том, когда он их рисует, вернее, отмечает общими чертами, как делают идеалисты и поэты — всегда произведение искусства способно сообщить эмоцию, и именно безрезультатную. При дальнейшем изложении нам придется коснуться вопроса о том, не ложатся ли эмоции, при многократном повторении, в основу поведения личности, иначе говоря, не может ли влиять род чтения на свойства личности; можно будет также коснуться вопроса о том, не производят ли эти эмоции, какова бы не была их природа, всегда, во всяком случае, каких-нибудь определенных нравственных последствий. Но, оставляя это пока в стороне, мы остановимся теперь на том, что всякое литературное произведение имеет целью вызвать определенные, но неспособные непосредственно выразиться действием эмоции (emotions inactives); и первая задача всякого исследователя, если он желает из сочинений известного автора получить психологические указания, заключается в том, чтобы уяснить природу, особенности как эмоций, сообщенных автором, так и тех средств, помощью которых они вызываются. Двойная задача стоит перед ним: он должен уяснить: Что выражает автор? И как он выражает то, что хочет выразить? Порядок, в котором уясняются эти задачи, совершенно безразличен, потому что решение одной из задач не включает в себя решения другой задачи. Можно начать с особенностей формы известного произведения и перейти к эмоциям, но можно идти и обратным путем. 1) Мы предпочитаем второй путь, т.е. начнем с эмоций. При усиленном и разнообразном чтении, ознакомившись со всемирною литературою, исследователь литературы может уяснить себе общий тип произведений известного рода — хотя бы романа. Сравнивая и припоминая, он может различить в произведении, которое изучает, характерные, оригинальные элементы. Путем методического чтения, он доходит до формулировки, до классификации своих положений. Он определяет число, натуру и интенсивность эмоций, вызванных чтением, и классифицирует их. Нужно однако заметить, что здесь он натыкается на слишком большие трудности, и не замеченные большинством эстетиков. И в самом деле, сколько ни на есть систем классификации эмоций [См. Бэн: “Emotions et volonte”, I, 14; Wundt. “Psych.phys” IV. 18], все они оставляют в стороне эмоции эстетические, выделяя их в совершенно особый отдел. Мы уже видели, что эстетическая эмоция есть “недеятельная” форма (forme inactive) эмоции обыкновенной, что каждая обыкновенная эмоция способна приобрести характер эстетической; когда является под впечатлением произведений искусства. Помимо этого, эмоций эстетических никак нельзя классифицировать по тому типу, какой прилагается к эмоциям обыкновенным, потому что им не хватает как раз того свойства, на которое опирается научная классификация обыкновенных эмоций. Им не хватает того, что называют элементом “удовольствия” или “страдания”; по крайней мере этот элемент в них входит в очень слабой степени [Само собою разумеется, что мы оставляем в стороне чувства гнева или отвращения, которые в известных людях могут возбудить произведения искусства. Эмоция, сообщенная какому-нибудь классику романами Зола, картинами Делакроа или музыкой Вагнера, не заключает в себе ничего эстетического - и происходит это вследствие столкновения между личностью этого классика и личностью художника-новатора. Явление, подобное тому, какое замечается в случае всякого антагонизма или прекословия]. Мильзанд справедливо говорит (L’Esthethique anglaise. стр. 125) следующее: “Прекрасное, или по крайней мере то, что разумеют под этим названием, приятное... это ничто иное, как общая октава огромнейшей клавиатуры искусства. Печальное, ужасное, странное, вплоть до гнусного, подводятся под общий знаменатель с грациозностью, с элегантностью... Все стороны, все качества, которыми действительные или воображаемые явления могут нас привлечь или оттолкнуть, воспроизводятся искусством одинаково привлекательно”. Ясно, что эмоции с наиболее печальным, патетическим оттенком, производимые книгой, и даже те, которые доводят чувствительных людей до слез, — как напр., сцена трагической смерти, особенно печальная судьба, несправедливость, насилие, злорадство — проникают до глубины души, подобно тем эмоциям, какие сообщаются подобным же действительным, жизненным зрелищем, только без той горечи, какая свойственна обыкновенным эмоциям; они способны вызвать только общее возбуждение души, скорее чисто-возбуждающего, чем угнетающего свойства. Точно также книги с наиболее веселым, комическим оттенком, скорее просто возбуждают, чем веселят или радуют. Соглашаясь с тем, что интенсивность т.е. степень возбуждения — больше для патетических эмоций, нужно однако признать, что все-таки последние — крайне сходны с эстетическими эмоциями безусловно приятного свойства. Чувства, какие вызываются какой-нибудь комедией Шекспира и его трагедией, как, напр. “Гамлетом” не разнятся особенно по существу, хотя и разнятся по типу, по тембру, по силе; и уж во всяком случае, их разница — нисколько не пропорциональна резкой разнице в содержании. То и другое произведение возбуждают большой интерес, увлечение, восхищение, т.е. различные признаки простого, так сказать, нейтрального возбуждения, которое — приятно лишь постольку, поскольку оно — возбуждает. Замечательно то, что со времени возникновения искусства писатели, музыканты и живописцы любили изображать в своих произведениях явления наиболее патетического характера; излюбленные публикой произведения — произведения с трагической подкладкой; величайшие произведения искусства — те, в которых раскрываются мрачные образы и мрачные идеи, которые однако при всей своей громадной силе, при всем своем властительстве не могут причинить той горечи, того страдания, того неотвратимого и безусловного несчастия, которое бы побуждало вас к самозащите [Верон в своей “Эстетике”, допуская указанный факт, признает, что восхищение читателя или зрителя перед гением художника заставляет его позабыть об отвращении, какое иногда вызывается в нем содержанием. Мнение это едва ли может быть названо безупречным. Из того напр., что шекспировский Яго способен произвести на данного читателя известное впечатление, вовсе нельзя заключать, что этот читатель - способен понять искусство и широкий взмах, которые проявлены Шекспиром в создании этого типа. Это искусство и этот взмах могут быть поняты только после самого тщательного и сложного практического разбора. Ошибка Верона заключается в том, что в зрителе или читателе, способном восхищаться художественным произведением, он предполагает существование аналитических способностей. А между тем обыкновенно бывает так: когда человек восхищается, то не анализирует, а когда анализирует - тогда уже не восхищается. Гюйо разделяет ошибку Верона. Leon Dumont в своей “Theorie scientifique de la sensibilite” высказывает мысль, что интерес общества к произведениям патетическим - обусловлен сходством вызываемых ими эмоций с теми, которые в нас вызываются реальным созерцанием соответственных зрелищ. К таким вещам, как музыка или “Божественная комедия” принцип Leon Dumont’a - едва ли легко приложим] . Существенное свойство эстетических эмоций — а именно их слабая способность сообщать настоящую радость и настоящее страдание, откуда происходит общее предпочтение эмоций с несколько печальным оттенком — не было достаточно ясно подмечено ни одним эстетиком или психологом. Не желая много распространяться о сравнительных свойствах эмоций — обыкновенных и эстетических, потому что это не составляет непременной части нашего труда, мы думаем однако, что в обыкновенной, т.е. реальной эмоции было бы справедливо различать следующие составные элементы: во-первых, возбуждение, нейтральное возбуждение, которое является существенным и постоянным свойством всякого рода эмоций; и во-вторых, придаточное возбуждение, которое связано с рядом приятных или неприятных образов, способных оттенить основной фон возбуждения и вызвать наслаждение или страдание в собственном значении этих слов. Если эта гипотеза верна, то остальное уясняется очень просто. Эстетическая эмоция, вызванная искусством, воспроизводящим жизнь, будет разниться от обыкновенной эмоции, вызванной действительной жизнью, и уж тем более от той эмоции, какая в каждом частном случае возникает в человеке, принимающем личное участие в известных явлениях жизни. Эта разница будет заключаться в том, что эмоция первого рода, сохраняя элемент нейтрального возбуждения, почти совершенно лишена другого элемента — придаточного возбуждения; отрадные и мрачные образы присоединяются обыкновенно к этому нейтральному возбуждению, но сводятся почти к нулю, потому что вымышлены, не реальны. Совершенно напротив, в обыкновенной, реальной эмоции, эти образы сохраняют свою интенсивность, которую им придает уверенность в реальности наблюдаемых образов. Причинами эстетической эмоции, в противоположность причинам реальной эмоции, являются не реальные образы, а вымысел, галлюцинация, которой призрачность и безопасность легко сознается. Все эти образы — способны взволновать, растрогать, но вместе с тем их сила ежеминутно ослабляется. Этому способствует и свойство данных образов — их недействительность, их нереальность, и весь ход окружающей жизни. Они не действуют, как образы реальные, не усложняют ни личного страдания, ни удовольствия. И возбуждение, какое получается от них, подобно тому возбуждению, какое вызывается фехтованием. Не даром же Кант говорит, что “прекрасное — это предмет бескорыстного наслаждения”. Если принять теорию Спенсера, по которой удовольствие есть выражение умеренных чувствований, а страдание — сильных, чрезмерных, то сразу станет понятно, почему лучшие, излюбленные обществом произведения искусства выражают мрачные явления и мрачные идеи [Чтобы напомнить читателю общий смысл теории Спенсера об удовольствии и страдании, мы приведем выписку из сочинения по психологии Джемса Сёлли, который держится в этом случае той же теории. “Удовольствие есть спутник умеренной и правильной деятельности какого-нибудь органа или душевной способности. Умеренное возбуждение вкусовых органов, как и высших чувств мышечной энергии и душевных способностей сопровождается ощущением удовольствия. Но когда возбуждение переходит известную границу, ощущение удовольствия уменьшается и быстро сменяется отчетливым ощущением страдания. Так, если свет восходящего солнца превышает известную степень напряженности, он утомляет или “ослепляет” глаз; равным образом, усиленное упражнение мышц или сильное напряжение душевных способностей неприятно и утомительно”. — Прим. Переводч.]. Это потому, что в последнем случае эстетическая эмоция, происходя от нереальных, но грустных, мрачных образов, достигает наибольшей интенсивности, но вместе с тем, и как простое возбуждение, и как страдание, благодаря своей фиктивности она не достигает в этом случае той крайней степени, когда могла бы стать не приятной, а тягостной. “Гамлет”, “Божественная комедия”, минорная симфония, готический собор, “Милосердый Самаритянин” Рембрандта благодаря своим патетическим свойствам обладают большой возбудительной силой, но вместе с тем они не вызовут в вас грусти или боли, потому что, сообщив толчок, не нанесут вам раны. Слова “чувство прекрасного” означают, по нашему, следующее состояние духа: интенсивное возбуждение одного или нескольких чувств — при отсутствии образов, положительно и, так сказать, лично прискорбных, которые обыкновенно входят в реальную эмоцию; иначе говоря это — ощущение, прилив печали, без свойственной ей горечи или ужаса. Так как только настоящее страдание, истинное горе и желание освободиться от него являются пружинами животной и человеческой, личной и общественной деятельности — то нам становится вполне понятным, почему даже самые сильные эстетические эмоции не переходят непосредственным образом в действие, как мы сказали об этом и раньше. Эти эмоции совмещают в себе все возможные виды страдания, но элемент опасности, томления, горечи, боли в них несомненно отсутствует. Искусство — в этом смысле — вливает в наше сердце самую сложную жизнь, но не влагает горечи и побуждений к непосредственному действию. “Прекрасное” есть чисто-субъективное понятие и соответственно ему для каждой данной личности существуют свои возбудители — достаточно сильные, но безвредные. 2) Предыдущие рассуждения о свойствах эстетических эмоций (впечатлений) помогут нам выяснить сущность различных средств, помощью которых эти эмоции (впечатления) вызываются художником в его почитателях. Средства эти: непосредственное внушение, экспрессия и символизм. а) Если под эстетической эмоцией разуметь только общее, смутное, как бы рассеянное т.е. не сведенное к общему фокусу возбуждение, которое всегда сопровождает образование идей и представлений, и если согласиться, что эстетическая эмоция есть незаконченное представление (une idee inadequate) — то мы сумеем без труда уяснить себе громадное значение тех средств, которые подводятся под рубрику непосредственного внушения (suggestion). Средства такого внушения, намеки, аллегория, неопределенность и неясность контура — в картинах ли, в мелодиях ли Вагнера — все эти приемы искусства не дают нам ясно выраженных, вполне определенных образов и представлений; очевидно однако, что эти приемы — хотя они не производят резкого, законченного впечатления — способны дать толчок фантазии и вызвать в вас желание дополнить, уяснить себе по своему незаконченный образ; в тех, кто желает восстановить в своем воображении определенный, цельный образ, они способны вызвать напряжение, волнение, наслаждение догадкой и творчеством — иначе говоря, то самое рассеянное возбуждение, которое является источником эмоции безусловно эстетической, тем более, что в данном случае не может быть и речи об “удовольствии” ила “страдании”, в собственном смысле последних слов. “Для того, чтобы понять значение неправильного знака — говорит Dumont — нужно употребить больше энергии, чем при разъяснении правильных знаков; а чем больше затрата энергии и творческих способностей — тем больше удовольствие”. Польза внушения, имеющего место главным образом в поэзии, к сожалению значительно ослабляется тем, что представляемые образы — здесь не достаточно определенны и трудно усвояемы: оно способно иногда утомлять. b) Другое средство, противоположное непосредственному внушению, мы назвали экспрессией (expression). В литературе — это выразительный и яркий стиль; в живописи — экспрессия, выпуклость; в музыке — это законченность, очерченность мелодии. Сам художник в этом случае, исполняет весь тот труд, который при непосредственном внушении возлагается на его почитателей. Он вырисовывает образы и ощущения с определенным, ясно обозначенным контуром; он вызывает в своем зрителе или читателе, на сколько можно, идентичные с представленными, сходные до чрезвычайности образы и ощущения; но эти образы и ощущения бывают непременно прозаичны благодаря тому, что больше понимаются, чем непосредственно чувствуются. c) Нам остается сказать несколько слов о символизме (symbole). В литературе — это символический язык; в музыке — так называемый leit-motif (основной мотив); в живописи символизм нашел себе выразителей в лице Шенавара и Каульбаха [Шенавар род. в 1808 г. в Лионе. Каульбах род. в 1805 г. в Арользене. В числе прочих картин у Каульбаха есть юмористические рисунки к известной эпопее “Рейнеке-Лис”. — Прим. Переводч.]. Пользуясь символизмом, художник вступает в особенное соглашение с своим почитателем [Примером символизма для русского читателя может послужить православная церковная живопись. — Прим. Переводч.]. Рассмотренные нами средства художественного воздействия в изменчивой пропорции присущи всем произведениям искусства. Непосредственное внушение и для художника, и для его почитателей — вполне субъективно. Экспрессия стремится к объективности. Символизм — объективен. В первом случае мы имеем дело с чувством и ощущениями, во втором — с эмоциями и идеями, в третьем — по преимуществу с идеями. II Практическое приложение анализа. Предыдущей главой доказано, по крайней мере, одно положение, а именно, что выразить эстетические эмоции с точностью при помощи коэффициентов удовольствия и страдания нельзя. Для того, чтобы уяснить характер эмоций, вызванных произведением, нет никакого другого средства, как поименовать их, следуя главной идее, с которой они связаны в произведении. Именно таким образом и приходится говорить о различных эмоциях — величия, таинственности, истины, ужаса, любопытства, сострадания и т.п. Изучив с этой точки зрения известное число художественных произведений, мы снова придем к заключению, что нет ни одного произведения, которое могло бы сообщить эмоцию, легко переводимую на язык удовольствия или страдания. Нет книги, которая могла бы сообщить нам настоящее страдание, полное уныние, истинную скорбь — разве если мы сумеем перенести прочитанное на самих себя. Нет такой картины, которая доставила бы нам удовлетворение — полное, которая внушила бы нам бодрость и личный, своекорыстный интерес; она способна сообщить своего рода удовольствие, но только в той ограниченной мере, в какой оно доставляется простым физическим или умственным упражнением. Вообще эстетические эмоции — заключены в границах между истинным удовольствием и истинным страданием, приближаясь однако больше к удовольствию, которое носит характер почти простого, чистого возбуждения. Все это служит практическим подтверждением высказанной нами выше гипотезы. Когда указаны эмоции, нужно было бы ждать, чтобы критик измерил интенсивность их; но исследования этого рода — пока недоступны и без сомнения останутся недоступными чрезвычайно долго. Численное выражение даже самых простых психофизических явлений представляет громадные трудности. Ch. Fere, оперируя над истеричными субъектами и принимая за основание рефлекторные изменения мускульной энергии, пытался измерить удовольствие, причиняемое различными цветовыми ощущениями. Можно и еще продолжать исследования в этом направлении [Чрезвычайный интерес представляют в этом смысле исследования Шарля Генри. Он пытается доказать математически, что наши элементарные ощущения, которые положены в основу и гаммы, и спектра, и нашего предпочтения одних возбудителей перед другими, - что эти ощущения стоят в самой тесной и строгой связи с основным устройством психической организации живых существ. Шарль Генри считает даже возможным установить тот факт, что все наши научные познания, как результат нашей чувствительности, стоят в логической связи с известным органическим устройством. Если бы эта мысль подтвердилась - это было бы одним из величайших открытий. Во всяком случае Шарль Генри владеет методом, позволяющим ему a priori отличить приятные ощущения от неприятных и установить таким образом известные, строго гармонические ассоциации звуков и тонов. Очевидно, что Шарль Генри облегчит этим в значительной степени анализ пластических и музыкальных произведений искусства, позволяя определять в них элемент физического удовольствия или страдания, причиняемого нашим чувствам. Но это будет определение общего удовольствия, а не чувства “прекрасного”, так как последнее имеет своим источником дисгармонические сочетания наравне (если не больше) с гармоническими. По нашему мнению, термины “нормальный” и “эстетический” нужно непременно различать]. Но, каков бы ни был успех этих исследований, и то будет трудно получить объективную меру эмоций, вызванных каким-нибудь произведением, потому что все эмоции — вполне субъективны и не представляют постоянной силы, которая не изменялась бы сообразно с натурой читателя, зрителя или слушателя. Так как всякое произведение искусства производит совершенно различное по степени действие на различных людей, то измерение возбуждений при помощи каких-нибудь точных, артистических приемов у какой-нибудь данной личности не привело бы ни к чему. Потому что изменение могло бы дать характеристику случайного читателя, а не самого произведения. Закон средних величин может повести к известным заключениям и только в приложении к людям, принадлежащим к какой-нибудь одной категории. От указанных изменений все-таки же можно ждать того, что они помогут установить раз и навсегда точный смысл употребляемых теперь каждым по своему выражений: посредственный. слабый, средний, сильный, глубокий, чрезвычайный и т.п. Таким путем можно будет определять, если не абсолютную эмоциональную силу данного произведения, то по крайней мере относительную силу произведений по отношению к данному складу ума и по отношению к другим произведениям искусства. До сих пор это было невозможно и критик принужден пока держаться несовершенных и неточных приемов квалификации впечатлений. Все эти трудности могут навести на мысль, что та часть критического анализа, которую мы теперь изучаем, не может иметь приложения на практике. Это однако не так. Нет сомнения, что задача, о которой мы говорили, трудна и может быть исполнена только в общем виде. Однако, нет такого произведения, изучение которого не дало бы возможности ясно наметить три или четыре наиболее важные эмоции, вызванных им. Произведения Поэ направлены главным образом к возбуждению любопытства и ужаса; произведения Зола вызывают чувство напряженной воли, симпатии и пессимизма. Делакроа проникнут весь патетическим увлечением и т.д. Интенсивность этих эмоций может быть выражена с достаточно удобным приближением. Около намеченных центральных пунктов можно сгруппировать менее рельефные, второстепенные черты, дополняющие картину. Деликатно подбирая краски и оттенки, можно восстановить во всей полноте серию душевных движений, вызываемых художником. Когда все это сделано, нужно выяснить те элементы произведения, благодаря которым вызываются известные эмоции. Остается только выяснить средства, помощью которых достигается известный эффект. В этих изысканиях возможна научная точность, потому что они касаются композиции, стиля, техники — всего того, что входит в компетенцию установившихся наук. Теория цветов, звуков, теория архитектурных отношений — все эти теории достаточно разработаны. В литературе — и то приходится иметь дело с такими сторонами, относительно которых мы обладаем точными знаниями. Всякое произведение (мы разумеем в данном случае литературное) слагается из суммы внешних художественных средств, одинаковых для всех родов литературы, употребляемых всеми писателями — и из ряда изображаемых художником явлений; мы разумеем действующих лиц, идеи, сюжеты и т.п., которые, являясь различными для каждого произведения, и составляют его содержимое. В каждом напр., романе — что касается его внешности — есть свой словарь, свой синтаксис, своя риторика, свой тон и композиция, а что касается до содержания — в нем есть ряд персонажей, своя обстановка, своя интрига, сюжет и т.д. Изучение этих различных сторон, начиная от самых простых и кончая наиболее сложными, может повести к важным заключениям. Что касается прежде всего словаря, то он для каждого данного писателя характеризуется преобладанием выражений и слов какого-нибудь одного определенного сорта, которые, по свойству вызванных ими непосредственно или ассоциированных с ними образов, по тому даже прямому ощущению, которое они сообщают и т.д., могут быть отнесены в различные категории — цветистых, причудливых, благозвучных, безыскусственных, простонародных и т.д. Синтаксис писателя художника может обнаруживать строгую правильность или небрежность, соединенную с своего рода прелестью в виде неожиданных, художественных перлов. Автор может держаться постоянно обыкновенного расположения слов или же употреблять чрезвычайные, редкостные обороты. Он может выражать свои мысли или единственно при помощи точных и правильных терминов — или образно, при помощи особенных тропов. От словаря писателя, от синтаксиса и риторики зависит одно из верных, могущественных средств воздействия — тон речи, который может быть меланхолическим, угрюмым, ораторским, сдержанным, сухим, ироническим и т.д... Когда рассмотрено построение фраз, нужно перейти к композиции произведения — поднимаясь постепенно от композиции отдельных сцен к композиции глав и от этой последней к композиции целого. Это важно, потому что эмоциональное воздействие произведения зависит, в известной степени, от способа расположения его частей, от неожиданности известных сцен; от естественной последовательности других сцен, от искусного употребления фигур распространения и умолчания, от общего хода повествования — ровного, ускоренного, медленного, переменного и т.д. Вся совокупность указанных средств составляет, как мы сказали, только внешность, форму какого угодно романа и в этом смысле не зависит от его сюжета, от изображенных в нем явлений и от идей. Нужно одно лишь — чтобы эти средства поддержали единство всех частей произведения. Отдельные фразы, их связь и их комбинации — предназначены для того, чтобы обрисовать сложные отношения людей — в определенной обстановке. Берясь за композицию романа, нужно описать место, где происходит действие, действующих лиц и их проявления. Многое другое — и особенно рассуждения вводного свойства — не составляют существенной части романа. Эмоция, сообщенная читателю романом, зависит от той обстановки, в которой происходит действие, от свойств обрисованных лиц и от характера тех отношений, в которые они вступают. Эмоция зависит также от интенсивности, от выпуклости обрисованных образов, их проявлений и их обстановки. Путем изучения каждой из намеченных, составных частей романа, путем сравнения его частей с соответствующими частями других романов или, еще лучше, путем сравнения его с отвлеченным, типичным романом — можно прийти к известному количеству точных заключений. Если эти заключения присоединить к тем, какие получены при изучении указанных раньше внешних средств писателя-художника, и к тем, какие получаются при изучении самих эмоций, а если к этому еще прибавить заключения, какие вызываются самым сюжетом (будет ли то драма, действие или живописное описание) — то и получится ряд указаний, которые, дополняя и уясняя одно другое, дадут в конце концов понятие о внешних и внутренних особенностях данного произведения. Не трудно приложить тот же анализ ко всем видам литературы и ко всем искусствам. Историческая повесть, эпопея, драма не представляют в сравнении с романом особой разницы. Зато, несколько нужно изменить процесс изучения, когда дело идет о произведениях, не просто раскрывающих перед читателем те или другие картины жизни, а проводящих известную идею. Мы разумеем дидактическую поэзию, ораторские речи, литературную критику, философию и науку. Изучение эмоций и внешней формы произведения может оставаться в этом случае таким же, какое описано раньше. Напротив, изучение содержания этих книг должно измениться. И в самом деле, очевидно, что идеи, положенные в основу этого рода произведений, выставлены автором — не вследствие их эстетических свойств, не вследствие своей способности вызвать те или другие эмоции, а вследствие того, что эти идеи, по его мнению, служат выражением истины, т.е. обладают таким качеством, которому нужно подчиниться и которого автор произведения не может изменить ни во имя своих наклонностей, ни во имя цели, которую он преследует. Что касается до этих произведений, то эмоция, ими вызванная, истекает прямо из идей, которые в них выражены только в том случае, когда дело идет о метафизических сочинениях, написанных стихами или прозой, потому что в этом случае автор произведения, сообразно со своим темпераментом, ставит какой-нибудь “постулат”, выведенный им на основании дедукции, интуиции, вдохновения или рассуждения, с увлечением, с горечью или бесстрастно — но непременно с помощью диалектических приемов, которые могут в душе известных, специально одаренных людей оставить глубокий эстетический след. Распространяя эту точку зрения на все произведения дидактического свойства — придется по возможности внимательно рассматривать те части произведения, в которых автор, оставляя простое констатирование фактов, строит гипотезы или пускается в метафизику и рассуждения его принимают таким образом наиболее восторженный, страстный характер. Сочинения Прудона, “Этика” Спинозы; сочинения Тэна или Ренана; в меньшей уже степени “Речи” Демосфена или Боссюэта, которые являются не столько рассуждением, сколько сердечным излиянием; еще в меньшей степени “Основные начала” Спенсера, “Небесная механика” Лапласа — допускают применение к себе эстопсихологического анализа. Таким же образом произведения литературной критики могут послужить предметом этого анализа. Потому что задача эстопсихолога заключается не в том, чтобы уяснить, каким образом известный автор разобрал известное произведение, а в том чтобы понять, почему и чем именно то или другое критическое исследование способно интересовать и волновать. Особенное мастерство и разные другие свойства Тэна одинаково хорошо проявляются и в его этюдах о Johnson’е или Addison’е, и в его “Voyage aux Pyrenees” или в “ Notes sur Paris”. Остается сказать несколько слов о произведениях — поэтических по преимуществу. Мы разумеем лирику. Изучение эмоционального эффекта и здесь остается таким же, как описано; изучение же особенностей стиля пополняется исследованием ритма и усложняется соразмерно значению формы в лирической поэзии. Изучение содержимого сводится к анализу нарисованных поэтом образов, его мечтаний и вообще той умственной сферы, которая излюблена поэтом. Едва ли высказанный нами взгляд нужно развивать еще дальше. Проводя ряд аналогий, еще более отдаленных, и признавая, что всякое произведение искусства при помощи различных средств способно сообщать определенную эмоцию — не трудно понять, что все, что говорили мы относительно литературы, легко приложимо к живописи, к архитектуре, к музыке. III Эстетический анализ и отношение его к другим наукам Польза исследований, указанных нами — не говоря уже о том употреблении, какое мы хотим из них сделать, чрезвычайно велика. Анализ, намеченный нами — если приложить его к возможно большему количеству произведений — доставит ценный материал для обобщений по экспериментальной (основанной на опыте) эстетике, уяснит нам технику произведений и эволюцию искусства — иначе говоря, и его морфологическую сторону, и динамическую. Кроме того, ясно также, что эти исследования эстетических эмоций могут оказать значительную услугу при обосновании одной из мало разработанных частей психологии — а именно учения об эмоциях. Могут сказать, что всякий исследователь, констатируя известный эмоциональный эффект — вследствие крайней изменчивости вкусов — будет принужден внести в свои суждения о том или другом произведении личный элемент; и это проявится даже в том факте, если он признает, что то или иное произведение вызвало тот или иной эффект. Принятое нами определение художественного произведения касается в одинаковой степени и фельетонного, и аналитического романа, произведений низшего и высшего сорта; оно прилагается одинаково хорошо к эмоции извозчика, возникшей под влиянием шансонетки, к эмоции поэта, очарованного Шуманом, к эмоции философа, вызванной в нем Малебраншем, или наконец к эмоции какого-нибудь инженера при виде движущегося локомотива. Исследователь — это индивид, единица; его мнение по поводу эмоций и средств, помощью которых они вызываются, является личным мнением, мнением человека с определенным темпераментом и воспитанием. Правила, которые извлечет эстетика из критических трудов данного исследователя, найдут себе опровержение в правилах, извлеченных из работ другого исследователя. — Эти возражения, по нашему, не имеют за себя вполне серьезных оснований. Они покоятся на смешении двух актов, возможных при критическом исследовании. Одно дело — измерить интенсивность эмоции; и совершенно другое дело — определить характер эмоции, вид эмоции. Совершенно верно, что мало может быть людей, которые по поводу какого-нибудь чтения почувствуют одинаковую степень эмоционального возбуждения; верно и то, что различие в степени удовольствия, интереса и т.п. может зайти далеко. Мы сами признали изменчивость количественной стороны возбуждения по поводу известных произведений, когда говорили о попытках точного измерения эмоций у разных лиц. Совершенно иное дело — качественная сторона эмоциональных возбуждений. Качественная оценка представляет достаточное постоянство. Среди лиц, чувствующих слабо или сильно известную эмоцию по поводу какого-либо произведения, только очень редко существует несогласие относительно природы и причин ощущаемой ими эмоции. Можно не любить Бальзака, но из тех, кто читал его, никто не скажет, что чувствует истому или умиление, ни того, что это чувство связано с блестящим и благородным стилем романиста. Точно также Мериме никому не покажется лириком; или Виктор Гюго — безыскусственным; или Ламартин — язвительным. Есть пункты и в литературе, относительно которых устраняется всякий спор. На почве этих пунктов происходит соглашение — такое же, как относительно общих свойств греческой скульптуры, фламандской живописи, итальянской музыки и т.п. Субъективизм оценки художественных произведений проявляется не тогда, когда дело касается свойства, природы эмоционального возбуждения, а тогда, когда оно касается степени, иначе говоря, количественной стороны возбуждения. К этому соображению надо прибавить еще то, что люди, желающие заняться эстопсихологией и способные к этому, будут обладать разносторонним знанием и беспристрастием, что они сумеют почувствовать прелесть почти всякого произведения, что они будут по крайней мере стараться понять каждое произведение, исходя из принципа, что всякое произведение, если оно кого-нибудь взволновало, имеет соответствующие свойства, которые и обусловили этот эффект. Если к этому прибавить еще то, что ни одна из существующих наук не защищена от вторжения в нее личного элемента, тогда станет понятно, что это вторжение личного элемента, этот субьективизм, свойственный в известной степени эстопсихологии, не окажется для нее чем-то фатальным и не остановит ее развития, как не удалось ему остановить развития психологии, как философия Канта, доказавшего невозможность понимания вещи в себе, не остановила прогрессивного хода всех естественных наук. Психологический анализ I Теория психологического анализа. В предыдущем отделе мы рассмотрели произведение искусства с точки зрения эффекта, который оно способно произвести, и непосредственных причин, которыми обусловлен эффект. Теперь мы изучим его постольку, поскольку оно отражает в себе личность автора. В самом деле, книга, являясь просто книгой, есть вместе с тем произведение известного человека и чтение для ряда других людей. Подняться от книги к ее автору и затем к его почитателям — вот что составляет задачу научной критики. Всякое произведение может дать определенные указания относительно его автора, выражением которого оно является, и относительно почитателей — с определенным вкусом, который уясняется характером произведения. Первые указания относятся к области индивидуальной психологии; вторые — к области общественной психологии. Мы займемся сначала первыми. В историческом обзоре критики мы уже указали на то, что большинство критиков видело свою задачу только в том, чтобы оценить произведения известного писателя. Тэн, первый, почти освободил себя от этой второстепенной задачи и старался в своих очерках, то благодаря биографическим данным, то благодаря указаниям, полученным из произведений, уяснить душевную организацию автора, хотя бы в терминах самого общего свойства. Но самые лучшие труды критиков-биографов можно упрекнуть в двух недостатках: психологические указания, извлеченные ими при поверхностном обзоре литературных произведений, отличаются большою общностью и слишком мало точны для того, чтобы считаться научными. Это с одной стороны, а с другой: стремясь уяснить себе личность художника, критик-биограф прибегает к истории его жизни, к этнологии, к закону наследственности, к влиянию среды — и вместе с тем к прямому анализу его произведений. Он, значит, держится одновременно двух разных методов, из которых первый должен уступить свое место второму, потому что в своем настоящем виде, что мы покажем несколько позже [В отделе “Социологический анализ”. — Прим. Переводч], он покоится на сомнительных, недоказанных, предвзятых положениях или законах, разделять которые научная критика не может до тех пор, пока она сама, путем собственных исследований, не определит степень, в которой они приложимы к категории высших людей. Таким образом в самом произведении, и только в нем, нужно искать необходимые указания тому, кто хочет изучить личность художника. И задача, которую он должен поставить, может быть выражена так: изучив все эстетические особенности известного художественного произведения, связанные с его формой и содержанием — определить в терминах научной психологии особенности душевной организации его автора. Рассуждение , путем которого можно решить этот вопрос — вопрос о том, как перейти от эстетических особенностей данного произведения к душевным особенностям его автора — очень просто. Употребление известной формы стиля, какой-нибудь оригинальный оборот — будет ли это вполне самобытно или вызвано подражанием — всегда имеет свою определенную, физическую причину в авторе произведения. То же самое надо сказать и относительно всего произведения — книги, картины или партитуры. Прежде всего художника толкает на поприще искусства то или иное желание — славы или денег, или инстинктивное влечение и т.п.; приняв решение, художник посвящает себя определенному искусству; он, избирает определенную отрасль искусства и прибегает к определенным приемам. Одним словом, он создает произведение, отличающееся от произведений других художников определенными свойствами — о которых нам пришлось говорить в предыдущем отделе. Он будет писать, рисовать, компонировать так, как позволят ему его дарования (facultes) — природные и приобретенные, как повелят ему его стремления, его идеал. Характерные свойства его произведения будут обусловлены известными свойствами его души. Свойства произведения будут находиться в таком же отношении к свойствам его души, в каким всякое действие относится к своей причине. Из свойств произведения можно вывести свойства души; к последним существует такой же переход, как переход от символа к вещи, им обозначенной, от выражения — к выражаемому, от проявлений — причине этого проявления. Слово “дарование” указывает на ту или другую способность (aptitude) и предполагает условия для проявления этой способности. Если человек может поднять известную тяжесть на вытянутой руке — это значит, что у него есть кости, мышцы, иннервация и побуждения — необходимые для этого. Точно также, если данное произведение обладает известными свойствами и если автор сумел ему сообщить их — это значит, что автор этого произведения обладает соответственным складом душевной организации. Следовательно, совокупность эстетических особенностей позволит делать заключения о характере известной душевной организации, т. е. позволит в конце концов уяснить свойственные данному художнику особенности его ума, чувства, воображения, идейной и выразительной способности, воли и пр. Затем остается только путем изучения и рассуждения определить частные особенности мысли, какие можно предположить на основании известной совокупности эстетических признаков. Но большинство художников не могут ограничиться непосредственным творчеством, следуя только скрытым указаниям своих способностей. Они или заимствуют, или сами создают определенный идеал, к которому стараются приблизить по возможности свои произведения. Само произведение и те или иные стороны его художник наделяет теми качествами, которые согласуются с его идеалом и которые художник стремится реализовать. В этом случае, творческая деятельность сопровождается известным желанием, стремлением художника и носить на себе известный отпечаток эмоциональности. Известно, что желание — это сознательное выражение какой-нибудь развившейся способности. Идеал же художника есть сознательное выражение — в форме образов — тех самых способностей, которые составляют основу его души и которые являются лучшим определением его личности. Ко всему этому надо прибавить еще следующее. Эстетические особенности всякого произведения слагаются из известного числа эмоций, словесных и вещественных образов, идей, понятий в т.д. Эти образы и эти идеи, прежде чем обнаружиться в том или другом произведении, должны быть заложены в уме автора, создавшего это произведение. Если число этих душевных проявлений стало хоть сколько-нибудь значительным, они должны составлять главную часть психической жизни художника. Известно, что ум, так называемое “я” всякого человека составлено, как это доказывает Рибо в своих “Болезнях личности”, не неопределенной и бесформенной смесью понятий, а известной последовательностью, известным ритмом, группировкой образов, идей, чувствований, эмоций, известной циркуляцией душевных проявлений . Таким образом, всякое произведение дает нам понятие о значительной части душевных проявлений художника. Кроме того, что оно служит выражением этих проявлений, оно уясняет внутренние условия этих проявлений, способности художника, его желания, лежащие в основе его внешних проявлений [Taine. Intelligence, IV, 3]. Поэтому вполне законно — пытаться уяснить на основании произведения личность художника. Если из ряда произведений того или другого художника полечены и уяснены все эстетические особенности, в них заключенные, тогда не трудно на основании их перейти и к душевным особенностям этого художника. Если эти эстетические особенности многочисленны — другими словами — если разбираемое произведение — значительно и разнообразно в своих частях, если эти особенности важны — другими словами — если произведение оригинально и талантливо, — тогда психологические особенности будут также многочисленны и также важны. Метод научной критики окажется тем более плодотворным, чем выше и прекраснее произведения, к которым он прилагается. II Практическое приложение анализа; частные положения Обоснованное в теории, психологическое толкование эстетических особенностей произведения — не трудно выполнимо и на практике. Если напр. писатель инстинктивно склоняется к тому, чтобы употреблять тщательно колоритный стиль т.е. ряд форм, направленных к тому, чтобы дать точный, легко воспринимаемый, чувственный образ рисуемых им предметов — это означает, что сам художник способен в совершенстве воспринять известный образ благодаря своим усовершенствованным чувствам, благодаря своей усиленной способности задерживать известные ощущения, легко вспоминать их и переводить в живые образы; это означает также, что художник обладает полным каталогом слов, способным выразить его перцепцию (чувственные восприятия) и воспоминания. Зато самая живость его чувственных восприятий обыкновенно развивается в ущерб его обобщающей способности — так что его знания носят скорее частный, узкий, чем общий характер, а способность отвлеченного знания — ограничена. Как на пример писателей этого рода, можно указать на некоторых представителей реалистической школы, известных колоритным стилем. Нужно прибавить также то, что при развитости чувственных восприятий в результате может возрасти непомерно способность выражения цветовых оттенков и вместе с тем развиться уменье изображать предмет только в одном каком-нибудь литературном или живописном стиле. В качестве примера можно указать на французских романтиков и на представителей декоративной живописи, которые так слабо преуспевают в области портретной живописи. В том случае, когда отличается особенным совершенством композиция всего произведения или его частей — можно думать, что идеи художника отличаются особенной связностью и последовательностью, что законы подобия и смежности с особенным постоянством и силой воплощаются в его уме. Степень совершенства композиции покажет, в какой мере приложимо к художнику приведенное суждение. Если художник — как напр. Флобер — отлично строит фразы и параграфы, посредственно — главы, и дурно — целое сочинение, тогда нужно допустить, что мысли его в общем не отличаются связностью, что этот недостаток возмещается художественной силой его фразы, благодаря чему он умеряет общий беспорядок своих мыслей. Употребление какой-нибудь фигуры, как напр. сравнения, позволит сделать аналогичные заключения. Если сравнение является усиливающим, как у Шатобриана, оно указывает на легкое согласование в уме писателя образов сравнительно отдаленных, отмеченных свойствами благородства и красоты, с теми, какие вызваны в его уме воспоминанием или непосредственным ходом мысли. Этот характер сравнений может объясняться удовольствием, какое доставляется ими писателю, известным органическим предрасположением, которое заставляло его живо чувствовать эмоции величия и влияло на все части его произведения. К важным заключениям можно также прийти на основании изучения того, что мы назвали внутренними средствами художественного воздействия т.е. содержания, сюжета, характера лиц и пейзажей, обрисованных автором, манеры понимания и передачи явлений. Есть формы душевных состояний, которые соответствуют каждому из отличительных свойств произведения. При изучении произведения можно даже открыть, каковы свойства вещей, которые легче усвояются и вспоминаются автором. Так большинство живописцев и писателей-реалистов обладают памятью зрительных ощущений; японские живописцы и Гонкуры воспроизводят главным образом то, что вызвано впечатлением движения; такие музыканты, как Берлиоз, обладают больше всего памятью слуховых ощущений. На этих примерах можно остановиться. Свойства сюжета, отдельных сцен, метафор, тона, общего хода повествования, даже расстановка знаков препинания — у писателя; свойства отдельных штрихов, оттенения, соотношения фигур, общей выдержки, общего колорита — у живописца; тембр и ритм — у музыканта; известный модуль, соотношение частей, орнаментация — у архитектора: все эти эстетические признаки могут повести к психологическим заключениям; и совокупность этих заключений дает нам определенную картину душевного склада художника; картина может быть еще пополнена благодаря изучению эмоций, которые он сообщает своим почитателям. Толкование эмоций будет очень просто и прямолинейно, когда дело идет о произведениях, проникнутых очевидным и искренним увлечением. Напротив, в том случае, когда, вследствие бесстрастия, или иронии, или вследствие какой-нибудь другой причины, автор как будто старается воспрепятствовать тому, чтобы сообщить какую-нибудь одну определенную эмоцию; когда он затрудняет вопрос о сообщенных им эмоциях — в этом случае нужно прибегнуть для уяснения их к каким-нибудь ухищрениям. Большинство художников слишком очевидно и слишком открыто стараются бить на струнах сочувствия иди чувствительности публики; они пользуются таким способом выражения своих мыслей, благодаря которому могут легко сообщить известную эмоцию — при помощи красноречивых отступлений, если дело идет о книге; при помощи трогательных сюжетов, если дело идет о картине; и вообще при помощи каких-нибудь излишеств, не особенно идущих к месту. Как на пример произведений, написанных в этом роде, можно указать из области романов на “Вертера”, на картины Рубенса, или Делакроа и, наконец, на всю почти музыку. Психологическое толкование эмоций, сообщаемых произведениями этого рода, очень просто. Они выражают чувства печали, скорби, душевной пресыщенности, величия и т. подобные, относительно природы которых никак нельзя обмануться. Эти эмоции могут быть выражены автором или сознательно, потому что они согласуются с его идеалом и с его темпераментом и он считает их плодотворными — или бессознательно, просто потому, что автор их испытывал тогда, когда писал, и потому что самое произведение получило характера монолога. В обоих случаях эти эмоции свойственны и самому художнику — потому что произведения указанного рода имеют свойства автобиографии; в обоих случаях на основании этих эмоций, зная условия их появления, можно перейти и к свойствам душевной организации автора. Напротив — такие писатели, как Мериме, Флобер, Leconte de l’Isle, французские парнасцы, многие живописцы, большинство скульпторов и архитекторов, музыканты — такие как Глюк, — стараются устранить из своих произведений всякое вмешательство личного элемента, всякую душевную пресыщенность, всякое нарушение стройности. Их произведения отличаются холодностью и спокойствием; и эмоция вытекает у них сама собой, исключительно из сцен, обрисованных ими, и из понятий, намеченных ими. Их искусство воздействует на чувство и на мысль так же, как воздействует немая природа — между тем как увлеченные, страстные художники стараются вызвать ту или другую эмоцию самым скорым, прямым путем, зная, что волнение одного человека легко сообщается другому человеку. Отсюда ясно, что понять душевную организацию автора на основании его произведений в последнем случае труднее, чем в предыдущем, разобранном случае. Нужно очень старательное изучение его произведений, для того чтобы по разным признакам — по выбору и способу обрисовки типов, по наиболее искренним, горячим, или невольно подчеркнутым выражениям, по частому возвращению той или другой общей мысли — чтобы по всему этому уяснить себе симпатии и антипатии автора. Кроме того, несомненно, что он в своих произведениях так или иначе отражает, реализует свой идеал красоты, что он стремится возбудить определенные эстетические эмоции, к которым — нужно думать — он склонен и сам. Наконец, самый факт сдержанности, осторожности, которая заставляет художника быть холодным, заставляет избегать всяких признаний, обращений, настаиваний и выдвигания на первый план своей личности — самый этот факт служит особенным характеристическим признаком его воли и его характера. В общем, надо прийти к тому заключению, что анализ эмоциональной стороны произведений этого рода может оказаться таким же плодотворным, как относительно прежде указанных. Души Флобера и Leconte de l’Isle’я для нас вполне понятны. Понятен пессимизм первого — с известной примесью иронии, понятен также и кичливый пессимизм второго; понятна их любовь к величественной, первобытной красоте, к воплотившим ее отдаленным эпохам человеческой жизни и их презрительное, молчаливо или громко и с ненавистью выраженное отношение к новейшим эпохам — живому отрицанию той красоты. Все это признаки, дающие возможность уяснить их нравственную личность, которая, хотя и скрыта, но несомненно воплотилась в их произведениях. Точно также, скорее только кажущуюся, чем действительную трудность представляют произведения художников-подражателей. В самом деле и в средствах художественного воздействия, и в характере возбуждаемых ими эмоций они подражают тому художнику, учениками которого они являются. И может показаться, что метод нашего анализа, приложенный к этим подражателям — среди которых могут быть, однако, выдающиеся живописцы, великие поэты, как например романтик Швинбурн, и замечательные романисты, как например Золя — что метод наш окажется бессильным. Может показаться, что произведения этих художников-подражателей могут дать указания только для характеристики душевной организации художников, послуживших образцами для подражания — так как они впервые употребляли приемы, усвоенные позже их учениками. Но нужно помнить то, что самый факт подражания, тот внутренний процесс, благодаря которому писатель встает именно под данное знамя, а не под какое-нибудь другое, тот факт, что он способен с известным успехом и известной своеобразностью пользоваться избранными им началами эстетики: все это — очень знаменательно, имеет свою определенную причину и сводится в конце концов к умственному складу автора; к его наклонностям, к его стремлениям. Очевидно, что в душевной организации художника-подражателя и его учителя должно быть общее сходство. Эта организация — сильнее выражена у оригинального, самобытного художника, потому что она побудила даже его выйти из пределов того, что существовало, на новый путь; она, очевидно, слабее выражена у художника-подражателя, который в проявлении ее не обнаружил особой самопроизвольности. Но все-таки она однородна с организацией художника самобытного. Такую однородность, общность психологических явлений можно отметить в области романтизма, реализма, колоритной живописи, полифонической музыки и т.п. Разбором этих частных случаев можно ограничиться. Можно впрочем еще указать на ряд особенных случаев — на писателей-меркантилистов, на детских писателей, на фельетонистов, пишущих только для определенного класса общества, на живописцев и музыкантов, озабоченных тем, чтобы нравиться обществу больше, чем себе, и вообще на ряд художников, которые прибегают к известным приемам и занимаются каким-нибудь искусством не вследствие призвания, а по расчету, с целью, совершенно посторонней и чуждой искусству. Во всех этих случаях можно выпутаться из затруднения, потому что усмотреть посторонние искусству элементы, неискренность, напыщенность и пр. и отличить их от того, что вылилось прямо из натуры художника — вовсе не трудно. Из всего того, о чем мы говорили, следует, что на оснований эстетических особенностей можно без большого труда делать заключения о характеристических особенностях душевной организации автора данного произведения. Знание этих особенностей будет тем определеннее, чем тщательнее будет сделан эстетический анализ произведения. Оно будет тем полнее и стройнее, чем многочисленнее будут эстетические данные и чем больше в них связности. Неопределенность и крайняя общность предыдущих примеров, исчезает, если исследователь сумеет основать свои психологические заключения на изучении внутренних и внешних средств художественного воздействия, формы произведения, его содержания, эмоций, вызванных произведением — придавая каждому ряду этих данных соответствующую ему важность и отводя им соответствующее место. III Практическое приложение анализа: общие положения. Мы только что говорили о том, каким образом на основании изучения литературных произведений можно перейти к заключениям о сознательной личности художника. Мы говорили уже о том, что эти заключения должны быть определенны, точны, научны. Душевные свойства нельзя описывать иначе, как при помощи терминов научной психологии. Нет большой пользы в том, если мы знаем, что такой-то художник — честолюбив, неприятен и низок, что вот такой-то, например Стендаль, является космополитом, философом-сенсуалистом и т.д. Все это общие слова; их можно понимать на тысячу разных ладов: они указывают только на ряд внешних проявлений — чрезвычайно сложных, под которыми скрывается еще целый механизм внутренних пружин. Эти пружины и нужно открыть, а между тем ими-то обыкновенно и пренебрегают. Между обыкновенными критическими отзывами и эстопсихологическими выводами, какие можно получить только путем тщательного углубления, существует такая же пропасть, какая разделяет обычные определения, употребляемые в общежитии, и те, которые дает нам геометрия или всякая другая наука. Произведение всякого художника служит выражением его сознания. Это сознание прежде всего слагается из ряда чувствований, образов, идей, эмоций, хотений и побуждений — двигательных или задерживательных. Ему свойственно все то, что входит вообще в понятие человеческого сознания. Но так как сознание художника является в тоже время личным и высшим сознанием, то механизм этого сознания представляет много уклонений, своеобразия, которое и составляет то, что называют индивидуальностью художника, его особенностями, исключительностью. Благодаря именно этим уклонениям и исключительности сознания художник разнится от всякого другого человека и становится выше общего, среднего типа людей. То, к чему приводит нас намеченный нами эстетический анализ произведений, есть именно уяснение особенных, выдающихся из ряда обыкновенного способностей данного художника. Данные, полученные этим путем, если уяснить их точный смысл в терминах научной психологии, позволят нам раскрыть существенные свойства изучаемого художника и даже тот элемент его натуры — положительный или отрицательный — благодаря которому он разнится от других людей вообще и от художников известной категории в частности. На основании всего, что нами говорилось, можно сказать, что нет такой эстетической особенности, которая не нашла бы себе соответствующей психологической особенности; а эта последняя в свою очередь соответствует определенному видоизменению в общем механизме сознания. Благодаря прекрасным систематизациям Спенсера, Вундта, Тэна, Бэна, Маудсли и др. нам известно теперь, что надо разуметь под человеческим сознанием, каковы его составные части и как происходит их совместная работа. Воля, память, чувство, язык, понятие, образ, идея, рассуждение — все это точно установленные термины, пригодные для означения разных явлений. Наконец, монографии и психопатологические трактаты дают нам возможность уяснить себе различные уклонения и повреждения, возможные в нормальном организме; пользуясь примерами из прошлого или аналогией, можно уяснить себе все соответственные изменения, которым этот организм может подвергнуться. Благодаря прогрессу психологических знаний — труд толкования эстетических данных приведет нас к полному пониманию авторского сознания, проявление которого мы изучаем. Когда все эстетические данные собраны, достаточно определены и рассортированы, когда уяснен их точный, психологический смысл и сущность соответствующих душевных явлений выражена в терминах научной психологии — тогда нужно соединить, собрать и привести в систему полученные этим образом психологические данные путем гипотетического построения той душевной организации, выражением которой они являются. Нужно построить гипотезу относительно души художника, которая дала бы нам возможность представить эту душу с такими свойствами, которые могли бы быть причиной связанных с ней проявлений. Это можно выразить так: данные факты психической жизни, выведенные из эстетических данных, соответствуют какому-то неизвестному интеллекту, свойства которого они определяют; нужно уяснить себе характер этого интеллекта — под тем условием, чтобы он воплощал в себе законы общей психологии и обуславливал ряд частных проявлений, изучаемых в определенном случае. Ответом на вопрос об интеллекте должно быть точное, определенное и полное понятие о душе художника, которого изучают. Душа его должна быть обрисована во всем ее полном составе, во всех ее проявлениях, со всеми ее способностями; она должна быть охвачена во всем ее целом, со всем тем, что отложили в ней наследственность, воспитание, среда, разные случаи жизни, подражание и т.д. Она должна быть обрисована не в качестве искусственной абстракции, за вычетом известных элементов, будто бы чуждых ей, а во всем ее жизненном виде, во всей совокупности данных, ее составляющих. Наконец, можно представить себе такой прогресс наших знаний об отношении мысли к строению мозга, что можно будет психологическую гипотезу относительно душевной организации художника подкрепить физиологической гипотезой об устройстве его головного мозга. А эта последняя гипотеза, найдет себе точку опоры в гистологическом строении мозгового вещества. Подобная поверка одних данных другими — в благоприятном случае — придаст критическому анализу абсолютное значение. IV Психологический анализ и отношение его к другим наукам На предыдущих страницах мы признавали постоянно, что научная критика получает значительную помощь от общей психологии. Но эта последняя в свою очередь также может пользоваться трудами, которым содействует. Психология пользуется до сих пор двумя методами [C.Maudsley. “Physiology of mind”, chap. I]. С одной стороны, по примеру древних философов, она полагаются на интроспекцию и старается уяснить то, что каждый может знать о своем сознании — обращаясь в то же время за помощью к физиологии, к психологии животных, к тем положениям, какие можно основать на наблюдении. С другой стороны, психология пытается подойти к явлениям сознания извне, обращаясь за помощью ко всем наукам, какие могут их уяснить, в число которых входят психофизика, патология мозга, психология животных, физиология мозга, явления гипнотизма. Таким образом психология идет двойной поступью; она выставляет, благодаря интроспекции, правдоподобные гипотезы, которые проверяет потом путем опыта или изучения патологических явлений. Научная критика дает психологии новый способ исследования и поверки, позволяя изучить приложение психологических законов к целой категории лиц — крайне интересных, талантов и гениев. Она поможет точнее уяснить эти законы и доставит ценный материал для одного из малоисследованных отделов психологии — отдела о высших функциях сознания, развитию которого не может поспособствовать ни психофизика, которая занимается изучением элементарных функций мозга, ни патология мозга, ни данные гипнотизма, который изучает или расстроенное сознание или вырождающиеся формы сознания. От научной критики нужно ожидать новых и точных указаний относительно воображения, возникновения идей, взаимного отношения между языком и мыслью, между эмоцией и мыслью, между чувствами и идеями; нужно также ожидать указаний относительно творчества, эстетических чувствований и относительно других вопросов того же или высшего порядка. Эстопсихология и психология великих людей, героев дела окажет общей психологии такие же услуги, какие вскрытие трупов оказало и продолжает оказывать медицине. Они послужат для поверки психологических законов и будут способствовать открытию новых законов, имеющих отношение к развитию собственно-человеческой личности. Социологический анализ [Просим читателей обратить внимание на этот отдел книги по преимуществу потому, что он одинаково оригинален и в своей критической части, и по тем положениям, которые выставлены в противовес теории Тэна самим Геннекеном. — Прим. Переводч]. I Теория социологического анализа; теория Тэна. В предыдущем отделе мы рассмотрели отношение художественного произведения к личности автора. Теперь нам надо установить отношения его к более отдаленным группам людей, которые, по разным соображениям, могут считаться подобными автору, т.е. сходными с ним по своей душевной организации. Еще раньше нами было упомянуто, что первый, кто установил независимость произведения от совокупности современных ему общественных условий, был Тэн. “История английской литературы” “l’Essai sur La Fontaine”, большинство очерков, составивших “Философию искусства”, посвящены тому, чтобы с поразительным красноречием доказать, что всякий писатель и всякий художник вообще вносит в свое произведение существенные свойства своей расы, страны, эпохи и нравов, среди которых он жил. Поэтому, утверждает Тэн, от данного произведения всегда можно перейти к автору, а от автора к обществу и к нации, членом которой он является. В пользу указанного закона, который Тэн пытается доказать множеством фактов, с большей или меньшей убедительностью говорят два обстоятельства: 1) наследственность (предисловие и начало “Истории английской литературы”), в силу которой всякий человек сходен по своим свойствам с своими ближайшими предками, а эти последние с своими предками и так до отдаленнейших представителей расы; 2) естественный подбор (см. II гл. “Философии искусства”), который имеет место и в среде художников, касаясь области способностей каждого художника, благодаря его сопричастности известному строю общественной жизни, благодаря его способности подражать современникам, благодаря известной степени пластичности его ума, благодаря советам, какие он получает, и наконец приему, какой оказан его произведениям. Кроме всего этого, Тэн в различных местах своих сочинений (см. I гл. “Истории английской литературы” или “Essai sur La Fontaine”) признает непосредственное влияние на художника всей обстановки, его окружающей, Положения Тэна могут быть названы правдоподобными; путем многочисленных исследований, может быть, будет доказана их истинность, но, строго говоря, мы не можем их счесть справедливыми, они не достаточно проверены а потому едва ли можно воспользоваться ими, как методом исторических исследований. Мы позволим себе формулировать свои мнения на этот счет вполне откровенно, не смотря на все наше уважение к одному из величайших мыслителей нашего времени. Действие на художника трех факторов — наследственности, влияния среды и местности, благодаря которым Тэн старается уподобить художников их современникам и соотечественникам — несомненно. 1) Наследственность несомненно существует и постоянно проявляется. Очень вероятно, что в расе однородной, установившейся и малочисленной благодаря совместной жизни и однокровию брачных союзов, фактор наследственности мог бы в конце концов повести к установлению несомненного и полного сходства между членами общества; так что нравственные свойства одного индивида были бы несомненно обусловлены свойствами остальных — и обратно. Таким образом, если бы был открыт какой-нибудь художественный памятник, автор которого принадлежал бы к такой гипотетической расе, то можно было бы путем анализа вывести на основании этой находки главные нравственные свойства близких ему и подобных ему людей. Существование такой расы, однако, представляется гипотетическим. Такой расы, которая сохранила бы во всей чистоте и неприкосновенности однородность своих свойств, не существует, или, по крайней мере, не существует такой расы, которая при однородности своих свойств обратилась бы в нацию, образовала бы цивилизованное государство и произвела искусство и литературу. Антропология показала, что расы с самых древних пор представляют смешанный характер, История также показывает, что нет ни одной нации, образованной какой-нибудь одной определенной расой. Все нации — от Египтян до Ассириян, от Евреев до Финикиян, от Греков до Римлян, от жителей Индии до жителей Ирана, от Китайцев, наконец, до доисторических народов северной Европы — все они были: образованы пришельцами-завоевателями, тип которых не мог, однако, сохраниться во всей своей чистоте, а должен был видоизменяться благодаря тому, что на него влияло множество чуждых этнических элементов, усвоенных на пути к завоеванию; благодаря тому, что на него влияли также завоеванные, первобытные племена, которые при всей своей порабощенности не могли не способствовать помесям. Изучение черепов, мумий, скелетов, древнейших иконографических памятников показывает, что каждая общественная группа, как бы ни была она отдалена от нас по времени, представляет смесь различных физических типов, которые при размножении перемешиваются один с другим. Англия, которую даже положение ее ограждает от вторжения чуждых элементов, и та представляет смесь громадного количества различных племен. Спенсер в начале “Описательной социологии”, посвященном Англии делает краткий перечень этих племен. Он упоминает Бретонцев, образующих, судя по волосам и по форме черепа, два различных этнических типа; Римских переселенцев, племена Англов, Ютов, Саксов, Кимвров, Датчан, Норзов, Скоттов, Пиктов и наконец Норманов, которые в свою очередь, по Тьери, включали в себя этнические элементы всей западной Франции. Все эти разновидности перемешались и видоизменились; так что в этой нации, не лишенной, однако, некоторых выдающихся черт, можно встретить самые разнообразные типы — и южного и скандинавского происхождения, и иберийского, и наконец монгольского происхождения. Что касается до античных народов, более всего нам известных, то мы отлично знаем о том глубоком различии свойств, какое разделяло Дорян от Эолян, Эолян от Ионян, этих последних от жителей Аттики, а среди самих племен береговых жителей от горных, горожан от слобожан, аристократов от вождей демократии. Перикла от Клеона, Клеона от его соперников. В Риме также о чем не стоило бы даже говорить — народ состоял из в высшей степени разнообразных элементов; все время там шла борьба кланов, фамилий, партий и личностей, так что у каждого с понятием “римлянин” соединяется вполне своеобразное представление, смотря по тому, кто главным образом имеется в виду из тех, кто носил это имя — Аппий или Гракх, Сципион или Катон, Сулла или Марий, Цезарь или Цицерон и т.д. Всякому, кто, пользуясь опытом настоящего времени, перенесет свой взгляд на прошедшее, это разнообразие составлявших древние народы элементов покажется вполне естественным. Напротив, ему покажется странным, как это могли позабыть об этом до готовности верить в то, что когда-то раньше могли существовать однородные нации. Конечно, эта ошибка обусловлена отдаленностью по времени, которая сбивает с толку, а также тем, что приняты на слово совсем голословные положения. Отлично известно также, что, например, в Италии рассудительный, сухой и иронический тип жителей Пьемонта не имеет ничего общего с веселой подвижностью Неаполитанцев. Есть даже неточное выражение, по которому нужно думать, что в Турине нет легкомысленных, а в Неаполе рассудительных людей. Положительный и промышленный характер современной Италии уже не похож на тот, каким представлял его Стендаль в начала этого столетия, или на тот, каким он представлен в Мемуарах Бенвенуто Челлини. Вследствие религиозного и нравственного переворота, Англия перестает мало-помалу быть страной высокомерной, хищной и склонной к насилию, какой она была всего каких-нибудь 50 лет тому назад. Германия, Пруссия Шлейермахера и Пруссия Бисмарка также мало похожи одна на другую, как жители Померании на Швабов, или как среди этих последних блондины на брюнетов, тупые на смышленых. Что касается до Франции, то отлично известно, что между жителями Марселя и Лилля существуют все различия, какие могут существовать между двумя различными нациями. Не нужно также думать, чтобы жители севера или юга были совершенно сходны между собой. Различия физические соответствуют нравственным различиям, еще более глубоким, и усложняются непрерывностью вариаций во времени. Франция школьных баталионов, гимнастических обществ, женских лицеев — далеко уже не Франция второй империи, которая в свою очередь была далеко не одна и та же в Париже и в глубине Бретани. Бесполезно умножать количество этих примеров, которым трудно придать полную убедительность — именно вследствие совершенного отсутствия коллективных национальных свойств, которые бы можно было противопоставлять одно другому, полагаясь на их однородность и чистоту. Мы сделали бы большую историческую и политическую ошибку, если бы стали верить в существование стойких и всеобщих признаков, свойственных будто бы народам, которые во все времена имели смешанный и изменчивый характер. Всякая нация, всякий народ представляет из себя скопление разных племен, из которых ни одно не может считаться чистым или однородным по составу; составные единицы данной нации не имеют между собою ничего общего, кроме общности обитаемой местности и кроме общепринятого языка, в котором также можно различить тысячи пришлых элементов. Если такой народ создает литературу, то она является не литературой данной расы, а литературой, характерной лишь по языку, в ней принимают участие люди разных областей и разных обществ, между которыми общего есть только то, что в них употребляется общий язык; если данный народ создает искусство, то служители искусства набираются из всех частей народа, говорящего одним и тем же языком; к нему могут примкнуть сверх того иностранцы, привлеченные и задержанные разными обстоятельствами на чуждой им территории. Так напр. между Римскими писателями были Греки, Карфагеняне, Испанцы; между современными французскими живописцами есть Итальянцы, Бельгийцы, Германцы, Американцы, Англичане; французская литература обязана столько же кельтскому (Бретань), сколько и романскому происхождению обитателей Франции (Прованс). Наконец, наследственность нравственных свойств, даже среда племен, почти сохранивших свою первобытность, так слаба; что иногда бывает трудно указать черты сходства между представителями искусства вообще или литературы в частности. Трудно напр. сказать, кто является истым бретонцем — Шатобриан или Ренан; кто настоящий нормандец — Флобер или Барбье д’Орвильи? Гёте и Бетховен — оба родом из Южной Германии; Бюрн и Карлейль — Шотландцы; Поэ и Витман — истые Американцы, Микель Анджело разнится от всех итальянских художников, Виктор Гюго — от всех французских поэтов, Рембрандт — от всех голландских живописцев. Наследственность не может объяснить ни немецкой литературы, главные представители которой — Лессинг, Гёте, Гейне, Фрейлиграт и др. — обладают такими свойствами, которых никак нельзя согласовать с обычным понятием о той расе, к которой они принадлежат; ни французской литературы, которая постоянно, начиная с 16-го века, питается чужеземными элементами; ни даже английской литературы, если принять в расчет ее недавние проявления, не имеющие ничего национального — эстетицизм и прерафаэлитизм. Наконец, для того, чтобы вполне оценить разбираемую нами теорию, которая основывается на постоянстве расовых свойств в составляющих расу индивидах, достаточно указать на то, что нравственного сходства не существует даже в семье, между родителями и детьми. Трактаты о наследственности, и главным образом трактат Рибо, стремятся показать, что эта сила существует и имеет место для признаков племени и его разновидностей, если эти слова понимать в зоологическом смысле, но что действие ее крайне туманно и изменчиво относительно свойств индивида и, в историческом смысле, племени или его разновидностей т.е. клана и колена. Может быть, когда-нибудь этот вопрос уяснится полнее; тогда нужно будет снова приняться за вопрос об отношениях художника к его предшественникам и вообще к расе. До тех пор эти отношения являются гипотетичными, неустановленными и не могут быть положены в основу критических изысканий — и потому, что чистых рас нет, и потому, что мы не знаем ни физических, ни нравственных свойств смешанных рас, а также потому, что мы не знаем ничего о степени постоянства свойств среди индивидов, составляющих данный народ, и главным образом среди художников. 2) Совершенно аналогичные соображения не позволяют нам считать обоснованным и второй принцип Тэна, которым он старается доказать зависимость искусства от общества, в котором оно народилось — так наз. естественный подбор и подведение под общий уровень, которое в художниках данной эпохи и данной местности производят общественные обстоятельства т.е. условия времени и места. Влияние общественной среды — несомненно существует и действует, хотя изменчиво, но постоянно. В общем, условия, в которых жил художник, случайности, которым он подвергался, то или другое положение народа, которому он принадлежал, состояние нравов — распущенных или воинственных, строгих, миролюбивых, изнеженных, — все это непременно должно отразиться на его произведении, оставив ясный след. Но это влияние — не постоянно и не прочно. Очень возможно, что художник ему подчинится или отразит его. В самом деле голландские второстепенные художники достаточно хорошо воплощают в себе буржуазную и благодушную эпоху, в которую они жили; точно так же наши классики в большинстве служат отличным выражением изящества и такта, свойственных двору, который они посещали. Но разве та же самая среда и те же самые эпохи не произвели совершенно других людей — Рембрандта в Голландии, Паскаля и С.Симона в Париже? Каким образом влияние среды объяснит нам мрачный гений Эсхила, в виду начинавшегося развращения Афин, или добродушие и кротость Виргилия, в виду суровых нравов, созданных периодом римских междоусобий? Эврипид был современником Аристофана, Лукреций — Цицерона, Ариост был современником Тассо, Сервантес — Лопе-де-Вега, Гете — Шиллера, Гейне — Уланда, Лев Толстой — Достоевского, Шелли в начале этого столетия в Англии является анахронизмом, точно так же как Стендаль — в эпоху Наполеоновских войн, или Бальзак и Делакроа — в эпоху июльской монархии. Легко можно было бы увеличить количество этих примеров до того, что случаи несоответствия художников с породившей их средой показались бы более частыми, чем случая соответствия. Легко можно бы показать, что влияние окружающих обстоятельств, не абсолютное, но все-таки очень заметное в начале развития литератур и обществ, становится все слабее и слабее по мере их развития и, наконец, в эпоху их полного расцвета становится ничтожным, приближаясь к нулю. Это явление довольно легко поддается объяснению. Подобно всякому живому существу, человек, экономизируя свои силы, стремится остаться самим собою и, приспособляясь к окружающим его физическим или общественным условиям, претерпеть возможно меньше изменений. Таким образом большая часть его изобретений — тех, напр., какие касаются его одежды или пищи,— имеет целью путем искусного воздействия на окружающие обстоятельства сохранить его органические предрасположения, его общий вид, его привычки вопреки неблагоприятной для него изменчивости внешних, естественных условий. Известно, что люди, переходя из теплой местности в холодную, не обрастают шерстью, а одеваются в шубы; известно также, что первобытный человек — вместо того, чтобы развивать в целях борьбы с хищными зверями какие-нибудь особенные качества, ловкость, напр., и проворство, к чему принуждены все безоружные животные, — изобрел оружие. Стоит заглянуть несколько глубже, и мы увидим, что эта способность сопротивления — свойственна не одному только человеку. Всякое живое существо стремится оградить себя от тех изменений, какие вызывает в нем природа. Это — основной и общий факт, упущенный из виду эволюционистами. Определения жизни, какие делают эволюционисты, напр., Спенсер, который отличает живое существо от неодушевленных предметов только тем, что оно обладает усиленной способностью приспособления к внешним условиям — нам кажутся безусловно неверными. Напротив, главное свойство всякого организма — это стремление удержать черты своей организации, противодействовать внешним условиям; организм — это особенный агрегат клеточек, который своею внутреннею силою способен противодействовать совокупности внешних сил. Между тем как всякий камень, подверженный солнечным лучам, нагревается, животное, напротив, сохраняет свою температуру или умирает, и, если какой-нибудь вид этого животного живет в тропической стране, то это не значит, что эти животные изменились в своей организации и приспособились к данной стране, а только то, что случайно нашлись такие экземпляры, организация которых устроена так, что они могли жить в данных условиях. Приспособление животных есть очевидно результат непрестанного восстановления гармонии между органической и неорганической природой, или, вернее, случайность, а еще лучше, следствие совместной потребности органической и неорганической природы. Но так как органическое вещество не поддается легко действию внешних сил, то соответствие между внешним миром и внутренним равновесием устанавливается с большим трудом. Жизнь — это сопротивление и обособление личности, или лучше приспособление — с оборонительным характером, приспособление и вместе с тем противодействие внешнему миру, причем противодействие становится тем больше, чем выше фаза жизни. Именно при этом взгляде, можно уяснить себе истинную природу общественных установлений, которые носят в сущности характер оборонительных обществ, коалиций против властительства физической природы, против голода к холода, коалиций наконец против звериной и человеческой лютости. Те общества, в которых с самого начала существовало сотрудничество, в которых и заботы, и задачи были одни для всех, в которых все происходили от одного племени; в которых наконец упорная борьба со всем окружающим лишала человека жизненной энергии — эти общества могут считаться однородными; составляющие его члены в физическом и духовном смысле почти во всем — сходны один с другим; и если бы здесь родился человек — вполне своеобразный, одаренный свойствами, чуждыми данному обществу — то он принужден бы был силою вещей, под натиском своих соотечественников, спуститься до общего уровня. Можно вообразить, что в такой воинственной и суровой стране, как Спарта родился бы, в силу случайного уклонения; возможность которого принуждена допустить и теория естественного подбора, человек с мирным и тихим характером, которого не изменило бы даже обычное воспитание. Этот человек постарается никому не вредить и не делать ничего, что вызывает в нем отвращение. Он захочет быть не солдатом, а чем-нибудь другим — жрецом, поэтом или хороначальником. Если ему в этом препятствуют, если общественная среда враждебна его начинаниям, если почти все его соотечественники настроены совершенно иначе, чем он, то может случиться так, что он вследствие тщеславия, угроз и увещаний вполне подчинится среде и спустится до общего уровня. Еще вероятнее допустить, что он будет обречен на общее презрение, на неизвестность и на нищету, что он умрет и не оставит после себя семьи. В этом периоде истории способен жить, не подчиняясь общему течению, один ничем непобедимый гений. Но человек стремится отстоять свою физическую и нравственную личность; по мере того как борьба с внешними условиями становится легче, по мере того как общество прогрессирует больше и больше, осложняясь и идя на уступки — все вероятнее и вероятнее становится возможность попыток к освобождению со стороны тех, кто не сочувствует поведению окружающих. Нужно заметить то, что первобытные общества, по закону прогресса, стремятся к разнородности, к тому, чтобы для образования высшей общественной единицы соединиться с другими обществами, чтобы затем сложиться в народы, в обширные государства. По мере того, как человек будет становиться членом высшей общественной единицы, которая организована совершеннее и потому не будет требовать для своего существования много жертв со стороны граждан — эти последние будут в состоянии легче, чем в первобытных обществах, отстоять свои личные свойства. Чем выше будет организовано общество, тем легче будет для его граждан сохранить неприкосновенность своего “я”. Все новейшие историки подметили этот рост личной свободы, по мере удаления от древнего времени и по мере приближения к нашему. Герб. Спенсер ясно раскрыл этот факт. Именно, при помощи этого принципа, по которому надо признать постепенный рост свободы, независимости проявлений — можно объяснить все меньшую и меньшую продолжительность существования различных направлений искусства или школ и факт их умножения в количестве; при помощи его же можно объяснить ослабление национальности в искусстве, по мере того как общество, которому оно принадлежит, разнообразится, растет и развивается. В таких сосредоточиях умственной жизни, как Афины, Рим, Лондон, Париж, в период их расцвета разнородность общества достигла такой высокой степени, что каждый мог свободно предъявлять свои запросы и обнаруживать личные своеобразные наклонности; немногие только художники, и то из наиболее посредственных, в такие периоды общественной жизни способны отказаться от своего “я” и, во имя успеха, льстить искусам той или другой части общества. Так в среде отмеченной еще, однако, печатью шутливой веселости и возбуждения — в Париже конца настоящего столетия — роман является в лице Фелье и Гонкура, Зола и Онэ; рассказ — в лице Галеви и Villiers de l’Isle-Adam’а; поэзия — в лице Leconte de l’Isle’а; критика — в лице Сарсэ, Тэна и Ренана; комедия — в лице Лабиша и Бэкка; живопись — в лице Кабанэля и Шаваннэ, Моро и Redon’а, Raffaelli и Hebert’а; музыка — в лице Франка, Гуно и Оффенбаха. Теперь должно быть ясно, что влияние общественной среды, окружающих явлений и современных художнику вкусов настолько изменчиво, не постоянно, что его никак нельзя положить в основу рассуждений и поэтому нельзя делать заключений на основании произведения об обществе, в среде которого оно создано. С этой стороны это влияние совершенно необъяснимо для большинства гениальных художников, каковы Эсхил, Микель-Анджело, Рембрандт, Бальзак, Бетховен; с другой стороны оно почти перестает существовать в совершенно развившихся обществах — как например, в Афинах времени софистов, в Риме за время Империи, в Италии за время Возрождения, во Франции и Англии нового времени; и наконец, так как это влияние изменяется в известном отношении с цивилизацией, то нужно предварительное изучение общества, которому принадлежит известное произведение, прежде чем на основании его строить заключения об обществе. 3) Теперь остается рассмотреть еще третье условие подчиненности художника внешним условиям. Тэн, но примеру Сен-Бёва, старается установить факт зависимости художника от характера местности, в которой он жил со времени своего детства, в которой жила его семья, и наконец, раса, к которой он принадлежал. При настоящем состоянии этнографии у нас нет еще достаточно серьезных наблюдений, не установлены еще законы, которые бы нам позволили в точности уяснить себе влияние, какое могут оказать на жителей климатические, географические и эстетические условия данной местности [Fred Muller (см. “Algemeine Ethnologie”), вполне допуская влияние местности на физические и нравственные стороны личности, ограничивается приведением примеров самого общего свойства]. Даже относительно пейзажей наиболее определенных трудно сказать что-нибудь положительное, если коснуться вопроса об их влиянии на обитателей. Несколько страничек Стендаля и Монтескье не могут помочь делу. Знания очень ограничены даже о типе горного или берегового жителя. Как же после этого определить то, чем Шатобриан обязан Бретани или Флобер — Нормандии? Этот ли последний или Корнель — кто из двух служит истинным выражением физических и эстетических условий Руана? Если Лафонтен родился в стране холмов и ключей — то разве Буссюэт не видел тех же панорам в окрестностях Масона? Первобытные жители Великой Греции и Ионяне — не жили ли они в сходных по своему характеру местностях? И между тем одни из них (Ионяне) обратились в афинян — в то время как другие были еще в варварском состоянии, когда туда прибыли греческие колонисты. Раблэ, Декарт, Альфред де-Виньи, Бальзак — все четверо уроженцы одной и той же местности — Турени. Было бы легко увеличить количество этих примеров, припомнив снова все то, что мы говорили уже и что известно относительно различия индивидов, составляющих одну и ту же нацию и живущих в одной и той же стране; было бы легко уяснить, как бесчисленные переселения племен — индо-европейских, монгольских или семитических — мало-помалу способствовали тому, чтобы изгладить те общие признаки, какие можно в каждом из них распознать. Снова повторяем — влияние обитаемой местности на свойства личности правдоподобно, хотя очень слабо и медленно, чтобы его чувствовать, но что касается до степени влияния, до способа влияния — то мы не знаем ничего определенного и мы не можем делать выводов, исходя от этого проблематического фактора. Мы рассмотрели три основных принципа Тэновской критики и показали, что ни один из них не позволяет установить какой-нибудь прочной зависимости, прочного соотношения между данным произведением и обществом, которому оно принадлежит. Каждый из факторов, действие которых Тэн хотел определить, без сомнения существует и производит свое влияние — но это влияние или трудно уловимо или крайне изменчиво. Наследственность нравственных свойств несомненно существует; она способна наложить известный отпечаток и на семью, и на народ. Но проявления ее относительно отдельных индивидов настолько случайны, кроме того она так осложняется явлениями атавизма и неожиданных уклонений, что употреблять фактор наследственности для объяснения свойств индивида никак нельзя; никак нельзя объяснять свойства отдельной личности свойствами родителей или свойствами племени; тем более нельзя на основании свойств личности строить заключения о свойствах общества, которому она принадлежала. Влияние окружающей среды и целого общества также несомненно. Но это влияние бывает различно — смотря по нравственной силе человека, который ему подчинен, и смотря по устройству создавшего его общества, которое может быть деспотическим или либеральным, первобытным, молодым или развившимся и хорошо устроенным; а если так, — то значит, без предварительного изучения общества, никак нельзя строить заключений о свойствах произведения, какое оно может создать; тем более нельзя строить обратных заключений. Наконец, влияние на личность и на племя обитаемой местности, тоже возможное и правдоподобное — потому что нет причины без следствия — ускользает от всякой проверки и даже в качестве гипотезы не может быть формулировано. Ни один из трех принципов, выставленных Тэном, не может пособить переходу от произведения или от художника к обширной группе лиц; правда, при некоторой осторожности ими можно воспользоваться для того, чтобы уяснить свойства некоторых писателей, среди которых есть такие, что их зависимость от семьи, от племени, от эпохи и от обитаемой местности представляется несомненной. Но все-таки же, если нет других принципов, позволяющих установить соотношение между произведением, художником и обществом, то нужно отказаться от трудов по социологической части эстопсихологии. Если труды Тэна обладают свойствами научности и действуют убедительно, то это зависит от того искусства, с которым Тэн располагал свои аргументы, и от того факта, что в своих главных трудах он касается таких явлений, к которым в самом деле его принципы приложимы без особенно резкой погрешности. “L'Art en Grece” изучает первобытную эпоху, когда влияние общественной среды и в самом деле бывает громадно; это сочетание однако не способно объяснить реалистической скульптуры образцы которой найдены в Олимпийских раскопках. “История английской литературы” касается искусства такой страны, в которой свойства расы долго оставались нетронутыми и защищенными от вторжения внешних элементов. И здесь однако недостаточно объяснено подражательное направление 18-го века; кроме того, автор не доводит историю до современного периода, который бы поставил его в затруднение. В других сочинениях Тэна ошибочность его метода — очевидна. Напр. “Peinture aux Pays-Bas” и “Peinture en Italie”, объясняя Рубенса и Тициана, не дают нам ничего убедительного относительно Рембрандта и Леонардо де-Винчи. Итак, несмотря на убедительность некоторых сочинений Тэна, мы видим, что никак нельзя установить прямого соотношения между обществом и рядом имеющихся в нем художников, рассматривая дело так, как будто последние зависят от общества или как будто общество и его художники зависят от каких-нибудь общих причин. Этими причинами являются во всяком случае ни раса, ни среда, ни обитаемая местность, потому что свойство всякой причины — действовать постоянно, а действие указанных причин, или так называемых факторов — крайне изменчиво. В заключение, мы приведем краткий список писателей, принадлежащих одному и тому же народу, одной и той же эпохе, одной и той же общественной среде и по возможности одной и той же местности, но представляющих совершенно различные свойства. В этом списке мы касаемся только главных европейских литератур. Не трудно было бы составить аналогичные списки для других литератур и для других искусств [Приведенные Геннекеном примеры совместного существования различных по духу писателей - иногда очень удачны. Первые комические писатели жили в Греции в одно время с Эсхилом - трагиком. В такой же степени бросается в глаза одновременное существования: Аристофана - комика, Еврипида - трагика и Сократа - философа и т.д. — Прим. Переводч]. Греческая литература. Эсхил. Первые комич. писатели Аристофан. Сократ. Ксенофонт. Фукидид. Исократ. Демосфен. Ученики Ученики Сократа. Платон. Аристотель. Эпикур. Зенон. Плутарх. Лукиан. Еврипид. софистов. Римская литература. Катон. Цицерон. Саллюстий. Катулл. Овидий. Лукан. Персий. Тацит. Ювенал. Св. Иероним. Дант. Ариост и его школа. Маккиавели. Дж. Бруно. Марини. Гольдони. Метастазио. Манцони. д’Азельо. Леопарди. Фосколо. Теренций. Лукреций. Цезарь. Виргилий. Гораций. Сенека. Квинтилиан. Плиний Младший. Марциал. Св. Августин. Итальянская литература. Петрарка. Тассо. Боккачио. Микель Анджело. Челлини. Галилей. Тассони. Гоцци. Альфиери. Массимо Джусти. Пеллико. Испанская литература. Романсеро (народн. песни). Аллегорические поэмы. Попытки восстановления древнего Лопе-де-Вега. театра. Мистики. Петраркисты. Сервантес. Рыцарский роман. Квеведо. Кальдерон. Подражание англичанам. Бретон-деПодражание французам. Лос Герерос. Гарценбуш. Французская литература. Сказания о Карле. Карл Орлеанский. Сказания об Артуре. Вилльон. Рыцарская поэма. Сказки. Жуанвилль. Мистерии. Сатирич. поэмы. Фруассар. Сатирическая поэма. Романы. Комминь. Фарс. Д’0бинье, Рабеле, Кальвин, Маро, Монтань, Ронсар, Малерб, Ренье. Представители салона Рамбулье, Корнель, Декарт, Бальзак, де-Саль, Рец и т.п. Паскаль, Расин, Мольер, Буало, Лафонтен, Боссюэт, Фенелон, Малебранш. Сен-Симон, Севинье, Лабрюйер. Монтескье, Бюффон, Вольтер, Дидро, Руссо, Лесаж, Прево. Делилль, Бернарден де Сен-Пьер, Дантон, Робеспьер. Шатобриан, Шенье и т.п. Ламартин, Беранже, Виньи, Гюго, Мюссе. Бодлер, Бальзак, Дюма, Занд, Тьер, Мишле и т.п. Немецкая литература. Готфрид Страсбургский. Опиц. Готшед. Лессинг. Гёте. Клейст. Рюккерт. Фосс. Рихтер. (Plаten). Гуцков. Гервег. Фрейлиграт. Гейзе. Фрейтаг. Шпильгаген. Дунс Скот. Бакон. Шекспир. Форд и Вебстер. Гоббес. Локк. Ньютон. Дриден. Поп. Аддисон. Болинброк. Мандевилль. Гиббон. Юм. Байрон. Скотт. Теннисон. Диккенс. Дж. Элиот. Карлейль. Вольфрам Эшенбах. Яков Бём. Бодмер. Клопшток. Шиллер. Виланд. Уланд. Тик. Платен Геббель. Гейне. Ленау. Ауэрбах. Английская литература. Сидней. Спенсер. Буньан. Отвай. Фаркюгар. Свифт. Ричардсон. Смоллет. Рейд. Southey. Keats. Роджер Бакон. Марлов. Бомон Флетчер. Массинджер. Мильтон. Бутлер. Вичерли. Конгрев. Foe. Стерн. Гольдсмит. Фильдинг. Стеварт. Мак Ферсон. Шелли. Крабб. Ландор. Швинбурн. Теккерей. Эмил. Бронте, Милль, и т. п. Довольно трудно составить точный список в указанном роде и дать таким образом полное опровержение разбираемых нами принципов теории Тэна. Однако, и приведенный нами список ясно показывает, в какой степени разнятся один от другого представители всевозможных литературных эпох — несмотря на их принадлежность к одной и той же нации. Другими словами, каково бы ни было влияние среды — существует ли оно или нет — во все эти эпохи один известный писатель на двоих не подчиняется этому влиянию. II Практическое приложение анализа: частные положения Так как нами принято, что художник не зависит особенно от расы, страны и среды, что — стало быть — нельзя, опираясь на эту зависимость, уподобить его другим его соотечественникам и современникам, то нужно изыскать какой-нибудь прием для того, чтобы на основании имеющихся эстетических данных перейти к социологическим заключениям. Нужно обратиться для этого не столько к самому художнику, сколько к его произведениям, и изучать не столько среду, его окружавшую, сколько его почитателей. Всякое произведение, касаясь одной своей стороной автора, другой касается группы лиц, которых оно взволновало. Книга имеет читателей; симфония, картина, статуя, монумент имеют также почитателей или поклонников. Если, с одной стороны, можно установить, что всякое произведение есть выражение свойств, идеалов, внутреннего организма тех, кого оно волнует, если припомнить, с другой стороны, что всякое произведение есть выражение свойств его автора — то можно будет от личности автора, при посредстве его произведения, перейти к его почитателям, признавая за ними те же способности и те же наклонности, какие свойственны автору; другими словами можно будет определить психологию человека, группы людей, народа наконец, по частным проявлениям их вкуса, который связан органически, как мы увидим, со всем их существом, со всем, что составляет их характер, мысль и чувство. Эмоциональный эффект какой-нибудь книги или вообще художественного произведения может сообщиться только лицам, способным испытать, почувствовать те самые эмоции, которые старается внушить произведение. Эта мысль представляется ясной, и она в самом деле ясна, хотя обыкновенно её и не принимают так безусловно, в том абсолютном смысле, как принимаем мы. Достаточно напомнить, что читатель, исполненный любви, благожелательных и гуманитарных наклонностей, не испытает наслаждения при чтении книг с мизантропическим оттенком — таких, как “Сантиментальное воспитание”; точно также человек прозаического ума едва ли может легко восхищаться поэмой, которая обращается к мистической стороне чувства или пытается возбудить беспричинную грусть. Ясно, что для того, чтобы при чтении чего-нибудь испытать известное чувство, нужно, чтобы человек был к этому предрасположен, чтобы это чувство было уже заложено в нем. Способность воспринять то или другое чувство не является в человеке чем-то изолированным и случайным; закон зависимости душевных свойств — столь же точен, как закон анатомической зависимости; человеческую душу нужно рассматривать во всем ее составе. Напряженность одного из свойств души определяет собою напряженность других свойств, и все они влияют одно на другое. Если констатировано одно какое-нибудь чувство у данной личности, у группы лиц, у данного народа в известный исторический момент — то это может послужить отличной подкладкою для того, чтобы, шаг за шагом, уяснить себе, если не их психологию в целом, то по крайней мере значительный отдел их душевной организации. Внешняя сторона романа прежде всего выражается в стиле. Если читатель любит известный стиль — значит, он чувствует, что условия общей гармонии, т.е. благозвучия, тона, точности, изящества, выразительности, сообразно которым построена речь, суть именно те, которые или воплощают или в крайнем случае не оскорбляют его общего понятия о свойствах и красоте языка, понятия, которое можно назвать его личным понятием, которое его характеризует, потому что его сосед может и не разделять его, которое сливается даже с общим ходом его мыслей и помогает его обоснованию. Читатель, если он наслаждается колоритностью стиля, должен быть человеком, который, хотя в незначительной степени, обладает способностью воспринимать оттенки тех вещей, какие обрисованы художником; в противном случае, слова художника ему не говорили бы ничего, и он удивлялся бы только тому, что ему описывают в точных терминах то, чего он не мог наблюдать. То же можно сказать и о реторике, и о синтаксисе, и о композиции, и о тоне. Все, эти вещи не представляют особенных трудностей. Если читатель наслаждается романтической метафорой, или недосказами В Гюго, или предпочитает роман без композиции, каков “Война и мир”, роману фельетонному, или наслаждается прозой Мериме — все это может послужить характеристикой наклонностей и всей души читателя, которому придется приписать те идеалы и те свойства, выражением которых является известный стиль. От внешней стороны произведения нужно перейти к внутренней — к содержанию. Сюда входит ряд описаний, пейзажей, сцен, перипетий и проч.; все это художник старается представить как только можно точнее и убедительнее, так чтобы все это понималось читателем не произвольно, не сообразно только личным вкусом, а так, как это представляется на самом деле. В романе, например, природа выставленных лиц, природа обстановки, действия и способ обрисовки действующих лиц — все это должно повлиять на читателя, вложить в него и у6еждение, и интерес своей правдивостью, реализмом — так чтобы в нем на счет затронутых явлений не оставалось никаких сомнений. Подробности и группировка фактов должны быть такими, чтобы возбудить в читателе ряд образов, аналогичных с теми, какие может дать действительность, и чтобы вызвать в нем соответствующие чувства — отвращения, симпатии, возбуждения. Если эта цель произведением не достигается — оно должно быть отнесено к числу неудачных; композиция его в этом случае настолько ошибочна, что лишает возможной иллюзии всякого читателя — т.е. ни одна часть общества не видит реального сходства с действительностью, а видит только ложь изображения. В самом деле, никто не захочет признать реализма описания, если это описание кажется ему не соответствующим действительности или правде; но понятие о правде — относительно; оно обусловлено свойством вынесенных из опыта представлений — точных или химерических, ошибочных — о людях и вещах. Это уяснится, если мы для примера сравним свойства детальных черт, какие должен употребить художник для того, чтобы нарисовать тип дворянина, правдивый с точки зрения светского человека — и свойства черт, благодаря которым тот же тип представится правдивым с точки зрения рабочих. В первом случае, ему нужно придать тот тон и те манеры, какие светский человек привык встречать вокруг себя; во втором случае, нужно по возможности раздуть черту роскоши и развращенности, которую рабочий человек, в силу разных обстоятельств, привык соединять с понятием дворянина. То же самое надо сказать и относительно типа куртизанки. В совершенно разном виде представляется оно грубому развратнику и романтическому мечтателю. Все это настолько верно, что какой-нибудь призрачный тип иногда, даже среди образованных читателей, считается типом правдивым, вопреки всем указаниям опыта. Известный роман Дюма “Дама в камелиях” прослыл за чудо реализма в глазах театральной публики; рабочие совсем не хотят верить в реализм “3ападни”, между тем как легко верят в реализм каменщика или кузнеца, изображенных неверно народными романистами. Дли того, чтобы вызвать доверие известной личности, чтобы взволновать ее и понравиться ей — нужно, чтобы роман воспроизводил и людей, и места, и вообще жизнь в том виде, как она представляется этой личности, и роман будет одобрен не вследствие того, что рисует объективную правду, а вследствие того, что он рисует правду субъективную — ту правду, какой она является в глазах известной группы лиц; его одобрят, если он сумеет воплотить в себе понятия и представления этой именно группы. Это рассуждение можно повести еще дальше. Читая описание какой-нибудь известной местности Парижа, представленной романистом натуралистической школы, можно сразу понять, что оно понравится читателю в том только случае, если оно точно, т.е. если оно верно воспроизводит воспоминания и впечатления, какие связаны с этой местностью у читателей. Это — так; но впечатление вовсе не является актом простым, пассивным и одинаковым дли всякого при виде идентичных явлении. Высшие функции сознания, память и ассоциационная способность принимают в нем участие; его можно даже вполне основательно уподобить тому сложному процессу, какой зовут рассуждением [Ch.Binet, “La Psychologie du raisonnement”; Wundt, “Psych. psys.”] так что в случае сложных эстетических восприятий индивидуальные различия достигают огромных размеров. У десяти человек, наблюдающих закат солнца — является десять более или менее довершенных способов наблюдения. Описание какой-нибудь обыденной сцены будет считаться со стороны читателя хорошим — не вследствие своей чрезвычайной точности, а вследствие того, что оно соответствует отношению к этой сцене читателя (maniere de voir), тому отношению, которое обусловлено качеством его чувственных восприятий, качеством его памяти — на форму и цвета — и всего внутреннего механизма, который ему нужен для того, чтобы ряд воспринятых им впечатлений от соответственного зрелища перевести в такой же образ, какой пытается в нем вызвать автор. Если же отношение читателя к известному явлению — иное, чем отношение автора, то описание не доставит ему наслаждения, он будет перелистывать страницы без большого интереса и будет верить, что прелесть описания всеми, кто хвалит его, преувеличена. Отношение читателей к произведению становится тем разнообразнее, что среди них есть такие же идеалисты и реалисты, какие есть среди художников. Мы коснулись реализма и романа и положили их в основу нашего рассуждения — потому что в этом случае данные свойства и склонности читателя, в сравнении с другими сторонами и родами искусства, играют наименьшую роль при восприятии. Что кажется до других родов литературы и до других искусств — таких, как живопись, скульптура, музыка, то здесь можно ограничиться более короткими рассуждениями. Давно известно, как ограничено число тех, кто может увлекаться лирической поэзией; мы не ошибемся, если объясним способность этого увлечения возвышенностью души, которой требует и восприятие в такой же степени, как соответственное творчество. Что касается живописи, то те, кто любит ее, должны обладать тонко развитой способностью к зрительным восприятиям; эта способность обусловлена идеальным устройством аппаратов, приноровленных для восприятия тех цветовых ощущений, гармоническим выражением которым и будет всякая хорошая картина. Точно так же в музыке, почитатели данной симфонии должны уметь чувствовать те самые эмоции, какие она выражает, и сверх того должны обладать тем стремлением воспринимать чувства в их звуковом выражении, без которого не мыслима композиция. На основании предыдущего — слишком очевидно то, что искусство действует только той своей стороной, которая касается знакомых почитателю ощущений. Поэтому мы можем выставить такой закон: художественное произведение производит эстетическое действие только на тех людей, душевные особенности которых воплощены в его эстетических свойствах. Короче говоря: художественное произведение действует только на тех, чьим выражением оно служит. Итак, мы видели, что свойства художественного произведения служат прежде всего выражением душевной организации автора. Теперь мы видим, что оно вместе с тем является выражением его почитателей. Не допуская того, чтобы одна а та же эстетическая особенность могла соответствовать разным оттенкам душевной организации, нужно заключить, что почитатели произведения обладают душевной организаций, аналогичной организации художника; и если последняя, благодаря анализу, уже известна, то будет законно приписать почитателям произведения те самые способности, те недостатки, крайности и вообще все те выдающиеся черты, которые входят в состав организации художника. Потому указанный нами закон можно еще формулировать так: художественное произведение производит эстетическое действие только на тех, душевная организация кого является, хотя и низшей, но аналогичной организации художника, которая дала произведение и может быть на основании произведения уяснена. Нужно обратить внимание на те ограничительные термины, которые содержатся в нашем определении. Душевная организация читателя-поклонника не может быть совершенно подобной, а только аналогичной организации художника; очень возможно, что сходство между ними будет чисто общего характера, возможно, что способности, благодаря которым оно имеет место, играют в существовании читателя только подчиненную роль. Известно наконец, что у читателя эти способности, каково бы ни было их развитие по отношению к остальным его способностям не могут обладать такою силою, как у автора, потому что только у него одного они проявились активно. Между организацией художника и его почитателей очевидно существует разница, но только лишь такая, какая существует между способностью творческой и воспринимающей. Творческая способность — это способность настолько развитая, что вызывает и желание проявлений, и действие. От просто воспринимающей способности она отличается только своей высшей напряженностью. Мы высказали те соображения, какие позволяют установить тесное соотношение между художественным произведением и его почитателями, между этими последними и художником. Все те, кто, читая известную книгу, охвачен радостью, оттого что нашел в ней, в прекрасном выражении, те самые идеи, какие ему дороги; все те, кто чувствует, что существо его подкуплено и вместе с тем оживлено мрачной или торжествующей гармонией оттенков, изяществом и горячностью композиции; все те, кто, слушая патетическое andante или капризное scherzo, приходит в неописанный восторг и чувствует себя во власти композитора: все эти люди — братья по духу с тем художником, из рук которого получено произведение. Могут однако возразить, что, исключая художников вообще и писателей в частности, большинство людей, в часы досуга, не любит предаваться мыслям и воспоминаниям, аналогичным с теми, какие составляют основу их привычной деятельности; что коммерсанты, политики, врачи выбирают для себя такие книги, картины и музыку, какие и по тону, и по направлению далеко не соответствуют общему характеру их занятий. Могут указать на интерес рабочих к тому, что происходит в баснословном большом свете; на влечение людей несомненно прозаических по своим занятиям к романтическим или сантиментальным историям; на любовь городских жителей в пейзажам; на наслаждение, какое находят неприхотливые и безмятежные люди в самой страсти к музыке. Очевидно, что все эти люди находят в искусстве успокоение, отдых; и подобно тому как едва ли какой-нибудь ремесленник, оставив свой специальный труд, найдет наслаждение в упражнениях мускульной гимнастикой — громадное большинство людей известного занятия, утилизируя ежедневно известные способности, полезные для их существования, в минуты отдыха едва ли захотят прибегнуть к аналогичной духовной гимнастике, к тем образцам искусства, какие снова возбуждают, хотя бы даже в слабой степени, и без того уже усталые стороны сознания: а если так, то, зная их художественные привязанности, мы получим указания только на их второстепенные и бесполезные для них способности, а вовсе не на то, что может послужить существенной характеристикой их личности. Но это заключение совершенно неверно. Если принять его, то нам пришлось бы допустить, что, в общем, при выборе своих занятий люди пользуются большей свободой, чем при выборе удовольствий, что практические мотивы в первом случае играют меньшую роль, чем в последнем. На самом деле, это совсем не так. Занятие человека, за редким исключением, прежде всего обусловлено характером занятий его родителей. Все течение его жизни обусловлено также или его занятием, или материальной необходимостью, относительна которой едва ли нужно много распространяться. Так что чаще всего, принимая во внимание даже способность человека свыкаться с чем угодно, под оболочкой человека, исполняющего всю жизнь полунавязанный ему ручной или умственный труд, скрывается другой, внутренний человек, который, не выдвигаясь слишком явно, является наиболее подлинным и тайным выражением его сознания, ибо он существовал и развивался в одиночку, вопреки всем внешним, неблагоприятным для него обстоятельствам, вопреки ежедневным занятиям каким-нибудь ремеслом или другой профессией. Этого внутреннего человека, который иногда совершенно разнится от того, каким он является в обществе, можно распознать только по его свободным и бескорыстным проявлениям, по выбору им своих удовольствий, по проявлениям его ничем незанятых и бесполезных для него практических способностей. У людей с прирожденным призванием, по нашему мнению, не может быть резкого различия между их отдыхом и их занятием. Художники, так как они обыкновенно отдаются своему делу по инстинктивному, внутреннему влечению, говорят только о своем искусстве и наслаждение находят только в нем. Военный человек делает то же самое по той же причине. Женщины, не занятые каким-нибудь отвлекающим их трудным делом, обнаруживают такие наклонности, которые не согласуются с их общим поведением. Человеческий опыт не ошибается в этом отношении: чтобы понять человека, обыкновенно стараются узнать не об его занятии, а об его вкусах. История даже указывает на то напр, что Людовик XVI был отличный слесарь, что Нерон был посредственный поэт, что Лев Х был любитель музыки. Совсем не бесполезно знать об изящных привычках Цезаря, об удовольствии, которое испытывал Фридрих Великий от музыки своего времени, о любви Наполеона к Оссиану и к романтической музыке, о привычках Спинозы, Паскаля и пр. Наконец, то, что нам известно о литературных симпатиях некоторых крупных писателей настоящего столетия, показывает нам, что у этих .людей, вкусы которых и способности вполне изучены, существует поразительное сходство между тем, что они любят, и тем, что они из себя представляют. Гармония вкусов и способностей выступает у них на вид с полною очевидностью. Стендаль восхищается смесью страстности и реализма в древних итальянских хрониках, нежностью и страстностью в музыке Чимарозы, он не любит витийственного стиля романтиков, но восхищается искренностью их лиризма. Мериме поносит Гюго, восхищается Стендалем и иногда Байроном. Мюссе не скрывал своего пристрастия к Байрону. Ламартин любил Оссиана, Теофил Готье и парнасцы восхищаются Виктором Гюго, в котором однако они предпочитают версификатора и стилиста мыслителю; Бодлер любит Поэ, Готье и Делакроа; Флобер восхищается Бальзаком, Гюго, некоторыми научными сочинениями и некоторыми формами красноречия; Гонкуры пристращаются к Бальзаку, к Гейне, к Японской живописи и к живописи ХVIII-го столетия, Зола — поклонник Бальзака, расположенный также к Курбэ и к Мюссе; Огюстен Тьерри восхищался Шатобрианом и Вальтер-Скоттом; Мишле — Виргилием, Бернарден Де-Сен-Пьерром и Руссо, Тэн читал усердно Стендаля, Гейне, Вольтера в романтиков. Можно было бы привести еще много подобных фактов. Исследование показывает, что между нравственным типом поклонников автора и самим автором существует резкое сходство. Стоит только собрать свои воспоминания — и всякий легко убедится, что у поклонников Мериме напр., или у поклонников Мюссе, Гюго, Зола имеется определенный темперамент и определенные свойства, приблизительным выражением которых являются как раз те сочинения, которыми они восхищаются. Некоторые авторы читаются только людьми известного возраста, свойства которого они в себе воплощают. Гейне, Мюссе читаются больше всего молодежью — и в самом деле их сочинения носят в себе признаки соответственного возраста. От Горация веет старчеством и он нравится только старикам. Те авторы, которых любят женщины, редко бывают грубы и неприличны. Существует также резкая аналогия между автором и средним типом людей того класса, в котором он наиболее популярен. Писатели, излюбленные буржуазией, обладают буржуазными свойствами. Писатели, излюбленные миром художников, обладают той самой прелестью, той тонкостью чувства и тем изяществом, которые свойственны душе художника. Различные вкусы или склонности читателя стоят между собой в известном соотношении. Исключая высших умов, которые не отличаются односторонностью и раскрываются для всех — совсем нельзя встретить людей, которые бы одинаково, в одно и то же время могли любить и Ламартина и Гюго, Бальзака и Дюма, высшую и низшую литературу. Этот недостаток универсальности вкусов тем более бросается в глаза, чем выше чарующая сила произведения. На первый взгляд может показаться, что должно было бы быть как раз наоборот. Явление это уясняется только в том случае, если признать, что восхищение перед художником обусловлено внутренним сходством, своего рода инстинктивной связью почитателя с автором и тем, что первый узнает в последнем самого себя. Приведенные нами соображения носят чисто попутный характер — и подтверждение их мы оставляем в стороне. Подтверждением их может послужить история искусства и в частности литературы, где можно встретить ряд таких чрезвычайных явлений, которые без помощи развитой нами теории не могут быть объяснены. III Практическое приложение анализа: общие положения Мы пришли к тому, что успех книги и вообще художественного произведения является следствием известной степени соответствия между свойствами автора, которые выразились в его произведении, и свойствами известной части общества, которая должна быть значительна, для того чтобы успех соответствовал своему имени; это соответствие может быть больше или меньше; оно подвержено таким же вариациям, каким и общество. И таким образом, в этих вариациях находят себе объяснение те перемены, каким подвержена судьба известных жанров, стилей, искусств, авторов — на протяжении времени и пространства. Нужно было целых два столетия для того, чтобы Паскаль и С.Симон приобрели славу; их оценили только в настоящее время, которое они опередили — первый в области тоски, а второй — непочтительной проницательностью. Столько же времени нужно было для наших классиков, чтобы лишиться прежней преданности общества, заменившейся теперь похвалами. Мольер и Лафонтен не могли перешагнуть ни Рейна, ни Ламанша. Шекспир проник во Францию в эпоху романтизма, которая была для Франции эпохою германизации; гораздо раньше он проник в Германию; он был позабыт в Англии в продолжении двух веков, когда господствовало наше влияние; его слава возродились в Англии, когда она в литературном и общественном отношении вернулась к самобытности. Некоторые писатели нашли свое духовное отечество в чужой стране, а не там, где родились. Генрих Гейне писал скорее для известного класса французских читателей, которые его оценили и среди которых у него были ученики, чем для своего отечества, где его популярность очень не велика, или для Англии, где он едва известен. Эдгар Поэ тоже не нашел себе признания ни в Англии, ни в Америке; и только во Франции он был оценен благодаря Бодлеру и нашел себе горячих поклонников. Зато, некоторые из наших живописцев, как напр. Густ. Дорэ, признаны только за границей. Большинство наших музыкантов оценено гораздо лучше в Германии, чем в Париже. Бесполезно увеличивать число этих примеров, поясняющих то, каким колебаниям подвержена в пространстве и во времени слава художников. Для этого достаточно указанных нами примеров. Они убедительны. Они не могут быть объяснены ни теорией рас, ни теорией среды. Совокупность всех аналогичных явлений, какие нам дает история со времени установления национальностей, отлично показывает, что между автором и расой или средой не существует никакого определенного отношения, между тем как оно существует непременно, хотя бы оно и было колеблющимся, между его произведениями и известными группами людей, которых эти произведения увлекают вследствие сродства (affinite), природу которого мы уяснили. Это же внутреннее сродство способно объяснить известные явления подражательности. Ни наследственность, ни влияние среды не может вызвать того, чтобы в народе, оставшемся вне всяких посторонних влияний и в политическом, и в общественном отношении, один или несколько художников принялись за подражание в своих произведениях чужим образцам. Можно оставить в стороне время Возрождения во Франции и ХVIII век в Англии, когда переплетались сложным образом политические влияния, в связи с усиленным брожением умов; но то, что было в Риме в эпоху первого литературного брожения, то, что происходило во Франции ХVII-го столетия — с ее влечением к древней трагедии, а в ХVIII стол. с философией и романом, и в ХIХ-м с лирической поэзией — все это не может быть объяснено ни одним из законов старой социологической критики. Ни раса, ни среда, прямо враждебные или совершенно индифферентные к этим новым течениям, не могли заставить римских или французских художников брать для себя образцы за границей, которые они могли и видоизменить и даже превзойти, но влияние которых все-таки было значительно. Если чисто национальное искусство не могло развиться ни в Риме, ни во Франции, несмотря на удачность первых шагов — у Римлян и во Франции ХVII-го века это зависело от нарушения равновесия между тогдашним состоянием искусства и потребностями высшего класса тогдашнего общества, который отличался быстро возраставшей утонченностью развития и чуждую ему литературу находил гораздо больше по своему вкусу, чем свою; в ХVIII-м и ХIХ-м столетии это было обусловлено свободным предпочтением самих художников, которые сознали, что только северная литература могла удовлетворить их вкус и, значит, дать им соответственные образцы, к воспроизведению которых были наиболее приспособлены их способности. Нам кажется, что эти факты отлично уясняют неточность и общность выражения “общественная среда”, если его понимают не в статическом смысле т.е. просто, как совокупность общественных условий в известный исторический момент, а в динамическом смысле т.е. как фактор, как силу, способную уподобить художника этой среде. Потому что в последнем случае всегда можно спросить, какая часть общественного организма производит на художника такое действие. Средою, с литературной точки зрения, в Риме, в эпоху напр. падения Коринфа, являлся класс аристократов и разных выскочек. Эта ограниченная среда соприкасалась с другой более обширной и менее определенной средой, называвшейся римским народом; этот последний соприкасался с еще более обширной и еще менее определенной средой, называвшейся романским миром. Из какой среды исходило наибольшее влияние? Романский мир до того временя не обнаруживал заметного влияния на собственно римский народ; этот последний не мог удержать класс аристократов от обожания греческой литературы. Этот именно класс — скажут нам, — сделавшись совершенно независимым в своих проявлениях, и оказал заметное влияние на римских художников. Но разве не разумно были бы верить, что разные Невии, Эннии, Цецилии и Луцилий при больших способностях могли бы тогда, раньше или позже повернуть дело в пользу самобытной, чисто латинской литературы? Точно также, в Англии и в Германии в ХVIII-м веке влияние национальной, общественной среды, сохранившей свою самобытность, не могло удержать аристократию, двор и искусства от подчинения другому влиянию — иностранному. Легко найти в истории вообще и в истории новейшего романа в частности еще более поразительные факты этой независимости друг от друга общественных классов. Существование этой независимости несомненно. Общества, вследствие постепенно растущей разнородности своего состава, стремятся к разложению на возможно большее число общественных групп, а эти последние — на индивидов, все менее и менее сходных один с другим, все более и более свободных в проявлении личных наклонностей и личных художественных вкусов. В числе аргументов против теории Тэна мы привели тот факт, что в одной и той же среде, в одной и той же расе жили художника, произведения которых представляют прямо противоположные свойства и вызывают несовместимые эмоции. Наряду с этим совершенно различные книги в вообще произведения пользуются успехом, равным успехом, в одной и той же среде. В настоящее время во Франции музыка, живопись и литература в лице самых несходных представителей пользуются одинаковым успехом. Чтут одинаково Ренана и Тэна, Зола и Онэ, Коппэ и Леконт-де-Лисля, Шаваннэ и Кабанэля, Гуно и Сан-Саэна, Дюма и Лабиша, и т.п. Очевидно, что совершенно несходные художники не могут быть выражением одной и той же среды или группы людей, нужно допустить, что они служат выражением столь же разных групп, как и они сами, что этих групп столько же, сколько художников, что художников рождается столько же, сколько различных групп. Очевидно то, что эти группы, совсем не создавая художников, ибо до появления художника само существование этих групп не проявляется очевидным образом — что эти группы ими именно и создаются посредством их произведений. Когда появились в свет главные фрески Шаваннэ, часть общества полюбила его стиль, сгруппировалась около художника и создала ему славу. То же самое было и с другими из современных художников, и в массе других аналогичных приведенному исторических случаев. Мы уже видели, в чем заключается психология восхищения или преклонения; мы знаем, что оно является следствием соответствия душевной организации автора с организаций его почитателей. Мы видели дальше, как появляются общественные группы и как разрастается их число по степени развития цивилизации. Теперь мы пришли к вопросу о самом процессе образования группы. Мы видим ясно, как художник, совершенно свободный от влияния расы, окружающих его наклонностей и вкусов, создавая произведение, которое служит выражением его души — души, свойства которой не являются ни национальными, ни отвечающими современности, ни отвечающими свойствам тех художников, произведения которых стоят на апогее своего успеха — как он отрывает от общества группу людей и точно помощью каких-то магнетических влияний привлекает ее к себе. Эта группа людей окружает его, потому что он воплощает в себе ее свойства; она существует только потому, что появился он. Центр силы лежит в художнике, а не в толпе — вернее говоря, в отвлеченном факте того сходства, какое существует между художником и его почитателями. Чем больше людей, сходных с художником, тем громче слава последнего; стоит ему тогда только появиться, протянуть свою руку — и почитатели соберутся вокруг него; в противном случае не будет ничего; успех романа “Госпожа Бовари” не мог обеспечить успеха другому роману Флобера “Сантиментальное воспитание”; Густав Моро, признанный в Риме и увенчанный медалью, не популярен; Онэ — неизвестно как, но известно, что в громадной степени — приобрел популярность. После всего нами сказанного будет не трудно объяснить, как нужно понимать то, что литература и вообще искусство дают понятие об обществе, которому они принадлежат. Душа народа живет в его памятниках — не потому совсем, что он их создал и обусловил их отличительные свойства, а потому, что его искусство, созданное в своих лучших произведениях рядом людей, очень часто далеких тех отличительных черт, какие свойственны их расе или их эпохе, — что искусство характером своего торжества и рядом своих праздников уясняет, каков был дух народа и каково его развитие в различные эпохи, в разных общественных группах. Литература и вообще национальное искусство включает в себя ряд произведений, служащих выражением, как общей душевной организации масс, составленных из почитателей произведения, так и организаций самих художников. История литературы и искусства — если только отбросить те произведения, успех которых сводится к нулю, и рассмотреть художников сообразуясь с степенью их славы — дает ряд типов душевной организации, свойственных народу, иначе говоря, дает возможность уяснить так называемую эволюцию его душевных свойств. “Путешествие пилигрима” и “Песни” Беранже — характерны для Англии конца XVII река и для Франции сороковых годов. Но характерны они не потому совсем, что в эти две эпохи и в этих двух странах они впервые появились, т.е. были написаны, а потому что здесь и в это время их с увлечением читали и ими зачитывались; потому что они овладели всеми сердцами, пленили и воспламенили все умы. Будь английский народ легкомысленнее — несмотря на это, вероятно, Бёниан написал бы свою книгу, в том случае ненужную и лишнюю, и эта книга попала бы в число мертворожденных произведений. Будь Франция серьезнее — наверно, Беранже пошел бы веселить людей, но равнодушная к веселию толпа пренебрегла бы песнями. Бёниан и Беранже не были бы в этом случае типичными для Англии и Франции; и на основании их нельзя было бы строить социологических заключений. В историческом отношении оба они — интересны только своею популярностью, а не своим происхождением и не своими свойствами. Они служат выражением и характеристикой французской или английской души — не потому совсем, что следуют за известным движением, но потому, что предшествуют ему и составляют его, резюмируя его не в качестве отдельного образчика или частного проявления, а в качестве первоисточника и типа. Таким образом, мы видим, что нет ничего неточного в выражении, по которому можно свойствами литературы определить народ; нужно только не художников подчинять народу, а народ художникам, рассматривая и изучая народ по его художникам, общество — по кумирам, паству — по пастырю. Мы не знаем того, чем обусловлено появление великих людей; закон, которым обусловлено рождение и природа великих людей, нам не известен; мы знаем только то, что ни одна из предложенных на этот счет гипотез не объясняет всех соответственных фактов. Но раз гений родился, развился и начал творить — сразу начинается игра притяжений и отталкиваний, которая уже поддается изучению. Люди, которые видят в нем своего выразителя, восхищаются им, группируются вокруг него и отделяются от людей иного лагеря. Если привлеченная им группа людей велика, значительна по качеству и по количеству — произведение приобретает высокое общественное значение и сохраняет его только в это время, которое может прийти слишком поздно и пролететь слишком скоро. Если группа — незначительна или ничтожна, то произведение за время своей непопулярности, временной или постоянной т.е. безусловной, обладает самым минимальным значением. Выражая те же мысли другими словами, мы скажем: ряд произведений, популярных в данной общественной группе, дает нам историю этой группы; литература служит выражением народа — не потому, что он ее произвел, а потому что она была принята, признана им и доставляла наслаждение. IV Социологический анализ и отношение его к другим наукам. Мы коснемся еще предосторожностей, которых требует наш метод при своем приложении. Он позволяет строить на основании произведения заключения о народе только после того, как определена относительная важность привлеченной художником и определившейся благодаря ему общественной группы, после того, как точно указана та эпоха, для которой данное произведение может считаться историческим документом. При изучении данного художника исследователь должен прибегнуть к ретроспективному исследованию, сообразуясь с отношением к этому художнику критиков и журналистов этой эпохи, для того чтобы узнать степень его популярности; он должен знать продажную цену его картин, если он живописец; он должен знать число представлений, если дело идет о пиесе; число изданий данной книги; сумму вознаграждения полученного автором. Исследователь должен изучить произведение с этой точки зрения за все время его существования — для того, чтобы определить фазы его популярности; и наконец он должен знать о степени распространения его заграницей. Если употреблены возможные предосторожности, которые укажет опыт, — то изложенный нами метод анализа сослужит службу наук прошлого, истории; он позволит для эпох и для народов; имевших свою литературу, написать внутреннюю историю людей, скрытую под оболочкой политических, общественных и экономических явлений — и написать историю в научно-точных терминах. При широкой постановке синтеза можно будет написать историю интеллектуального развития человечества и даже каждого отдельного органа психической жизни. Именно путем этих исследований можно будет обосновать так называемую “психологию народов” — на точных и положительных данных, особенно если к ним присоединить другие данные, какие могут извлекаться из другой науки, близкой к своему обоснованию, психологии великих людей — основателей религий, учителей нравственности, законодателей, государственных деятелей — науки, которая, подобно эстопсихологии, слагается из трех частей: 1) из анализа деятельности великого человека, 2) из определения его индивидуальной организации, и наконец 3) из социологических заключений, т.е. из раскрытия душевных аналогий, в силу которых он нашел последователей и достиг известных результатов. Таким образом — изучая крупные явления умственной, политической и военной жизни, сначала в лице инициаторов, а потом в лице их сообщников — можно написать в конце концов историю во всем ее объеме. Научно-критический синтез I Синтез эстетический. Мы кончили изложение средств, позволяющих путем анализа произведения понять его, его автора и наконец те группы лиц, в которых оно вызвало эстетическое волнение. Таким путем мы можем прийти к знанию, которое может быть названо точным, научным, т. е. состоящим из ряда положительных данных и аналогий, позволяющих строить законы. Не трудно видеть, что это знание при данной постановке является аналитическим, дробным, отрывочным, что это знание, при последовательном раскрытии свойств произведения, касается произведения в его частях, а не во всем его ансамбле; оно сосредоточено только на объекте своего изучения, раскрывает его только в нем самом, а не в его отношениях к внешнему миру и не в его динамических проявлениях. Недостаток методов, которые мы старались оспаривать, заключается в том, что, применяя их к произведениям и к людям, выражением которых оно является, исследователь раскрывает только внешность, только обстановку, внешний и недостаточно определенный абрис дела. Относительно нашего метода, если ограничиться предыдущими главам, может показаться, что он ведет к признанию какой-то абсолютности изучаемых объектов, как будто бы они совсем не соприкасаются со внешней обстановкой и стоят вне всяких условий и всяких причин. Поэтому нам нужно пополнить изложение рядом соображений, которые позволят, вслед за анализом произведения, восстановить его и людей, имеющих к нему определенное отношение, во всей их целости, в кругу тех исторических условий, среди которых им приходится фигурировать. Произведение искусства, если его разобрать по частям - и в средствах воздействия, и в его эмоциональных следствиях перестает быть произведением искусства. В момент такого разложения, для тех, кто его разложил, и для тех, кому оно в этом разложенном виде представлено, произведение теряет всю свою эмоциональную силу; оно представляется тогда недеятельным механизмом, разобранной машиной, которая в силу одного того, что разобрана на отдельные части, принуждена оставаться в покое и вызывать недоумение по поводу своего приложения. Поэтому - когда произведение разобрано и понято в своих частях, остается еще раскрыть его в самый момент его действия, когда оно влагает в человеческую душу те самые эмоции, для возбуждения которых создано. Остается еще, не ограничиваясь тем, что раскрыть секрет его эмоционального воздействия, взглянуть на него непосредственно, со стороны, как на силу, действие которой можно приблизительно измерить. В связи с тем, что аффект произведения выражается в виде эмоции и что эта эмоция соответствует определенному, ясно ощутимому следу в душе охваченного ею человека - нужно попытаться восстановить нарушенную целость произведения и воссоздать общее впечатление. Другими словами, нужно прибегнуть к так называемой парафразе. Снова, перечитывая книгу, восстановляя снова в своем воображении картину, восстановляя музыкальное развитие симфонии, переживая каждое произведение во всем его составе исследователь должен изобразить живое впечатление, какое под влиянием произведения способно запасть в живого человека, способного поддаться увлечению и страсти. Всякая подробность отразится под углом своего падения, всякое художественное средство выразится известным действием; аффект произведения, прочувствованный заново, определится в целом и уяснится во всех своих свойствах и во всей своей прелести. Если дело касается книги, то она будет изображена, как объект действительного чтения, на который устремлены человеческие глаза - равнодушные, веселые, восхищенные; суровые, подернутые сдержанною грустью, глаза мужчин, утомленные зрелищем подлинной жизни, ясные или суровые глаза женщины, мутные глаза праздношатая, блестящие глаза юноши, дух которого крепнет на фикциях искусства и приучается к подлинной жизни. Если дело идет о картине - будет ли она в обстановке музея или будет красоваться на изящно украшенных стенах салона - то и картина, отражая от себя разноцветные снопы солнечных лучей, благодаря своему резкому или нежному, приятному для глаза сочетанию веселых, пестрых, кричащих или мертвенно-бледных оттенков, заговорит для зрителя живыми словами: здесь вы услышите потоки слов то о невинной истоме красивого, голого тела, то относительно мерцания таинственного света во мраке пещеры, где чуть виднеются или искаженные мукой или покорные лица, здесь вы услышите глубокомысленно-периодическую речь по поводу прозорливого, меткого анализа какой-нибудь изнуренной и равнодушной головы короля или монаха доброго старого времени, с его глазами, исполненными мистицизма, с его морщинами, в которых вы увидите подавленную страсть. Таким же образом, вслед за анализом, может быть восстановлена общая картина очарования музыкой. Зарождение грез и поступков под влиянием чарующих звуков голоса в ночной тишине, прелесть мелодии, поражающая грустью сила трагических восклицаний и воплей - все это должно быть принято в расчет и обрисовано в такой же степени, как мужественный, выдержанный гул фортепиано, как смелое перебегание по клавиатуре привычных, гибких пальцев, как увлекающая сила марша, как рост и падение рresto или важность и степенность так называемых andante, которые как будто укрощают и смягчают боль страданий; исследователь должен помнить то, что бойкие, горячие и симпатичные звуки скрипки проносятся над самым ухом, чаруют, проникают в душу, поют и выделяются среди глухих ударов контрабаса, среди зловещей ярости гобоя и шума других инструментов, среди всей этой сложной массы звуков и движения, выливающихся в форму симфонии. То, что сказано здесь, приложимо ко всякому произведению искусства, к статуе, к храму, драме, книге - дидактической или лирической. Для полного и точного знания каких бы то ни было произведений - знакомство с его механизмом, с его составными частями представляется не более важным, чем знакомство с тем, как проявляется его существование в целом, как действует оно на окружающих. Из предыдущих строчек ясно, во-первых то, что мы стремимся к тому, чтобы произведение, после того как оно разложено научным образом на составные элементы, изучалось и с общехудожественной точки зрения. Кроме того, ясно также, что, предлагая эту точку зрения, по которой произведение должно изучаться в момент его воздействия, - что этим самым мы присоединяем к нашему методу один из приемов чисто литературной критики. Известные фельетоны Готье и Барбе д’Орвильи, этюды Гонкура и Банвилля, Тэновские описания картин в его “Путешествии по Италии”, речи Бодлера - вполне соответствовали бы тому, чего хотим и мы, если бы однако они были обоснованы на предварительном аналитическом изучении, без которого все эти вещи можно упрекнуть в том, что они только констатируют, но недостаточно объясняют свойства сообщаемых произведением эмоций. Если бы подобного рода данные присоединить к несколько сухим, но зато проникающим в самую суть рассуждениям аналитика, если бы даже внести их в самую цепь рассуждений - то они были бы не только украшением, но необходимою составной частью научно-критического очерка. II Синтез психологический При синтезе психологическом - нужно дать полное изображение личности художника. Это делается на основании данных психологического анализа, прячем исследователь должен прибегнуть опять-таки к употребительным приемам критики. Критик должен понимать, что бескровный и бесцветный механизм душевной жизни, который шаг за шагом он может вывести на основании эстетических данных, вовсе не является отвлеченностью, какой-то отрешенной силой, без точки приложения - во что этот механизм, одушевленный, на самом деле существующий, питающийся красной кровью, состоящий из живых и постоянно обновляющихся клеточек, является живым человеческим существом, которое могло стоять, ходить и действовать т.е. жить под нашим небом, в нашем воздухе, на нашей земле. Это существо имело детство, юность, очень часто зрелый возраст и иногда старость. Это существо было членом семьи, гражданином отечества; у него были такие-то родители, такие-то друзья и такие-то современники; жизнь этого человека полна удач и неудач, печали и радостей, она слагалась из привычек и случайностей; он подчинялся различным влияниям и сам влиял на окружающих и пр. и пр. Этот человек, относительно которого прежде всего определяется его общий облик со всеми его приобретениями, со всем его врожденным содержанием, - подчинялся законам развития, должен был бороться и приспособляться; как всякое живое существо, он обнаруживал явления - и самобытности, и подражательности; он повторял чужое и создавал свое. Не зная всех перипетий его жизни, не зная точки его отправления и точки прихода, исследователь не сумеет довести своего дела до конца. Его анализ будет мертвенным, сухим, нереальным, как всякая математическая теорема, и неполным, незаконченным, как для анатома остеология. Для того чтобы восстановить вполне одно из этих выдающихся интеллектуальных существ, которые в области мысли и чувства являются чем-то вроде представителей той или иной интеллектуальной породы, которые соединяют в себе и всецело переживают все эмоции и все интеллектуальные состояния, возмущенные ими в массе своих почитателей (admirateur) - для этого нужно от отдельных проявлений интеллекта перейти к их соотношению, к взаимной их связи, нужно вложить изученный и в частностях, и в общем интеллект в живое тело и уяснить его привычки на основании свидетельства современников; таким образом постепенно восстановляется живой человек; нужно затем указать на его происхождение - на семью, расу и народ, к которым он принадлежал; нужно коснуться его среды, места его рождения и детства, пейзажа, климатических а геологических условий; нужно затем проследить его в его развитии и в его отношениях, переходя от детства его к юности, от его приязней к его связям, от его чтения к его действиям; нужно проследить различные стадии его творчества, узнать радости его жизни и его огорчения, обрисовать в конце концов закат его жизни и смерть его. Весь этот труд должен в конце концов повести к высшему результату знания, к которому стремится вся отрасль наук, изучающих органический мир: к знанию человека во всех его частях и в целом, начиная от тончайших внутренних фибр, от мельчайших агрегаций мозговых клеточек, представляющих поле для бесконечно живой и сложной игры ощущений, начиная от этой внутренней основы душевных вибраций, которая для постороннего наблюдателя, способного проникнуть в самую изнанку дела, сводится к физиологии, а субъективно выражается в форме мыслей, эмоций, печалей или радостей, воспоминаний и т.п. - вплоть до окончания бесконечно разветвленных нервов, которые, направляясь по неизвестным еще путям и получая внутренние импульсы, исходящие из центрального органа, проводят их до эпидермиса, т.е. до внешней поверхности тела, - вплоть до тех, кто предшествовал и породил изучаемый организм, - вплоть до тех, кто с ним соприкасается, чьи проявления могли отразиться на нем, печалить его или радовать, - вплоть до неба, которое отражалось в его глазах, вплоть до почвы, по которой ходил он, вплоть до города, деревни или поля, где он бродил. Вот только здесь, начиная с того момента, как предварительный анализ подготовил почву, биографический метод С.Бёва и его последователей может оказать действительно громадные услуги. Следуя этому методу можно закончить портрет, внутреннее содержание которого раскрыл эстопсихологический анализ. Обобщающая манера Тэна, кропотливые изыскания С.Бёва, умеренный реализм лучших английских биографов, анекдотические элементы - все это может слиться вместе для того, чтобы обрисовать явственный образ и самого человека, и его обстановки. Вот те приемы, которые необходимы для того, чтобы оживить, одухотворить изучаемое существо, душа которого без этого казалась бы раздробленной и полумертвой. Говоря о Поэ, можно проследить за ним, начиная с тех пор, как он, будучи еще ребенком, по воле восприемного отца читал стихи, и кончая тем, как он сидел в Балтиморском трактире, где напивался допьяна затем, чтобы на следующий день проваляться в канаве; говоря о Флобере, нужно помнить о знатной медицинской семье, из которой он происходил, о безмятежной, низменной стране, в которой он проводил свою юность, о восторженном прибытии его в Париж, о его путешествиях, о его болезни, о постепенном ослаблении его ума, о среде реалистов, к которой примыкал этот запоздалый романтик; говоря о Гофмане, нужно иметь в виду его насмешливый, сатанинский вид, складку его губ, обезьянью подвижность и ловкость его маленького тела, его гримасы, его потупленные взгляды, его ужас в виду формализма, его продолжительные ночные пребывания в ресторанах за бутылкой вина и пр. и пр. Если таким образом будет восстановлено большое количество образов и если их классифицировать - то можно, для каждого периода, для каждой области литературы, для всей литературы наконец, получить цельные фигуры людей, являющихся типами думающего и чувствующего человечества. Эстопсихологический анализ раскрывает этих людей, рассматривая частности их интеллекта; биографический синтез, полезный только после указанного анализа, восстановит их целиком и уяснит, как эти люди развивались, как жили и чем проявляли себя. III Синтез социологический Если по известной совокупности психических свойств можно восстановить образ художника во всем его целом - то же самое и можно, и нужно сделать относительно тех, кого мы согласились считать подобными художнику, т.е. относительно его поклонников. Мы уже знаем, что, исходя из данной книги, можно вывести свойства определенной группы лиц, подобных автору. Но эта группа действительно существовала в пространстве и во времени, она иногда существует еще; она представляла или представляет особенную среду, относительно которой очень часто или история или повременные издания дают определенные указания сверх тех более точных и интимных указаний, какие представляет данное произведение или данная совокупность произведений, послуживших пунктом сближения множества лиц. Эту группу, ее главных представителей, ее образование, продолжительность ее существования, ее состояние, ее нравы - именно все это должен восстановить помощью точных приемов социологический синтез, намечая, описывая, резюмируя, нагромождая разнородные данные и уясняя наконец живой и полный образ тех людей, в которых жил дух данного произведения и его автора. Здесь именно исторический и социологический метод Тэна приобретает всю свою силу и все значение, этот именно метод нужно употребить для того, чтобы воссоздать вполне, со всеми жизненными свойствами, группу людей, внутренний механизм которых уже определен путем анализа тех чувств, которые в них вызваны данным произведением - группу людей, относительно которых нельзя сказать, чтобы они своим существованием обусловили появление того произведения, которое сближает их, или вообще произведений их времени; которых, напротив, нужно считать только несколько сходными с автором того произведения, которое их взволновало. Вся совокупность приемов - художественных и научных, которыми пользовался Тэн из французских, Патер и Вернон Лей из английских критиков и романисты-археологи как напр. Флобер - весь этот арсенал приемов может быть приложен для восстановления различных типов общественных групп с большою пользою, потому что этому исследованию внешней стороны дела, относительно которой может дать свое свидетельство история, предшествуют и вместе с тем подкрепляют его вполне вероятные или точные данные о внутреннем существе людей, составляющих группы, об общем механизме их душевной жизни. Современники, авторы воспоминаний, юмористы и бытописатели данного времени, различные изображения - от картин до карикатур, тысячи фактов, рассеянных в жизни, архитектурные и географические свойства мест, памятников, городов, все составные элементы общественной жизни, от политики до теологии: все это должно быть опрошено и взрыто при изучении типических свойств данной общественной группы; все эти знания - об одеянии, о жилище, о привычках, об этническом типе, о всех отношениях - божеских и человеческих, о всей жизни изучаемой группы, которая может включать в себя то лучший цвет народа, то целый класс народа, то ряд людей, рассеянных в различных классах общества, но имеющих определенные точки соприкосновения: все эти знания очистятся от лишних примесей, сольются в одно общее целое и явятся живою плотью для того скелета психической жизни, который уясняется эстопсихологией. Таким образом можно воспроизвести внутреннюю и внешнюю сторону группы афинян - поклонников Аристофана или группу афинян - поклонников Еврипида; так можно уяснить точный тип горожанина времени итальянского возрождения, столь чуткого к строгой красоте флорентийской школы или тип итальянцев, покоренных роскошным колоритом Тициана и Тинторета; так можно уяснить тип завсегдатая воскресных концертов в Париже, который раз в неделю после шестидневного труда упивается какой-нибудь Бетховенской симфонией, музыкой Вагнера или Берлиоза. Если согласиться, что история должна дать полное и точное восстановление минувших поколений тогда дело критика будет способствовать делу истории; и свет, который прольется благодаря нашему методу на дело истории, окажется постольку важным и постольку новым, поскольку верен предложенный метод. Критика и история I Общий взгляд на историю; художник, горой, толпа Труд критика, судя по предыдущим главам, представляется громадным; но результаты, к которым он ведет, служат его оправданием. Если предпринять подобный труд и пополнить его одинаково тщательно и относительно произведений искусства, и относительно художников, и относительно их почитателей, принадлежащих известной эпохе и известному народу, если разделить этот народ приблизительным образом на ряд интеллектуальных типов и соответственно этому на ряд общественных групп, свойства которых выражены в терминах научной психологии; если затем представить эти типы во всей их целости, облечь их в кровь и плоть, а эти группы сходных с ними лиц представить, как агрегаты лиц, живущих полной жизнью, имеющих определенное поведение, определенную религию, политику, интересы, планы, предприятия, отечество; если к этим группам—в том случае, когда история дает определенные указания — присоединить темную массу людей, не принимающих участия ни в искусстве, ни в политике, ни вообще в цивилизованной жизни, если наконец охватить одним общим взглядом все это множество составляющих народ элементов — то мы достигнем относительно данного народа и относительно данной эпохи столь совершенного знания, какое только можно получить при современном состоянии науки; мы проникнем в самые сокровенные тайны прошлых эпох человеческой жизни и потревожим легионы исчезнувших существований Путем такого методического, все более и более широкого восстановления, мы можем воскресить из прошлого все то, что нашло себе выражение во всякого рода памятниках, оставленных им. Рассмотренные нами приемы синтеза, в связи с тем отношением, какое благодаря им может быть установлено между художником и его почитателями, в связи с той целью, которая заключается в том, чтобы восстановить народы и периоды по свойствам общественных групп, нашедших себе выразителя в каком-нибудь художнике, наводят на мысль о возможности установить новый взгляд на процесс истории, средний между теми, какие развивались в настоящем столетии. Новейшие попытки изменить метод истории, согласуя его с недавними завоеваниями науки и особенно с демократическим направлением последнего времени, привели к совершенно особенному толкованию общественных событий. Известно то, что до начала настоящего столетия и летописцы, и историки, судя о фактах общественной жизни по первому впечатлению и объясняя их поверхностно, но относительно верно, пришли к тому, что центр тяжести всякого предприятия лежит в отдельной личности — в королях, в министрах, начальниках, в тех самых людах, с именем которых в обычном представлении связано предприятие. Стремясь улучшить и обновить взгляд на историю, поддавшись кроме этого либеральному течению, которому в начале настоящего столетия уступали выдающиеся люди, теоретики истории пришли к совсем противоположному и менее справедливому взгляду. Огюстен Тьерри в числе первых, исходя из той общей идеи, что всякое событие в числе своих причин имеет иные факторы помимо главного инициатора, и преувеличивая значение этих второстепенных факторов, присвоил громадную важность влиянию народных масс во всяком историческом событии. Впоследствии этот взгляд стал торжествующим взглядом и приобрел такое доверие, что совершенно стали умалять значение великих людей в общественных событиях, приписывая их исполнение исключительно массам, толпе, которая столь часто действует по принуждению и почти всегда несознательно. Обобщения английских экономистов и статистиков казались по ошибке легче приложимыми к народам, чем к индивидам — и в результате было то, что были признаны идеи Бокля, по которым война напр. идет без полководца, без стратегии, без дисциплины, без влияния на нее вооружения или тактики, так что главные элементы войны — это случай и общие инстинкты народных масс. Совершенно аналогичные рассуждения повели к тому, что представители новейшего романа, ослабляя значение высших человеческих способностей и высших человеческих натур, возвели в принцип бесполезность волевых усилий и стали описывать людей — умственно и нравственно вырождающихся. Трудно подыскать легче принятое обществом и более ложное понятие, чем разделение двух соучаствующих элементов во всяком историческом событии — героев и толпы — и перевес последнего. Случай, в котором великий писатель, обусловленный в своем появлении неизвестно какими причинами — почувствовав в себе совершенно новый мир и обращаясь с вызовом к определенным настроениям, чувствам и мыслям, нетронутым еще и как бы спящим, группирует вокруг себя своих братьев по духу в виде концентрических, все более и более растущих кругов, т.е. вырывает из смешанной человеческой массы и привлекает к себе целую группу существ с созвучною организацией: этот случай подобен тону, когда, не в области эмоций, а в области живого дела, великий человек, герой, замышляя великое предприятие, нося в себе заранее мысль об успехе, о славе, о счастье, нося в себе планы о средствах к его выполнению и пр. и пр., достигает, путем ли убеждения, непосредственного внушения или путем приказаний, того, что мысль об этом предприятии сначала слабо, в общем, а затем отчетливо проникает в сознание массы и увлекает тысячи людей — в числе которых вы найдете непосредственных помощников, армию, союзников; рабочих, инженеров, сотрудников, или общество, маклеров, банкиров, компаньонов; или наконец народ, избирателей, депутатов, министров. В обоих случаях возможность дела и успех его обусловлены сходством в душевной организации — инициатора и массы, героя и толпы. Сходство это может быть прочным, значительным — среди главных соучастников, или мимолетным, общим, и даже трудно уловимым — среди второстепенных и третьестепенных участников; во всяком случае оно — необходимо, и в нем — центр тяжести. Всякий успех и всякого рода слава — литературная, артистическая. военная, промышленная; политическая и т.п. — предполагают непременно одни и те же элементы, одно и то же соответствие, созвучие высших умов с низшими; всякое произведение, всякое предприятие есть прежде всего дело его автора и потому оно обусловлено, если всматриваться все глубже и глубже, свойством его природных и приобретенных способностей, составом его мозга, характером его общей организации и наконец всех тех влияний, мало еще уясненных; которые его сделали именно таким-то, а не другим; всякое произведение, всякое предприятие, являясь делом его автора, отвлекается от него и входит в сознание других людей — оно воспроизводится в этом сознании; входит в число его возбудителей и производит в нем позывы к действию или эмоции, аналогичные тому, что происходит в сознании автора. Это воспроизведение и степень его указывают на сходство, на созвучие двух душ — той, которая воспринимает, и той, которая творит, потому что у каждого индивида психические явления слагаются в одну связную цепь, потому что всякая мысль предпочитает совместную работу целого ряда одно другому подчиненных колёс или так называемых органов психической жизни и передача мысли во всем ее составе от одного человека другому говорит о сходстве этих органов. Будет ли это сходство той аналогией, какая существует между всеми животными в области первоначальных, эмпирических познаний; 6удет ли оно той аналогией, какая существует между всеми людьми в области элементарных понятий о нравственности: будет ли это то сходство, которое объединяет расу, нацию или группу людей, случайно связанных предметом общего поклонения или общностью предприятий — именно оно, это сходство, и будет тем, что между инициатором дела и его исполнителями, между автором произведения и его приверженцами создает определенную связь, которая заставляет обе стороны принять одинаковое участие в успехе дела: того, кто его начал, но не был в состоянии его исполнить сам, и тех, кто исполнил его, но не был, в состоянии его начать, — того, кто создал данное произведение, но не сумел бы насильно вложить его в сердца людей, и тех, кто его принял, признал, воспроизвел в своем уме, но не сумел бы ни задумать, ни выполнить его. Слава художника и торжество героя — явления аналогичные и слагаются одинаково из двух элементов. Первый элемент — это личная инициатива, благодаря которой известная личность является воплощением того или иного типа душевных свойств; второй элемент — это элемент подражания, согласия, одобрения, восхищения, благодаря которому известный тип привлекает к себе толпу себе подобных лиц, приверженцев. Эти последние примыкают к первому благодаря первичной и всеобщей силе притяжения, которая группирует около данного элемента элементы с ним сходные. Принцип личного творчества, инициативы выражается в том, что в данный момент, в известной общественной группе появляется выдающаяся личность — художник или деятель — одаренная особенно-своеобразными свойствами душевной и, вероятно, мозговой организации, которая и проявляется в делах, в произведениях, в речах. Принцип подражания или воспроизведения (repetition) выражается в том, что эта выдающаяся личность соответственным образом возбуждает людей, привлекает к себе, и соединяет в группу всех тех, душа кого в слабой или сильной степени сходна с душой его — художника или героя. Степень сходства обуславливает степень прочности установившейся связи. Художник и герой являются сразу причиной и типом вызываемого ими движения — они вызывают и направляют движение, они определяют его свойства; толпа ему способствует, производит его; художник и его приверженцы, герой и толпа участвуют совместно и одинаково необходимы для движения. Оба принципа—принцип случайных уклонений (variation fortuite) и принцип воспроизведения (repetition), как известно, составляют основу теории так называемого естественного подбора, которая кроме того опирается на действие среды (milieu). Все наши рассуждения клонятся к тому, чтобы доказать, что действие этого третьего фактора все уменьшается и уменьшается до полного исчезновения по мере того, как общества прогрессируют — в силу того основного положения, что общество это — институт охраны личности и вида, направленной против разрушительного действия природы. Теория естественного подбора — для того, чтобы связать принцип уклонений с принципом воспроизведения случайно происшедших форм — пользуется законом наследственности, которая сводится в конце концов к установлению природного сходства двух существ. Точно также и в социологии, как это отлично показал Тард, нужно признать принцип изобретений, нововведений и принцип подражания, которое сводится в конце концов к идее сходства в потребностях и вкусах, какое существует между изобретателем, реформатором и его подражателями. Те же два принципа нужно допустить и в психологии — принцип личного творчества, благодаря которому возможно появление героев и художников, и принцип воспроизведения, которое сводится к идее сходства между героем, художником и толпой или приверженцами и выражается в том, что первый и увлекает, и объединяет последних, Теперь мы можем на почве тардовского обобщения построить еще более смелое и широкое обобщение: ясно то, что все эти начала сходства — от наследственности до согласия — имеют в виду сходство активных проявлений, сходство силы, сходство вибрации душевных сил; тип всякого развития — это вибрация или звук и созвучие, из которых звук рождается, а созвучие повторяет и продолжает. В конечном выводе мы приходим к тому, что нужно отделять силу от ее направления, хотение от постановки сознательной цели, разновидность от первообраза или первичного типа — нужно отличать армию от ее полководца, массу соучастников, сторонников данного предприятия от самого инициатора, народ от его управителей и руководителей, класс общества от энергичных представителей этого класса. При всякой совместности абсолютно необходимы и одинаково важны оба элемента; они составляют одно неразрывное целое, и если их разделить — они окажутся бессильными. Сила направляющая может существовать сама по себе — независимо от силы действующей, направляемой; последняя, напротив, никак не может быть представлена существующей независимо. Сила направляющая, тип, предприниматель, цель могут явиться и могут быть представлены сами по себе, в одиночку — тогда как этого совсем нельзя сказать о силе направляемой, о разновидности, о массе человеческих существ, о хотении и о готовности действовать. Отношение между этими двумя сторонами — то самое, какое существует между формой и субстанцией Аристотеля; отношение это выражается в пластичности, в формовании, в уподоблении, в подражании. Из двух рассмотренных нами факторов эволюции первый, т.е. случайное уклонение, личное творчество, в смысле, времени, играет первенствующую роль; как значение первой цифры преобладает над значением последующих цифр в числе и вместе с прибавлением их возрастает — подобно этому великий человек преобладает по значению над массой и вместе с увеличением массы растет его преобладание. Всякое взаимодействие, всякое сотрудничество происходит на почве внушения (suggestion). Слава, богатство, власть. успех приобретаются только в том случае, когда человек сумеет в чуждых ему душах возбудить или усилить ряд образов, мыслей и чувств, которые могли бы воле данной группы лиц, их мышцам, их самочувствию дать желательное для него и полезное ему направление. Происходит ли подчинение одного человека другому насильственно, именем власти, под страхом наказаний или лишений, происходит ли оно полюбовно, по безотчетному и инстинктивному влечению одного человека к другому, или наконец — что наиболее неотразимо — оно происходит потому, что известная личность, герой или художник, является наиболее совершенным типом душевных свойств известного народа и подчиняет его именно благодаря идентичности свойств — во всех этих случаях мы можем с одинаковым успехом и правом допустить существование внушения. Душа великого человека — это та душа, которая сумеет миллионом рук располагать, как своими; душа великого художника — это та душа, которая найдет себе созвучие в миллионе сердец, которая сумеет их и опечалить и обрадовать. История данного народа, данной литературы — это история грандиозных жизненных течений, описанных в своем источнике, прослеженных в своем направлении, раскрывающих своим распространением и своим числом, сколько в данном народе людей, проявивших свою самобытность, и сколько — ограничившихся подражанием. II Практические следствия; художественное произведение Будучи сходными, явления эстетической и героической агрегации способны заменяться одни другими. Бесполезно говорить о том, что появление литературных притяжений или соучастие в каком-нибудь общем деле совпадает всегда с ослаблением семейных, родовых и национальных связей; что разные искусства, подобно гуманитаризму, способствуют космополитическому течению и что таким образом связи по предмету поклонения или по общности предприятия являются в замену кровных уз. Но интересно то, что преданность герою и преданность книге редко существуют рядом, в одно и то же время; обыкновенно они стремятся заместить и исключить одна другую — в силу того, что оба этих акта приводят в действие один и тот же механизм; различны только достигаемые результаты. Эмоция, какую сообщает книга о каком-нибудь происшествии, и та эмоция, которую могло бы сообщить само описанное происшествие, сходны одна с другой постольку, поскольку каждая из них является возбуждением. Простые люди плачут в театре, как будто видят настоящее несчастие; военные песни поднимают дух массы; и очень часто эта ложная, т.е. эстетическая эмоция удовлетворяет тех, кто её испытал, и отнимает у них желание испытать реальную эмоцию того же порядка. Увлечение литературой или искусствами в жизни народа, класса или индивида никогда не являлось накануне крайнего напряжения энергии или накануне периода важных практических мероприятий, накануне практического энтузиазма, потопу что праздное удовлетворение вкуса — несовместимо с практическим усилием. За веком искусства Афины оказалась истощенными, между тем как морские битвы обошлись им сравнительно не дорого; зато Спарта, не уделявшая искусству много времени, существовала гораздо дольше Афин. В Риме, утонченность нравов, наступившая после взятия Коринфа, обессилила римскую знать в борьбе с трибунами и диктатурой; дилетантизм высшего класса при Августе передал его во власть императоров. Время итальянского Возрождения предвещало конец республикам. Век Людовика XIV-го и следующий за ним подготовили легкую победу горсти революционеров над французской аристократией и высшей буржуазией. Пруссия, не имеющая литературы, спасла Германию Гете и Шиллера. Что ослабление предпринимательной способности обусловлено эстетическим развитием, а не любовью к роскоши — это доказывается лучше всего защитой Карфагена против Рима и примером Англии, которая несмотря на страшные богатства сохранила всю свою жизненность, потому что эстетические удовольствия и раньше, и теперь являются у англичан уделом самой незначительной части общества. Современная Германия не имеет художников. Испания времени конквистадоров также не имела их. В подтверждение того же можно указать еще на то, что жестокая преступность чрезвычайно редка среди людей свободных профессий и в сильной степени свирепствует в странах необразованных и бедных в литературном отношении. Сущность всех этих фактов понятна и позволяет нам дополнить то определение произведений искусства, какое мы дали в начале. Эмоция, сообщенная художественным произведением, не способна выражаться в действиях непосредственно, немедленно — и в этом отношении эстетические чувствования резко разнятся от реальных. Но, служа сами себе целью, сами в себе находя оправдание и не выражаясь сразу практическим действием, эстетические эмоции — способны, накопляясь и повторяясь, привести к существенным практическим результатам. Эти результаты обусловлены и общим свойством эстетической эмоций и частными свойствами каждой из этих эмоций. Многократное упражнение какой-нибудь определенной группы чувств под влиянием вымысла, нереальных умонастроений и вообще причин, которые не могут вызвать действия, отучая человека от активных проявлений, несомненно ослабляет и общее свойство реальных эмоций — стремление их выразиться действием; так как эстетические чувствования лишены того, что называется элементом страдания, так как они приятны и могут быть вызваны по произволу — то человек, испытавший их, уже не хочет испытывать новых, реальных чувствований; грёза, мечта отвлекает от действия. Помимо этого, привычное искусственное возбуждение известной группы чувств — таких как жалость, презрение, восторг, греза — должно, как и всякое упражнение всякой способности, увеличить напряженность этой группы чувств, нарушить прежнее равновесие душевной жизни и видоизменить поведение личности в сторону одной из наиболее развившихся наклонностей. Так как искусство предпочитает играть на самых напряженных человеческих страстях, считающихся инстинктивными, первобытными, то очевидно, что оно способствует практике низших человеческих проявлений, служит поддержкой так называемого атавизма и в довольно значительной степени противодействует нравственному прогрессу личности, идеальному приспособлению личности к новым общественным порядкам. В предыдущих строчках мы указали на вредоносную сторону искусства; но есть в искусстве и другие стороны, которые способствуют благоприятному изменению взаимных человеческих отношений. Счастие человека зависит в громадной степени от благорасположения к нему других людей, от добросовестности, от мягкости человеческих нравов, от чуткости людей к чужим страданиям, от помощи и от опоры, которую он может встретить в людях. Очевидно, что всякий, кто желает побудить людей на добрые и правдивые отношения — выразит этим самым свое участие к человеческому страданию и вместе с тем желание ему противодействовать. Человек, который может совершенно спокойно присутствовать при мучениях своего врага, нисколько не способен испытывать чувства сострадания. Если подобные люди — из которых составлены все первобытные общества — постепенно будут приведены к тому, что станут находить наслаждение в искусстве — в какой-нибудь эпической поэме, в драме, в романе, в музыке; во всем том, что вызывает в сердце фиктивное горе, сострадание, удивление — то эти чувства разовьются в них и повлияют на их поведение. Сумма страдания, которое они способны наложить на других людей, будет постепенно уменьшаться на ту долю страдания, которую они способны разделить. Этим именно образом искусство и смягчает человеческие нравы, этим же образом оно ослабляет патриотическое чувство и национальную связь. Ибо смягчение характера, которое оно постепенно производит, делает людей сострадательными ко всякому другому человеку — кто бы он ни был — и смягчает ненависть к чужеземцам. Если ряд народов находится во взаимной борьбе, то литературный народ причинит другим народам меньше зла, чем народ первобытный или равнодушный к искусству. Таким образом привычка к эстетическим наслаждениям, благоприятствуя общечеловеческой солидарности, гибельно отзывается на отдельной нации; и в самом деле, страны наиболее просвещенные легче всего могут быть завоеваны. Из предыдущего ясно, что искусство соприкасается и с общественной, и с личной моралью; если самая сущность искусства, общие свойства всего эстетического влияют на поведение индивидов и масс, то также и частные свойства эмоций и мыслей, сообщаемых каким-нибудь произведением его почитателям, влияют в хорошую или дурную сторону на общий тип их характера. Принцип “искусства для искусства”, справедливый и полезный, пока речь идет о свободе и достоинстве художника, — представляется ошибочным и опасным, как только мы вспомним, что книги, статуи, картины и музыка существуют не в пустом пространстве, а соприкасаются в своем влиянии с человеческим обществом. В самом деле, если верно то, что образы, впечатления, чувства, сообщаемые произведением, влагаются в сознание людей, поведение которых — добродетельное или преступное — может отразиться известным образом на ближних; если верно то, что эти образы и эти впечатления влияют на свойства и на крепость духа, — то трудно допустить, чтобы, в общественном смысле, художественное произведение было или безразлично, или невинно, чтобы так или иначе оно не отряжалось на благосостоянии и данного общества и дате данного племени. Для художественного критика, нет такого критериума, в силу которого из двух произведений, разных по силе впечатления и по совершенству формы, одно могло бы быть поставлено выше другого. Совсем иное дело — законодатель или антрополог; они сумеют отличить произведения, которые вызывают чувства, неблагоприятные здоровому развитию человека, государства или племени — от тех которые полезны, т.е. делают человека более здоровым, более веселым, жизнерадостным, более нравственным. Только этим путем и можно дойти до предпочтения — искусства греческого перед готическим, живописи Тициана и Анджело перед живописью многих других художников, музыки Моцарта перед музыкой Вагнера, натурализма иностранного перед французским. В художественном смысле эти произведения — равносильны; с общественной же точки зрения — можно сравнивать и ставить одно выше другого, пользуясь той разницей произведений, какая опирается не на принципы красоты, а на принципы добра, не на принципы вкуса, а на принципы нравственной гигиены. Все эти соображения позволяют нам дать последнее определение произведений искусства, которое отчасти изменяет то, которое мы дали в начале книги. Произведение искусства — это совокупность эстетических знаков, направленных к тому, чтобы возбудить в людях эмоции, которые выражаются maximum’ом возбуждения, но minimum’ом удовольствия или страдания, которые являются сами себе целью и не выражаются непосредственно в действиях, т.е. бескорыстны; произведение искусства — это совокупность знаков, уясняющих душевную организацию автора; произведение искусства — это совокупность знаков, раскрывающих душу его почитателей, которых оно выражает, уподобляет автору, наклонности которых в некоторой степени оно способно видоизменить — и соответственно общей природе искусства и соответственно его частным особенностям. Эстопсихология — это наука, которая, пользуясь первым из данных нами определений, выводит из него второе, третье, четвертое; которая, исходя из эстетических данных, приступает к анализу и затем к синтезу, к полному уяснению класса великих художников и к уяснению обширных общественных групп, собравшихся вокруг художника благодаря однородности свойств и общему обаянию. III Критика На основании всего, что нами сказано, всякий вынесет такое представление о критике, которое значительно разнится от обычного представления. Начавшись скромными и неудачными опытами Лагарпа, в лице С.Бёва критика вылилась в форму изящных, сжатых этюдов, не имевших большого значения. Благодаря работам Тэна она обратилась в важное орудие общественных изысканий и употреблялась в качестве такового самим Тэном, с неоспоримой научностью и талантливостью, в деле изучения Англии. Теперь, благодаря появлению целой серии новых взглядов, она — по нашему мнению — достигает одного из высших пунктов категории наук о жизни, которые сливаются в конце концов в одну обширную науку — антропологию. Научная критика посредством указанных нами приемов анализа и синтеза освещает нам выдающихся представителей искусства, художников т.е. одну из двух категорий великих людей, которые, так сказать, резюмируют в себе все человечество, служат его выразителями. Если охватить общим взглядом ряд наук, которые — исследуя простейших представителей органического мира в ретортах химика или в морских глубинах — переходят затем постепенно от простого к сложному, к растениям, животным и наконец к человеку, которые анализируют последнего со всех сторон — в его костях, в его мышцах, в крови, которые анализируют строение принадлежащих ему нервов, центральной мозговой системы, переходя затем к интеллекту, к душе; если, оставив человека, как индивида, перейти к тому ряду наук, которые заняты изучением общественного организма — от этнографии до истории, то мы увидим, что оба эти класса знаний несомненно самых важных и безусловно для всякого интересных, приходят к одному общему пункту и в этом пункта сливаются. Под пунктом этого слияния мы разумеем изучение индивида в его общественных отношениях — оно должно повести к полному биологическому, физиологическому и психологическому знанию человека, достойного служить представителем общества, собравшего вокруг себя значительную группу почитателей из категории согласных с ним людей и подобных ему, послужившего источником эстетического волнения, крупных предприятий, общественных течений и установлений, которые могли способствовать образованно государств и объединению человечества. В эстопсихологии писателей и в жизнеописаниях героев эти люди подвергаются всестороннему анализу, раскрываются в с внутренней, и с внешней стороны, как главные руководителя общественных движений. Тому же подвергаются и их сторонники т.е. толпа. В результате получается ряд картин, которые, будучи построены на почве научного анализа, нуждающегося в помощи целого ряда биологических наук, и на почве научного синтеза, прибегающего к историческому и новейшему литературному методу — могут считаться лучшим, совершеннейшим слиянием антропологических знаний. Эстопсихология т.е. наука об искусстве, как совокупности эстетических иероглифов, сопровождаемая синтезом — биографическим и историческим — дает нам полные портреты людей — людей среднего или высокого положения, действительно живших в обычной, всем известной обстановке, соприкасавшихся с другими, реально существовавшими людьми. Она дает нам человеческие образы — по выражению Шилокка — с глазами, руками, голосом, чувствами, страстями — и вообще со всем тем, что входит в понятие живого человека по примеру тех, каких мы постоянно видим перед собою. Наклонности, какие раскрывает в них анализ, чувства, которые они обнаруживают, действия, мысли, впечатления и пр. и пр. — все это факты столь же верные и определенные, как ряд их внешних черт — лицо, его цвет, жестикуляция, манера одеваться, есть и пр. Кто не поймет превосходства этих портретов даже перед самыми лучшими фигурами сочиненных лиц в романах, драмах и т.п.? Если эстопсихологию сравнить с историей героев — то и то несомненно, что первая дает и более важное, и более точное знание. Между тем как история героев знакомит нас только с рядом внешних, грубо очерченных проявлений, эстопсихология позволяет ознакомиться с механизмом мыслей и эмоций, свойственных данному человеку, во всей его сложности. История и относительно побуждений, и относительно слов людей, которыми она занята, дает мало надежные показания, основанные на свидетельствах всегда неполных, неточных, сознательно или бессознательно искажающих истину и представляющих в самом смутном виде самых выдающихся людей прошлого времени. Совсем иное дело — эстопсихология. Данные, на которых она основывается, отличаются той особенностью, что являются безусловно и, так сказать, автоматически достоверными. Ни один художник не может не отразиться в своем произведении; ни один художник никогда не думал да и не мог бы наконец достичь того, чтобы подделать, фальсифицировать свойства своей личности, отразившейся в его произведении. Если художник горячо преследует свою задачу, стремясь затронуть новые, оригинальные стороны прекрасного и вызвать новые формы эмоций — то он никак не скроет величия и красоты общего типа своей души, воплощение которой в его произведении — стыдливое, сдержанное или даже нескромное — является существенным условием его влияния. Нужно обратить внимание еще на то, что по мере того, как цивилизация становится все утонченнее и утонченнее, по мере того, как люди становятся все более и более мирными и добродетельными — действия, активные проявления поглощают все меньше и меньше человеческой энергии и что при утонченности цивилизации за рядом внешних проявлений скрывается сложная, запутанная сеть идей и эмоций, сущности которых никак нельзя определить, по внешним проявлениям. Простое жизнеописание, может быть, способно объяснить нам личность Алкивиада или Александра, Цезаря даже — хотя и с трудом; но оно не способно уяснить нам душу таких людей, как Фридрих Великий, Наполеон I или Бисмарк. Для этого нужна еще переписка и литературные произведения первого, дневник, бюллетень, письма и речи — второго; переписка и парламентские речи германского канцлера. Все это средства, к которым обращается к своих изысканиях научная критика, которая таким образом, со всем ансамблем средств, какими она окружила себя, является и в данном случае лучшим и надлежащим оружием для уяснения целостной личности тех, кто оказался пережившим свою славу. Наконец, изучая интеллект человека во всем его составе, анализируя его со всею точностью и аккуратностью, ставя наконец человека, путем кропотливого синтеза, в условия семьи, отечества, среды, — эстопсихология, после ряда частных изысканий, может послужить средством поверки наиболее важных теорий нашего времени, напр. о взаимной зависимости людей, относительно наследственности личных свойств (l’heredite individuelle), относительно влияния физической и общественной среды. Мы показали уже, что при современном состоянии знаний, и в том абсолютном значении, какое придается этим теориям, наследственность личных свойств и влияние среды не проявляются настолько правильно, чтобы можно было и положительно наблюдать их, и предугадывать следствия этих влияний. Тщательное изучение какой-нибудь сотни великих людей разного рода и разных стран доставит, вероятно, нашим критикам ряд точных положений и позволит с достаточным приближением определить действие этих факторов, которые без всякого сомнения имеют место, но с результатами, тем труднее различимыми, чем больше растет сложность общества - т.е. в отношении, обратно пропорциональном с ростом цивилизации. IV Заключение. Итак эстопсихология - это наука. Она имеет свой объект для изучения, метод, задачи и выводы. Эстопспхологический анализ слагается из трех существенных отделов. Первый отдел - это анализ составных частей произведения: того, что оно выражает; и способа выражения. Второй отдел - это психофизиологическая гипотеза, уясняющая при посредстве данных, добытых в первом отделе, интеллект, выражением которого эти данные являются. Наконец, в третьем отделе исследователь, устраняя теорию влияний расы и среды, которая имеет приложение только к первобытным периодам литературной и общественной жизни, рассматривая вместе с тем всякое произведение, как выражение тех, кому оно нравится, и помня, что помимо этого оно является выражением автора, - делает заключения на основании свойств душевной организации автора о свойствах его почитателей. Каждый из этих трех отделов приводит к определенным следствиям. Первый отдел, разлагая произведения искусства на составные элементы, изучая эмоции, которые произведения способны сообщить, и средства, помощью которых это достигается, - доставит ряд положительных данных эстетике и позволит в будущем этой науки строить свои положения на твердых основаниях. Ясно также то, что изучение эмоций даст указания по части психологии. Второй отдел научно-критического анализа имеет также отношение к общей психологии. Особенность его та, что он приводит не к знанию того, что представляет из себя обычный, средний человек, а больше всего к знанию высших человеческих натур. Наконец, третий отдел эстопсихологии должен способствовать обоснованию психологии народов - науки, существовавшей до сих пор только по имени. Мы можем перейти от книги к ее читателю, от симфонии к ее слушателям и определить в общих чертах, но с достаточною точностью, во-первых, душевную организацию почитателей или поклонников данного произведения, и, во-вторых, степень повторяемости этой организации в данном обществе. Даже, благодаря той зависимости, какая существует между эмоцией эстетической и реальной, благодаря тому ослаблению активной силы, какое причиняет личности и обществу преобладание эстетических возбуждений над реальными - мы можем путем анализа определить и интенсивность, и общий характер волевых действий в данной общественной группе. С этой точки зрения, эстопсихология соприкасается с этикой и разрешает вопрос об отношениях искусства и морали. В общем выводе, эстопспхология, подобно психологии великих людей, является прикладной психологией - народов и личности. Она занимает место между эстетикой, психологией, социологией и этикой. Прибегая к приемам парафразы эстетических подробностей, к приемам биографии и монографии среды, - чего мы избегали при изложении приемов непосредственного изучения, - эстопсихология приходит к тому, что уясняет и произведение, и тех, выражением кого оно является, в их отношениях к внешнему миру. Рассматривая в частности отношение художника к группе его почитателей - мы признали, что его можно уподобить отношению великих людей к массе, увлеченной каким-нибудь практическим предприятием. Это отношение, по нашему мнению, обусловлено принципом подражания, которое является частным случаем воспроизведения и свойственно человеческому обществу в гораздо большей степени, чем наследственность. Затем мы пришли к тому, что при соединении приемов синтеза с приемами анализа эстопсихология является лучшим средством для восстановления отдельных личностей и общественных групп - и, значит, что она является наукой, от которой можно ожидать установления точных законов об отношении человека ко внешнему миру. Цель нашего сочинения будет достигнута, если оно показало возможность указанных нами трудов и если оно возбудит их. [1888] Сканирование текста выполнено с издания: Эмиль Геннекенъ. Опытъ построенiя научной критики. (Эстопсихологiя). Перевод с французского Д.Струнина. Издание журнала “Русское богатство”. СПб., 1892 Оригинальное издание: Emile Hennequin. La Critique scientifique. Paris: Perrin, 1888 http://www.textology.ru/drevnost/geneken.html