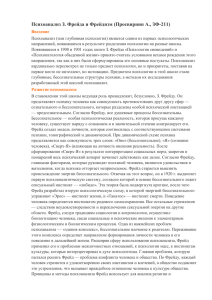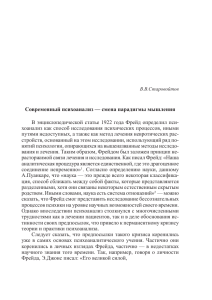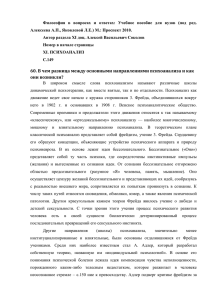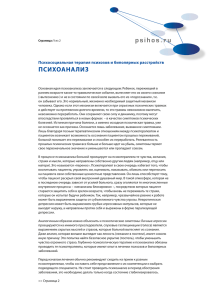Филатов Ф.Р. Зигмунду Фрейду - 150. Два очерка к юбилею (2006)
advertisement
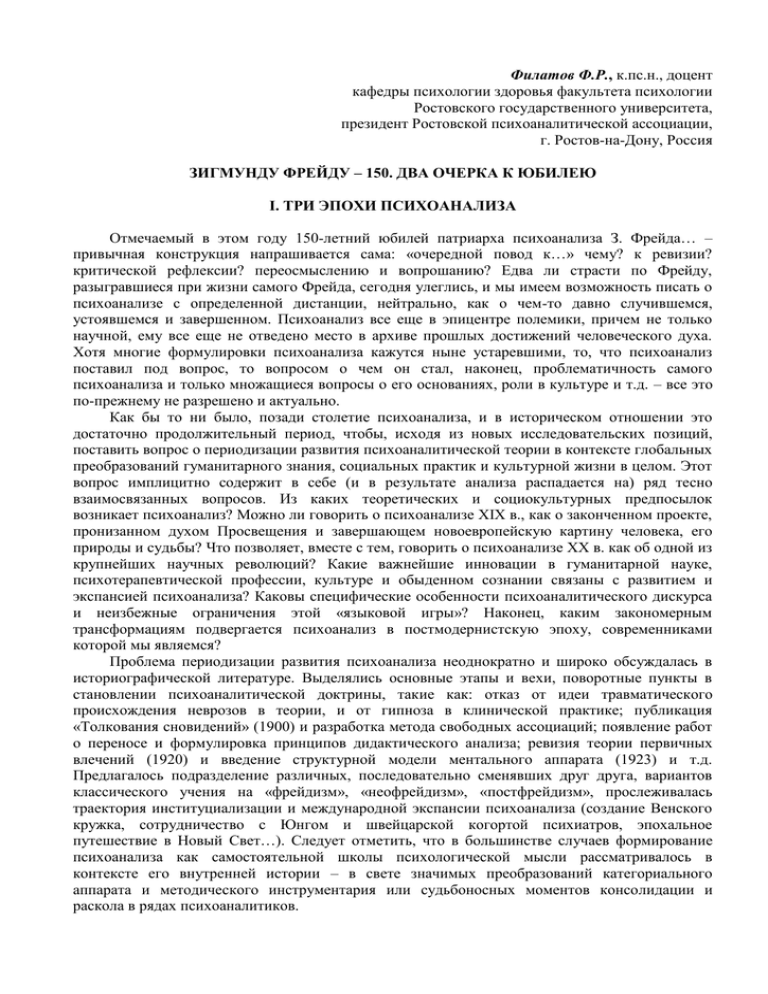
Филатов Ф.Р., к.пс.н., доцент кафедры психологии здоровья факультета психологии Ростовского государственного университета, президент Ростовской психоаналитической ассоциации, г. Ростов-на-Дону, Россия ЗИГМУНДУ ФРЕЙДУ – 150. ДВА ОЧЕРКА К ЮБИЛЕЮ I. ТРИ ЭПОХИ ПСИХОАНАЛИЗА Отмечаемый в этом году 150-летний юбилей патриарха психоанализа З. Фрейда… – привычная конструкция напрашивается сама: «очередной повод к…» чему? к ревизии? критической рефлексии? переосмыслению и вопрошанию? Едва ли страсти по Фрейду, разыгравшиеся при жизни самого Фрейда, сегодня улеглись, и мы имеем возможность писать о психоанализе с определенной дистанции, нейтрально, как о чем-то давно случившемся, устоявшемся и завершенном. Психоанализ все еще в эпицентре полемики, причем не только научной, ему все еще не отведено место в архиве прошлых достижений человеческого духа. Хотя многие формулировки психоанализа кажутся ныне устаревшими, то, что психоанализ поставил под вопрос, то вопросом о чем он стал, наконец, проблематичность самого психоанализа и только множащиеся вопросы о его основаниях, роли в культуре и т.д. – все это по-прежнему не разрешено и актуально. Как бы то ни было, позади столетие психоанализа, и в историческом отношении это достаточно продолжительный период, чтобы, исходя из новых исследовательских позиций, поставить вопрос о периодизации развития психоаналитической теории в контексте глобальных преобразований гуманитарного знания, социальных практик и культурной жизни в целом. Этот вопрос имплицитно содержит в себе (и в результате анализа распадается на) ряд тесно взаимосвязанных вопросов. Из каких теоретических и социокультурных предпосылок возникает психоанализ? Можно ли говорить о психоанализе XIX в., как о законченном проекте, пронизанном духом Просвещения и завершающем новоевропейскую картину человека, его природы и судьбы? Что позволяет, вместе с тем, говорить о психоанализе XX в. как об одной из крупнейших научных революций? Какие важнейшие инновации в гуманитарной науке, психотерапевтической профессии, культуре и обыденном сознании связаны с развитием и экспансией психоанализа? Каковы специфические особенности психоаналитического дискурса и неизбежные ограничения этой «языковой игры»? Наконец, каким закономерным трансформациям подвергается психоанализ в постмодернистскую эпоху, современниками которой мы являемся? Проблема периодизации развития психоанализа неоднократно и широко обсуждалась в историографической литературе. Выделялись основные этапы и вехи, поворотные пункты в становлении психоаналитической доктрины, такие как: отказ от идеи травматического происхождения неврозов в теории, и от гипноза в клинической практике; публикация «Толкования сновидений» (1900) и разработка метода свободных ассоциаций; появление работ о переносе и формулировка принципов дидактического анализа; ревизия теории первичных влечений (1920) и введение структурной модели ментального аппарата (1923) и т.д. Предлагалось подразделение различных, последовательно сменявших друг друга, вариантов классического учения на «фрейдизм», «неофрейдизм», «постфрейдизм», прослеживалась траектория институциализации и международной экспансии психоанализа (создание Венского кружка, сотрудничество с Юнгом и швейцарской когортой психиатров, эпохальное путешествие в Новый Свет…). Следует отметить, что в большинстве случаев формирование психоанализа как самостоятельной школы психологической мысли рассматривалось в контексте его внутренней истории – в свете значимых преобразований категориального аппарата и методического инструментария или судьбоносных моментов консолидации и раскола в рядах психоаналитиков. Однако представляется не менее продуктивной периодизация психоанализа в аспекте его внешней истории, т.е. в контексте глобальных общегуманитарных трансформаций, которым подверглись в XX столетии (в век кризиса западного рационализма и антропоцентризма) дискурсивные практики философии, психологии и психотерапии. Такая периодизация позволит осветить роль психоаналитического проекта в историческом процессе преобразования гуманитарного знания и складывающихся на его основе социальных практик. Выходя за рамки внутренней истории психоанализа и рассматривая его становление в более широком, общегуманитарном контексте, мы обнаруживаем весьма примечательный исторический парадокс. Он заключается в том, что, отметив в прошлом году 150-летие со дня рождения З. Фрейда, мы можем вместе с тем констатировать наступление уже «третьего века» психоанализа. Это, конечно, плохо увязывается с традиционной хронологией, но, тем не менее, вполне объясняется интенсивной культурной динамикой современного мира, в котором историческое время не совпадает с календарным. При таком взгляде разграничиваются (с некоторой долей условности, конечно) три психоаналитические эпохи: психоанализ XIX века, созданный под прямым или косвенным влиянием идей великих умов того времени – Гербарта, Шопенгауэра, Гартмана, Ницше, ставший по сути логическим завершением этого исторического периода и открывший врата выдающимся свершениям и научным революциям XX в; «революционная эпоха» психоанализа, охватывающая временной интервал от 1900 г. (когда было опубликовано «Толкование сновидений») до середины прошлого столетия; и современная, точнее, «постсовременная», постмодернистская эпоха, когда сам психоанализ, ставший источником столь многих инноваций, нуждается в обновлении и внутренней трансформации. Заявляя, что в истории науки имеет место психоанализ XIX века, – хотя фактически Фрейд, как психоаналитик творил в этом столетии всего одно десятилетие, – мы тем самым утверждаем, что первая версия психоаналитического учения, «исследования истерии» и катартический метод Брейера – Фрейда были подготовлены предшествующим интеллектуальным и социальным развитием, стали венцом более длительного и сложного социокультурного процесса. Причем «латентный» или инкубационный период формирования глубинной психологии начался еще до рождения Фрейда. «Малые перцепции» Лейбница, противопоставление иррациональной воли и представления у Шопенгауэра, дихотомия «наслаждение-и-долг» в трудах Кьеркегора, наконец, ницшеанство – все эти концепты и идейные веянья, явно или косвенно, послужили теоретическими предпосылками психологии бессознательного. Приход Фрейда был подготовлен и в других сферах социальной практики. Причем, не только в клинике, где, благодаря усилиям наблюдательных и проницательных знатоков человеческого неблагополучия, все более отчетливо проявлялся облик неразумия и фиксировались особые типы соответствующей ему душевной организации, но и в более широком культурном контексте: месмеризм и спиритизм открыли бессознательному двери салонов и гостиных весьма респектабельных европейских домов. Сверх того, неоценимую услугу психоанализу, как отмечал сам Фрейд, оказали искусство и литература, отдавшие в XIX в. дань должного уважения и интереса сфере иррационального и необъяснимого в человеке. Итак, «призрак», долго бродивший по Европе, обрел в первой версии психоанализа плоть, а многочисленные идеи и воззрения, которые принято относить к иррационализму, получили концептуальное оформление и научное обоснование. Ранний психоаналитический проект был буквально пронизан духом Просвещения и романтизма. Этот дух обнаруживается в самой интенции научной мысли, в стремлении вырваться за границы «ложного» сознания, познать то, что противится познанию, и понять нечто, ускользающее от понимания; в убеждении, что каждому необходимо вспомнить забытое, открыть пусть неприятную, но «правду» о себе; в смелом намерении показать человеку его «темную» сущность и, в конечном счете, научиться управлять теми силами и процессами, которые изначально неподконтрольны сознательному Я, т.е. подчинить себе / приручить собственную психическую природу. Верный наследию XIX в., Фрейд «переписывает» просвещенческую «историю» об активном, знающем и деятельном субъекте, только в версии Фрейда этот субъект мучительно ищет себя, ставя под вопрос свою субъектность и подвергая анализу все, что ограничивает или даже сводит на нет его могущество. В психоанализе доводится до предела картезианское методическое сомнение и вопрошание, только распространяется оно на сферу Эго, которую Декарт и последующие новоевропейские мыслители-просветители считали надежным основанием и владением субъекта. Причем сама способность разума вопрошать, разочаровываться и сомневаться, мужественно выстаивать под натисками бессознательного, поддерживая зыбкие источники света в кромешной тьме, у Фрейда представлена как залог человеческого достоинства и стойкости духа, в которой разум, и поверженный, торжествует. Тот же просвещенческий пафос очевиден и в подчеркивании «освободительной» культурной роли психоанализа, в постановке благородной задачи «освобождения» человечества от многовековых заблуждений, предрассудков и слепого страдания. Видимо, наследие XIX в. сохраняется в психоанализе, имплицитно содержится в нем и на современном этапе развития глубинной психологии, по крайней мере, оно по-прежнему обнаруживает себя в той ортодоксальной версии фрейдистского учения, которое служит концептуальным ядром, парадигмальным базисом и своеобразным эталоном для более поздних модификаций. Однако заслуживает удивления то обстоятельство, что, положив в основу своей теории новоевропейскую просвещенческую традицию, Фрейд тут же начинает подрывать и расшатывать ее. Ведь классическая психология, эта наследница картезианского рационализма получает от психоанализа самый чувствительный, можно сказать, сокрушительный удар. Именно это обстоятельство позволяет назвать вторую эпоху психоанализа «революционной». Период приблизительно с 1900 г. вплоть до середины XX века был ознаменован не только рождением и стремительным развитием в международных масштабах новой социальной практики, но и «коперниковским поворотом» в западном мышлении, который, как подчеркивал Ж. Лакан [2, 148 – 183], стал непосредственным следствием фрейдовских открытий. Как можно в самых общих чертах охарактеризовать развитие психоанализа в этот период, его влияние на различные дискурсивные практики и сферы культурной жизни? Прежде всего, к началу XX века Фрейд отказывается от обеих исследовательских установок или парадигм, закрепившихся в психологии его эпохи под влиянием философского дискурса XIX столетия: и от интроспекционизма, который непосредственно вырастает из картезианской и ассоциативной философии, трактует психическое как доступную самонаблюдению умопостигаемую структуру и берет за точку отсчета сознательное, мыслящее Я; и от натурализма, естественнонаучного подхода с его позитивистскими стандартами научности и постулированием некой доступной для изучения «природы вещей», которая пусть и таится, но неизбежно разоблачает себя, принуждаемая к тому пытливым исследователем, в процессе эксперимента или объективного наблюдения. Основатель психоанализа предложил взамен обеих крайних позиций герменевтику. И вот благодаря психоаналитическому учению психотерапия в XX столетии оказалась тесно и неразрывно связана не столько с естественнонаучными объяснительными моделями, как это имеет место в медицине, сколько с особой традицией интерпретации, специфической герменевтической практикой, начало которой и было положено трудами Фрейда. Фактически это привело к отделению психотерапии от традиционной медицины, по крайней мере, от той ее части, которая базируется исключительно или преимущественно на биологии, к становлению новой профессии и даже к появлению нового типа социальной связи: диада «аналитик – анализанд» постепенно становится значимым элементом общественной жизни наряду с отношением «врач – пациент». Величайшая и общепризнанная заслуга Фрейда состоит в том, что он смог осмыслить и убедительно продемонстрировать «исцеляющую силу слова», или, если заменить этот классический логоцентрический конструкт менее высокопарной и более процессуальной современной формулировкой, доказал терапевтическое значение определенным образом организованной беседы. Это вовсе не означает возврат от «прогрессивной» биохимии и фармакологии к древней магии заклинаний. Скорее это означает признание языка/дискурса основным инструментом психотерапии, ее орудием. Подчеркивая свою приверженность естественнонаучному подходу, Фрейд вместе с тем, по сути, заложил основы психосемантики – дополнил биологию в рамках психотерапии семантическим анализом. Он показал, что индивидуальный опыт – это тайнопись, ожидающая расшифровки/декодирования, что бессознательные процессы – инстинкты, желания, влечения – не напрямую воздействуют на нас, но опосредованно, через системы скрытых от разума значений, что любой патологический симптом может рассматриваться не только как сбой нормального функционирования, но и как знак или смысловое образование, т.е. семантический конструкт. Наконец, Фрейд раскрыл роль жизненной истории, конструирующей субъекта и реконструируемой в ходе аналитического взаимодействия, выявил определяющее влияние ее ложных очевидностей и «белых пятен» на всю психическую судьбу того, кто выступает одновременно ее автором и персонажем. Все это значительно обогатило практику психотерапии, расширило диапазон применяемых в ней способов описания, концептов и нарративов, обернулось созданием особого повествовательного жанра, который обычно обозначается как анализ клинического случая. Фрейд не только преобразовал и обогатил дискурсивную практику психотерапии, но также существенно изменил само понимание субъекта и субъектности в современном гуманитарном знании.1 Именно в трактовке Фрейда субъектность предстает как дефицитарность. Дефицитарность есть первичная данность, с которой осознающее Я стартует в анализе – это нехватка означающего, недостающее звено в цепи, разрыв, лишающий основания, делающий «беспочвенным» само индивидуальное существование.2 То, от чего мы отталкиваемся, из чего исходим, на чем базируемся – картезианское мыслящее Я, считавшееся в новоевропейской традиции источником свободной и осмысленной активности, высшей инстанцией и регулятором всех действий и поступков, по Фрейду, на деле дефицитарно, вторично, производно от бессознательного, является его продуктом и надстройкой над этим мощным биологическим базисом. Оно, это Я, требует поддержки, укрепления, соучастия Другого для возвращения к сносной жизни. Психоанализ призван всего лишь заменить эту исходную и неизбывную дефицитарность Я терпимой, переносимой неудовлетворенностью. В своих трудах Фрейд сместил фокус рассмотрения и вместо поиска некой конечной причины, цели, сущности, высшего смысла, которому Я могло бы всецело себя посвятить, открыл принципиально новое, еще не исследованное, семантическое поле; именно здесь, утверждал он, могут быть обнаружены истинные знания о человеческой природе, те ее аспекты и факторы, которые, – хоть эта голая правда и неприемлема для нас, – определяют наше бытие. Что же составляет это неизученное до Фрейда смысловое поле? Все, что мы привыкли считать бессмыслицей и нелепостью, хаосом, казусом, сбоем привычного функционирования: оговорки, описки, всевозможные семантические «монстры» и несуразности, скабрезные остроты, ошибочные действия, самый разнообразный словесный мусор, рой случайностей. Иными словами то, чему не придается значение в нашей повседневности – да и, кажется, глупо наделять все эти повседневные провалы смысла значимостью. Идеальные конструкции, с которыми связываются наши привычные представления о своем предназначении, нравственности, свободе, долге, духовности, оказываются зыбкими и, в конечном счете, фальшивыми – это лишь химеры самоутешения, призраки ложного сознания, тогда как самое важное, сущностное и витальное, что есть в нас, выражает себя в автоматизмах, слепых импульсах, неконтролируемых побуждениях, желаниях и страстях души. Эту трансформацию, приведшую к обращению традиционных иерархических бинарных оппозиций «сознание – бессознательное», «я – объект», «здоровье / норма – болезнь / патология» можно рассматривать, используя модный постмодернистский термин, как ранний опыт деконструкции. 2 В постфрейдистских модификациях анализа эта дефицитарность будет трактоваться как нехватка объекта и зависимость от него. 1 Наконец, в психоанализе нормальное, здоровое перестает быть естественным и закономерным, основанием и эталоном/меркой, но определяется через патологическое. В норме скрыты, дремлют, не проявлены те психические тенденции, которые наиболее отчетливо обнаруживают себя во всевозможных аномалиях. Норма – это не проявленная патология, производная последней, тогда как патология – истинная законодательница душевной жизни. Фрейд произвел деконструкцию присущего западной культуре дискурса субъектности, пребывая в нем, следуя его внутренней логике и играя «по заранее оговоренным правилам». Иными словами, логоцентрическая традиция была подорвана в работах Фрейда средствами и методами самого логоцентризма, а иначе и быть не могло, ведь, как уже отмечалось, большую часть своего жизненного пути Фрейд оставался верным наследником Просвещения. Выдающимся достижением научной мысли Фрейда следует признать открытие «психической реальности», сотканной из бессознательных желаний, импульсов, фантазий, всегда ускользающей, призрачной и иллюзорной, как покрывало Майи, и при этом единственно значимой для конкретного человека, определяющей его судьбу. В этом контексте представляются ценными рассуждения Мераба Мамардашвили, приведенные в его лекции «О психоанализе» [3, 123 – 140]. Наряду с объектами физического мира, данными нам в «беспристрастности» внешнего наблюдения, и явлениями осознанной душевной жизни, «непосредственно данными» в самонаблюдении, Фрейд открыл и сделал доступной для исследования особую группу феноменов – так называемые «третьи вещи» или явления третьего рода, как их условно обозначил М. Мамардашвили. Это все те же lapsus linguae, lapsus calami, т.е. ошибки, описки, очитки, особые смысловые сгустки, «семантические монстры», словом, образования, наряду с поверхностным, внешним смыслом (или бессмыслицей), содержащие другое, скрытое от субъекта, тайное, темное, нераспознаваемое значение, которое может быть извлечено посредством аналитической процедуры. Такие классические установки познания, как абсолютизация внешнего наблюдения в естествознании и постулирование самодостоверности внутреннего опыта в интроспекционизме, благодаря Фрейду дополняются новой исследовательской позицией, что значительно расширяет общую познавательную перспективу в гуманитарных науках. Эта новая позиция предполагает недоверие очевидному и особую чуткость по отношению к тем сторонам и аспектам реальности, столкновения с которыми наше сознание всячески избегает в силу имплицитно присущих ему, неискоренимых особенностей и ограничений. Когда некто нечто говорит или делает, то, за внешней очевидностью и осознанностью сказанного и сделанного, таится – или, точнее, говорится и совершается что-то еще, важное и не проявленное, требующее прояснения. История второго этапа развития психоанализа показывает нам, как определенная система описаний и интерпретаций способствует существенным изменениям в культурной жизни, обеспечивая конструирование новых форм социальной реальности, как специфическая, частная языковая игра разрастается до масштабов самостоятельной и весьма влиятельной социальной практики. Вторая психоаналитическая эпоха (приходящаяся на первую половину XX века) была отмечена не только революционными свершениями, но также четким определением допустимых «правил игры», догматизацией фрейдовского учения и закономерным диссидентством, отступничеством – появлением несогласных и нежелающих неукоснительно следовать авторитарно утвержденным принципам и догматическим постулатам. Любая языковая игра, вводя собственные строгие правила, порождает и ряд ограничений. В критической литературе неоднократно обсуждались жесткие ограничения психоаналитической языковой игры, осознание которых побудило многих, поначалу преданных, учеников и сторонников Фрейда размежеваться с классическим психоанализом, подвергнуть рефлексивному сомнению и пересмотру фрейдистскую догму. Ниже мы рассмотрим некоторые из этих ограничений и возражений. Третья, постмодернистская эпоха развития психоанализа характеризуется так называемым «недоверием к любым метанарративам и метатеориям» (к числу коих относится и психоанализ). К основным тенденциям, проявляющимся на этом этапе, который продолжается и в наши дни, следует отнести: - ревизию всего психоаналитического наследия, отделение эвристичных и продуктивных научных построений от привнесенных элементов мифологии, идеологических примесей и иррациональных убеждений; - признание принципа множественности интерпретаций и интеграцию в единое дискуссионное поле научных альтернатив классической теории, которые прежде игнорировались или подавлялись; - деконструкцию уже сложившегося «мифа анализа», вскрытие накопленных противоречий, критическое переосмысление фрейдовской доктрины, с целью открытия новых возможностей и перспектив. Иными словами, психоанализ уже в середине прошлого столетия вступил в эпоху рефлексивной критики, ревизии и переформулирования его основоположений. Прохождение этого важнейшего этапа составляет необходимое условие последующего обновления всей аналитической теории и терапии. Для психоанализа постмодерн – это и вызов, и искушение, и испытание, и, несомненно, возможность трансформации. Данную эпоху отличает стремление преодолеть затворничество психоанализа, его изолированность, оторванность от других систем знания, присущую ему герметичность, «эзотерическую» замкнутость в кругу собственных теоретических конструкций, в плену богатейшего и, вместе с тем, ограниченного метаязыка. Преодоление такой искусственной изоляции означает простраивание множественных и сложных междисциплинарных связей, новое прочтение психоаналитических концепций в свете достижений и открытий, сделанных в сопредельных гуманитарных дисциплинах. Знаковыми фигурами, обозначающими начало этого плодотворного этапа, можно считать Ж. Лакана [2], усилиями которого психоанализ был введен в более широкое поле идей структурализма, семиотики, лингвистики, философии языка, и П. Рикера [4, 5], предложившего рассматривать психоанализ в качестве особого типа герменевтики в сравнении с другими интерпретационными традициями. В постмодернистскую эпоху происходит переосмысление роли психоанализа, как многомерного феномена западноевропейской культуры, в более широком историческом контексте, включающем самые различные – порой весьма далекие от науки и психотерапии и в то же время связанные с ними – социальные практики, институции и структуры, а также сферы обыденного сознания и символического производства. Перспективы такого историкокультурологического переосмысления были намечены в работах М. Фуко, в частности, в его знаменитой трехтомной «Истории сексуальности» [7, 8]. В духе археологического подхода М.Фуко языковая практика психоанализа рассматривается сегодня как: - характерная для определенной культурно-исторической эпохи, специфическая форма «власти-знания»; - вписанная в единую систему явных и скрытых властных дискурсов совокупность правил, определяющих наши способы и возможности говорить о сексуальности и интерпретировать ее проявления; - техника регуляции сексуальных драйвов и сексуального поведения средствами специфического дискурса; - наконец, в глобальном масштабе – как одна из систем конституирования субъектности и сексуальности (причем, подчеркнем, в их функциональной взаимосвязи), как ансамбль исторически сложившихся форм, способов и практик формирования субъекта желания и сексуальности. Можно охарактеризовать третий этап развития психоанализа, современниками и действующими лицами которого мы являемся, как «эпоху разночтений» – время многократного и плодотворного перечитывания, переинтерпретирования, переосмысления классического учения, уже более не воспринимающегося в качестве метатеоретического монолита. Наконец, мы можем констатировать, что психоанализ на наших глазах превратился в обширное поле деконструкции. Этому, безусловно, способствовало применение к данному метатексту подрывной (деконструктивной) стратегии, предложенной Ж. Деррида [1]. Такая стратегия анализа текстов или, точнее, обращения с ними, направлена на вскрытие заложенных в них, но не замеченных ранее противоречий и раскрытие тех возможностей смысла или смысловой игры, о которых автор-производитель текста и не догадывался. Едва ли сам З.Фрейд, загляни он в нынешние критические обзоры и разборы психоаналитического наследия, узнал бы в них свое отражение. Его тексты живут сегодня самостоятельной жизнью, независимо от интенций и упований автора, и их жизнь в большей степени определяется питающей системой интертекстуальных связей, нежели авторитетом и харизмой патриарха глубинной психологии. Резюме Все отмеченные нами тенденции позволяют говорить о современном психоанализе не просто как о теории или научной школе, но как о многоплановом феномене западной культуры; его облик закономерно изменяется, не только согласно собственной внутренней логике развития, но и в контексте глобальных трансформаций знания, практики, различных сфер социального бытия. ЛИТЕРАТУРА 1. Деррида Ж. О почтовой открытке от Сократа до Фрейда. Гл. «Страсти по «Фрейду». – Мн.: Современный литератор, 1999. – 832 с. 2. Лакан Ж. Ниспровержение Субъекта и диалектика желания в бессознательном у Фрейда / Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном или Судьба разума после Фрейда. – М.: «Логос», 1997. – С. 148 – 183. 3. Мамардашвили М. О психоанализе. Лекция. – Логос. Философско-литературный журнал, №5, М., 1994. – С. 123 – 140. 4. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. – М.: Изд. «Медиум», 1995. – 416с. 5. Рикер П. Психоанализ и герменевтика. – СПб., 1999. 6. DERRIDA, J. (1967): Freud et scene de l’ecriture. In Derrida J. L’ecriture et la différence. Paris, Seuil, pp. 293 – 340. 7. FOUCAULT, M. (1976): Histoire de la sexualité, t. I. La valonté de savoir. Paris, Gallimard. 8. FOUCAULT, M. (1984): Histoire de la sexualité, t. II. L’Usage des plaisirs. Paris, Gallimard. 9. FOUCAULT, M. (1969): L’Archéologie du savoir. Paris, Gallimard. (Фуко М. Археология знания. – Киев: Ника-Центр, 1996. – 207 с.) 10. LACAN, J. (1973): Le seminaire. Livre II. Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Paris, Editions du Seuil. 11. LYOTARD J.-F. (1979): La condition postmoderne. Les Editions de Minuit. (Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. – М.: Институт экспериментальной социологии; СПб, Изд. «Алетейя», 1998. – 160 с.) II. ПСИХОАНАЛИЗ З.ФРЕЙДА В КОНТЕКСТЕ ЕГО ПОЭТАПНОГО КРИТИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ К истории возражений 1. Масштабные явления научной мысли и культуры, подобно фрейдовскому психоанализу имеющие более чем вековую историю, могут рассматриваться в трех аспектах: 1) в аспекте внутренней логики их становления; 2) в контексте их влияния на другие сферы духовной жизни и, наконец, 3) по тому отклику, который они получили в других сопредельных системах научного и философского знания. Едва ли, необходимо доказывать уже ставшее тривиальным утверждение, согласно которому психоанализ З. Фрейда породил значительные преобразования не только в нашем понимании тех или иных частностей, но и в научном мировоззрении прошлого столетия, в обыденном сознании и социальной практике. Трудно найти в психологии XX в. другой источник столь же мощного, глобального и всепроникающего влияния. Причем влияние это не ограничивалось рамками одного исторического периода, оно было пролонгированным, практически непрерывным: различные эпохи, стремительно сменявшие друг друга на фоне интенсивной культурной динамики модерна и постмодерна, формировали собственный взгляд на психоанализ (по сути, собственный психоанализ) и могут быть охарактеризованы через него. 2. Представляется продуктивным хотя бы пунктирно, в самых общих чертах наметить историческую траекторию становления психоанализа в контексте его поэтапного критического переосмысления. Причем психоанализ и его критику вовсе не обязательно рассматривать антагонистично – они могут предстать при определенном подходе как явления взаимосвязанные и взаимозависимые, питающие друг друга, как две стороны одной медали. Быть может, важнейшая функция психоанализа в западной культуре – рефлексия оснований человеческого познания – в полной мере осуществляется благодаря критике самого психоанализа, в ней и через нее. Психоанализ не только вскрывает важнейшие тенденции, механизмы и противоречия в функционировании ментального аппарата, дистанцируясь от них, – многие из таких тенденций, механизмов и противоречий обнаруживаются в его собственном познавательном аппарате и могут быть вскрыты посредством анализа его работы, т.е. анализа психоанализа. 3. Применение данного подхода приводит к размыканию теоретико-методологических границ психоанализа, к упразднению жестких концептуальных рамок, в которых принято рассматривать и толковать это явление. При таком взгляде в психоанализе оказывается актуальным не только то, что сказано, артикулировано, акцентировано, но и то, что подлежало умолчанию или отрицанию, попало в тень, оттеснилось на периферию или вообще присутствовало латентно, подспудно, можно сказать, неосознанно. Для понимания психоанализа важны не только его незыблемые постулаты, но и вызванные ими отклики, отголоски, возражения. Критика психоанализа становится для него, по сути, питательной средой, тем интертекстуальным пространством, в котором только множатся и разнообразятся формы его репрезентации и позиционирования в культуре. Это своего рода система зеркал, «умножающих сущности» и, как следствие, порождающих неисчерпаемое многообразие нюансов и смыслов. Поэтому защитно-болезненная реакция, которая может возникнуть у аналитически-ориентированных психологов, представляется неадекватной: ведь, согласно агональному принципу, укорененному в западной культуре, лишь побежденного противника не вызывают на состязание, и лишь мертвое слово / знание не вызывает возражений. 4. Критика психоанализа – в разные моменты и по разным поводам – преследовала различные цели. Это были и систематические попытки определить то и дело размывающиеся границы его корректного научного и практического применения, и вполне обоснованные благородные стремления легализовать подавляемые им научные альтернативы (Юнг, Адлер, другие). Намечались пути выхода за очерченный психоанализом круг новой глубиннопсихологической герменевтики, что предполагало реконструкцию той контекстной композиции, в которую психоанализ был вписан, прояснение его культурно-исторических предпосылок, концептуальных и идеологических рамок (подобная процедура была призвана сдерживать чрезмерную экстраполяцию и экспансию, препятствовать превращению психоанализа в глобальное «истинное учение»). Начиная с Л. Витгенштейна, выявлялись всевозможные хронические недомогания и ущербности психоаналитического языка, его метатеоретические притязания, дискурсивные ловушки и подвохи; вскрывались не артикулированные апологетами внутренние противоречия. Наконец, критика перерастала в демифологизацию, делегитимацию, деконструкцию. В последнем случае психоанализ не был главной мишенью – данные процедуры осуществлялись уже не ради его развенчания или «определивания», скорее он служил иллюстрацией, материалом, примером, позволявшим прояснить некие тенденции и закономерности развития научного мышления-и-языка, субъектобъектной парадигмы, власти-знания и т.п., или актуализировать новые возможности смыслопорождения, запустить новые игры смысла внутри постоянно обновляющихся гуманитарных дискурсов. 5. Психоанализ был и останется, прежде всего, детищем Фрейда – учением, в котором личностный вклад отца-основателя и, больше того, легенда и образ его личности, имеют решающее значение. Эта нераздельность, слияние теории и биографии, принимающая форму научного мифа – как бы парадоксально не звучало данное словосочетание, – являет собой особый феномен культуры: мы можем наблюдать здесь диктат знания (дискурса), основанный на личном авторитете; мы можем видеть также, как целостная картина психического универсума определяется позицией, осознанно занятой и отчаянно защищаемой конкретным мыслителем, и как определенная дискурсивная традиция воспроизводится в культуре посредством апелляции к его харизме, мудрости, мужеству, гению, трансляции из поколения к поколение, от сообщества к сообществу историй о его «озарениях», трудностях и превратностях конкретного индивидуального пути познания. Говоря о фигуре Фрейде как о культурном феномене, трудно не отметить поразительную множественность его ипостасей. В контексте сказанного интересно исследовать трансформацию образа Фрейда и его учения по мере экспансии и институциализации психоанализа; в свете разных ипостасей этого харизматического, уже ставшего отчасти мифическим, образа актуализируются разные дискуссионные темы, и само обсуждение поворотных моментов в развитии психоаналитического движения строится по-разному. Можно условно выделить основные рубрики, под которые, так или иначе, подводятся современные дискуссии о психоаналитической теории, например, «Зигмунд Фрейд – первопроходец и Моисей психоанализа», «Фрейд и оппоненты: игра и столкновение научных альтернатив», «Фрейд, прочитанный заново и по-новому» и др. Трансформация образа Фрейда и отношения к нему – в разные периоды, в разных научных и культурных сообществах – могла бы составить тему отдельной исследовательской работы. 6. Зигмунд Фрейд – первопроходец и «Моисей психоанализа». Первая волна критики может рассматриваться как закономерная реакция на произведенную Фрейдом революцию в науке и культуре. На фоне этих критических нападок и раздраженных выпадов в адрес «венского доктора», которые, надобно отметить, не делали чести даже самым уважаемым и маститым критикам, фигура Фрейда возвеличивается и едва ли не мифологизируется. Он предстает мужественным первопроходцем, расшевелившим многовековое болото, пробившим брешь в китайской стене иррациональных и патогенных запретов, Моисеем психоанализа, способным дать достойный отпор ополчившимся против него ретроградам. Значительный «литературный» вклад в эту мифологию внес друг патриарха С.Цвейг, выдающие писатели, иллюстрировавшие доктрину блистательными произведениями (Г.Гессе, Т.Манн и др.), а также биографы – мастера психографического анализа жизни Фрейда от верного ученика Э.Джонса до беллетриста И.Стоуна и экзистенциалиста Ж.П.Сартра. Впрочем, и сопоставление трудов Фрейда с ранними критическими откликами на них ортодоксальных психиатров и биологов, скорее в пользу отца психоанализа. Необоснованность претензий, сводящихся, главным образом, к бессмысленному потрясанию естественнонаучными аргументами, ничего не проясняющими в существе вопроса (ибо сведение предмета исследования к его материальному субстрату является скорее типичной логической ошибкой, подменой, нежели веским доводом), контрастирует с добросовестностью и корректностью самого Фрейда, который в ранних трудах демонстрирует заслуживающую уважения кропотливость и сдержанность. Когда Фрейд отказывает младенцам в невинности, описывает античное противоборство страстей в душе маленького Ганса или объясняет навязчивый рвотный рефлекс у девушки смещением «по вертикали» подавленного эротического возбуждения из области клитора, он демонстрирует, благодаря, между прочим, и поразительному литературному мастерству, куда большую основательность и верность науке, нежели те, кто готовы обвинять его в шарлатанстве, не утруждаясь проверкой выдвинутых им гипотез и довольствуясь априорным убеждением, что истина не может быть настолько нелепой и непристойной. Знаменитый довод Ницше, согласно которому любитель познания побрезгует окунуться в воды истины не тогда, когда она темна или мутна, но когда она мелка, – в пользу Фрейда, и довод этот неоднократно, в качестве риторической фигуры и приема самозащиты, приводится аполлогетами психоанализа. При таком раскладе и соотношении сил симпатии смещаются на сторону Фрейда – и это уже вопрос не достоверности, но «обаяния» и момент того, что некоторые аналитики обозначали как необходимое соблазнение к психоанализу (или, во французском стиле, «соблазн анализа»). Симпатизируя неортодоксальному и смелому Фрейду, читатель уже не замечает, как глобальные выводы о человеческой психики делаются путем умозаключений, а то и сверхобобщений на основе конкретных, единичных и, подчеркнем, клинических случаев, как недостаток научной аргументации скрашивается за счет мастерских стилистических приемов, важнейшие эмпирические наблюдения переплетаются с житейскими воззрениями автора. Психоаналику, твердо стоящему на позициях классического учения, выгодно иметь в оппонентах критика такого рода – консервативного и бескомпромиссного, склонного лишь к категоричному отрицанию – и выгодно не замечать другие, более изощренные, сложные и глубокие формы критики. Ведь в данном случае можно ограничиться остроумным замечанием: механизм вытеснения не признает тот, кто сам пребывает под его влиянием. 7. Фрейд и оппоненты: игра и столкновение научных альтернатив. Если первая волна критики, в которой преобладали консервативная невосприимчивость к фрейдовским инновациям и их категоричное отрицание, в конечном итоге способствовала, разумеется, вопреки собственным же чаяньям, усилению позиций психоанализа в культуре, упрочению авторитета Фрейда и даже мифологизации его персоны 3, то вторая волна была призвана выполнить иную миссию. В данном случае критиками Фрейда выступали уже не упертые, изначально враждебно настроенные ортодоксы, но его же, несколько разочарованные ученики, ощутившие ограниченность классического учения и метода, или мыслители других школ и течений, питавшие уважение к Фрейду, но при этом не склонные всецело поддерживать его догматические постулаты. Этот этап критического осмысления неминуемо обернулся расколом в психоанализе, позитивное значение которого заключалось в дальнейшей дифференциации психоаналитического знания, в возможности дистанцированной (без ослепляющей захваченности методом) ревизии и методологического анализа фрейдовской доктрины, выявления ее противоречий и ограничений. Такой поворот был предопределен «слишком авторским» характером открытого и написанного Фрейдом, чрезмерной экстраполяцией и стремлением утвердить индивидуальный стиль исследования и письма в качестве основополагающего / лигитимирующего. Как известно, немалую роль в расколе психоаналитического движения сыграла авторитарность Фрейда, его потребность в абсолютном интеллектуальном доминировании. Суть возражений Юнга, Адлера, Бинсвангера и др. критиков фрейдовского учения заключалась, по моему мнению, не в том, чтобы опровергнуть конкретный научный тезис о «примате сексуальности», а в том, чтобы воспротивиться утверждению и навязыванию еще одной формы «власти-знания», воспрепятствовать еще одной претензии на интеллектуальное господство. Оппоненты Фрейда из числа его же последователей попытались оспорить определенные, слишком узкие «правила игры». Согласно этим правилам, которые должны были безоговорочно принять все, один из множества факторов абсолютизируется, провозглашается первостепенно значимым и доминирующим, одна из движущих сил душевной жизни выступает первоначалом и первопричиной, один из объяснительных принципов признается главенствующим. Именно за такой протест, который, конечно, может быть легко ассимилирован обсуждаемой языковой системой и приравнен к «типичным проявлениям» Эдипова комплекса, упомянутые персоны и оказались в опале. Так обстояли дела и с советской критикой, которая «сокрушала» методологически-порочный фрейдизм, исходя из утрированно-марксистских, идеологических установок, и одновременно культивировала интерес и симпатию к нему. 3 Аргументы взбунтовавшихся учеников и приверженцев открывают список традиционных возражений. В нем, в частности, могут быть обозначены следующие пункты, фиксирующие ограничения и пробелы фрейдовской доктрины. Пансексуализм или аксиоматическое провозглашение сексуальности главной, абсолютно доминирующей движущей силой индивидуального поведения и развития. Безоговорочное принятие данной аксиомы неизбежно приводит к игнорированию других факторов, побудительных сил и источников человеческой мотивации. Именно с расхождений с Фрейдом в этом пункте начались и «адлеровский мятеж», и отступничество Юнга; классический психоанализ так и не смог ассимилировать или хотя бы терпимо принять к сведенью предложенные ему альтернативы, будь то воля к власти и превосходству, или архетипы и процесс индивидуации. Игнорирование культурно-исторического контекста (или, пользуясь метафорой В.Н. Волошинова [6, 269 – 346], «боязнь истории»). Присущая психоанализу и очаровывающая в нем «тяга к глубине», предполагающая беспристрастное исследование глубин психики, выявление первопричин и первооснов, на деле нередко оборачивается уходом от культурноисторического контекста, нивелированием значимых социокультурных различий. Этот изъян попытались искоренить неофрейдисты, К.Хорни, Э.Эриксон, Э.Фромм, акцентировавшие факторы социокультурной детерминации личности. Игнорирование культурно-исторического контекста приводит к необоснованным экстраполяциям и сверхобобщениям, таким, например, как признание Эдипова комплекса универсальным феноменом, фактом или даже законом индивидуального развития. Однако кросс-культурные исследования (в частности, проведенные Б.Малиновским и М.Мид) показывают, что такое интрапсихическое образование, как Эдипов комплекс, формируется под определяющим влиянием особенностей культуры и характерных для нее систем родства, или не формируется вовсе там, где эти начальные социальные условия иные, чем в Вене времен Фрейда, и к тому не располагают. Выясняется, что тип эмоциональных отношений к значимым другим является функцией социально заданной, культурно предопределенной семейной структуры, а не некой универсальной формой организации первичных влечений. Игнорирование социального в человеке, всей совокупности его социальных потребностей и характеристик. Метафора «айсберга», вкупе с тезисом о «недовольстве культурой», призвана обозначить соотношение внутрипсихических сил, и подводит к выводу о том, что человек, согласно Фрейду, заложник своих биологических драйвов и ведет социальный образ жизни в силу суровой необходимости, обрекая себя на извечную, здоровую или патологическую, неудовлетворенность. Фрейд выступает в данном пункте последователем учений Гоббса, Руссо, авторов теории «общественного договора», писавших о неизбежности социального ограничения и регулирования естественного в человеке. Причем, подобно Руссо, Фрейд трактовал неизбежное преобразование под влиянием культуры естественного состояния человека негативно, как патогенное, т.е. порождающее извращения и неврозы, несвойственные животному миру. Жизнь в социуме для человека в описании Фрейда это мучительная повинность, обрекающая на болезнь. Фрейду возражал уже А.Адлер, участник первого Венского кружка, рассматривавший социальный интерес и стремление к кооперации как естественные движущие силы индивидуального развития. Механодетерминизм и тесно связанный с ним ретроспективный взгляд на душевную жизнь, обращенность психоанализа к прошлому субъекта. Если вышеупомянутые ограничения классического учения непосредственно проистекают из его идеологического основания, то это скорее связано с его преимущественной направленностью, т.е. с заложенной в нем исследовательской установкой. Психоанализ, с одной стороны, рискует превратиться в бесконечный поиск первопричин, а, с другой, редуцирует, сводит всю временную перспективу душевной жизни к прошлому опыту. В результате создается эффект «обратной перспективы»: жизненные события оказываются для анализанда тем более значимыми, чем более они удалены от него во времени, чем дальше отодвинуты в глубь минувшего. При этом собственное настоящее и возможное или желаемое будущее словно исчезают из его поля зрения. Уже Анри Бергсон в «Опыте о непосредственных данных сознания» (1889) [2, 111 – 160] писал о неразрывной связи детерминизма и ретроспекции: мы можем выстраивать каузальные (причинно-следственные) цепочки, только оглядываясь назад. Такая «оглядка» (взгляд Орфея, который, обернувшись, навсегда потерял Эвридику – по сути, собственную душу) равносильна утрате свободы воли и приводит к исчезновению активного, свободного субъекта, да и субъектности как таковой в психоаналитическом дискурсе. Пансексуализм и механодетрминизм психоаналитического учения нередко подвергались критике под общей рубрикой редукционизма. Подразумевалось характерное для психоанализа сведение всего многообразия психической жизни к фиксированной (не пополняемой) группе факторов, базовых драйвов, первособытий и предпосылок, скрытых в глубинах прошлого опыта. Это позволило Юнгу определить подход Фрейда как редуктивный и противопоставить ему собственный «синтетический» или «конструктивный» подход [7]. Таковы наиболее типичные и обобщенные возражения, которые были артикулированы на этапе болезненного размежевания внутри самой глубинной психологии и которые дополняются рядом замечаний относительно методологии и методики анализа, сеттинга и системы аналитических отношений, а также частных вопросов теории и практики, таких как символика сновидений, значение переноса, метод свободных ассоциаций, позиция / дистанция аналитика и т.д. Следует, однако, заметить, что столкновение фрейдовских догматов с их научными альтернативами на этом этапе происходило в границах единого дискурсивного поля: это была скорее борьба за расширение возможностей и правил использования глубиннопсихологического дискурса, нежели стремление подорвать этот дискурс, сотрясая его основы. Так, например, содержание концепта «бессознательное» расширялось и трактовалось иначе, скажем, Адлером или Юнгом, но при этом не подвергалась сомнению корректность его применения как такового в психологии и психотерапии. Опровергая те или иные постулаты Фрейда и нарушая жестко заданные им правила игры, его оппоненты из плеяды «непослушных сыновей» и «неблагодарных учеников» вели полемику в кругу введенных им понятий, не размыкая этот круг, а лишь расширяя его, и на деле способствовали обогащению, усложнению и повышению жизнеспособности разработанного Фрейдом дискурса. Фрейд перестал быть единственным и абсолютным лидером, но, благодаря такой децентрации, язык анализа стал более гибким, живым, многообразным. 8. Психоанализ Фрейда как предмет дискурсивной обеспокоенности4: возражения Л.Витгенштейна. Как писал Р. Барт в работе «Критика и истина» [1, с. 322 – 323], «чтобы стать разрушительной, критике не нужно судить, ей достаточно заговорить о языке, вместо того, чтобы говорить на нем». О языке психоанализа с новых критических позиций заговорил Людвиг Витгенштейн, которого нельзя отнести ни к группе воинствующих ортодоксов, ни к когорте вчерашних апологетов и сторонников Фрейда. Позиция Витгенштейна была автономна, а его влияние на гуманитарные науки не менее значительно. С одной стороны, он восхищался наблюдениями и замечаниями Фрейда, признавая, что последнему «было что сказать» даже там, где он, по мнению Витгенштейна, ошибался. С другой стороны, согласно Витгенштейну, огромное влияние психоанализа в Европе и Америке было вредоносным, не стимулирующим, но парализующим человеческую мысль: «пройдет много времени, прежде чем мы перестанем заискивать перед ним». Чтобы научиться чему-то у Фрейда, продолжал Витгенштейн, мы должны быть настроены критически; но психоанализ вообще не допускает такой установки. Один из классиков аналитической философии, внёсший значительный вклад в современное понимание языка, Витгенштейн подверг психоанализ критическому анализу с позиций другой дисциплины и независимой инстанции – логики. Его рассуждения о логической необоснованности ряда ключевых моментов доктрины Фрейда требуют особо пристального рассмотрения. Так «Беседах о Фрейде» 1940-х гг., записанных Рас Рисом, он отмечает логические неувязки и противоречия, выявляемые и в теории, и в системе психоаналитической Обыгрывается «обеспокоенность языком» (Ж.Деррида): сомнение не в обоснованности тех или иных утверждений, но в лигитимности самого дискурса. 4 методологии. В частности, Витгенштейн утверждает, что классическая процедура свободных ассоциаций и другие, восходящие к ней, техники сомнительны, потому что Фрейд нигде не разъясняет, как, пользуясь каким критерием, узнать, где и когда следует остановиться — в какой момент достигнуто верное решение. Иногда Фрейд говорит, что правильное решение или правильный анализ – тот, результат которого удовлетворяет пациента. Иногда утверждается, что только врач, а не пациент, может определить правильность выбранного курса: пациент, как правило, заблуждается под действием той или иной разновидности сопротивления. Так же, по мнению Витгенштейна, обстоит дело и с понятием бессознательного. Свидетельства о нем Фрейд находит с помощью анализа в забытых воспоминаниях и сновидениях. Но на известном этапе становится уже не ясно, насколько эти «воспоминания» независимы от аналитика. Не срабатывает ли здесь эффект наблюдателя или Пигмалиона? Не структурируется ли опыт анализанда (извлекаемый из подвалов его памяти аналитический материал) под влиянием доминирующей установки аналитика и с использованием доступных ему языковых средств? Далее Фрейд часто акцентирует необходимость преодоления сопротивления. Согласно известной схеме, одна «инстанция» (аналитик) вводится в заблуждение другой «инстанцией» (бессознательное анализанда). Предполагается, что психоаналитик должен быть сильнее, бороться и преодолевать заблуждение, порождаемое данной инстанцией (для этого необходимо проходить специальную подготовку). Но при этом Фрейд не предлагает аналитикам никакого способа, позволяющего установить, что весь результат анализа сам не является «заблуждением». Следовательно, анализ представляет собой то, что люди склонны принимать и что облегчает для них некоторый образ мыслей и действий: делает известный способ поведения и мышления естественным для них. Анализанд отказывается от одного способа мышления и принимает другой. Когда Фрейд говорит о некоторых образах (например, образе шляпы) как о символах, или когда он говорит, что «образ» нечто означает, речь идет только об интерпретации; и о том, с чем можно заставить согласиться человека, видевшего сон, как с его интерпретацией. Однако то, что на самом деле является интерпретацией – причем, одной из… – вторичным продуктом анализа, преподносится как скрытое / латентное содержание сна, тайное послание, то, ради чего сон, собственно, и приснился. Интерес представляет также критика теории сновидений Фрейда в работе Л. Витгенштейна «Культура и ценность» [5], в которой автор писал: «Во фрейдовском анализе сновидение как бы разбирается на части. Оно полностью теряет свой оригинальный смысл… В сновидении, однако, интригует не каузальная связь с событиями моей жизни и т.п., а скорее то впечатление, которое оно порождает…» По Витгенштейну, сведение какого-либо сновидения к законченной (окончательной) интерпретации есть недопустимая универсализация определенной «языковой игры», при которой отсекаются все иные возможности понимания и смыслопорождения. При этом получение уникального впечатления от конкретных психических явлений подменяется поиском обусловливающего их механизма, созданием эмпирической истории их возникновения, вследствие чего естественное и органичное приобретает несвойственные ему черты. Приведенные возражения Витгеншейна обозначают новый виток проблематизации психоанализа – здесь обсуждается уже не истинность отдельных положений и принципов, но внутренняя согласованность этой специфической языковой игры, логическая обоснованность ее притязаний. Артикулируется важнейший вопрос: действительно ли психоанализ располагает языком, т.е. инструментом познания и мышления, имеющим достаточную дифференцирующую силу, для того, чтобы делать содержания бессознательного доступными сознанию? И не является ли перевод содержаний из бессознательного в сознание не более чем уловкой, подвохом, дискурсивным маневром, обеспечивающим не прирост знания, но диктат определенного языка / способа описания, расширение зоны влияния новой языковой практики? 9. Фрейд, прочитанный заново и по-новому. Очередной виток переосмысления – а в данном случае даже переписывания – фрейдовского учения связан, прежде всего, с Ж.Лаканом и лакановской версией психоанализа. Ревизия теории Фрейда приводит здесь к переформулированию его постулатов, их переакцентированию и новому прочтению. «Фрейд и сам не догадывался, как много он сказал и как он оказался прав» – этими словами, отнесенными первоначально к Гегелю, можно было бы выразить суть такого подхода, предполагающего помещение психоаналитического учения в иной контекст, в новое, порой неожиданное и непривычное для консервативных приверженцев фрейдовской доктрины, концептуальное обрамление. Известна настороженность, с какой были встречены инновации Лакана в кругах традиционно мыслящих аналитиков. Однако именно Лакан научил не только психологов, но и философов читать Фрейда «между строк» и трактовать его теоретические построения в более широком (нежели клинический) гуманитарном контексте; именно Лакан поспособствовал более глубокому пониманию радикального сдвига, который произошел благодаря Фрейду не только в психотерапии, но и в системе таких глобальных и взаимосвязанных западноевропейских концептов, как «субъект», «другой», «желание», «реальное» и «воображаемое», «знак» и «символ», «речь» и «язык». Идеи о том, что бессознательное структурировано как язык, а Я – ничто иное, как означающее, отсылающее к Другому, конечно, были сформулированы не самим Фрейдом, но скорее через него, через обращение к его наследию как к поводу говорить о таких вещах, в результате второго сотворения психоанализа или его «второго рождения» из лона французского структурализма. Эти идеи оказались продуктивными для дальнейшего развития не только психоанализа, но и философии языка: в психоанализе обнаружился просвет, открылась дверь, и сделались доступны обозрению иные перспективы гуманитарного дискурса, которые позднее стало модно тоталитарно объединять под рубрикой постмодернизма. Лакановское переосмысление теории Фрейда поспособствовало, в частности, делегитимации новоевропейского дискурса субъектности, развенчанию мифа о субъекте, который был основополагающим для традиционно принятой и доминировавшей на протяжении нескольких столетий субъект-объектной модели познания. Низвержение Субъекта (осуществленное в психоанализе несмотря на формулу «Там, где было Оно (Id) должно утвердиться Я (Ego)») сначала было вменено Фрейду в вину, а затем отрефлексировано как симптом всеобщего недомогания или предзнаменование радикального культурного поворота. Дискурс психоанализа не то осуществляет, не то предвещает, не то констатирует лишение индивидуального Я качеств субъектности, полную деструкцию такой привычной картезианской системы координат. Именно это подразумевал и от этого предостерегал Л. Бинсвангер, когда писал о процедуре анализа как о предприятии обезличивающем, лишающем анализанда субъектности, фактически ставящем крест на личности в ее традиционном ренессансном и просвещенческом понимании: «Вместо взаимного «личного» общения в рамках мы-взаимоотношения перед нами односторонняя, необратимая связь между доктором и пациентом и даже более безличное отношение между исследованием и объектом исследования» [3, с. 41]. И далее «психология в результате становится «безличной» и «объективной», одновременно теряя научный характер подлинной психологии и превращаясь в естественную науку» (там же). Развивая идею Бинсвангера, можно констатировать, что психоанализ становится для личности ловушкой, попадая в которую она оказывается на противоположном полюсе субъектобъектного отношения5, как говорится – правда по другому поводу – «по ту сторону свободы и достоинства». В данном случае тенденция к обезличиванию (через объективацию) атрибутируется как неискоренимый порок естественнонаучному подходу (тяготение к которому Фрейда не следует, на мой взгляд, трактовать так уж однозначно, ведь это тоже дискурсивная уловка), а не осмысляется как одна из общих тенденций развития гуманитарного дискурса. Гуманистическую и экзистенциальную традиции можно, с определенной долей условности, рассматривать, как альтернативные психоанализу попытки вернуть в психологию «Фрейд изучает людей с такой же «объективностью», с такой же экзистенциальной отдачей «объекту», какие характеризуют его исследования спинного мозга Ammocoetes-Petromyzon в лаборатории Брюкке с тем исключением, что вместо обостренного микроскопом зрения он использует обостренный своим неподкупным восприятием слух и естественную гениальность в понимании «человеческих тревог» (там же). 5 субъекта – значимую в своей уникальности личность, наделенную свободой воли и ответственностью. По крайней мере, пафос возвращения к субъекту и к субъективности (как ценности) определяет весь строй этих дискурсивных традиций. В полемике психоанализа с гуманистами и экзистенциалистами актуализируются все те же сомнения и вопросы. Не становятся ли и пациент, и обучающийся анализу неофит заложниками определенной языковой (или, что то же самое, властной) игры, пленниками фрейдистского Логоса? Что призвана поддерживать и обеспечивать психоаналитическая процедура: самовластность Субъекта, погруженного в глубинный процесс самопознания, или власть нового дискурса? Впрочем, также оправдан вопрос, не окажется ли утопичным стремление в конфронтации с психоанализом и бихевиоризмом создать дискурс освобождения, субъектности и ответственности, дискурс, призванный, отказавшись от любых властных притязаний, помочь субъекту обрести самого себя? Иначе указанную проблему рассматривал М. Фуко [9]. Он отмечал, что особенностью психоанализа выступает неуклонная семиотизация психологического дискурса, приводящая к исчезновению самостоятельного и активного Субъекта, к замене личности игрой бессознательных сил и системой скрытых от сознания значений. Однако, тенденция к семиотизации, согласно Фуко, в XX в. характеризует не только психоанализ – она, так или иначе, обнаруживается во всех науках о человеке, постепенно становясь отличительным признаком современного гуманитарного знания. Очевидно, что психоанализ «неповинен» в ней, и она не есть следствие неадекватных исследовательских установок; скорее уж психоанализ помогает нам наиболее отчетливо увидеть, выявить эту тенденцию в гуманитарном дискурсе, служит стимулом к критической рефлексии по поводу всей будущей судьбы «субъекта» и «человека» как устойчивых конструктов научного знания и языка: не являются ли они преходящими, не исчезнут ли со временем без следа? Психоанализ в прочтении Фуко – в контексте его «истории сексуальности», т.е. реконструкции сексуальности как исторического опыта – перестает быть только некой фиксированной в статьях и монографиях теорией влечений, адекватной или некорректной, инновационной или редуктивной. Это скорее система отработанных в специфическом языке способов, с помощью которых индивиды приводятся к признанию себя субъектами сексуальности, практика продуцирования исторического, а не изначального и безусловного, субъекта желания. Как писал Фуко во Введении к «Использованию наслаждений» [12], его задача состояла не в создании «истории следующих друг за другом концепций желания, вожделения или либидо, но в анализе практик, при помощи которых индивиды приводятся к тому, чтобы обращать внимание на самих себя, чтобы себя дешифровывать, чтобы опознавать и признавать себя в качестве субъектов желания, вовлекая в игру некоторое отношение этих субъектов к самим себе, позволяющее им обнаруживать в желании истину их бытия, каким бы оно ни было: естественным или падшим». В свете такого прочтения, психоанализ не просто подвергает деструкции традиционную модель субъекта, но и выступает практикой конституирования (или, используя несвойственную Фуко терминологию, социального конструирования) сексуальности и субъектности, способствует формированию субъекта определенного исторического типа, субъекта преходящего и востребованного конкретной системой власти-знания. 10. Искушение и испытание постмодерном: психоанализ Фрейда как поле деконструкции. В эпоху посмодерна, границы которой достаточно сложно четко обозначить (на этот счет нет укоренившегося единого мнения), критика психоанализа осуществляется уже не с позиций некой более строго научно обоснованной или более «гуманистичной» теории (каждая из которых сама, в свою очередь может быть подорвана и развенчана, согласно правилам постмодернистских дискурсивных игр), но с позиций общего релятивизма, характерного для этого периода и ставшего, по сути, духом времени. С таких релятивистских позиций, психоанализ подвергался критике в связи с его метатеоретическими притязаниями, приводящими к отрицанию потенциальной множественности интерпретаций. Несмотря на то, что сам Фрейд уже в «Толковании сновидений» писал о необходимости даже в случае максимально успешного анализа допускать возможность иного объяснения, в психоаналитическом дискурсе периодически проявляется нацеленность на единственно верную интерпретацию, в силу чего альтернативные трактовки остаются незамеченными или резко отвергаются. Господство «единственно верной интерпретации» непродуктивно и препятствует развитию соответствующей практики, особенно при том состоянии дел и умов, которое известно как «состояние постмодерна». Ряд мыслителей, прежде всего, Ж.Деррида [8], обрушиваются на Фрейда, как на «носителя истины», бесконечно прибегающего к всевозможным спекуляциям и маневрам, дабы скрыть несостоятельность, диффузность и внутреннюю противоречивость собственной доктрины, наводняющей дискурс призраками и мифическими сущностями. Еще одна мишень критических нападок – это монологизм фрейдовского учения, предполагающего анализ одинокого и изолированного Я как некой замкнутой в себе и предоставленной себе монады, в отрыве от актуальных социальных, культурных и семейных связей. Отталкиваясь от начальных обстоятельств, диспозиций и объектных отношений, фиксируя исходную нацеленность на объект, психоанализ вместе с тем апеллирует к «одинокому сознанию», которое, находясь в разладе с самим собой и избегая понимания себя, не может достичь и взаимопонимания в общении с другими. Данная особенность психоаналитического дискурса позволила Дж. Хилману назвать век психоанализа «столетием одиночества» [10]. Попыткой преодолеть это одиночество и изолированность Я в психотерапии, стала системная семейная терапия, пронизанная духом постмодерна и осуществившая переход от отдельного анализанда к объемлющей его системе семейных отношений. Наконец, еще одно существенное возражение связано с нарочитой «патриархальностью» психоанализа, которая особенно ярко обозначается по контрасту с общей направленностью современных гендерных теорий [7]. В связи с этим следует упомянуть критику фрейдистского «фалло-лого-центрического» учения в трудах современных феминистки ориентированных исследователей гендерной проблематики, многие из которых развивают идеи Ж.Деррида и начатую им критику «фалло-логоцентризма». В постмодернистской критике психоанализа больше игры и иронии. Многие характерные черты классического психоанализа, такие как стремление к интеллектуальной экспансии или претензия на роль метадискурса, захваченность методом, диктат само собой разумеющегося (не подлежащие ревизии постулаты), поиски единственно верной интерпретации и отрицание потенциальной множественности интерпретаций, проистекающий отсюда агональный принцип взаимодействия в сообществах аналитиков, извечный спор, кто заглядывает глубже в человеческую душу, кто прозорливее – все это выступает яркой и очевидной антитезой тому, что культивируется в постмодернизме. Вместе с тем, оказываясь объектом деконструкции, психоанализ вовлекается в самые разнообразные интерпретационные игры, призванные выявить в нем не угаданные ранее смысловые потенции. В данном случае оказывается существенным как раз то, что Фрейд и не собирался, не помышлял сказать, но что, тем не менее, сказалось, помимо его сознательной воли и благодаря осуществленным им преобразованиям в самом гуманитарном дискурсе, благодаря новым возможностям артикуляции, письма и прочтения, открытию которых Фрейд, вероятно, и не подозревая о том, поспособствовал. В этом пункте Фрейд-как-автор попросту исчезает, его мифическая фигура теряется, тонет в хитросплетениях опутавших его смысловых интертекстуальных связей, согласно постмодернистским правилам игры, превращаясь в артефакт культуры, прецедент, повод к разговору. Так формируется искусственное «тело» психоанализа, фантом, неотступно следующий за ним и непрерывно клонируемый. И это приумножение сущностей уже невозможно пресечь, воспользовавшись когда-то эффективной «бритвой Оккама», не повредив жизненно важных артерий. Резюме Психоанализ, как феномен культуры, существует и реализуется не только в его практике, но и в критике, не позволяющей этому учению закостеневать и перерождаться в «истину». Психоанализ и критику психоанализа следует рассматривать в их единстве и взаимосвязи, ведь, как бы парадоксально это ни звучало, то, что оспаривает, опровергает или переиначивает психоанализ, вносит определенный вклад в саму психоаналитическую культуру. ЛИТЕРАТУРА 1. Барт Р. Истина и критика / Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М.: «Прогресс», «Универс», 1994. – С. 322 – 323. 2. Бергсон А. Собрание сочинений в четырех томах, т.1. – М.: «Московский Клуб», 1992. – С.111 – 160. 3. Бинсвангер Л. Бытие-в-мире. – М.: «Рефл-бук»; К.: «Ваклер», 1999. 4. Витгенштейн Л. Беседы о Фрейде. 5. Витгенштейн Л. Культура и ценнность. // Витгенштейн Л. Философские работы. Часть I. – М.: «Гнозис», 1994. – С. 407 – 492. 6. Волошинов В.Н. Фрейдизм. Критический очерк / Зигмунд Фрейд, психоанализ и русская мысль / Сост. и авт. вступ. ст. В.М. Лейбин. – М.: Республика, 1994. – С. 269 – 346. 7. Гэллоп Дж. Ключи к Доре / Введение в гендерные исследования. Часть II. Хрестоматия. – Харьков: ХЦГИ, 2001, СПб.: Алетейя, 2001. – С. 561 – 581. 8. Деррида Ж. О почтовой открытке от Сократа до Фрейда. Гл. «Страсти по «Фрейду». – Мн.: Современный литератор, 1999. – 832 с. 9. Ильин Г.Л. Проблема бессознательного в трактовке французского структурализма / Бессознательное. Природа, функции, методы исследования. – Тбилиси: Изд-во «Мецниереба», 1978. – С. 338 – 346. 10. Хилман Дж. Сто лет одиночества: наступит ли то время, когда прекратится анализ души? / Московский психотерапевтический журнал, №1, 1997. 11. Юнг К.Г. О психологии бессознательного: Синтетический, или конструктивный метод / Юнг К.Г. Психология бессознательного. – М.: «Канон», 1994. – С. 123 – 134. 12. FOUCAULT, M. (1984): Histoire de la sexualité, t. II. L’Usage des plaisirs. Paris, Gallimard.