Глава первая - Анна Ахматова
advertisement
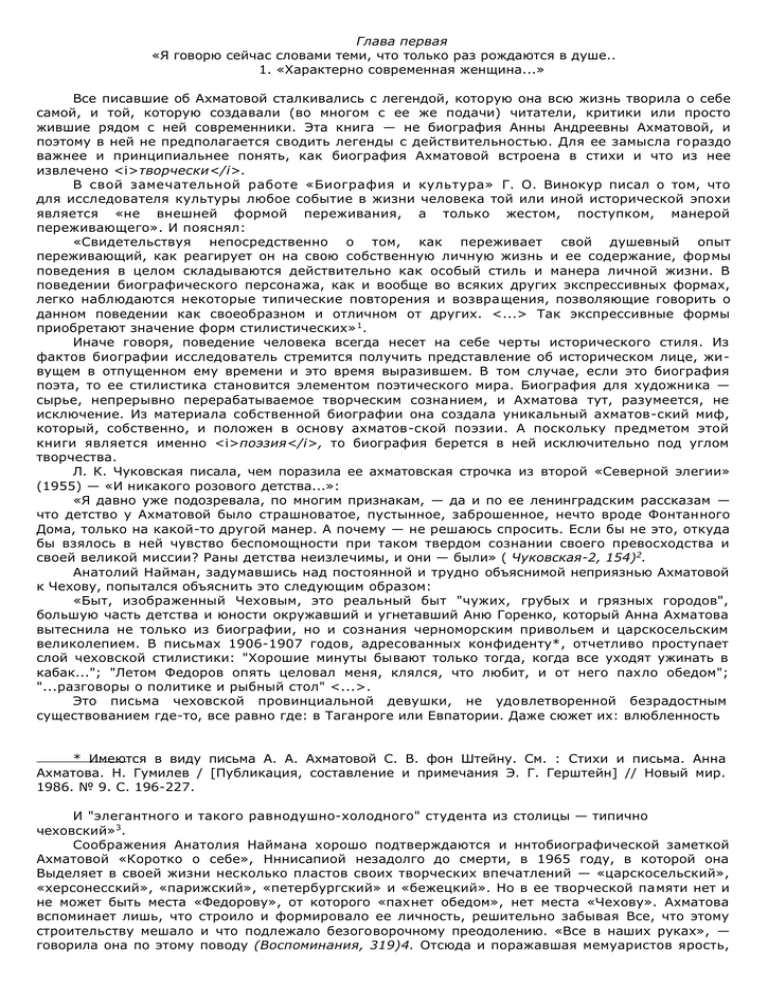
Глава первая
«Я говорю сейчас словами теми, что только раз рождаются в душе..
1. «Характерно современная женщина...»
Все писавшие об Ахматовой сталкивались с легендой, которую она всю жизнь творила о себе
самой, и той, которую создавали (во многом с ее же подачи) читатели, критики или просто
жившие рядом с ней современники. Эта книга — не биография Анны Андреевны Ахматовой, и
поэтому в ней не предполагается сводить легенды с действительностью. Для ее замысла гораздо
важнее и принципиальнее понять, как биография Ахматовой встроена в стихи и что из нее
извлечено <i>творчески</i>.
В свой замечательной работе «Биография и культура» Г. О. Винокур писал о том, что
для исследователя культуры любое событие в жизни человека той или иной исторической эпохи
является «не внешней формой переживания, а только жестом, поступком, манерой
переживающего». И пояснял:
«Свидетельствуя непосредственно о том, как переживает свой душевный опыт
переживающий, как реагирует он на свою собственную личную жизнь и ее содержание, формы
поведения в целом складываются действительно как особый стиль и манера личной жизни. В
поведении биографического персонажа, как и вообще во всяких других экспрессивных формах,
легко наблюдаются некоторые типические повторения и возвращения, позволяющие говорить о
данном поведении как своеобразном и отличном от других. <...> Так экспрессивные формы
приобретают значение форм стилистических» 1.
Иначе говоря, поведение человека всегда несет на себе черты исторического стиля. Из
фактов биографии исследователь стремится получить представление об историческом лице, живущем в отпущенном ему времени и это время выразившем. В том случае, если это биография
поэта, то ее стилистика становится элементом поэтического мира. Биография для художника —
сырье, непрерывно перерабатываемое творческим сознанием, и Ахматова тут, разумеется, не
исключение. Из материала собственной биографии она создала уникальный ахматов-ский миф,
который, собственно, и положен в основу ахматов-ской поэзии. А поскольку предметом этой
книги является именно <i>поэзия</i>, то биография берется в ней исключительно под углом
творчества.
Л. К. Чуковская писала, чем поразила ее ахматовская строчка из второй «Северной элегии»
(1955) — «И никакого розового детства...»:
«Я давно уже подозревала, по многим признакам, — да и по ее ленинградским рассказам —
что детство у Ахматовой было страшноватое, пустынное, заброшенное, нечто вроде Фонтанного
Дома, только на какой-то другой манер. А почему — не решаюсь спросить. Если бы не это, откуда
бы взялось в ней чувство беспомощности при таком твердом сознании своего превосходства и
своей великой миссии? Раны детства неизлечимы, и они — были» ( Чуковская-2, 154)2.
Анатолий Найман, задумавшись над постоянной и трудно объяснимой неприязнью Ахматовой
к Чехову, попытался объяснить это следующим образом:
«Быт, изображенный Чеховым, это реальный быт "чужих, грубых и грязных городов",
большую часть детства и юности окружавший и угнетавший Аню Горенко, который Анна Ахматова
вытеснила не только из биографии, но и сознания черноморским привольем и царскосельским
великолепием. В письмах 1906-1907 годов, адресованных конфиденту*, отчетливо проступает
слой чеховской стилистики: "Хорошие минуты бывают только тогда, когда все уходят ужинать в
кабак..."; "Летом Федоров опять целовал меня, клялся, что любит, и от него пахло обедом";
"...разговоры о политике и рыбный стол" <...>.
Это письма чеховской провинциальной девушки, не удовлетворенной безрадостным
существованием где-то, все равно где: в Таганроге или Евпатории. Даже сюжет их: влюбленность
* Имеются в виду письма А. А. Ахматовой С. В. фон Штейну. См. : Стихи и письма. Анна
Ахматова. Н. Гумилев / [Публикация, составление и примечания Э. Г. Герштейн] // Новый мир.
1986. № 9. С. 196-227.
И "элегантного и такого равнодушно-холодного" студента из столицы — типично
чеховский» 3.
Cоображения Анатолия Наймана хорошо подтверждаются и ннтобиографической заметкой
Ахматовой «Коротко о себе», Нннисапиой незадолго до смерти, в 1965 году, в которой она
Выделяет в своей жизни несколько пластов своих творческих впечатлений — «царскосельский»,
«херсонесский», «парижский», «петербургский» и «бежецкий». Но в ее творческой памяти нет и
не может быть места «Федорову», от которого «пахнет обедом», нет места «Чехову». Ахматова
вспоминает лишь, что строило и формировало ее личность, решительно забывая Все, что этому
строительству мешало и что подлежало безоговорочному преодолению. «Все в наших руках», —
говорила она по этому поводу (Воспоминания, 319)4. Отсюда и поражавшая мемуаристов ярость,
с которой она воспринимала малейшие попытки сравнивать ее стихи с чеховской прозой. «Чехов
— наш постоянный старый спор», — отметила по этому поводу Л. К. Чу-конекая (Чуковская-2, 48).
В конце 1950-х годов Ахматова записала стихи, якобы относящиеся к лету 1911 года, но,
вероятнее всего являющиеся памятью о 1911 годе. Перед нами - один из образцов ахматов-ского
мифотворчества, так сказать, второго уровня, когда мифологизируется уже не биография, а
творчество. Ахматова 1950-х годов дописывает Ахматову 1910-х годов, как бы достраивая в
поздний период своего творчества то, чего не было (но что логически могло быть) в раннем
периоде. Однако для нашей задачи эта аберрация не так уж и важна. Важны некоторые
особенности этих строк, по-видимому, отразивших разрыв отношений с Амедео Модильяни во
время ее второй поездки в Париж:
В углу старик, похожий на барана,
Внимательно читает «Фигаро».
В моей руке просохшее перо,
Идти домой еще как будто рано.
Тебе велела я, чтоб ты ушел,
Мне сразу всё твои глаза сказали...
Опилки густо устилают пол,
И пахнет спиртом в полукруглой зале.
И это юность — светлая пора
--Да лучше б я повесилась вчера
Или под поезд бросилась сегодня.
Здесь любовная драма дана в окружении подчеркнуто прозаических, равнодушнонейтральных деталей — старик с газетой в руках; опилки, густо устилающие пол; запах спирта.
Восклицание лирической героини: «И это юность — светлая пора», — лишь сильнее оттеняет
оскорбительный смысл антуража, на фоне которого разворачивается психологическая
коллизия. Здесь хорошо заметно резкое неприятие той «чеховской» действительности, которая
была преодолена в [творчестве] Ахматовой 10-х годов.
Неизменно подчеркивая точность и обязательность своей памяти, Ахматова умела
решительно и жестко расправляться с ней в критических для себя ситуациях. Когда в одном из
стихотворений она написала: «Из памяти твоей я выну этот день...», — это как нельзя точнее
характеризует ее отношение к памяти, которая могла быть не только помощником, но и врагом. В
последнем случае все <i>недолжное</i> в ней подлежало забвению и умолчанию. Ахматова,
строя свою биографию, умела не только вспоминать, но и молчать.
В ее поздних воспоминаниях о Модильяни нет и намека на любовную драму, о которой
говорят процитированные стихи и косвенно свидетельствуют «ню», моделью которых была Ахматова5 . Биография выстраивалась ею в расчете на восприятие потомков путем сознательного
отбора материала, и конечным продуктом этого строительства становился «ахматовский миф», то
есть, иначе говоря, художественный образ.
В своей родословной Ахматова особенно выделяла «бабушку-татарку» — Анну Егоровну
Мотовилову, мать которой, Прасковья Егоровна, но семейной легенде была чингизидкой, дальним
потомком хана Ахмата. И ничтоже сумняшеся утверждала: «Моего предка хана Ахмата убил
ночью в его шатре подкупленный русский убийца, и этим, как повествует Карамзин, кончилось
на Руси монгольское иго» (СС-2, 2, 240) 6 .
Бережно хранила она и легенду о своих древних новгородских корнях и, упоминая своего
деда — Эразма Ивановича Стогова — уточняла: «Стоговы были небогатые помещики Можайского
уезда Московской губернии, переселенные туда за бунт при Марфе Посаднице. В Новгороде они
были богаче и знатнее» (СС-2,2,240). В стихах это отозвалось известными строчками:
Ведь капелька новогородской крови
Во мне — как льдинка в пенистом вине.
Однако биографы справедливо сомневаются в том, что ее предки — симбирские помещики
Ахматовы — были чингизидами (СС-6, 1, 504)7. С не меньшим основанием можно сомневаться и в
том, что среди них были мятежные новгородские бояре, не говоря уже о греческих пиратах,
которых Ахматова также числила в своих предках. Она, вероятно, не знала, что род Мотови-ловых
вел свое начало от знаменитого боярина Андрея Кобылы8, бывшего родоначальником многих
боярских и дворянских фамилий, в том числе и Романовых. Иначе бы это тоже нашло свое место в
процессе создания «ахматовского мифа».
В родословной, которую выстраивала Ахматова, просматривается прежде всего привязка
своего происхождения к именам и фактам большого исторического веса и смысла. И это не
случайно, ибо, в конечном счете, биография для Ахматовой значима прежде всего
<i>исторически</i>. Чехов для нее навсегда остался художником провинциальных восьмидесятых
годов, и она просто не пустила его в свою биографию — «вынула из памяти». А поскольку ей
постоянно напоминали, что Чехов — часть русской истории и культуры, и при этом исторически и
эстетически весьма значительная, это вызывало у нее бурную негативную реакцию.
Окружающим такая реакция казалась нелогичной, но на самом деле логика Ахматовой была
железной — как и полагается логике мифа.
Острое ощущение личного присутствия в истории, структурно проявленное в лирике поздней
Ахматовой, родилось далеко не сразу. Ее первые поэтические пробы были связаны с
символистской традицией, в которой творческое сознание выстраивало себя исходя не из родовой,
семейственной — исторической — памяти, а из архетипических схем. Аврил Пайман в своей
«Истории русского символизма» хорошо сказала об этой особенности:
«Символисты разбудили старых богом, ниппели их с классического Олимпа в мир
бессознательного. Второе поколение заговорщики, вырвавшиеся из «подполья» отчасти благодаря
тому, что им стало ясно, что они там не одни, были объединены открытием общего языка символизма, мифа. Фрейд и Юнг использовали этот язык для характеристики индивидуального
бессознательного, но он в то время уже становился и языком общего бессознательного. <...>
Младшие симнолисты стремились создать в жизни и в книгах некую грандиозную схему, которая
позволяла бы выражать невыразимое. Такова была задача коллективного воображения
русских симиолистов, и неудивительно, что между ними возникали ожесточенные споры,
взаимное непонимание. Тем не менее все они били участниками одной драмы, одного
спектакля» 9.
Символисты оставили в наследство молодым поэтам 10-х годов глубоко и лично пережитые
архетипические схемы. И как бы потом последние ни «преодолевали символизм», архетииичность оставалась неустранимым компонентом их творческой личности. Ахматова не была
здесь исключением, и это хороню видно по тому, как она манипулировала с датой своего
рождения. Родившись 11 июня 1889 года по старому стилю 10, она, вопреки очевидности,
утверждала: «А родилась я, <i>как и следовало ожидать</i> (курсив мой. — В. М), в Иванову
ночь, 23/24 июня...» (ЗК, 448)11. Здесь важна не столько истинность сказанного, сколько
уверенность в том, что этого «и следовало ожидать». Правда архетипа не просто расходится с
правдой исторического факта, она ощущается как более вероятная и нтому более подлинная. Не
случайно Ахматова хранила автограф посвященного ей стихотворения Гумилева «Русалка» 12.
Выбирая между «поэзией и правдой», она неизменно выбирала «поэзию» — ту глубинную
правду, которая звучит, например, и известном заявлении ее современника Владимира Маяковского:
В какой ночи
бредовой,
недужной,
какими Голиафами я зачат такой большой
и такой ненужный?
Разумеется, «исторический» Маяковский был «зачат» нормальными «историческими»
родителями. Но то, что в составе его личности, действительно, было нечто «голиафье», бесспорно
для любого, самого трезвого исследователя. Точно так же бесспорно, что в личности Ахматовой
было много «купальского», осознаваемого ею как психологическая реальность.
Кстати, здесь во многом таится объяснение той настойчивости, с которой Ахматова боролась
против распространенного взгляда на творчество молодого Гумилева как нечто книжное,
вторичное, стилизаторское. Ведь она сама, по точному выражению В. А. Черныха, была «главной
героиней ранней лирики Гумилева»13, в которой впервые нашел свое воплощение «ахма-товский
миф». Ахматова видела в Гумилеве «визионера и пророка» (ЗК, 251) не в последней степени
потому, что это визионерство касалось ее собственной личности. «Когда в 1910 г. люди встречали
двадцатилетнюю жену Н. Г<умилева>, бледную, темноволосую, очень стройную, с красивыми
руками и бурбонским профилем, то едва ли приходило в голову, что у этого существа за плечами
уже очень большая и страшная жизнь, что стихи 10-11 г. не начало, а продолжение», —
вспоминала Ахматова в 1962 году (ЗК, 220).
Гумилев был первым, кто догадался об этой «страшной жизни», кто был ее свидетелем и
соучастником. В своих стихах он не раз пытался разгадать скрытую сущность странной женщины,
вызвавшей в нем огромную трагическую любовь. И когда впоследствии Ахматова встречала
людей, неспособных на «огромную трагическую любовь», то есть, в сущности, пугав шихся
архетипического в ней (как, например, в случае с В. Г. Гаршиным), она не могла им этого простить.
Гумилев первым начал работу по творческому, публичному оформлению «ахма-товского мифа», и
уже одним этим их судьбы оказались связанными навсегда.
«Записные книжки» Ахматовой неоспоримо свидетельствуют, насколько внимательно
относилась она к своему присутствию в стихах Гумилева: «В стихах Н<иколая> С<тепанови-ча>
везде, где луна ("И я отдал кольцо этой деве Луны...") — это я. (Все пошло с "Русалки", "Из
города...", "Нет, тебя..." 1910, "Семирамида". Жемчуга — тоже мой атрибут.) Затем — Анна
Комнена. (Тема ревности). <...> Самой страшной я становлюсь в "Чужом небе" (1912), когда я и
сущности рядом (влюбленная в Мефистофеля Маргарита, женщина-вамп в углу, Фанни с адским
зверем у ног, просто отравительница, киевская колдунья с Лысой Горы) (а выйдет луна
затомится)» (ЗК, 152).
В посвященных ей стихах Гумилев чутко уловил все основные психические элементы,
необходимые для построения «ахматовского мифа». Если он называл ее девой луны, то речь шла
о действительном лунатизме, которым Ахматова страдала в детстве и юности. Если речь шла о
царице-ребенке, то это были конкретные черты ее личности, в которой царственность и детскость
парадоксально соседствовали друг с другом. Именуя ее русалкой, Гумилев не мог не знать о том,
как она много и легко плавала. И, наконец, говоря о ней как о ведьме с Лысой Горы, он
распознал в ней реальный дар предвидения.
Все главные черты ее личности, преломленные в гумилевс-ких стихах, легко укладываются в
пределы «купальской» символики, так что «ахматовский миф», как и положено любому мифу,
имел календарную приуроченность. Но когда именно Ахматова стала считать настоящим днем
своего рождения не 11, а 23 июня? Можно было бы предположить, что после того, как в 1918
году
Советская
Россия
приняла
декрет
«О
введении
в
Российской
республике
западноевропейского календаря». Однако, судя по стихотворению 1913 года «Со дня Купальницы-Аграфены...» Ахматова уже тогда соотносила свой день рождения с 23 июня, самовольно
отодвинув его на 12 дней позже.
Эта свобода обращения с датами позже станет ее характерной авторской чертой: известно,
как часто Ахматова меняла даты под своими стихами, соотнося их то с одними, то с другими
событиями своей личной жизни или сознательно дезориентируя читателя в силу тех или иных
(иногда вынужденных) обстоятельств. Но что могло способствовать сознательному изменению
даты своего рождения? С одной стороны, это было одним из важнейших моментов построения
собственной духовной биографии, в которой большое значение имел годовой календарный круг
и символика дат внутри него. С другой — Ахматовой вполне могли быть известны споры вокруг
календаря, которые велись в России на протяжении всей второй половины XIX века.
Напомню, что юлианский календарь был введен Петром Великим в декабре 7208 (1699)
года. Григорианский календарь получил распространение в странах католического Запада при
сильном сопротивлении Православной Церкви, которая считала его латинской ересью. В 1899
году, когда Ахматовой было 10 лет, Русское астрономическое общество создало комиссию по
вопросу об изменении юлианского календаря. Правда, речь шла не столько о переходе на
григорианский календарь, сколько о введении календаря, предложенного профессором
Дерптского университета астрономом И. Г. Меллером (его календарь почти ничем не отличался от
григорианского, но претендовал на большую точность). Входивший в состав комиссии 1899 года Д.
И. Менделеев высказался за обсуждение проекта И. Г. Меллера, но под давлением оберпрокурора св. Синода К. П. Победоносцева Академия наук объявила реформу календаря
преждевременной14.
Если Аня Горенко передвинула свой день рождения на 12 дней позже (а в XIX веке разница
между новым, григорианским и старым, юлианским календарями составляла именно 12 дней), то,
следовательно, она выбрала для своей биографии европейский календарь. Но поскольку годовой
круг российского календаря оставался юлианским, ее самовольный внутренний отсчет
собственной родословной падал на Купальскую ночь и день св. Агриппины, известной по
русскому народному календарю как Аграфена-Купальница. Забегая вперед, отмечу: этот день —
канун Рождества Иоанна Предтечи, что впоследствии способствует возникновению одного из
центральных мотивов «Поэмы без героя» (см. ниже главу 5).
Привязка даты своего рождения к Купальской ночи для Ахматовой была полна
символического смысла. Она сознательно вдвигала свое происхождение в европейский
календарь, давая английский перевод русскому выражению «Иванова ночь»: «В ночь моего
рождения справлялась и справляется древняя Иванова ночь — 23 июня (Midsummer Night)»
(CC-2, 2, 239). Имея в качестве патронессы латинскую Агриппину (русскую АграфенуКупальницу) и возводя свой род к чингизидам, можно было лично дистанцироваться от
чеховских восьмидесятых годов и ощутить себя на той глубине, где у русской «Ивановой ночи»
и английской, шекспировской «Midsummer Night”* общие корни. Впоследствии в «Поэме без
героя» это аукнется мотивом «родословной», которую Ахматова назовет «солнечной и
баснословной». Но об этом речь еще впереди.
Ахматова, как и Гумилев, в начале своего пути находилась в мощном, всепроникающем поле
влияния символизма с его способностью прекращать «психологию» в «миф» и обратно. Так что
стремление осмыслить свой личный психологический опыт архетипически у Ахматовой было равно
и субъективной, и эпохальной чертой. И 1907 году в письме к С. В. фон Штейну она признавалась
в своем увлечении образом античной Кассандры, говоря, что «одной гранью души» примыкает к
«темному образу этой великой в своем страдании пророчицы» 15 . Это была одна из первых
попыток осмыслить собственное «я» через мифологического двойника. Тогда Ахматова,
естественно, не могла предполагать, что Осип Мандельштам назовет одно из посвященных ей
стихотворений — «Кассандра».
Таким же мифологическим двойником она считала и «деву Луны» в стихах Гумилева. В одном
из ранних ахматовских стихотворений «На руке его много блестящих колец...» (1907),
лирическая героиня носит на руке кольцо, которое ей сковал «месяца луч золотой». А в другом
(1908) она видит любимого человека ночью растворенным в таинственном свете луны:
Улыбнулся, вставши на пороге,
Умерло мерцание свечи.
Сквозь него я вижу пыль дороги
И косые лунные лучи.
Два стихотворения 1909 года, написанные от лица влюбленного мужчины, начинаются своего
рода лунной эмблемой — «Герб небес, изогнутый и древний...» и «По полу лучи луны
разлились...». А стихотворение того же 1909 года, которым Ахматова открыла свою первую книгу
«Вечер», тоже оказывалось в русле лунной символики:
Молюсь оконному лучу –
Он бледен, тонок, прям.
* «Midsummer Night» — название комедии Шекспира, которая в русской традиции
закрепилась как «Сон в летнюю ночь» (прим. ред.).
«Оконный (то есть лунный) луч» выступает здесь, в сущ-I ности, авторским двойником,
поскольку награжден эпитетами, которые могут характеризовать саму Ахматову — «бледен, тонок, прям».
Взаимоотношения лирической героини со своим возлюбленным предстают в одном из
стихотворений 1911 года расчисленными по лунному календарю:
Меня покинул в новолунье
Мой друг любимый. Ну так что ж!
В стилизованной балладе, условно датируемой 10-ми годами, «мертвый муж» ревниво
приходит в лунную ночь к живой жене читать адресованные ей любовные письма:
Если в небе луна не бродит,
А стынет — ночи печать...
Мертвый мой муж приходит
Любовные письма читать.
Иными словами, брак продолжается после смерти одного из супругов, потому что скреплен
«печатью» луны.
В стихотворении 1921 года, посвященном О. А. Глебовой-Судейкиной, прототипу будущей
Путаницы-Психеи из «Поэмы без героя» и лирическому двойнику автора, Ахматова объединит
мотивы Кассандры и девы Луны:
<i>Пророчишь</i>, горькая, и руки уронила,
Как <i>лунные</i> глаза светлы, и напряженно
<i>Далеко видящий</i> остановился взор.
(курсив мой. — В. М.)
«Лунные глаза» здесь выступают атрибутами Кассандры — знаком несчастья и ясновидения.
Трансформацией лунных мотивов можно считать и «русалочьи» мотивы в стихотворениях
1911-1913 годов:
У пруда русалку кликаю,
А русалка умерла.
(«Я пришла сюда, бездельница...» — 1911);
...И там колеблется камыш
Под легкою рукой русалки.
(«...И там колеблется камыш...» — 1911);
Ива, дерево русалок,
Не мешай мне на пути!
(«Знаю, знаю, снопа лыжи...» — 1913).
Известно, что луна и русалка в купальской мифологии тесно связаны друг с другом 16. У
Ахматовой эти мотивы выступают как знаки любовной неприкаянности. Русалочий подтекст имеет
и самоидентификацию лирической героини с шекспировской Офелией в диптихе «Читая
«Гамлета»» (1909), (записано и дописано в 1945-м), поскольку Офелия — утопленница
(русалками, по народным поверьям, становились утопившиеся девушки).
Если учесть, что античная пророчица Кассандра в христианской традиции неизбежно
должна выступать как ведьма, то можно сказать, что мотивы луны, русалки и ведьмы у Ахматовой
объединены в некий единый семантический пучок, отсылающий именно к купальской
обрядовости. И опять же подчеркну, что не последнюю роль тут сыграл Гумилев, видевший в ней
лунную деву и киевскую ведьму одновременно:
Из логова змиева,
Из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью.
<...>
Снеси-ка истому ты
В днепровские омуты,
На грешную Лысую гору.
(«Из логова змиева. — 1911).
В этих стихах мотивы «колдуньи» и «русалки» связаны с «малороссийским»
происхождением Ахматовой («из города Киева»), что ассоциативно заставляет вспомнить
южнорусские корни купальской обрядовости. Поэтическая ассоциация здесь соответствовала
психологической реальности, хотя и противоречила исторической точности.
Но ни «лунные», ни «русалочьи» мотивы так и не стали в лирике Ахматовой 10 -х годов
сквозным мифологическим сюжетом, а, следовательно, конструктивным принципом ее лирики. Их
присутствие ощущается лишь как фон или загрунтовка любовной коллизии, и это не удивительно.
Конструктивная роль архетипических схем, введенных в русскую поэзию символистами, к началу
10-х годов исчерпала свой художественный ресурс. Заговори Ахматова в своих стихах от
имени «русалки» или «Девы луны», это выглядело бы пародийно.
В самом начале своего творческого пути Ахматова мучительно искала поэтические средства
воплощения для того, что позже назовет «большой и страшной жизнью», «трагическими 05-09
годами» (ЗК, 362). Это было время ее безответного чувства к В. В. Голенишеву-Кутузову и
драматически складывавшихся отношений с Гумилевым. Одним из первых, кто точно и
безошибочно почувствовал в ее лирике присутствие форсированной трагической темы, был Вячеслав
Иванов. Но он отреагировал на это иронически, как на дань символистской моде. Ахматова
вспоминала, что когда летом 1910 года она «в первый раз» прочитала на «башне» стихотворение
— «Пришли и сказали — умер твой брат...», — он «кисло улыбнулся и сказал: "Какой густой
романтизм"» (ЗК, 80).
Отзыв Вяч. Иванова ее, по-видимому, смутил. До определенного времени (а точнее, до весны
1911 года, когда Ахматова услышала от Гумилева твердую похвалу своим стихам) она еще сама не
знала, что из написанного хорошо и что плохо. Посылая в октябре 1910 года Валерию Брюсову на
отзыв свои стихи, она смиренно спрашивала, стоит ли ей «заниматься поэзией» (Летописъ-1,
38). Речь шла о вполне подражательном «Тебе, Афродита, слагаю танец...» и уже отмеченном
печатью ахматов-ской индивидуальности «Жарко веет ветер душный...», строки из которого («На
стволе корявой ели // Муравьиное шоссе») восхитили Пастернака (Воспоминания, 139). Оба
были написаны в январе 1910 года.
Позже Ахматова вспоминала, что известность ей принесли «стихи зимы 1910-1911 г.» (ЗК,
626), в которых она нашла собственную манеру и интонацию. Когда в марте 1911 года она снова
читала свои стихи на «башне», реакция Вячеслава Иванова была уже совершенно другой — если
не восторженной, то, во всяком случае, максимально благожелательной. Об этом можно судить
по записи П. Н. Лукницкого: «АА говорит с иронией, что сильно сомневается, чтоб "Вечер" так уж
понравился В. Иванову, и было даже чувство неловкости, когда так хвали ли "девчонку с
накрашенными губами"...
А делал это все В. Иванов со специальной целью уничижить как-нибудь Николая
Степановича, уколоть его <...>» (Лукницкий-1, 192)17.
Ахматова была человеком недоверчивым и трезвым, что позже прозвучит во второй «Северной
Элегии» («О десятых годах»), где она вспоминает свое триумфальное вступление в литературу
именно с чувством глубокого недоверия:
Передо мной, безродной, неумелой,
Открылись неожиданные двери,
И выходили люди и кричали:
«Она пришла, она пришла сама!»
А я на них глядела с изумленьем
И думала: «Они с ума сошли!»
Тем не менее, оценка Вячеслава Иванова в глубине души была воспринята ею всерьез,
иначе бы она не запомнила ее на всю жи.чиь и не зафиксировала в записных книжках на склоне
лет. Да и Вячеслав Иванов, безусловно, ощутил прозвучавшую в стихах этой «девчонки» новизну.
Слух у него был изощреннейший.
Признание Липы Ахматовой литературными ценителями и «мэтрами», а затем и широчайшим
кругом [читателей] таило в своей основе парадокс. Он заключался вовсе не в том, что никому не
известная Анна Андреевна Горенко стала Анной Ахматовой (шаг из безвестности к славе —
типовой момент биографии любого крупного художника), а в том, что, внутренне ощущая себя
«Кассандрой», «девой Луны», «киевской ведьмой», внешне она предстала перед читателями и
критиками, по выражению Валерия Брюсова, «характерно современной женщиной»18,
«литературной русской дамой двадцатого века» (Мандельштам, 2, 295)19. Но как раз в этом и
крылся секрет неожиданной новизны ее стихов для русского читателя, воспитанного
символистами.
Протоиерей Александр Шмеман в своем Слове на собрании памяти Ахматовой в Нью-Йорке
(март 1966 года) сказал об этом так: «В мире, насыщенном сложной и высокой поэзией русского
«серебряного века», вдруг прозвучало не только что-то очень простое, но в своей простоте как
будто снижавшее высокий, почти мистический тон, усвоенный русской поэзией, начиная с
Владимира Соловьева и пророческих «зорь» раннего символизма. Женская лирика говорила о
любви, влюбленности, об изменах и верности, о боли и радости, о встрече и разлуке»20.
Но для того чтобы это «что-то простое» все-таки «прозвучало», нужна была какая-то
особая система выразительных средств, непохожая на то, к чему уже приучили русского читателя
символисты. Ахматовой пришлось начать не с архетипического, зорко угаданного в ней
Гумилевым, а с непосредственного и очень конкретного психологического опыта «характерно
современной женщины». Именно это и поразило даже самых искушенных читателей 10-х годов.
2. «Особенная острота»
20 апреля 1924 года в Политехническом музее в Москве состоялся вечер Ахматовой. Во
вступительном слове Леонид Петрович Гроссман точно сказал о логике восприятия ахматовской
поэзии современниками:
«Накануне роковой переломной эпохи европейской истории, за два года до начала мировой
войны, в русской литературе, только что похоронившей Льва Толстого и уже подготовлявшей
первые битвы воинствующего футуризма, произошло событие, смысл которого раскрылся нам
лишь гораздо позже. В обильной жатве стихотворных сборников протекавшего поэтического
сезона в самом начале 1912 года вышла тоненькая книга стихов в серой обложке, носившая
непритязательное заглавие "Вечер" и помеченная еще неизвестным именем Анны Ахматовой.
<...>
К новой поэтессе отнеслись с глубоким вниманием великого предчувствия и радостной
надежды. И нужно признать, что :>та первая пора русской критики об Ахматовой была наиболее
счастливой для нее по непосредственности своих оценок, по отсутствию привходящих тенденций,
по свежести своего взгляда, наконец, и по своему стремлению просто и отчетливо запечатлеть
пленительный облик нового поэта.
Русская критика вскоре сошла с этого пути. Ахматова, как каждое выдающееся явление в
литературе, быстро стала предметом кружковых поэтических распрей. Долгое время о ней
принято было говорить в непременной связи с вопросом о ликвидации символизма, всячески
противопоставляя ее манеру поэтическим приемам старшего поколения. При этом настой чиво
выдвигалась программная роль поэтессы, ее значение в качестве знамени народившегося акмеизма.
Глубоко самоценными лирическими фрагментами Ахматовой широко пользовались для иллюстрации
теоретических манифестов новой школы с подчеркнутой целью показать символистам, как
устарела их поэтика.
Затем наступила другая полоса оценок. Анна Ахматова стала предметом прилежного изучения
филологов, лингнистов, стиховедов.
Сделалось почему-то модным проверять новые теории языковедения и новейшие
направления стихологии на "Четках" и "Белой Стае". Вопросы всевозможных, сложных и трудных
дисциплин — семантики, семасиологии, речевой артикуляции, стихового интонирования — начали
разрешаться специалистами на хрупком и тонком материале этих замечательных образцов
любовной элегии. <...>
И, наконец, в самое последнее время поэзия Ахматовой стала предметом обсуждения со
стороны своей социальной природы и общественной стоимости. <...>
Все это могло бы затуманить, затемнить, быть может даже несколько исказить подлинный
облик поэтессы, если бы она не оказалась как-то над этими спорами. Пока длились программные
диспуты акмеистов с символистами, пока строились диссертационные опыты филологов, пока
полемизировали левые критики, поэтесса как-то неощутимо и незримо росла перед нами,
поднималась все выше и выше над этими прениями школ, эрудитов, журналистов. И мы
неожиданно увидели, как имя Анны Ахматовой на наших глазах облеклось венцом той славы,
которую поэтесса не искала, считая ее докучной погремушкой, — и которая все же остается для
целой эпохи русской поэзии самым подлинным и самым значительным событием» 21.
Л. П. Гроссман коснулся одного из наиболее заметных парадоксов литературной судьбы
Ахматовой. Выйдя к читателю со стихами, которые сама впоследствии определит как жанр
«любовного дневника» (ЗК, 253), она вдруг оказалась в центре литературной полемики 10-х
годов и филологических споров 20-х. При этом содержательная сторона ее лирики совершенно
заслонилась формальной новизной, то есть, говоря структуралистским языком, план выражения
оказался куда более важным, чем план содержания. Для читателей же главной ценностью были
сами стихи. Этот разрыв между восприятием читателей и критиков сама Ахматова чувствовала
глубоко, иначе бы не запомнила так крепко фразу, сказанную Федором Сологубом: «Критика
вовсе не собиралась признавать Ахматову, ее принудили к этому читатели» (ЗК, 93).
В какой мере Ахматова «Вечера» и «Четок» вписывалась в принципы новой поэтической
школы — акмеизма, — вопрос далеко не праздный. 18 февраля 1912 года на заседании Общества
ревнителей художественного слова Николай Гумилев и Сергей Городецкий заявили о разрыве с
символизмом, а в начале марта вышла первая книга Ахматовой «Вечер», которая не могла не
оказаться аргументом в начинающейся литературной полемике с символизмом. В силу
сложившейся ситуации Ахматовой приходилось играть роль поэта, чья конкретная художественная практика должна продемонстрировать основополагающие принципы акмеизма и, так
сказать, жизнеспособность его теоретических посылок. Вот почему в ноябре того же года
акмеистический ежемесячник «Гиперборей» рекомендовал стихи Ахматовой следующим образом:
«В погоне за великим и пророческим русская лирика последних лет забывала самое простодушную Психею, со всеми горестями и радостями, которые чинит ей современность» 22. Эта
рекомендация перекликалась с известной декларацией Гумилева «Наследие символизма и акмеизм», в которой говорилось о «самоценности каждого явления, не нуждающейся ни в каком
оправдании извне» 23. «Тишайшая» и «простая» Ахматова оказалась на переднем крае войны с
символизмом.
Осознавала ли она сама эту роль? Думается, что да, хотя вслух нигде и никогда о ней не
заявляла. Из записных книжек Ахматовой хорошо видно, что она не простила символистской
критике, и особенно окружению Вячеслава Иванова, организованной «кампании по уничтожению
акмеизма». Ход этой кампании виделся ей в весьма драматическом освещении: «Борьба с
занявшими командные высоты символистами была делом безнадежным. Они владели огромным
опытом литературной политики и борьбы, мы и понятия обо всем этом не имели» (ЗК, 376). Роль,
сыгранную акмеизмом в истории русской поэзии, Ахматова склона была оценивать чрезвычайно
высоко. О докладе В. М. Жирмунского, посвященном акмеистам, который она слушала в 1916 году
на заседании петроградского Неофилологического общества, она сказала лаконично и
выразительно — «первое настоящее об акмеизме» (ЗК, 377). Думается, она была знакома не
только со статьей «Преодолевшие символизм», написанной на основе этого доклада и
опубликованной в журнале «Русская мысль» (декабрь 1916-го), но и с более поздней его работой
«Два направления современной лирики», увидевшей свет в «Жизни искусства» (январь 1920го). Там В. М. Жирмунский писал об акмеизме как о «глубочайшем переломе поэтического
чувства, быть может еще более глубоком, чем переход от лирики восьмидесятых годов к искусству
символистов»24. В 1963 году Ахматова весьма благосклонно отнеслась к утверждению Д. Е.
Максимова о том, что ее книга «Четки» сыграла «совсем особую роль в истории русской
поэзии», став «надгробным камнем на могиле символизма» (ЗК, 376). Ей это явно льстило.
Ахматовой нравилось мандельштамовское определение акмеизма как «тоски по мировой
культуре». Она хотела видеть в акмеизме не просто поэтическую школу, но и нравственную
позицию, которой, по ее мнению, недоставало у символистов: «А еще что такое акмеизм? —
Чувство ответственности, кот<орого> у символистов вовсе не было» (ЗК, 650). Когда П. Н. Лукницкий посетовал на то, что из акмеизма мало вышло, она категорично возразила: «Мало вышло?
Уже Гумилева и Мандельштама — достаточно» (Лукницкий- 1, 205).
Однако там же П. Н. Лукницкий запечатлел общий ход своего разговора с Ахматовой об
акмеизме, из которого явствует, что она сильно сомневалась в существовании акмеистической
поэтики и, следовательно, акмеизма как поэтической школы. К этому же можно добавить
свидетельство Сергея Витальевича Троцкого: «Помню ее слова об акмеистах (передаю точно): "Я
собственно ничего не думаю об этих теориях и на собраниях молчу, но меня сажают
торжественно и считают видной представительницей"»25.
Не следует забывать, что Николай Владимирович Недоброво, к оценкам которого она
внимательно прислушивалась, к акмеизму отнесся весьма скептически. Об этом достаточно
красноречиво говорят записи П. Н. Лукницкого:
«Большой разговор — о Цехе, об акмеизме, о том, что такое акмеизм... Недоброво: акмеизм —
это личные черты творчества Николая Степановича... Чем отличаются стихи акмеистов от стихов,
скажем, начала XIX века? Какой же это акмеизм? Реакция на символизм, просто потому, что
символизм под руку попался.
Николай Степанович — если вчитаться — символист. Мандельштам? — его поэзия — темная, не
понятная для публики, византийская... при чем же здесь акмеизм?
А. А. Ахматова — те черты, которые ей дают Эйхенбаум и другие — эмоциональность,
экономия слов, насыщенность, интонация — разве все это было теорией Николая Степановича?
Это есть у каждого поэта XIX века, и при чем же здесь акмеизм?» (Лукницкий, I, 204).
По-видимому, в 1910-е года Ахматова склонна была считать себя стоящей вне всяких
школ. Цитированный выше С. В. Троцкий заметил по поводу ее признания: «Эти слова кололи
не только акмеистов, но и всякое "направление", "школу" и т. п. » 26. Е. Г. Эткинд в предисловии к
книге В. М. Жирмунского «Творчество Анны Ахматовой» (Л., 1973) , говоря о его докладе
«Преодолевшие символизм», обратил внимание на фразу, которой Ахматова оценила
докладчика: «Он прав!». И справедливо заметил по этому поводу:
«Доклад в университете завершался чрезвычайно ответственной фразой, поворачивавшей в
ином направлении оценку акмеизма: "... если бы Александр Блок владел искусством выразительного слова в менее совершенной форме, чем младшие "акмеисты", он все же был бы
неизмеримо значительнее их, как поэт, дающий предчувствие до конца не воплощенных и невоплотимых душевных миров огромной напряженности и неизмеримого протяжения".
Вот после какой фразы Анна Ахматова воскликнула: "Он прав!"»27.
Можно сослаться и на запись японского исследователя Кэндзо Наруми, разговаривая с
которым в 1931 году, Ахматова заявила: «Поэтическое поле акмеизма крайне ограничено; акмеизм сосредоточен в СПб, т. е. это явление — местное, и, можно сказать, что он родился и умер
вместе с Гумилевым» 28.
Таким образом, желание Ахматовой видеть в акмеизме эпохальное явление вступало в
противоречие с сознанием его «ограниченности», и в разное время то одно, то другое брало
верх. Но в любом случае собственное место в истории акмеизма ей виделось значительным. Она
была твердо убеждена, что акмеизм вырос почти исключительно из наблюдений Гумилева над ее
«стихами тех лет, так же как над стихами Мандельштама» (ЗК, 251).
Причем Ахматова подчеркивала, что в отличие от Гумилева и Мандельштама, испытавших в
юности сильнейшее влияние символизма, ее творчество от этого влияния было свободно. В
«Записных книжках» Ахматова писала о себе в третьем лице так: «<...> и она стала акмеисткой
пот<ому>, что стихи ее не носили уже черт, присущих символизму, и что сам акмеизм слагался
в сознании Гумилева под влиянием этих стихов, кот<о-рые> возникали у него на глазах» (ЗК,
452). Иными словами, она полагала, что была тайной вдохновительницей акмеизма, а акмеизм
явился той литературной средой, которая способствовала алхимическому превращению Анны
Горенко-Гумилевой в Анну Ахматову.
Однако читателям 10-х годов, воспринявшим ее стихи как «любовный дневник», было
неважно, является ли автор этого «дневника» акмеисткой. Их ошеломляла кажущаяся простота
и доступность сказанного. В 1919 году Сергей Рафалович вспоминал, как Ахматова «не без
горькой иронии говорила о том, что своеобразная любовная лирика "Вечера" и "Четок" пришлась
по душе "влюбленным гимназисткам"» 29. По той же самой причине и критикам нечего было сказать
о психологической коллизии ахматовских стихов в силу ее очевидной банальности. Так что в
итоге новизну пришлось искать исключительно в средствах их выразительности.
Ранняя Ахматова поражала как критиков, так и читателей демонстративным отсутствием
сложной и утонченной метафоричности, к которой их приучил символизм. Ахматова воспринималась как поэт, рискнувший (сознательно или интуитивно — неважно) быть простым на фоне
общепринятой сложности. Это было неожиданно и смело, о чем в 1916 году хорошо сказал А. К.
Топорков, писавший, что она «не хочет быть пророком и вождем, и это в эпоху всевозможных
широковещательных
фраз
и
синтезов,
мифотворчества,
мистического
анархизма,
богостроительства. Для этого нужна если не смелость, то, по крайней мере, независимость
суждений»30.
Вот почему первые рецензенты Ахматовой отреагировали на ее поэзию как исключительно
психологический феномен и, не сговариваясь, единодушно отмечали в них «остроту»: «Ахматова
умеет говорить так, что давно знакомые слова звучат ново и остро» (Леонид Канегиссер) 31;
«Стихи г-жи Ахматовой весьма дороги нам своей особенной остротой» (Валерий Брюсов) 32. Р. Д.
Тименчик справедливо заметил, что это слово стало в рецензиях 10-х «ходовым обозначением»
едва ли не главного свойства ахматовской лирики33.
В ахматовской «остроте» чудилась какая-то непонятная, но несомненная художественная
сила. Так, процитированный выше Л. Канегиссер, будущий убийца председателя Петроградской
ЧК Моисея Урицкого, на банкете в честь шлиссельбуржцев, по свидетельству Ахматовой, сказал:
«Если бы мне дали "Четки", я бы согласился провести столько времени в тюрьме, как наш
визави» (ЗК, 377), — имея в виду сидящего напротив знаменитого народовольца Германа
Лопатина.
Кроме явного отказа от символистской метафоричности, в первых книгах Ахматовой был
ослаблен свойственный символистской лирике принцип циклизации. Лирический цикл был
принципиально новым жанровым образованием, на основе которого строилась <i>книга
стихов</i>, в которой каждое стихотворение выступало как момент общей поэтической
концепции. При всей установке на построение <i>лирической книги</i> ни в «Вечере», ни в
«Четках», ни даже в «Белой стае» циклы не играли определяющей конструктивной роли, как,
например, в каждом из томов блоковской лирической «трилогии». Ахматовские стихи
группировались по разделам: в первой книге их было два, во второй — четыре, в третьей — пять.
И только с «Нечета» циклизация становится осознанным структурным принципом. В основном
ранние стихи Ахматовой носили принципиально фрагментарный характер, отличаясь, по словам В.
В. Виноградова, «единством замкнутого мгновения» 34.
Однако отказ от последовательной циклизации у Ахматовой не приводил к лирическому
импрессионизму, который на заре символизма культивировался Бальмонтом и Брюсовым.
Читатели и критики интуитивно чувствовали, что эти обрывочные, фрагментарные
стихотворения претендуют на какое-то высшее, объективное единство, но принципы этого
единства не улавливались. Ахматовское определение жанра собственной лирики периода «Четок»
как «любовного дневника» было ориентировано на читателя, твердо знавшего, что «Четки» —
это про любовь. Для того, кто захотел бы понять ее место в большой русской поэзии, это было
явно недостаточным.
Первым, кто попытался определить жанровую природу лирического мышления Ахматовой
в целом и взглянуть на ее стихи не как на сумму отдельных фрагментов, отражающих «радости
мига», а как на устойчивое целое, был Валерий Брюсов. Он заметил, что в стихах «Вечера»
развивается «как бы целый роман, героиня которого — характерно современная женщина» 35 .
Фрагментарность и обрывочность сразу получили жанровое оправдание: коль скоро книга
стихов представляет собой <i>роман</i>, то по отношению к нему каждое отдельное стихотворение есть своего рода новелла, или как выразится позже В. В. Виноградов, «лирическая
повесть о застывшем миге» 36.
Аналогия с романом возникла вряд ли случайно. Ахматова вышла к читателю в тот момент,
когда перед символизмом встала проблема преодоления субъективности лирики и следствие этого
— поиска так называемой «большой формы», которая в русской литературе XIX века
традиционно отождествлялась с романом. Ощущение исчерпанности лирики сформулировал в
1911 году Блок: «"Стихи в большом количестве — вещь невыносимая", — очень справедливо.
Надоели все стихи — и свои. <...> Скорее отделаться, закончить и издание "собрания" — и не
писать больше лирических стишков до старости» (Блок, ЗК, 182) 37.
Блок в это время готовил «Собрание стихотворений», которое назвал «трилогией», и,
ориентируясь на пушкинский роман в стихах, прямо используя в примечаниях к первой книге
пушкинские определения — «магический кристалл», «даль свободного романа» (Блок, 1,560).
Таким образом, с начала 10-х годов он настойчиво стремился уйти от символистских архетипических схем к конкретному психологическому опыту, выражением которого ему представлялся
«роман». «<...> Мы ругали "психологию" оттого, что переживали "бесхарактерную" эпоху, как
сказал вчера в Академии Вяч. Иванов, — писал он в дневнике 1911 года. — Эпоха прошла, и,
следовательно, нам опять нужна <i>вся</i> душа, все житейское, весь человек. <...> Возвратимся
к психологии» (Блок, VII, 79). Одновременно с подготовкой «Собрания стихотворений» Блок
работал над поэмой «Возмездие», пытаясь вернуть в современную поэзию утраченную ею фабулу.
При этом он хорошо понимал проблематичность превращения лирики в «роман», осторожно
оговариваясь: «Испытывая свои художнические способности на других литературных формах, я
еще не настолько отошел от своих лирических стихов, чтобы забыть их, но, однако, настолько,
что получил возможность и, как мне кажется, право отнестись к ним с большей объективностью»
(Блок, ЗК, 182).
В итоге принципы жанрового построения блоковской «трилогии» оказались менее всего
эпическими: стихотворение — цикл — книга стихов. Никакого сюжета и, следовательно, повествования в блоковской «трилогии» не было. «Большой формой», вмещающей «человека» и
«эпоху» становилась организованная в циклы и «книги» блоковская лирика.
Современная критика увидела в Ахматовой поэта исключительно психологического склада,
поскольку в самом символизме уже была очевидна тоска по житейской элементарности, по
фабульности. Вот почему рецензенты первых ахматовских книг, игнорируя их «акмеистичность»,
предпочитали писать о психологической «остроте» и даже осторожно замечали, что, возможно,
это станет возвращением в русскую поэзию утраченных реалистических начал. А. Долинин
пошел еще дальше, предположив, что «с акмеизмом, если ему суждено окрепнуть, снова
выдвинется в литературе то содержание, которое обычно разумеют под реализмом» 38.
Логическим развитием этой мысли, в сущности, и стал доклад В. М. Жирмунского
«Преодолевшие символизм», в котором говорилось, что стихи Ахматовой — это «рассказ о явлениях внешнего мира», «большая душевная повесть» 39. Поворот поэзии к реализму мыслился, таким
образом, на путях ее эпи-зации, однако наиболее проницательные современники Ахматовой
пользовались аналогией с реалистической прозой весьма осторожно. Осип Мандельштам,
утверждая, что «генезис Ахматовой весь лежит в русской прозе, а не в поэзии», отнюдь не имел в
виду повествовательность и фабулярность ее стихов: «Вся эта форма, вышедшая из
асимметричного параллелизма народной песни и высокого лирического прозаизма Анненского,
приспособлена для переноса психологической пыльцы с одного цветка на другой»
(Мандельштам, 2, 239).
Когда Борис Пастернак в стихотворном послании Ахматовой писал о том, что в ее первых
книгах «крепли прозы пристальной крупицы», то в рецензии на «Избранное» 1943 года он, и
сущности, расшифровал эту формулу, говоря о «редкостном чутье подробностей», о зрительных
«чертах и частностях» (Пастернак, 4,392)40 Иными словами, Пастернак использовал аналогию с
прозой для характеристики стиля, но отнюдь не жанра мхматовской лирики. Как и
Мандельшьтам, он по-чунстновал в стихах Ахматовой отказ от концептуальной роли
метафоры, игравшей столь важную роль в поэзии символизма.
И все же мысль о романном начале как жанровой черте ее мирики оказалась для критиков и
позднейших исследователей Ахматовой очень привлекательной.
Так, в 1918 году Вас. Гиппиус писал: «Я вижу разгадку успехи и влияния Ахматовой <...> и
вместе с тем объективное иначение ее лирики в том, что эта лирика пришла на смену умершей
или задремавшей форме романа. <...>
Потребность в романе — потребность, очевидно, насущная. <...> - И нем увековечивались и
современные сердца с непреходящими особенностями, и круговорот идей, и неуловимый фон
милого быта. Ясно, что роман помогает сознательно жить. Но роман и прежних формах, роман,
как плавная и многоводная река, стал встречаться все реже, стал сменяться сперва стремительными ручейками ("новелла"), а там и мгновенными гейзерами. <...> В этом роде искусства , в
лирическом ромапе-мини-нтюре, в поэзии "гейзеров" Анна Ахматова достигла большого
мастерства»41.
А через год Б. Эйхенбаум в статье с красноречивым названием «Роман-лирика» утверждал,
что Ахматова преодолевает мирику как малую форму на пути обращения к эпической фабул
мюсти: «Тут — не просто собрание лирических новелл, а именно роман, с параллелизмом и
переплетением линий, с перебоями и отступлениями, с постоянством и определенностью
действующих в нем лиц». Он предсказывал даже, что на этом пути может возникнуть «новый
эпос, новый роман» 42.
Косвенный вклад в концепцию «романа-лирики» внесла статья Ю. Н. Тынянова о Блоке.
Пользуясь термином «лирический герой» и говоря о том, что «Блок — самая большая лирическая
тема Блока», он замечал: «Это тема притягивает как тема романа еще новой, нерожденной (или
несознанной) формации»43. С тех пор ахматовские стихи неизменно воспринимались как роман
«новой формации». А позднее — не без воздействия бахтинской концепции романа — стало
принято говорить о «романизации» ахматовской лирики 44.
Однако уже в 1914 году Валерий Брюсов обескураженно зафиксировал отсутствие
дальнейшего развития «романного» сюжета в «Четках», заявив, что «поэтический горизонт
"Четок" почти тот же, что и "Вечера"» 45 . А послереволюционная критика едва ли не
единодушно (хотя и вряд ли справедливо) отмечала поразительную неизменность лирической
манеры Ахматовой. В если Михаил Кузмин осторожно указывал, на «повторение излюбленных
тем и приемов»46, то Э. Голлербах достаточно бесцеремонно писал, что в «Подорожнике» и «Anno
Domini» видны лишь «варианты и реминисценции предыдущих книг» 47. И уж совсем
самоуверенно звучал вердикт Э. Миндлина о том, что «Ахматова-поэтесса завершила путь»48.
Эволюция лирики Ахматовой не подтверждала мысль о ее романной природе, и поэтому в
своей книге об Ахматовой (1923) Б. М. Эйхенбаум вынужден был констатировать, что «несмотря
на свое тяготение к сюжету, Ахматова пока не вышла за пределы малых форм»49. Таков же был и
более поздний диагноз В. М. Жирмунского, писавшего, что ее «индивидуальное художественное
сознание» не смогло «найти адекватного выражения в традиционных формах "объективного"
эпического повествования»50.
Несостоявшаяся концепция «романа-лирики» заставляла заново ставить вопрос о
жанровой природе ахматовской лирики. Р. Д. Тименчик предложил видеть новизну Ахматовой
в созданном ею жанре лирического фрагмента. Он писал, что «читатель 10-х годов <...>
остро воспринял "обрывочную форму" Ахматовой, то есть ощутил ее как новаторство». И резюмировал, что «преодолеть это ощущение разъятости текста могло только очень сильное
объединяющее начало». Таким «объединяющим началом» он назвал «стилистическое <...>
единство ее лирики» и единство «литературной личности» Ахматовой51.
Р. Д. Тименчик в данном случае использовал идею о жанровом новаторстве Тютчева,
сформулированную Ю. Н. Тыняновым в статье 1923 года «Вопрос о Тютчеве». И хотя он не ссылается на эту работу, зависимость от нее более чем очевидна. Напомню, что Ю. Н. Тынянов
определял тютчевскую лирику как «художественную форму фрагмента», возникшую в результате
разложения монументальных жанров XVIII века: «Фрагментарность, малая форма, сужающая
поле зрения, необычайно усиляет все стилистические ее особенности. И прежде всего, словарный,
лексический колорит»52.
На первый взгляд, мысль Ю. Н. Тынянова кажется удивительно приложимой к особенностям
лирики Ахматовой. С одной стороны — обрывочность, незавершенность, с другой — заострение
«лексического колорита». Однако если обратиться к общему смыслу тыняновской концепции, то
она мало что объясняет в жанровой природе лирики Ахматовой. Напомню, что Ю. Н. Тынянов
исходил из мысли о движении современной литературы в сторону рождения новых больших
форм: «Тютчев — предельное разложение монументальных <i>форм</i>; и одновременно Тютчев —
необычайное усиление монументального <i>стиля</i>. Мы отошли, отходим от фрагментарных
форм, Мы движемся к созданию форм грандиозных — и в этом смысле мы ближе к XVIII веку, чем
к медленному веку малой лирической формы»53.
Лирика Ахматовой в этот прогноз не вписывалась, неизменно оставаясь «отрывочной» и
«фрагментарной». Это заставляет искать какую-то иную точку зрения на ее жанровую природу
и, прежде всего, на то, что объединяет эти «фрагменты» в единое целое и придает им
«монументальность» и «грандиозность».
3. «Возможность звать голосом»
Существует устойчивое мнение о том, что поворотным пунктом в становлении ранней
Ахматовой стало знакомство со стихами Иннокентия Анненского. Одна из версий рассказа об ее
первом знакомстве с «Кипарисовым ларцом» в передаче Л. К. Чуковской выглядит так: «Я
пришла один раз к К. Г. (<i>Коле Гумилеву — примеч. Л. К. Чуковской</i>). Он кончал срочную
корректуру. "Посмотрите пока эту книгу", — сказал он мне и подал только что вышедшую книгу
Анненского. И я сразу перестала видеть и слышать, я не могла оторваться, я повторяла эти сти хи
днем и ночью... Они открыли мне новую гармонию» (Чуковская-1, 122).
В ахматовских «Записных книжках» эта версия, зафиксированная в 1959 году, имеет
несколько иной вид:
«Величайшим событием считаю выход "Кипарисового ларца", кот<оторый> я прочла еще в
корректуре в брюл<ловском> зале Русского музея» (ЗК, 79).
«Затем случилось следующее: я прочла (в брюл<ловском > зале Русского музея)
корректуру "Кипарисового ларца" (когда приезжала в Петербург <...> в начале 1910 г.) и что-то
поняла в поэзии» (ЗК, 82).
В своей книге об Ахматовой В. М. Жирмунский, цитируя ахматовские слова из «Записных
книжек» («Затем случилось следующее...»), сконтаминировал их с выпиской из Л. К. Чуковской
(«Я сразу перестала видеть и слышать, я не могла оторваться, я повторяла эти стихи днем и
ночью...Они открыли мне новую гармонию» 54) и тем самым внес свой вклад в легенду о
сильнейшем влиянии Анненского на раннюю Ахматову. В «Записках» Л. К. Чуковской речь идет
о визите к Гумилеву и нет упоминания о Брюлловском зале Русского му зея. По этой версии
получилось, что Гумилев читал какую-то «срочную корректуру», а Ахматовой дал в руки только
что вышедшую книгу Анненского. Мы можем достаточно точно установить время, о котором идет
речь — это вторая половина февраля.
Вот что пишет об этом В. Лукницкая: «На масляную неделю в Петербург приехала Анна
Горенко. Стали бывать в музеях, на концертах, но в основном Анна Андреевна проводила время у
Гумилевых. При этом Николай Степанович успевал посещать заседания "Академии", сочинять стихи, писать статьи, вошедшие в цикл "Писем о русской поэзии", встречаться с литературными
друзьями. Из дневника Лукницкого.
«26.02.1910 поехала (<i>А. А. Горенко — В. Л.</i>) в Царское Село к Гумилеву. Случайно
оказалась в одном вагоне с Мейерхольдом, Кузминым, Зноско и др. (ехали к Гумилеву), с
которыми еще не была знакома. Гумилев встретил их на вокзале, предложил всем ехать прямо к
нему, а сам направился на кладбище, на могилу И. Анненского. По возвращении домой
познакомил АА со всеми присутствующими (не сказав, однако, что АА — его невеста. Он не был
уверен, что свадьба не расстроится). В этот период Гумилев показал ей корректуру "Кипарисового
ларца"»55.
О том же говорит запись П. Н. Лукницкого от 22.01.1926: «А "Кипарисовый ларец"? Тоже в
1910 г., в феврале, когда Николай Степанович показал ей корректуру. Я обомлела, вос хитилась... А Коля сказал: "Ты не думала, что он такой поэт?!.."» (Лукницкий-2, 18).
«Срочная корректура», за которой Ахматова застала Гумилева во время февральского визита
к нему, была, видимо, корректурой его третьей книги «Жемчуга», а поскольку она выходила в
Москве в издательстве «Скорпион», то понятен характер ее «срочности». «Кипарисовый ларец»,
вышедший 6 апреля 1910 года, естественно, в руках Гумилева быть не мог, так как рукопись
посмертной книги Анненского была отправлена в московское издательство «Гриф» в январе 1910
года, и маловероятно, что к тому времени и его корректура дошла до Гумилева. Но что же тогда
он показал Ахматовой в Брюлловском зале Русского музея?
В автобиографической заметке 1965 года Ахматова не упомянула ни о Брюлловском зале,
ни о том, что с «Кипарисовым ларцом» ее познакомил Гумилев: «Когда мне показали корректуру
"Кипарисового ларца" Иннокентия Анненского, я была поражена и читала ее, забыв все на свете»
(СС-2, 2, 237). Умолчание о Гумилеве в данном случае понятно по цензурным соображениям, но о
Брюлловском зале она могла бы и вспомнить.
Я попросил специалиста по творчеству Иннокентия Анненского Г. В. Петрову изложить свое
представление о главных обстоятельствах, предшествующих выходу «Кипарисового ларца». Вот
что она мне ответила:
«Первоначально эта книга стихов предназначалась для издательства при журнале
"Аполлон". Осенью 1909 года окончательно определился вопрос о том, что издательства при
журнале "Аполлон" не будет. 5 ноября 1909 года Анненский получает письмо от С. А. Соколова с
предложением опубликовать книгу в издательстве "Гриф". Согласие Анненского было получе но, и
в письме от 14 ноября 1909 года Соколов еще раз просит Анненского как можно быстрее
предоставить рукопись "Кипарисового ларца" в издательство. В обязанности его сына В. Кривича
входила задача перебелить рукописи перед отправкой в "Гриф". Насколько можно судить, эта
работа была выполнена Кривичем приблизительно в декабре 1909 — январе 1910 года, и
перебеленная рукопись отправлена в "Гриф".
Известно, что издательство "Гриф" работало по тем временам очень быстро. Показательный
пример — выход в свет книги Блока "Стихи о Прекрасной Даме": Блок отправил ее в издательство 2 сентября, а 29 октября уже получил "дарительные экземпляры". Известно также, что
Соколов был особо пристрастен и внимателен к оформлению выходящих в его издательстве книг,
о чем всегда вел предварительные долгие переговоры С авторами или их представителями. Но нет
свидетельств, что "Гриф" работал также и с корректурами, особенно в моменты острой
конкуренции с другими символистскими издательствами. Была ли корректура "Кипарисового
ларца" и "держал" ли ее кто-нибудь — неизвестно и вряд ли определимо, тем более, что не
обнаружена и наборная рукопись.
И все-таки, думается, можно утверждать, что какой-то список "Кипарисового ларца", с
которым работали авторы статей об Анненском-лирике, готовя их к публикации в
<i>январском</i>, № 4 журнала "Аполлон", существовал уже в декабре 1909 — январе 1910
года. Так, в статьях Волошина, и Вяч. Иванова присутствуют ссылки и цитаты из стихов
"Кипарисового ларца", а Волошин даже признается: "Когда перелистываешь страницы
"Кипарисового ларца", то убеждаешься..." (М. Волошин. Лики творчества. И. Ф. Анненскийлирик // Аполлон. 1910. № 4. С. 13). Что, собственно, "перелистывает" критик, если книга еще
не вышла в свет?
Вполне возможно, списком, которым пользовался Волошин могли пользоваться и другие,
особенно из "аполлоповского" окружения»56.
Возможно, подобный список находился и у Гумилева и в тот момент он показывал его
Ахматовой. Было ли это в Петербурге или в Царском Селе во время ее визита к Гумилеву, не
столь уж и важно. Но совершенно неверно утверждение, что «после прочтения сб. "Кипарисовый
ларец" <...> Ахматова стала считать его своим учителем» (СС-6, 1, 714). Во-первых, Брюлловский
зал Русского музея — малоподходящее место для внимательного чтения стихов Анненского, а, вовторых, зачем Гумилеву было знакомить с ними свою невесту в таком экзотическом месте, если
она регулярно бывала в это время у него дома? Впрочем, несомненно, что он это сделал именно в
феврале 1910 года.
К тому времени никакой тайны в том, что Анненский — большой поэт, а предстоящий выход
«Кипарисового ларца» значительное событие, не было. В январе 1910 года вышел 4-й номер
«Аполлона», посвященный автору «Тихих песен» и «Кипарисового ларца» и его роли в
дальнейшем развитии русской поэзии. Похоже, эта полемика совсем не затронула Ахматову ни в
январе, когда она была в Киеве, ни в феврале, когда вернулась в Петербург. Зато Гумилев, для
которого Анненский был путеводной звездой, совершенно естественно попытался заинтересовать
свою невесту стихами «Кипарисового ларца». Но вряд ли Ахматова, столь драматично
переживавшая предстоящее замужество и даже думавшая о смерти, смогла в феврале 1910 года
внутренне откликнуться на стихи Анненского.
Ни март, когда она вернулась в Киев, ни апрель, когда шла подготовка к свадьбе, ни май,
когда она с Гумилевым уехала в Париж, ни июнь, когда она переживала свое увлечение Модильяни, — не могли стать временем для такого огромного внутреннего переживания, которого
требовал «Кипарисовый ларец». Поэтому правдоподобнее всего звучит ахматовская запись, сделанная в 1965 году: «Осенью 1910 г. Гум<илев> уехал в Аддис-Абебу. Я осталась одна в
гумилевском доме <...>, как всегда, много читала <...> и сходила с ума от "Кипарисового
ларца".
Стихи шли ровной волной, до этого ничего похожего не было. <...> 25 марта 1911 г. <...>
Гумилев вернулся из своего путешествия в Африку <...>. В нашей первой беседе он, между прочим, спросил меня: "А стихи ты писала?" Я, тайно ликуя, ответила "Да". Он попросил почитать,
прослушал несколько стихотворений и сказал: "Ты поэт — надо делать книгу". Вскоре были стихи
в "Аполлоне"» (ЗК, 617).
Первый, кто заметил следы воздействия Анненского [на Ахматову], был Вячеслав Иванов,
отзыв которого о ее стихах, прочитанных в марте 1911 года на «башне», в передаче П. Н.
Лукницкого звучит так: «Вот новый поэт, открывший нам то, что осталось нераскрытым в
тайниках души И. Анненского» (Лукницкий-1, 192). Сама Ахматова позже запишет о том же
несколько иначе: «Вячеслав Иванов <...> сказал, что я говорю недосказанное Анненским,
возвращаю те драгоценн<ости>, кот<орые> он унес с собой. (Это не дословно). А дословно:
"Вы сами не знаете, что делаете наедине"» (ЗК, 93).
Но Ахматова, дарование которой развернулось только в «Четках», принесших настоящую
славу, позднее относилась к своей первой книге «Вечер» довольно сдержанно и свое зрелое
творчество отнюдь не считала обязанным влиянию Анненского. В 1926 году П. Н. Лукницкий
записал возникший у них разговор по поводу этого влияния:
«К спору: АА спросила, какие у нее традиции. Я: "Анненский..."
Не согласилась: только в детских ("Вечер"), в "Четках" нет, в "Белой стае" уже
<i>совершенно</i> нет тоже» (Лукницкий-2, 192). Не удивительно, что в том же году Ахматова
«говорила о влиянии Анненского на творчество Пастернака»: «То же дыхание. Может быть — тот
же темперамент» (Лукницкий-2, 181). Пастернак в это время для нее был поэтом если не
чужим, то достаточно далеким. Что же касается влияния автора «Кипарисового ларца» на
петербургскую поэзию десятых годов, то Ахматова склонна была отыскивать его у Гумилева. К
творчеству Анненского в 1920-е годы она относилась отнюдь не с тем пиететом, как в конце 30-х
годов. И снова сошлюсь на свидетельство П. Н. Лукницкого:
«Опять говорили об Анненском, о том, какой он "высокий", хороший, большой поэт. Он очень
поздно начал, Анненский, и АА не жалеет, что неизвестны его ранние стихи, — есть данные
предполагать, что они были очень плохими. Об отношении АА к Анненскому, о том, как она его
любит, чтит, ценит — говорить не приходится. И однако, АА его не переоценивает. Она знает, что у
него часто бывали провалы — рядом с прекрасными вещами. АА привела в пример два-три слова.
И, между прочим, АА считает, что его трилистники (система расположения) — очень неудачный,
очень декадентский прием, и АА огорчена, что В. Кривичу даже мысль в голову не пришла о
том, что следует эти трилистники разбить и расположить стихотворения в хронологическом
порядке, и только из уважения к памяти Анненского в примечаниях указать, что такое-то
стихотворение было включено в такой-то трилистник. А оставив такое расположение и не сумев
установить даты стихов, В. Кривич совершенно лишил исследователей возможности изучать
творчество Анненского (и АА привела в пример фразу о том, что часто бывает у поэтов: чем
зрелее стихи творческой жизни, тем больше увеличивается количество пэонов, и как их изучать у
Анненского, когда не знаешь дат стихов?).
АА говорила о том, что в 9 году взаимоотношения Гумилева и Анненского несомненно
вызывали влияние как одного на другого, так и другого на первого. Так, теперь уже установлено,
что в литературные круги, в "Аполлон", вообще в литераторскую деятельность втянул Анненского
Гумилев, что знакомству Анненского с новой поэзией сильно способствовал Гумилев... Известно и
раньше было, что Анненского открыл (для Потемкина, Кузмина, Ауслендера, Маковского,
Волошина и т. д.) Гумилев» (Лукницкий-1,303-304),
Хорошо видно, что Ахматову интересовал не столько Аннен-ский, сколько Гумилев. При этом
она выказала непонимание одной из самых существенных сторон «Кипарисового ларца» — его
уникальной композиции, сочтя за «декадентский прием» то, что у Анненского было глубоко
продуманным преодолением-«декадентства». Однако с Анненским у нее навсегда связалось
представление о начальном периоде своего творчества.
Мысль об исключительном влиянии Иннокентия Анненского на ее собственное творчество
оформится у нее гораздо позже — в конце 30-х годов (см. об этом ниже в главе о «Поэме без
героя»). Так что утверждения исследователей, будто Ахматова начинала как его ученица,
опирается не столько на интерпретацию ранней ахматовской лирики, сколько на ее поздние
высказывания.
В ее ранних стихах влияние автора «Кипарисового ларца» отнюдь не было всеобъемлющим
и имело четко локализуемые границы. Написанное в феврале 1911 года стихотворение «Подражание И. Ф. Анненскому» было данью благодарности поэту, который помог Ахматовой овладеть
манерой, определившей успех ее первых книг. А дата его написания лишний раз говорит о том,
что внимательная учеба у Анненского началась только после отъезда Гумилева за границу.
«Подражание И. Ф. Анненскому» позволяет увидеть, что именно Ахматова усвоила из уроков
«Кипарисового ларца»:
Возникают, стираются лица,
Мил сегодня, а завтра далек.
Отчего же на этой странице
Я когда-то загнул уголок?
И всегда открывается книга
В том же месте. И странно тогда:
Все как будто с прощального мига
Не прошли невозвратно года.
Не составляет труда отыскать образец, взятый для подражания, — стихотворение «Тоска
припоминания» из «Трилистника тоски»:
Мне всегда открывается та же
Залитая чернилом страница.
Я уйду от людей, но куда же,
От ночей мне куда схорониться?
Все живые так стали далеки,
Все небытное стало так внятно,
И слились позабытые строки
До зари в мутно-черные пятна.
Общее в этих стихах — прием овеществления лирической лмоции: память отождествляется
с книгой, страницы которой говорят свидетельствуют о неких дорогих воспоминаниях. Среди них
есть такая, которая всегда открывается в одном и том же месте, напоминая о каком-то
мучительно-незабываемом эпизоде жизни лирического «я». Смысловая и интонационная перекличка здесь несомненна:
Мне всегда открывается та же
Залитая чернилом страница...
И всегда открывается книга
В том же месте...
Но при всем бросающемся в глаза сходстве разница все же достаточно велика. У Анненского
страница, «залитая чернилом», это ночь, оставляющая человека наедине с бессонницей, памятью
и совестью. Написанное на ней сливается в «мутно-черные пятна», символизирующие
«небытность» надежд и желаний. Подражание Ахматовой лишено сложной ассоциативности и
суггестивной метафоричности Анненского. В ее стихотворении, напротив, главную роль играет
загнутый «уголок» книжного листа. Эта деталь включена в совершенно иную лирическую
структуру.
Напомню, что общим местом в определении так называемой «акмеистической» поэтики
стала так называемая «вещность». В ранних книгах Ахматовой, где огромную роль играет
интерьер, примеры подобной «вещности» отыскиваются без труда. В «Вечере» это — штора на
окне, рукомойник в комнате, драже в серебряной вазочке, чай и печенье, роза в граненом
хрустале, бабушкина тетрадь в сафьяне, портрет в овальной раме, укладка, часы с кукушкой,
старое саше, гостиная, терраса, гамак, оранжерея, сад, пруд. После «зорь» Андрея Белого и «метелей» Александра Блока лирика Ахматовой казалась критикам неоправданно узкой и потому
заслуживающей упрека.
О первых двух книгах Ахматовой писали, что «круг зрения поэтессы даже не мал — он
поистине миниатюрен» (Софья Парнок)57; что это — «поэзия игрушечного жеманства» (ИвановРазумник) 58. Леонид Канегиссер безапелляционно набрасывал портрет лирической героини
«Четок»: «Она живет в комнате, "где окна слишком узки", где на полках расставлены блестящие
севрские статуэтки, душно пахнет старое саше и не пахнут белые хризантемы и яркие георгины.
Все эти близкие предметы — ее основные понятия.
Природу понимает она только через них, небо в ее глазах, если оно тускло-голубое, — то
оно, "как на древнем выцветшем холсте"; если оно яркое, то непременно "ярче синего фаянса";
тина похожа на парчу, Булонский лес как будто нарисован тушью в старом альбоме, облачко
сереет, "как беличья распластанная шкурка"...
Какая духовная скудость, какое неумение воспринимать мир непосредственно!»59.
Позднее, в 1920-е годы лирика Ахматовой многим казалась вообще преодоленной в опыте
поколения, прошедшего революцию и войну. «И не надо требовать от Анны Ахматовой откликов
на мировые потрясения, — писал по этому поводу Иванов-Разумник. — Надо просто принять
личную, острую, глубокую ее поэзию, вышедшую из мелкого круга жизни — хотя и не на широкий
жизненный простор» 60.
Ахматовская лирика заново ставила проблему соотношения интимного и публичного в
искусстве, по-своему решенную символистами, у которых все личное и приватное выступало в
своей глубинной архетипической сути и, следовательно, приобретало символический смысл.
Стихи Ахматовой говорили об интимном как таковом, лишенном философизма и метафоричности,
и это казалось ошеломляюще новым.
Никому в голову не приходило связывать предметный и приватный мир ранней Ахматовой
с традицией Анненского. Сужение лирического пространства мира до «близких предметов»
напоминало скорее о том внимательном и любовном отношении к милому домашнему обиходу,
которое пришло в современную русскую поэзию с Михаилом Кузминым. Его первая книга стихов
«Сети» (1908) демонстративно воспевала «дух мелочей, прелестных и воздушных» и сразу была
замечена на фоне символистской традиции. Именно Кузмин, который к тому времени занял
прочное и авторитетное место в петербургских литературных кругах, увидел в стихах Ахматовой
нечто глубоко родственное собственным творческим устремлениям и согласился написать
предисловие к «Вечеру».
Отмечая ахматовский дар «понимать и любить вещи именно в их непонятной связи с
переживаемыми минутами», он писал об авторе «Вечера»: «Часто она точно и определенно упоминает какой-нибудь предмет (перчатку на столе, облако как беличья шкурка на небе, желтый
свет свечей в спальне, треуголку в Царскосельском парке), казалось бы, не имеющий отношения ко всему стихотворению, брошенный и забытый, но именно от этого упоминания более
ощутимый укол, более сладостный яд мы чувствуем».
Михаил Кузмин сравнил это свойство со способностью обреченного на смерть человека
воспринимать мир каждую минуту как в последний раз и привел в пример некое общество в
Александрии, «члены которого для более острого и интенсивного наслаждения жизнью считали
себя обреченными на смерть»61.
Кузмин был первым, кто определил знаменитую ахматовскую «остроту» как психологически
концентрированное переживание некоего душевного момента. Более того, он почувствовал
таящуюся в этом переживании трагическую напряженность. Поэтому не удивительно, что
Ахматова, несмотря на свое позднейшее и весьма ожесточенное сопротивление попыткам видеть
в ней ученицу Кузмина, предисловие его оценила и запомнила. В 1961 году она сделала запись:
«Предисловие М. Кузмина к "Веч<еру>" с легк<ими> переменами могло бы быть пр<едисловием> к Поэме («Поэме без героя». — В. М)» (ЗК, 171).
Вслед за Михаилом Кузминым о том же самом, хотя и несколько иным языком, писал в
рецензии на «Вечер» Валериан Чудовский: «Давно замечено, давно показано, что есть такое
состояние души, наступающее после сильных потрясений, когда сознание как бы раздваивается:
горе, уже не требующее мысли, не требующее определения, продолжает ровно звучать; и вместе
с тем воспринимается множество случайных подробностей обстановки, и нет как будто мелочи
столь мелкой, чтобы остаться незамеченной» .
В 1965 году Анна Ахматова обратила внимание Аманды Хейт на отзывы трех
современников, «угадавших» ее по первым стихам:
«Трое: 1) Чудовск<ий>, 12 г. «Ап<оллон>».
2. Кузмин. Предисл<овие>.
3. Ходасевич.
Необычайные отзывы: один угадал трагизм (Кузмин. — В. М.), другой — роковые кануны
(Чудовский. — В. М.), третий...» (ЗК, 734).
На «третьем» запись ее неожиданно обрывается, но нетрудно реконструировать, что именно
Ахматова имела в виду, говоря о Ходасевиче. В коротенькой рецензии на «Четки» он писал: «Их
(стихов Ахматовой. — В. М.) содержание всегда шире и глубже слов, в которые оно замкнуто, но
происходит это никак не от бессилия покорить слово себе, а, напротив, от умения вклады-пать в
слова и в их сочетания нечто большее, чем-то, что выражает их внешний смысл»63.
В личном архиве Ахматовой сохранились машинописные копии предисловия Кузмина и
рецензии Ходасевича (равно как и статьи Н. В. Недоброво 64, о которой ниже еще пойдет речь). В
числе «угадавших» Ахматову был и Мандельштам, заметивший в ее стихах «асимметричный
параллелизм народной песни» (Мандельштам, 2,239), образующий «двустворчатую строфу с
неожиданным выпадом в конце» (Мандельштам, 2, 295).
Действительно, ахматовская строфа композиционно напоминает народную лирическую
песню или частушку:
На кустах зацветает крыжовник,
И везут кирпичи за оградой.
Кто ты: брат мой или любовник,
Я не помню, и помнить не надо.
______________
Вижу выцветший флаг над таможней
И над городом желтую муть.
Вот уж сердце мое осторожней
Замирает, и больно вздохнуть.
В обоих случаях первая часть строфы образует предметный план (крыжовник, кирпичи за
оградой, выцветший флаг над таможней) вторая — психологический (память, сердце). Связь
между ними носит внелогичный, исключительно психологический характер, придавая предметным
деталям особую семантическую напряженность («остроту»).
Отмеченная Мандельштамом особенность заставляет вспомнить известный монолог Анны
Карениной в том эпизоде, где, проезжая по улице в коляске, она мучительно переживает свои
взаимоотношения с Вронским: «Контора и склад. Зубной врач. Да, я скажу Долли все. Она не
любит Вронского. Будет стыдно, больно, но я все скажу ей. Она любит меня, и я последую ее
совету. Я не покорюсь ему; я не позволю ему воспитывать себя. Филиппов, калачи. Говорят, что
они возят тесто в Петербург. Вода московская так хороша. А мытищенские колодцы и блины.
<...> Как дурно пахнет эта краска. Зачем они все красят и строят? Моды и уборы» 65. Этот
монолог построенный на пере-биве внешнего, предметного и внутреннего, психологического
рядов, создает образ той самой психологической напряженности, при которой вещи
воспринимаются «в непонятной связи с переживаемыми минутами» (Кузмин).
И все же психологизм Толстого является эпическим, ибо внутреннее состояние его героини
предстает изображенным, тогда как в лирике важна задача не изображения, а выражения
психологической коллизии. Лирическая выразительность заставляет куда с большим
основанием вспомнить не Льва Толстого, а Афанасия Фета. Так, Л. Я. Гинзбург, процитировав
фетовские строки:
Только в мире и есть этот чистый
<i>Влево</i> бегущий пробор (курсив мой. — В. М.), —
совершенно справедливо заметила, что в прозаическом описании этот «пробор» не имел бы
большого значения, тогда как в лирике он звучит «пронзительно»» 66. Пронзительность не в
последнюю очередь создается именно «звучанием» слова, поскольку поэзия, в отличие от прозы,
всегда есть интонационно напряженная и артикулированная речь.
У Фета способность придавать малозначащим, случайным деталям психологическую остроту
и напряженность имела свой мировоззренческий аспект. Он видел в поэзии творческую силу,
запечатлевающую мгновенное переживание в слове и тем самым превращающую его в
«вечность»:
Этот листок, что иссох и свалился
Золотом вечным горит в песнопеньи.
Эту сторону творческой эстетики Фета хорошо сформулировал Н. В. Недоброво в статье
«Времеборец», в которой писал о поэте, «живая душа» которого «страдала от времени». Поэтому
для Фета «чувство каждого мига» представляло собой высочайшую ценность, и пафос его
лирики, по выражению Недоброво, состоял в «торжестве искусства над временем» 67. Ахматова
высоко ценила статью Недоброво о Фете и не случайно подарила П. Н. Лукницкому ее оттиск.
И все-таки Фет для нее (как и для Гумилева) оставался поэтом в основном чужим. П. Н.
Лукницкий оставил в своих записях достаточно красноречивое тому подтверждение: «Н. С.
(Гумилев. — В. М.) Фета не любил. АА всегда говорила ему: "Почитай Фета, почитай Фета", — не
потому что очень любила, а потому что считала, что Фета, вообще говоря, неудобно не чи тать»
(Лукницкий-1, 188). Л. К. Чуковской Ахматова позже охарактеризует Фета следующим образом:
«Он восхитительный импрессионист. <...> Его стихи надо приводить в качестве образца на
лекциях об импрессионизме» (Чуковская-2, 71).
Сама Ахматова импрессионисткой не была, а что касается уроков Фета, то они доходили до
нее опосредованно — через лирику Иннокентия Анненского, умевшего добиваться аналогичной
Фету выразительности в переживании предметного мира. Знакомство Ахматовой с «Кипарисовым
ларцом»
помогло
ей
осознать
конструктивную
роль
предметной
и
одновременно
психологической детали в лирике. Но вряд ли из это следует решительный вывод, согласно
которому «после прочтения сб. "Кипарисовый ларец" <...> Ахматова стала считать его своим
учителем» (СС-6, 1, 714). Автор «Кипарисового ларца» будет осознан и оценен Ахматовой много
позже — в предвоенные годы, а миф об «Учителе» оформится только к 1945 году — после того,
как будет создана третья редакция «Поэмы без героя».
Стихи
Ахматовой
впечатляли
ее
первых
читателей
не
ассоциативностью
и
метафоричностью, а интонационно-речевой структурой. Они звучали как живая <i>речь</i>, и
в этом была их новизна. Н. В. Недоброво в своей известной статье «Анна Ахматова» прекрасно
[написал], чем подействовала на него как читателя эта сторона ахматовской лирики. Речь идет о
стихотворении «Настоящую нежность не спутаешь...»:
«Последняя фраза полна горечи, укоризны, приговора и еще чего-то. Чего же?
Поэтического освобождения от всех горьких чувств и стоящего тут человека; оно несомненн о
чувствуется, а чем дается? Только ритмом последней строки, чистыми, этими совершенно, без
всякой натяжки раскатившимися анапестами; в словах еще горечь: "несытые взгляды твои", но
под словами полет». И резюмировал главное: «Человек века томится трудностью речи о своей
внутренней жизни: столького не выговорить на неустройством — и, прижатый молчанием дух
медлит в росте. Те поэты, которые, как древле Гермес, обучают человека говорить, на вольный
рост выпускают внутренние его силы и, щедрые, надолго хранят его благодарную память» 68.
Похожее чувство, возникшее при чтении ахматовского стихотнорения «Подвал памяти»,
описала и Л. К. Чуковская: «Как и могли забыть, хотя бы на минуту, эту строку, — это угрожающее
длинное <i>с</i> в слове "рассудок" — и четыре трезвые <i>д</i> — эту страшную строку,
венчающую весь монолог каким-то приступом безумия?
Но г<i>д</i>е мой <i>д</i>ом и г<i>д</i>е ра<i>сс</i>у<i>д</i>ок мой?» (Чуковская-2,
76).
Ощущение, что Ахматова «обучает говорить» испытали на себе прежде всего ее
читательницы. Лариса Рейснер писала ей, что она воплотила в своих стихах все ее
«противоречия, которым столько лет не было исхода» 69, то есть, в сущности, выговорила то, о чем
она до сих пор вынуждена была молчать. Сами Ахматова ставила себе в заслугу именно то, что
«научила женщин <i>говорить</i>» (курсив мой. — В. М.).
И своей известной работе 1923 года Б. М. Эйхенбаум писал, что ст и х и Ахматовой поражают
резким сокращением «словесной перспективы», сжатием «смыслового пространства», что придало
им лаконизм и энергию: «Ахматова утвердила малую форму, сообщив ей интенсивность
выражения. Образовалась своего рода литературная "частушка"». Он увидел в ее лирике
реализованное «желание заново ощутить именно произносительно-смысловую стихию слова»,
«слово как непосредственную, имеющее реальное значение артикуляцию».
И , наконец, давал блестящую и глубокую характеристику лирической манеры Ахматовой:
«Основная манера Ахматовой, особенно развитая ею в "Четках", выражается в сочетании
разговорной или повествовательной интонации с патетическими вскрикиваниями. <...> Во всех
этих случаях они настолько выделяются своей интонационной силой, что служат композиционным
центром, влияя на все окружающее».
Б.M. Эйхенбаум делал вывод о том, что в лирике Ахматовой доминирует установка на
интонацию как «основной принцип построения стиха» и поэтому на первый план выдвигается
артикуляционная сторона поэтической речи. Говоря иными словами, ее лирика связана «не столько
со слухом, сколько с произнесением», а слово в стихе ощущается как «мимическое движение»70.
Его анализ прекрасно подтверждал, что предметная, «вещная» лексика в стихах Ахматовой
потому и звучит так остро, что «произносится»:
Я на <i>правую</i> руку надела
<i>Перчатку</i> с <i>левой</i> руки.
Или:
Он снова <i>тронул</i> мои <i>колени</i>
Своей недрогнувшей рукой.
<i>Перчатка, колени, тюльпан</i> — все это не только предметные, но и речевые детали. Они
интонационно выделены и артикуля-ционно напряжены, хотя их семантика сама по себе, вне
стихии произнесения, совершенно нейтральна. Здесь стоит вспомнить прогноз, сделанный
незадолго до смерти Иннокентием Анненским в письме к Максимилиану Волошину: «<...> самое
<i>страшное</i> и <i>властное</i>, т. е. самое <i>загадочное</i> — может быть именно слово —
<i>будничное</i>»71. Однако «будничное слово» у Анненского было элементом совершенно иной
семантической структуры, нежели у Ахматовой.
Л. Я. Гинзбург полагала, что Ахматова унаследовала опыт автора «Кипарисового ларца» в
плане сознательного сближения поэзии с прозой — прежде всего введения прозаизмов в
поэтическую речь. Но она же точно определила и разницу между ними: «В основном у нее
(Ахматовой. — В. М.) значения слов не изменены метафорически, но резко преобразованы
контекстом, сложным и смелым отбором, выделением, соотнесением неожиданных признаков.
<...> Вещи у Ахматовой — <i>представители</i> ее лирической стихии. <...> У Анненского
прозаизмы находятся в процессе утраты своего особого качества. Для Ахматовой 10-х годов это
уже не процесс, а безусловная данность. <...> Поэтика Анненского — поэтика символической
конкретности; Ахматова отвергает претворение реалий в иносказания — и в этом острая
принципиальность ее поэтического дела 1910-х годов»72.
Дело, однако, в том, что лирика не может существовать вне иносказания, или как
замечательно сформулировал в «Охранной грамоте» Борис Пастернак: «Прямая речь чувства
иносказательна, и ее нечем заменить» (Пастернак, 4, 188). Лирике вообще свойственно
пользоваться предметной лексикой в целях иносказания, и своеобразие Ахматовой заключается
в том, что в ее стихах детали внешнего мира, будучи воплощенными в слове, несли иносказание
не за счет метафорической многозначности, а в силу своей интонационно-речевой
напряженности. Именно эту особенность тонко почувствовал и цитированный выше Владислав
Ходасевич, когда писал об ахматовском «умении вкладывать в слова и в их сочетания нечто
большее, чем то, что выражает их внешний смысл».
Лирическая манера Ахматовой производила на современников настолько магическое
впечатление, что они слышали в стихах не только <i>голос</i>, но даже <i>тембр голоса</i> их
автора. Об этом замечательно сказал в 1922 году Юлий Айхенвальд: «Грустный голос ее,
действительно, незвонок, но он такого чарующего тембра, какого никогда не слыхала из уст своих
поэтесс русская литература. И если писать о стихах всегда значит переписывать стихи, то это
особенно применимо к ней, автору "Вечера" и "Подорожника": так задушевны и проникновенны
интонации ее некнижной, чистой русской речи, что хочется только слушать и слушать "стихов ее
белую стаю", а не говорить о ней языком нашей охлажденной прозы» 73.
Итак, Ахматова говорит, а благодарный читатель <i>слушает</i>, испытывая волнение от
«некнижности» ее стихов, от тембра и интонаций ее голоса. Эта особенность имела мало общего с
акмеистическими принципами, как они были провозглашены в известных манифестах Николая
Гумилева и Сергея Городецкого. Ахматова зафиксировала в одной из своих записных книжек
поразивший ее отзыв В. М. Жирмунского о «Поэме без героя»: «<...> Возможность звать голосом
неизмеримо дальше, чем это делают произносимые слова» (ЗК, 108). В. М. Жирмунский в данном
случае воспользовался характеристикой, которую дал Блок в статье-некрологе памяти Веры
Федоровны Комиссаржевской: «<...> Ее требовательный и нежный голос <...> звал нас безмерно
дальше, чем содержание произносимых слов» (Блок, 5, 418-419). Ахматова эту характеристику
хорошо помнила и, повторив в другом месте своих «Записных книжек» отзыв Жирмунского, в
скобках пометила: «То, что сказал Блок о В. Ф. Ком<иссаржевской>» (ЗК, 173).
Иными словами, символические значения в поэтической системе Ахматовой тесно связаны с
ориентацией на <i>произносимое</i>, а не метафорическое слово. А так как это приводило к
чрезвычайной речевой напряженности, то ахматовская лирика привлекала к себе как языковая и
стиховедческая проблема. Не удивительно, что объектом исследования в итоге стала вырази тельность ее стиховых средств, взятая сама по себе, в отрыве от ее тематической
содержательности. Предельной формулировкой подобного подхода стало утверждение Ю. Н.
Тынянова о том, что «когда Ахматова начинала, она была нова и ценна не своими темами, а
<i>несмотря</i> на свои темы» 74.
Речевая природа ее стиха была не единственным фактором, вызывавшим восхищение
современников. Не менее заметной, чем стихия «произносимого» слова, была пластика образа
лирической героини. В 1914 году Осип Мандельштам, создал стихотворный портрет Ахматовой:
Вполоборота, о печаль,
На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложноклассическая шаль.
Зловещий голос — горький хмель –
Души расковывает недра:
Так — негодующая Федра –
Стояла некогда Рашель.
Ахматова вспоминала о том, как было написано это стихотворение: «В январе 1914 г.
Пронин устроил большой вечер "Продячей Собаки" не в подвале у себя, а в каком-то большом
зале на Конюшенной. <...> Я стояла на эстраде и с кем-то разговаривала. Несколько человек из
залы стали просить меня почитать стихи. Не меняя позы, я что-то прочла. Подошел Осип: "Как
Вы стояли, как Вы читали" и еще что-то про шаль» (СС-6, 5, 31). Ее образ складывается здесь
из голоса и позы, то есть он <i>сыгран</i>, что подчеркивается сравнением с известной французской актрисой Элизой Рашель в роли расиновской Федры.
Показательно, что Ахматова не помнит, что именно она прочла около полувека тому назад,
но зато помнит, что «не меняя позы». «Поза» входила в состав ее творческого поведения, и
Мандельштам со свойственной ему зоркостью точно уловил это. В его стихотворном портрете облик
Ахматовой прежде всего сценичен и потому требует зрительской оценки, какою, собственно, и
является мандельштамовское восьмистишие.
Корней Чуковский однажды отметил связь ахматовской поэзии с породившей ее
петербургской культурой: «...Архитектура и скульптура ей сродни. Из ее стихов то и дело встают
перед нами то "своды Смольного собора", то "гулкие и крутые мосты", то "надводные колонны на
Неве" <...>. Она и сама в своем творчестве — зодчий»75. Но куда более точен был Константин
Мочульский, который, утверждая, что лирика Ахматовой «вполне определяется принципом
пластичности», обратил внимание на «пластику тела» как орудие выражения лиричес кой эмоции,
приведя в качестве наиболее характерного примера строки:
Закрыв лицо, я умоляла Бога
До первой битвы умертвить меня»76.
Процитированные Мочульским строки прекрасно демонстрируют присущее лирике
Ахматовой единство речевой и пластической выразительности. Сами по себе слова мольбы звучали бы фальшиво и аффектированно, если бы не запечатленный в стихах жест плакальщицы,
закрывшей лицо руками. Лирическая героиня не только видит себя со стороны, но и апеллирует
к <i>зрительской</i> оценке. Реципиент ахматовских стихов чаще всего «читатель» и «зритель», в
самих стихах торжествует принцип риторической завершенности, и сценической выразительности.
Намеченный в поэтике «Вечера», этот принцип, приобрел конструктивный характер в «Четках» и
«Белой стае».
Психологическое состояние лирической героини может передаваться жестом:
Сжала руки под темной вуалью...
------------Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки;
сознательным выбором костюма или позы:
Я надела узкую юбку,
Чтоб казаться еще стройней;
отражением ее лица в зеркале:
А глаза глядят уже сурово
В потемневшее трюмо.
обдуманным выбором какого-либо занятия, предполагающего взгляд на себя со стороны:
На коленях в огороде
Лебеду полю.
Пластический эффект ее стихов основан на постоянной и точной словесной фиксации
лирическим субъектом собственного облика. Пластика и речь являются в лирике Ахматовой
двумя главными орудиями создания не просто лирической эмоции, но как бы некоего действа.
Когда она пишет:
Прекрасных рук счастливый пленник
На левом берегу Невы, то адресат, с одной стороны, определен отточенной эпиграмматической формулой «счастливый
пленник», с другой — получает пластическую характеристику, ибо предстает перед читателем в
кольце «прекрасных рук». А; кроме того, обозначена и сцена, на которой он выступает в
отведенной ему роли «пленника», — «левый берег Невы».
Сценичность поведения лирической героини Ахматовой требует ролевого оформления ее
внешнего облика, так что нет ничего удивительного в том, что в процитированных К. Мочульским стихах лирическая героиня, закрывшая лицо рука ми, выступает в роли
плакальщицы. Эту ее особенность хорошо ощущала Марина Цветаева, назвавшая Ахматову
«Муза Плача». Но можно вспомнить, как на известных фотографиях, сделанных Пуниным, сама
Ахматова позировала в объективе тo в виде сфинкса, то в роли окаменевшей от горя
плакальщицы. Известный графический портрет Модильяни и статуэтка работы Натальи Данько
навсегда закрепили пластическую сторону облика Ахматовой в восприятии ее современников.
Столь же пластичной изобразила Ахматова своего будущего «двойника» — Ольгу ГлебовуСудейкину в стихотворении 1913 года:
Иль того ты видишь у своих колеи,
Кто для белой смерти твой покинул плен?
Эти строки точно передают эффект скульптурного надгробия — сидящая женщина и
коленопреклоненный поклонник-самоубийца.
Однако «скульптурность» — это всего лишь одна сторона ролевой природы лирической
героини Ахматовой, которая всегда куда-то уходит, откуда-то возвращается, склоняется над
чьим-то изголовьем, закрывает лицо руками, подстригает сирень, выпалывает лебеду, нервно
надевает перчатки, молится, плачет, кается, бежит по лестнице и т. д. Здесь уместно вспомнить
Мандельштама, который, размышляя о своеобразии современной художественной эпохи, писал,
что она «возвращает нам самого человека, человека в движении, человека в пространстве и
времени, — ритмического, выразительного человека» (Мандельштам, 1, 210). Именно такой
ритмической выразительностью отличается лирическая героиня Ахматовой. Но и ее
скульптурность, и ее динамизм даны изнутри речевого строя, ибо она, в первую очередь,
<i>говорит</i> обо всем, что с нею происходит.
Фрагментарность и отрывочность лирики Ахматовой преодолевались тем, что ее
интонационно-речевой и пластический строй был задан драматически и театрально, поведение
лирической героини носило ролевой характер, что роднило ее в большей мере с Блоком, нежели с
Анненским.
У самой Ахматовой, по словам Л. Я. Гинзбург, была «система жестов», придававших ее
облику «конструктивный характер»77.
Анатолий Найман вспоминал, что «у нее были идеальные, несравненные слух и память на
то, как расставлены в реплике, во фразе, в периоде слова <...>. Ее собственная речь <...> всегда производила впечатление составленной из тщательно и долго отбиравшихся слов»78.
Л. К. Чуковская восхищенно отмечала: «Каждое ее движение и, главное, каждую ее
неподвижность надо запечатлевать — кистью, резцом, а лучше бы всего кинопленкой» (Чуковская2, 84). Но ведь кинопленка и предназначена для того, чтобы воспроизводить единство
зрительного и звукового образа, игры и слова.
Конструктивный принцип жизненного (и даже житейского) поведения Ахматовой тесно связан
с жизнетворческой установкой символистов, согласно которой «искусство есть начало,
созидающее личность»79, а «художник есть сам своя собственная форма; его задача — чеканить
себя»80. Ее лирика впитала в себя одно из важнейших свойств символистского словесного искусства — драматизм и театральность. Достаточно вспомнить, что в классицистической драме
действие разворачивается за сценой, а на сцене, перед зрителем произносятся монологи о случившемся, чтобы понять, насколько точно это соответствует природе лирики Ахматовой. Ее стихи
напоминают сценическую речь и создают образ сквозного драматического действия,
сцепливающего «отрывки» и «фрагменты» в единое целое. Так что мандельштамовское сравнение
Ахматовой с Рашелью в роли Федры было, в сущности, аналогией между ее поэтическим творчеством
и классицистическим, расиновским театром.
В своей работе 1923 года (напечатана в 1925) «О поэзии Анны Ахматовой (Стилистические
наброски)», В. В. Виноградов поставил проблему <i>символа</i> как важнейшего выразительного средства ее поэтической системы. Это было странным уже хотя бы потому, что с легкой руки
В. М. Жирмунского Ахматова считалась «преодолевшей символизм». Но В. В. Виноградов как
лингвист исходил из реальных особенностей стиля поэта, не отягощая себя категориями
поэтических направлений и школ, и определение символа дал свое: «Символ — это эстетически
оформленная и художественно локализованная единица речи в составе поэтического
произведения» 81.
В. В. Виноградов выделил в стихах Ахматовой три типа символов — символ-слово, символфраза и символ-предложение — и пришел к выводу, что вещный, предметный мир ее лирики, о
котором так много писала критика, существует не иначе как внутри «символических» единиц
речи: «<...> воспроизводятся не лица и вещи в их объективном созерцании, а их отражения в
зеркале изменчивых эмоций героини. <...> Прежде всего "вещи" "кивают" у нее не друг на
друга, а только на героиню. При их посредстве передаются ее эмоции: вещи условносимволистически прикреплены к воспроизводимому мигу. <...> И тогда <i>выборм их рисуется
полным глубокого значения для истинного, адекватного постижения чувств героини» 82.
Нетрудно увидеть, что в этом В. В. Виноградов полностью подтвердил правоту замечания
Михаила Кузмина, отметившего способность Ахматовой «понимать и любить вещи именно в их
непонятной связи с переживаемыми минутами». Но для нас куда более важен финальный вывод
лингвиста о том, что придает стихам Ахматовой художественную целостность, то есть, говоря
литературоведческим языком, о жанровой природе ее лирики. Я позволю себе здесь длинную, но
необходимую цитату из заключительного, десятого раздела работы В. В. Виноградова, названного
«Гримасы диалога»:
«Большинство стихотворений Ахматовой — выдержки из монологов, в которых развивается
драма ее героини. Недостающие звенья словесных цепей, отрезки которых организуют
замкнутую композицию стихотворений, угадываются по намекам, рассеянным в речи и
сгущающим эмоциональные впечатления. Однако эмоциональный рисунок художественного произведения, выдержанного в строго монологической форме, при его краткости и при узости круга
тем мог показаться монотонным. <...> И этой опасности не избежала Ахматова.
Но она приняла против нее одну решительную меру: обратилась к помощи "диалога" как
особой разновидности речи, внедрение которой в "повествование", в "монолог" могло пестро
расцвечивать эмоциональную канву художественного произведения. Открылись возможности
эмоциональных эффектов, которые обусловлены отношением стиля диалога к общему тону
повествования и особенностям чередования реплик в диалоге, его строением»83.
В. В. Виноградов писал свою работу, беспощадно полемизируя с Б. М. Эйхенбаумом, но, тем
не менее, оба они сходились на том, что лирика Ахматовой воспроизводит в себе самой образ
произносимой речи. Только Б. М. Эйхенбаум обращал внимание преимущественно на предельно
артикулированный характер этой речи, а Виноградов — на ее синтаксическое строение. Ни
первый, ни второй по разным причинам не отрешились вполне от представления, будто ее стихи
носят повествовательный характер. Б. М. Эйхенбаум по-прежнему продолжал придерживаться
выдвинутой им в 1919 году концепции «романа-лирики», а В. В. Виноградов время от времени по
привычке пользовался терминами «повесть», «повествование».
Но именно последний пришел к выводу о том, что каждое «отрывочное» стихотворение у
Ахматовой есть ни что иное как «монолог» и поэтому ее лирика как целое представляет собой
драматическую структуру. Отмеченная им тяга к диалогическому строению этих «монологов»
подтверждала этот вывод, поскольку художественное целое не может не отпечатываться в
структуре своих отдельных элементов.
К очень близкому выводу подошел в своей поздней книге об Ахматовой В. М. Жирмунский.
Он подчеркивал, что малая стихотворная форма, столь виртуозно разработанная ею, часто
воспринимается «как фрагмент более обширного целого, читателю неизвестного», или говорил об
«иллюзии незамкнутости стихотворения, принадлежности его к более обширному целому» 84. Но
поскольку Жирмунский совершенно проигнорировал как отдельные наблюдения, так и общую
концепцию В. В. Виноградова, это во многом обеднило эвристическую ценность его работы.
Полвека спустя в работе О. В. Симченко прозвучало утвер ждение, полностью
согласующееся с выводами В. В. Виноградова, хотя и исходящее из других посылок:
«Стихотворения поздней Ахматовой производят впечатление монологов, взятых из одной
грандиозной трагедии, контуры которой проступают сквозь каждый из них, причем лирическая
героиня <...> ведет свои монологи на таком трагедийном накале, что, кажется, ее вот-вот
настигнет безумие»85.
Однако «отрывочность» и «фрагментарность» ахматовских «монологов» требуют уяснения
смысла самой «грандиозной трагедии» и той роли, которая отведена в ней лирической героине
Анны Ахматовой.
4. «Отравительница-любовь»
За Ахматовой рано и не случайно закрепилась репутация поэтессы которая «старается
написать под Кузмина» (Летописъ-1, 37). Сам Михаил Кузмин к началу 10-х годов склонен был
разделять бунт молодой поэзии против засилья символистов. В момент противостояния «Цеха
поэтов» и «Академии стиха» он записал в дневнике: «Был скандал в "Академии". Кого выбирать?
Символистов или "Цех"? Я думаю — второй» (Летопись-1,51).
В итоге он, правда, не пошел ни с первыми, ни со вторыми, но это уже отдельный вопрос.
Автор «Сетей» испытывал к Ахматовой явный интерес. Сначала она вызывала у него настороженное
любопытство, о чем свидетельствуют записи в дневнике 1910 года: «Она манерна, но потом
обойдется»; «Она ничего — обойдется и будет мила» (Летопись-1,36).
В феврале 1912 года, когда готовился к выходу «Вечер» с предисловием Михаила Кузмина,
его общение с четой Гумилевых становится достаточно частым: «У Гумилевых электричество,
бульдог. Собрался "цех". <...> Спал в библиотеке»; «А. А. хочет уезжать. Коля пошел к
англичанке, я же гулять с А. А. Тихо и хорошо, заброшенно»; «Поехал в Царское <...> У Гумилевых по-прежнему, но, кажется, я стесняю их несколько. <...> Ходили вечером, рассуждал о
стариках и "Цехе". Читал "Мечтателей" Анне Андреевне» (Летописъ-1,50-51). Уважительное «Анна
Андреевна» выдает почтительное отношение, которым, кстати, продиктовано и предисловие к
«Вечеру».
Одним из первых [роль] Михаила Кузмина в становлении молодой петербургской поэзии и, в
частности, Ахматовой, попытался охарактеризовать В. М. Жирмунский. В 1920 году он писал об
авторе «Сетей» как противнике романтического субъективизма и импрессионистической зыбкости
символистов:
«В эпоху импрессионистической лирики, когда поэты-символисты искали прежде всего
смутного воздействия на настроение слушателя скорее звуком слова, чем смыслом, когда гос-
подствующее романтическое направление русской лирики облюбовало поэтику неясных намеков,
Кузмин первый вернулся к классической простоте, строгости и точности в выборе и
употреблении слов, вернул логической сознательной стихии речи утерянное ею у символистов.
<...>
Ученик поэтов французского и русского классицизма, Кузмин сделался учителем нашим в
вопросах художественного вкуса. Поэты наших дней — среди них прежде всего Анна Ахматова —
обязаны ему открытием тех забытых в XIX веке путей, которые намечены были для русской
поэзии классической музой Пушкина»86.
Много позже Л. Я. Гинзбург, обратив внимание на декларацию группы «эмоционалистов»,
возглавлявшейся в начале 1920-х годов Михаилом Кузминым, нашла основные положения этой
декларации
разительно
близкими
творческим
принципам
Ахматовой.
Процитировав
«эмоционалистский» тезис о том, что «исходя из частного и неповторимого, искусство расширяется до общего, всенародного и всемирного», она резюмировала: «Из "частного и
неповторимого" исходили ранняя Ахматова, Мандельштам периода "Камня"» 87.
Если обратиться к программной статье самого Михаила Кузмина «Эмоциональность как
основной элемент искусства» (1924), то она действительно вполне приложима к лирике Ахматовой. По его мысли, главная задача художника состоит в том, чтобы создавать произведения
«единственного неповторимого эмоционального действия в форме единственного неповторимого
эмоционального восприятия». Воздействие искусства этого типа «должно усиливать или
пробуждать волю к жизни и приводить к принятию мира» 88.
В лирике Михаила Кузмина «принятие мира» было тесно связано с частной жизнью
человека как высшей и непререкаемой ценностью. Он противопоставил мистически напряженной
и трагедийно возвышенной поэзии символизма стиль «le petit bonheur», берущий свое начало в
галантном XVIII веке. В центре его стихов оказывалась, как правило, повседневная (преимущественно — любовная) ситуация, в которой каждая «мелочь» представала исполненной
значительности. Эта апология приватного существования была продекларирована в программном
стихотворении «Мои предки», открывающем «Сети»:
все вы, все вы вы молчали ваш долгий век,
и вот вы кричите сотнями голосов,
погибшие, но живые,
во мне: последнем, бедном,
но имеющем язык за вас,
и каждая капля крови
близка вам,
слышит вас,
любит вас;
и вот все вы:
милые, глупые, трогательные, близкие,
благословляетесь мною
за ваше молчаливое благословенье.
Речь шла о праве рядового, заурядного человечества иметь свой голос в творчестве уже по
той простой причине, что оно является носителем главного родового инстинкта — любви. Вот как
описывается в «Сетях» утро двух проведших вместе ночь влюбленных:
Умывались, одевались,
После ночи целовались,
После ночи, полной ласк.
На сервизе лиловатом,
Будто с гостем, будто с братом,
Пили чай, не снявши маек.
Поэтическими здесь становятся явления самого обыденного толка — «умывались»,
«одевались», «пили чай». Так что если лирика есть эмоциональный отклик на некоторое событие,
то стихи Кузмина выбирали в качестве отсчета милую сердцу повседневность, главным и
единственным событием которой является любовь.
Ранняя лирика Ахматовой начиналась в русле, проложенном Кузминым, и позднее она
признавалась, что очень любит «Сети» (Чуковская-1, 173). В коллективной работе Р. Д.
Тименчика, В. Н. Топорова и Т. В. Цивьян «Ахматова и Кузмин» приведен едва ли не
исчерпывающий и весьма впечатляющий каталог кузминских реминисценций в ахматовских
стихах89. Их творческие установки совпадали в том, что для поэзии нет «ничего мелкого, ничего
незначительного», что любая мелочь годится для передачи «аромата человеческой
индивидуальности»90. Однако при ближайшем рассмотрении эти реминисценции дают основание
говорить не только о совпадении, но и весьма существенном расхождении их творческих
принципов. Как точно было замечено в указанной статье, Ахматова, пройдя че рез усвоение
некоторых кузминских принципов, «очень скоро ввела достигнутое и усвоенное в совсем иной
поэтический универсум»91.
Философия «принятия мира» у Кузмина основывалась прежде всего на том, что А. В.
Лавров и Р. Д. Тименчик удачно назвали «просветленным фатализмом» 92. Сущность этого «фатализма», по точному определению Игоря Глебова (Бориса Асафьева), составляла «мысль о
неизбежном приятии Эроса, о его все направляющей власти»93. Любовь у Кузмина — сила неодолимо роковая, а потому ей не следует противиться, более того — нужно раствориться в стихии
эротизма с «серафическим» умилением принимая все, что она несет с собою, — вплоть до гибели:
Смирись, о сердце, не ропщи:
Покорный камень не пытает,
Куда летит он из пращи,
И вешний снег бездумно тает.
Стрела не спросит, почему
Ее отравой напоили;
И немы сердцу моему
Мои ль желания, твои ли.
В этих стихах, манифестирующих идею любви под знаком amor fati, парадоксально
объединены пушкинские мотива «чудного мгновенья» и «анчара». Комбинация их создает образ
желания, к которому неприложимы нравственные оценки и которому надо принять любовь, даже
если любовь оказывается «пленительной отравой».
Ахматова совпадала с Кузминым в изображении любви, благодаря которой рождается
чувство радостного и благодарного «принятия мира» во всех его «мелочах»:
Подушка уже горяча
С обеих сторон.
Вот и вторая свеча
Гаснет, и крик ворон
Становится все слышней.
Я эту ночь не спала,
Поздно думать о сне...
Как нестерпимо бела
Штора на белом окне.
Здравствуй!
Этим стихам нетрудно найти параллель в кузминских «Сетях»:
Мне не спится: дух томится,
Голова моя кружится
И постель моя пуста, Где же руки, где же плечи,
Где ж прерывистые речи
И любимые уста?..
Но, кроме того, в лирике Ахматовой, так же как и в лирике Кузмина, отчетливо
просматривается мысль о власти всенап-равляющего и всепоглощающего Эроса:
Было душно от жгучего света,
А взгляды его — как лучи.
Я только вздрогнула: этот
Может меня приручить.
Местоимение «этот», которое еще Фет заставлял звучать с невероятной остротой и
выразительностью, в процитированной строфе поставлено в интонационно сильную позицию
при помощи engembement и потому произносится с предельной напряженностью: «Я только
вздрогнула. / <i>Этот</i>...». Соответственным образом усиливается и функция предметной детали:
Мне очи застит туман,
Сливаются вещи и лица,
И только красный тюльпан,
Тюльпан у тебя в петлице.
Однако именно здесь заметна существенная разница между «голосоведением» Ахматовой и
Кузмина. В статье Р. Д. Тимен-чика, В. Н. Топорова и Т. В. Цивьян 94 к этим строкам приведена
параллель из «Сетей»:
Только помню бледноватые щеки...
И синий ворот у смуглой шеи...
«Тюльпан в петлице» и «синий ворот у смуглой шеи», на первый взгляд, детали одного ряда,
создающие в обоих случаях интимный колорит стихотворения. Но когда лирическая героиня
Ахматовой восклицает: «О, как ты красив, проклятый!», — то ее стихотворение обнаруживает
совершенной иной интонационно-речевой строй, нежели у Кузмина. Эта строка, начинаясь
риторическим «о!», завершается экспрессивным «проклятый!», которое звучит как выкрик. Так
еще раз подтверждается точность замечания Б. М. Эйхенбаума о том, что Ахматова тяготеет к
сложному сочетанию «витийственной» речи с «разговорной и частушечной»95.
Самое главное отличие Ахматовой заключается в драматической напряженности любовной
эмоции. Это хорошо заметно, например, в стихотворении «Вечерняя комната», которое начинается едва ли не цитатой из Кузмина:
Я говорю сейчас словами теми,
Что только раз рождаются в душе,
Жужжит пчела на старой хризантеме,
Так душно пахнет старое саше.
Достаточно сравнить96:
Знакомый трепет будится в душе,
Как будто близко расцветает роза,
А вдалеке играют Берлиоза
И слышен запах старого саше.
Любовная коллизия строится в обоих примерах при помощи почти одних и тех же деталей:
особенно впечатляет совпадение «старого саше», усиленное к тому же одинаковой рифмой
(«душе» — «саше»). Однако там, где у Кузмина возникает эмоция знакомого душевного
умиления, Ахматова резко подчеркивает единственность, неповторимость происходящего: «Я
говорю сейчас словами теми, / Что только раз рождаются в душе». И именно поэтому здесь
возникает несвойственная Куз-мину интонационная напряженность. Ахматовское «душно»,
будучи усилено наречием «так» и требуя не чтения, а произнесения, звучит почти как
«<nobr><i>ду-у-шно</i></nobr>».
Локализованная в обиходе и быту любовная коллизия, которая переживается в лирике
Кузмина во всей ее прелести и изяществе, у Ахматовой переполнена каким -то неизбывным и
непонятным драматизмом, который, на первый взгляд, никак не вытекает из самой ситуации. Это
очевидно проявлено в одном из самых хрестоматийных ее стихотворений:
Звенела музыка в саду
Таким невыразимым горем.
Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду.
Он мне сказал: «Я верный друг!»
И моего коснулся платья.
Как не похожи на объятья
Прикосновенья этих рук.
«Прикосновенья рук» любимого человека ощущаются хозяйскими и властными («Так гладят
кошек или птиц»), и именно этому инстинктивно сопротивляется лирическая героиня. В
«благословенности» любовного свидания смутно предчувствуется какая-то трагическая
подоплека, на которую [отвечает] музыка, звенящая «невыразимым горем». «Серафическая»
благостность тут начисто отсутствует.
В. М. Жирмунский истолковывал коллизию этого стихотворения следующим образом: «Это
первое свидание героини с любимым: она узнает, что он ее не любит и никогда не полюбит, он
только — «верный друг»»97, — однако этим она вовсе не исчерпывается. Достаточно вспомнить
другое стихотворение, где лирическая героиня Ахматовой прямо говорит о том, что тревожит ее в
подобной коллизии:
Какую <i>власть</i> имеет человек,
Который даже нежности не просит! (курсив мой. — В. М.)
Ключевым оказывается слово «власть», право на которую человеку дает любовь женщины,
независимо от того, любит он ее или нет. Драматизм любовной коллизии состоит не столько в
том, что он не любит ее, сколько в самой сущности любви, оборачивающейся «горем»:
Томилось сердце, не зная даже
Причины горя своего.
В литературе об Ахматовой давно утвердилась параллель с любовной лирикой Тютчева:
«Любовная лирика Ахматовой неизбежно приводит всякого к воспоминаниям о Тютчеве. Бурное
столкновение страстей, тютчевский «поединок роковой» — все это в наше время воскресло
именно у Ахматовой» (писал А. Павловский)98. В самом деле, известные тютчевские строки едва
ли не просятся в комментарий к ранним ахматовским стихам:
Любовь, любовь — гласит преданье –
Союз души с душой роднойИх съединенье, сочетанье,
И роковое их слиянье,
И... поединок роковой...
(«Предопределение»)
Черты этого «поединка» настолько отчетливо видны в лирике Ахматовой 10-х годов, что не
менее известные тютчевские стихи, написанные от лица женщины, сегодня вполне уместно
воспринимаются в контексте ранних ахматовских книг:
Он мерит воздух мне так бережно и скудно...
Не мерят так и лютому врагу...
Ох, я дышу еще болезненно и трудно,
Могу дышать, но жить уж не могу.
(Тютчев)
------------Не убил, не проклял, не предал,
Только больше не смотрит в глаза.
И стыд свой темный поведал
В тихой комнате образам.
Весь согнулся, и голос глуше,
Белых рук движенья верней... Ах!
Когда-нибудь он задушит,
Задушит меня во сне.
(Ахматова)
Но было бы ошибочным полагать, что свой «поединок роковой» лирическая героиня
Ахматовой ведет, как с «врагом», с мужчиной, который ее не любит. В той психологической коллизии, которая является сквозной и единой во всем ее творчестве, «он» и «она» могут легко
меняться ролями. И не случайно в одном из стихотворений 1911 года Ахматова переворачивает
эту коллизию, изображая ее с точки зрения мужчины:
Шелестит о прошлом старый дуб,
Лунный луч лениво протянулся.
Я твоих благословенных губ
Никогда мечтою не коснулся.
<...>
Я молчал так много тяжких лет.
Пытка встреч еще неотвратима.
Как давно я знаю твой ответ:
Я люблю и не была любима.
Драма героя этого стихотворения не столько в том, что она не любит его, а в том, что он не
в состоянии освободиться от власти неразделенной любви к ней.
Владимир Соловьев сформулировал драматизм любовной, темы у Тютчева следующим
образом:
«Главное проявление душевной жизни человека, открывающее ее смысл, есть любовь и тут
опять наш поэт сильнее и яснее других отмечает ту самую демоническую и хаотическую основу,
к которой он был чуток в явлениях внешней природы. Этому вовсе не противоречит прозрачный,
одухотворенный характер тютчевской поэзии. Напротив, чем светлее и духовнее поэтическое
создание, тем глубже и полнее, значит, было прочувствовано и пережито то темное, недуховное, что требует просветления и одухотворения.
Жизнь души, сосредоточенная в любви, есть по основе своей злая жизнь, смущающая мир
прекрасной природы <...>.
Эта злая и горькая жизнь любви убивает и губит <...>. И это не есть случайность, а
роковая необходимость земной любви, ее предопределение.
<...> Злая жизнь, превращающая самую любовь в роковую борьбу, должна кончиться
смертью. Но в чем же тогда смысл существования? <...> Смысл человека есть он сам, но только
не как раб и орудие злой жизни, а как ее победитель и владыка». Выход из этой коллизии Вл.
Соловьев видел в желании «заменить роковое и убийственное наследие древнего хаоса
духовным и животворным наследием нового человека»99.
Сознавала ли Ахматова объективную близость своей лирики тютчевской философии любви?
У нас нет свидетельств, что она была знакома с соловьевской интерпретацией тютчевского
творчества, но зато она не могла не знать статьи Н. В. Недоброво «О Тютчеве», родственной по
исходным установкам Вл. Соловьеву (хотя в целом абсолютно оригинальной): «Из всех стихийных
явлений самым радостным, самым добрым и жизненным является любовь. В творчестве Тютчева
она встречает совершенно иное отношение к себе. <...> Она — страсть, лежащая совершенно вне
сознательной воли, не считающаяся с нравственными законами и всегда готовая отхлынуть и
измениться; она трагически издевается над человеческой душой»100.
Публикатор статьи Н. В. Недоброво Е. И. Орлова полагает, что она была написана не позже
1911 года101, но кажется, что в ней угадана трагическая суть будущих взаимоотношений Недоброво с Ахматовой, развитие которых шло как бы по «тютчевскому» сценарию (об этом — в
следующей главе). И совершенно очевидно, что в 1914 году, когда он писал свою знаменитую
статью об авторе «Четок», инструментом проникновения в самую сердцевину любовной лирики
Ахматовой был для него не только личный психологический опыт, но и осмысление темы любви у
Тютчева. Здесь таится одна из возможных разгадок поразительного по точности
«прогностического» анализа ее стихов, чем позже была потрясена Ахматова, назвав его статью
«пророческой».
Близость «Вечера» и «Четок» поэтике «Сетей» и «Глиняных голубок» заключалась в
переживании любви, превращающей приватную сторону человеческого существования в подлинный праздник. Но на этом же она и заканчивалась. Михаил Кузмин пытался придать
демонической стороне этого чувства, «не считающегося с нравственными законами» некий
«серафический» смысл, что делало его позицию двусмысленной и опасной. Ахматова, напротив,
болезненно и остро переживала его разрушительные аспекты любви-страсти. Ее лирическая
героиня хорошо понимает, что демонизм сообщает любовной страсти, «ту свободу и силу, без
которых не было бы самой жизни и красоты»102, но она на себе же самой ощущает ее бесчеловечность. Не исключено, что тесное общение с Недоброво, автором статьи о Тютчеве, сделало для
Ахматовой это ощущение ясным фактом сознания.
Если в стихах Кузмина любовь названа «пленительной отравой», то Ахматова не только
ужесточила эту формулу до «отравительницы-любви», но и сообщила ей негативный смысл:
...И кто-то, во мраке дерев незримый,
Зашуршал опавшей листвой
И крикнул: «Что сделал с тобой любимый,
Что сделал любимый твой!
Словно тронуты черной, густою тушью
Тяжелые веки твои.
Он предал тебя тоске и удушью
Отравительницы-любви...»
Лирическая героиня Ахматовой противостоит тому, что Кузминым благословляется, —
темному, иррациональному аспекту любви, неодолимая власть которой сравнима только с
властью времени и потому способна старить человека:
Мальчик сказал мне: «Как это больно!»
И мальчика очень жаль...
Еще так недавно он был довольным
И только слыхал про печаль.
А теперь он знает все не хуже
Мудрых и старых вас.
Потускнели и, кажется, стали уже
Зрачки ослепительных глаз.
Подобное уподобление любви и времени в их общей жестокой, убийственной сути есть у
раннего Пастернака в цикле «Разрыв»:
<...> Зачем же бесцельно
Целуешь, как капли дождя, и как время,
Смеясь, убиваешь, за всех, перед всеми!
Но в пастернаковской лирике эта потрясенность перекрывалась «доверием к жизни, ее
безусловным началам» 103:
Я не держу. Иди, благотвори.
Ступай к другим. Уже написан Вертер,
А в наши дни и воздух пахнет смертью:
Открыть окно что жилы отворить.
В лирике Ахматовой предполагался совершенно иной выход, отделяющий ее как от Кузмина,
так и от Пастернака, — волевое, героическое напряжение личности, столкнувшейся в любви с
чем-то таким, что бесконечно превосходит его наличные возможности и что, говоря языком К.
Юнга, имеет характер <i>нуминоза</i>.
К. Юнг писал о <i>нуминозе</i> «как о динамическом факторе или эффекте, не
зависящем от произвольного акта воли. Напротив, Н<уминоз> овладевает субъектом и
контролирует его; человек оказывается в большей степени жертвой Н<уминоза>, чем его
творцом. <...> Н<уминоз> — это либо качество, принадлежащее видимому объекту, либо влияния
невидимого существа, которое в любом случае вызывает специфическое изменение сознания.
<...>
Юнг воспринимал веру, сознательную или бессознательную, как готовность довериться
трансцендентной силе, как предпосылку нуминозного опыта. Нуминозное не может быть завоевано, можно лишь открыть себя ему. Но опыт Н<уминоза> — это более, нежели опыт огромной и
неодолимой силы, это столкновение с мощью, заключающей в себе еще не раскрытый, влекущий и
роковой смысл»104.
Вот почему, отказываясь от метафоричности и напряженной ассоциативности и избегая
«больших тем — космического и метафизического характера», являющихся «стержнем символизма» {Мандельштам, 2,289), Ахматова не могла совершенно игнорировать архетипические
аспекты своего «я». Это хорошо заметно в одном из ее ранних, еще вполне подражательных —
«под Мирру Лохвицкую» — стихотворений (январь 1910):
Тебе, Афродита, слагаю танец,
Танец слагаю тебе.
На бледных щеках розовеет румянец....
Улыбнись моей судьбе.
По ночам ты сходила в чертоги Фрины,
Войди в мой тихий дом.
Лиловый туман пробрался в долины.
Луна над твоим холмом.
Скольжу и кружусь в заревом бессилье.
Богиня! Тебе мой гимн.
Руки, как крылья, руки, как крылья,
Над челом золотистый нимб.
Лирическая героиня слагает танец Афродите, и обе они — богиня и танцовщица — увенчаны
«нимбом» луны. Стоит заметить, что метафора «руки, как крылья» явно перекликается с
эротической повестью Михаила Кузмина «Крылья», густо насыщенной античными ассоциациями.
Чуть позже Ахматова научится куда более тонко и осторожно вводить античный «код» в
структуру психологических коллизий своей лирики:
Я не прошу ни мудрости, ни силы.
О, только дайте греться у огня!
Мне холодно... Крылатый иль бескрылый,
Веселый бог не посетит меня.
«Веселый бог» здесь — античный Эрот, который в зависимости от взаимности или
невзаимности любовного переживания может оказаться «крылатым» или «бескрылым». Причем
речь идет не о расхожей аллегории, а о живом и грозном явлении «нуминозного» характера. В
цикле «Смятение», открывающем «Четки», лирическая героиня оказывается перед лицом
опасности, которой она бессильна что-либо противопоставить, и любовь для нее оборачивается
«бескрылостью»:
Не любишь, не хочешь смотреть?
О, как ты красив, проклятый!
И я не могу взлететь,
А с детства была крылатой.
В «Вечере» и «Четках» античный код любовной коллизии зачастую возникал едва
заметными обертонами, которые не всегда были [видны] даже очень чутким критикам. Так, о
лирической героине стихотворения «Я сошла с ума, о мальчик странный...» В. Чудовский (в той
самой статье, которую так высоко ценила Ахматова), заметил: «Первое прикосновение обручального кольца ей кажется укусом звенящей осы...» . Однако стоит внимательнее вчитаться в эти
стихи, чтобы понять неточность его интерпретации:
Я сошла с ума, о мальчик странный,
В среду, в три часа!
Уколола палец безымянный
Мне звенящая оса.
Я ее нечаянно прижала,
И, казалось, умерла она,
Но конец отравленного жала
Был острей веретена.
«Звенящая оса» — вполне реальная деталь (ср. в другом стихотворении: «Любо мне от глаз
твоих зеленых / Ос веселых отгонять»), но в общем контексте любовной коллизии, имеющей в
лирике Ахматовой сквозной характер, эта деталь приобретает дополнительные значения.
«Отравленное жало» — образ того же ряда, что и «отравительница-любовь».
Вряд ли Ахматова не знала, что в античности мифологическим символом любовной страсти
была пчела. [В трагедии Еврипида «Ипполит» в переводе И. Анненского звучит вос клицание]
хора:
О, страшная сила и сладость!
Пчела с ее медом и жалом!
Победу Федры, сумевшей выстоять в поединке с богиней любви, хор в этой трагедии
славил, используя ту же «пчелиную» символику:
Из души своей свободной
Жало страсти вынимает106.
Таким образом, в стихотворении Ахматовой любовная страсть, приравненная к
«отравленному жалу», взята в аспекте античного мифа. Оса (заместившая пчелу) жалит героиню
стихотворения в безымянный палец, на который надето обручальное кольцо:
Посмотри! На пальце безымянном
Так красиво гладкое кольцо.
А так как «гладкое кольцо» является символом церковного брака, то здесь оно выступает
как оберег от любовной страсти, которая в контексте христианской культуры выявляет свой
«демонический», «бесовский» аспект.
Живое и личное восприятие могущественной, <i>нуминозной</i> природы любви является
одним из самых поразительных и устойчивых свойств лирики Ахматовой. Может быть, красноречивее всего об этом говорит одно из поздних ее стихотворений — «В Зазеркалье» (1963):
Красотка очень молода,
Но не из нашего столетья,
Вдвоем нам не бывать — та, третья,
Нас не оставит никогда.
Ты подвигаешь кресло ей,
Я щедро с ней делюсь цветами...
Что делаем — не знаем сами,
Но с каждым мигом нам страшней.
Как вышедшие из тюрьмы,
Мы что-то знаем друг о друге
Ужасное. Мы в адском круге,
А может, это и не мы.
Л. К. Чуковская, которая долго не могла понять, о какой красотке идет речь, записала свой
разговор с Ахматовой:
«— А поняли стихотворение, которое не понимали раньше?
- Нет. Я не понимаю, кто эта дама. "Красотка очень молода, / Но не из нашего столетья".
- Это не женщина, а то состояние, в котором они находятся, — терпеливо объяснила Анна
Андреевна.
- И состоянию подвигают кресло? "Ты подвигаешь кресло ей..." Состоянию — кресло?
- Лидия Корнеевна, я не узнаю Вас сегодня» (Чуковская-3, 84).
Лидии Корнеевне было и в самом деле трудно представить, что поэт, ее современник,
подобно античному трагику, вводит в свои стихи античную богиню любви как живое лицо, а не
как аллегорический прием. Еще труднее было вообразить страх и трепет, который испытывает
семидесятичетырехлетняя Ахматова перед этой «красоткой». Впрочем, тут нет ничего удивительного, если иметь в виду, что речь идет, действительно, не о «состоянии» (в чем Л. К.
Чуковская была совершенно права), а о встрече с Кипридой.
Ахматова назвала это стихотворение «В Зазеркалье», подчеркивая тем самым аномальный
характер того, что происходит с его героями. А чтобы не оставалось сомненья в том, кто такая
«красотка» и из какого она «столетья», выбрала эпиграф из Горация: «О quae beatam, Diva,
tenes Cyprum et Memphis...» («О богиня, которая владычествует над счастливым островом
Кипром и Мемфисом...». Таким образом, в этих стихах речь идет об Афродите, которая
принудительно обрекает двух людей на то, чтобы пребывать в сфере любви, лишенной необходимой меры человечности, и потому эта сфера названа «Зазеркальем». Начиная служить
«красотке», они лишаются свободного волеизъявления и отчуждаются от собственной сущности
— «Вдвоем нам не бывать».
Лидия Корнеевна была бы более понятливой, если бы ей была известна статья Иннокентия
Анненского «Трагедия Ипполита и Федры». Автор ее писал о том, что Афродита изображается
Еврипидом как «непререкаемая сила «великая для смертных и славная на небе», как
«прекрасный символ той жестокой власти, которой безраздельно отданы женские сердца», так
что «богине не надо выдумывать сложной игры со своими жертвами, потому что ее яд действует на
расстоянии, и сама жизнь ей помогает»107.
Чуть позже Ахматова снизошла до непонятливости Лидии Корнеевны, сославшись на слова
Михаила Зенкевича (возможно, ею самой же придуманные): «Знаете что сказал о моем последнем цикле ("Полночные стихи", куда входила "Красотка") Зенкевич? Влюбленность
изображена тут в виде некоей третьей силы, вне людей существующей».
Л. К. Чуковская, подумав, приняла это объяснение:
«Что ж, это верно. То и есть и то, что, что влюбленность в виде посторонней сил ы
изображена в "Красотке", да и в жизни оно так и есть. Приходит некая третья сила и начинает
распоряжаться двумя неповинными людьми. Они, в сущности, ни причем» (Чуковская-3, 111-112).
Но представить себе эту «некую третью силу» персонально, как могущественную Киприду,
Лидия Корнеевна тем не менее не смогла. Еще более показательно отношение к этому
стихотворению Э. Г. Герштейн, которая решила прокомментировать персонажей стихотворения «В
Зазеркалье» чисто бытовым образом: «Но кто же это "они"? Живые люди, бывшие рядом с
Ахматовой, один из них — ее молодой секретарь. Семидесятилетняя Анна Андреевна делится
ненужными ей французскими духами с его женой. В стихах они обозначены как "цветы" ("Ты
придвигаешь кресло ей, / Я щедро с ней делюсь цветами"»108. Это тот случай, когда бытовое
объяснение ахматовских стихов совершенно искажает характер их образности и, следовательно,
их внутреннюю суть.
Куда нижнее, что это стихотворение бросает обратный свет на раннее ахматовское
творчество и, например, делает понятным, почему в процитированном выше стихотворении «Я с
ума сошла, о мальчик странный...»
<...> конец отравленного жала
Был острей веретена.
В известной сказке Шарля Перро «Спящая красавица» укол веретена приносит героине
несчастье, погружая ее в глубокий сон. Аналогом этого сна в стихах о «красотке» выступает
«зазеркалье». Таковы чары Киприды — богини любви в античной мифологии и демоницы в
мифологии христианской. Эта двойственная и двусмысленная природа любви станет позже главным объектом изображения в первой части «Поэмы без героя» — «Девятьсот тринадцатый год».
Здесь стоит снова вернуться к цитированной выше статье Иннокентия Анненского
«Трагедия Ипполита и Федры», в которой анализировалась еврипидовская концепция любви.
Любовь для Федры, писал Анненский, есть, прежде всего, проявление власти Киприды, и она
борется [с ней], как с недугом: «Молчанием и тайной она хотела бы скрыть этот <i>недуг</i>».
Героиня Еврипида признается, что ей «уже никаким ядом <...> не вернуться к прежнему
безразличию» и хочет «вытравить» свою страсть к Ипполиту, чтобы вернуться «к прежнему
безразличию»109. Точно так же пытается преодолеть свой любовный недуг и лирическая героиня
Ахматовой, у которой вырывается странное, на первый взгляд, признание:
Кое-как удалось разлучиться
И постылый пожар потушить.
В стихотворении о «красотке» сфера Киприды не случайно сравнивается с тюрьмой и адом.
Христианский мотив ада возникает в ранней лирике Ахматовой всякий раз, когда любовная тема
шифруется античным «кодом», то есть, предстает в аспекте страсти, как, например, в
стихотворении «Над водой» (1911):
Стройный мальчик пастушок,
Видишь, я в бреду.
Помню плащ и посошок,
На свою беду.
Если встану — упаду.
Дудочка поет: ду-ду!
Мы прощались как во сне,
Я сказала: «Жду!»
Он, смеясь, ответил мне:
«Встретимся в аду».
Если встану — упаду.
Дудочка поет: ду-ду!
Это стихотворение только на первый взгляд выглядит стилизацией в духе Кузмина
(подобные стилизации у Ахматовой есть, но их немного). Сквозь легкий грим пасторального XVIIIго века («пастушок», «дудочка») просвечивает совершенно нешуточный инфернальный мотив. А
в стихотворении «Гость» (1914) Ахматова повторяет этот мотив рифменной перекличкой тех же
самых слов: «аду» — «беду»:
Я спросила: «Чего ты хочешь?»
Он сказал: «Быть с тобой в аду».
Я смеялась: «Ах, напророчишь
Нам обоим, пожалуй, беду».
Мотив «ада» здесь неотделим от мотива эротической близости:
Но, поднявши руку сухую,
Он слегка потрогал цветы:
«Расскажи, как тебя целуют,
Расскажи, как целуешь ты».
И только в этом контексте понятна странная, парадоксальная концовка стихотворения:
О, я знаю: его отрада –
Напряженно и страстно знать,
Что ему ничего не надо,
Что мне не в чем ему отказать.
Герой и героиня стихотворения оба действуют не по своей воле. «Он» знает, что получит то,
в чем совершенно не испытывает никакой необходимости. «Она» прекрасно понимает это, но не в
состоянии избавиться от любовного наваждения. Говоря иными слонами, здесь ощутимо незримое
присутствие все той же «красотки», безраздельное торжество которой логически [ведет] к
поражению человечности.
Недооценка или непонимание того, что любовь в лирике Ахматовой всегда предстает в
аспекте <i>нуминоза</i>, сказываются в истолковании концовки одного из самых известных и
часто цитируемых ее стихотворений — «Все мы бражники здесь, блудницы...»:
О, как сердце мое тоскует!
Не смертного ль часа жду?
А та, что сейчас танцует,
Непременно будет в аду.
Например, В. М. Жирмунский видел здесь предчувствие исторической расплаты —
«приближающейся социальной катастрофы»110. Но это толкование, ставшее общепринятым, не подтверждается текстом стихотворения.
При первой публикации в «Аполлоне» оно имело несколько иную редакцию. Вместо:
На глаза осторожной кошки
Похожи твои глаза, было:
У затравленной дикой кошки
На твои похожи глаза.
В окончательном тексте Ахматова выправила некоторую синтаксическую затрудненность
этого двустишия, но, к сожалению, ослабила его психологическую напряженность.
В. В. Виноградов, обративший внимание на эту правку, писал, что первоначальный «символ
с такими "яркими" эпитетами» был излишне эффектен и красочен: «Он вносил своей
эмоциональной "дикостью" резкий диссонанс в общий аффективный тон стихотворения и был
затем заменен символом с более "домашним" эпитетом <...>»111. Однако именно начальный
вариант, где любимый человек сравнивался с затравленной кошкой, точнее передавал
беспощадную сущность любовной страсти, к которой неприменимы моральные критерии. В
исправленном варианте спутник лирической героини оказывался всего лишь настороже, как
ждущая опасности кошка.
Стоит отметить, что подобное сравнение возникло еще раньше—в стихотворении 1911 года,
обращенном к женщине от лица мужчины:
Целый день провела у окошка
И томилась: «Скорей бы гроза».
Раз у дикой затравленной кошки
Я заметил такие глаза.
Иначе говоря, любовная ситуация может оказаться равно мучительной как для «него», так
и для «нее», поскольку над обоими властвует жестокая и равнодушная Киприда.
В обеих редакциях стихотворения «Все мы бражники здесь, блудницы...» неизменным
осталось изображение эротической атмосферы «cabaret artistique», которую персонифицирует
«та, что сейчас танцует», или, говоря словами раннего ахматовско-го стихотворения, «слагает
танец» Афродите. Она, собственно, и есть «та, третья», воплощающая в себе демонически-жестокую сторону любовного чувства, и поэтому «непременно будет в аду». Изображенная в этом
стихотворении коллизия пронизана мотивами вины и кары, но она имеет вовсе не социальный, а
любовный и психологический характер.
Образ женщины, «слагающей танец» Афродите, Ахматова еще раз повторит в стихотворении,
посвященном «Тамаре Пла-тоновне Карсавиной» (март 1914):
Как песню, слагаешь ты легкий танец –
О славе он нам сказал, На бледных щеках розовеет румянец,
Темней и темней глаза.
И с каждой минутой все больше пленных,
Забывших свое бытие.
И клонится снова в звуках блаженных
Гибкое тело твое.
Ахматова перенесла в эти стихи целые семантические блоки из цитированного выше
стихотворения «Тебе, Афродита, слагаю танец...», превратив автопортрет в портрет балерины.
Забегая вперед, отмечу, что в этом уже угадывается тот принцип «зеркального письма», который
станет определяющим в «Поэме без героя».
Созданный словесными средствами пластический образ танцовщицы говорил о
«дионисийской», оргиастической стороне любви, выраженной музыкой и танцем. Но так Дионис
— бог не только «страстей», но и «страдания» (в русском языке эти слова синонимичны), то в
перспективе это тоже отсылает к «Поэме без героя», героиня которой — танцовщица, одержимая
экстатической «пляской» и увенчанной «злыми рожками». В одной ипостаси она предстает
пленительной вакханкой, в другой — опасной и соблазнительной бесовкой, ведьмой с Брокена, а
за ее танец будет заплачено головой «мальчика». Но в цитированном выше стихотворении «Я с
ума сошла, о, мальчик странный...» лирическая героиня, защищенная от страсти влюбленного
«мальчика» обручальным кольцом, уже заранее оплакивает его: «О тебе ли я заплачу,
странном...».
Античный «код» любовной темы, бывший опознавательным знаком любви-страсти и любвистрадания, возникал в ранних стихах Ахматовой не без влияния непосредственных переживаний.
И прежде всего потому, что жестокая власть любви была для Ахматовой не поэтической
метафорой, а частью [жизни] ее близких современников.
В 1905 году покушается на самоубийство добивавшийся ее благосклонности Николай
Гумилев (в 1907-м он дважды повторит эту попытку). В декабре 1911 года покончил собою безнадежно влюбленный в Ахматову Михаил Линдеберг, который, как полагают исследователи, и
был прототипом «мальчика странного» из стихотворения 1911 года. В апреле 1913 года
добровольно ушел из жизни Всеволод Князев, не [выдержав] своей страдательной роли в
романе с Ольгой Глебовой-Судей-киной, ближайшей подругой Ахматовой. В ноябре того же года
застрелилась талантливая поэтесса Надежда Львова, не перенеся сложных, запутанных
отношений с Валерием Брюсовым. Ахматову эти смерти задели очень больно. Самоубийство
Линдеберга и Князева составит впоследствии сюжетную канву «Поэмы без героя», а Львовой она
посвятит небольшую рецензию, на которой стоит несколько задержаться.
Отмечая в стихах Надежды Львовой любовь как «главную и почти единственную тему»,
Ахматова писала, что эта любовь — «мучительная, болезненно прозорливая и безнадежная». «Ее
страдание, — писала она о безвременно ушедшей поэтессе, — ищет выхода в мечте, не
романтической, которую можно завоевать подвигом воли, но остро-лирической, преображающей
для нее все мгновения жизни». Вместе с тем Ахматова отмечала, что «слова еще не были
покорны Н. Львовой», скорее сама она «была покорна словам» (СС-2, 2, 211-212). За этим
вставала не высказанная прямо, но вполне очевидная мысль о нехватке творческой воли,
способной противостоять роковым обстоятельствам жизни: «Мне кажется, что Н. Львова ломала
свое нежное дарование, заставляя себя писать рондо, газеллы, сонеты. Конечно, и женщинам
доступно высокое мастерство формы <...>, но их сила не в этом, а в умении полно выразить
самое интимное и чудесно-простое в себе и окружающем мире» (СС-2, 2, 212).
«Рондо, газеллы, сонеты» — традиционные классические жанры, которые усиленно
культивировал в русской поэзии Валерий Брюсов, и, таким образом, Ахматова косвенно утверждала, что Львова позволила подчинить себя не только поэтической традиции, но и чужой воле,
не сумев достичь спасительного претворения любви в творчество. Э. Герштейн запомнит фразу,
сказанную Ахматовой о поэтах-самоубийцах — Есенине, Маяковском, Цветаевой: «Какие они
хрупкие!» 112. Надежда Львова была из числа «хрупких».
Острым ощущением <i>нуминозности</i> любви Ахматова оказывалась близка раннему
Маяковскому. Рядовой как будто бы повод (любимая женщина объявляет о своем решении выйти
замуж за другого) в «Облаке в штанах» вызывает образы социальной и космической катастрофы,
а любовь становится причиной невыносимой муки. У Ахматовой и Маяковского, как ни у кого из
поэтов этого поколения, тема любви была насыщена трагедийностью.
В 1950-е годы Ахматова восстановила (или написала заново) стихотворение, которое она
датировала 1909 годом и в котором была [дана] поразительная по глубине и зрелости формула
любовной страсти:
И когда друг друга проклинали
В страсти, раскаленной добела,
Оба мы еще не понимали,
Как земля для двух людей мала.
Чрезвычайно интересны варианты этой формулы:
И когда друг друга проклинали
В бешенстве тоскующего зла.
---------И когда друг друга проклинали
В сатанинской гордости своей.
---------И когда друг друга проклинали
В гордости немыслимой своей.
Здесь
любовь-страсть
предстает
трансформированной
в
аспекте
христианских
представлений: она ввергает любящих в состояние беснования, поистине оборачиваясь для них
«адом».
«Узость» ранней ахматовской лирики, о которой так много писала критика, была сродни
сжатости сценической площадки античной драмы, в чем Ролан Барт видел главную причину
накала страстей и столкновения характеров. В своей известной работе «Расиновский человек» он
писал: «Великие трагедийные места — это иссушенные земли, зажатые между морем и пустыней,
тень и солнце в абсолютном выражении. Достаточно посетить сегодняшнюю Грецию, чтобы понять
жестокую силу малых пространств и осознать, насколько расиновская трагедия в своей идее
"стесненности" соответствует этим местам, которых Расин не видел. Фивы, Бутрот, Трезен — все
эти трагедийные столицы на самом деле крошечные селенья, Трезен, где погибает Федра, — это
выжженный солнцем курган с укреплениями из щебня. <...> Расиновская популяция знает лишь
одну возможность бегства: море, корабли; в "Ифигении" целый народ томится в плену трагедии,
потому что на море нет ветра»113.
Соответственно, в лирике Ахматовой бытовая — и часто совершенно рядовая — ситуация
рождает трагический эмоциональный накал:
Здравствуй!
Легкий шелест слышишь
Справа от стола?
Этих строчек не допишешь —
Я к тебе пришла.
Неужели ты обидишь
Так, как в прошлый раз, Говоришь, что рук не видишь,
Рук моих и глаз.
У тебя светло и просто.
Не гони меня туда,
Где под душным сводом моста
Стынет грязная вода.
Финальные строки этого стихотворения напоминают схожую [ситуацию] цитированного выше
«парижского» стихотворения 1911 года:
Да лучше б я повесилась вчера
Или под поезд бросилась сегодня.
Чувство, загоняющее в петлю, швыряющее под колеса поезда, превращающее человека в
затравленную кошку или приказывающее броситься с моста в грязную воду — такова оборотная
сторона всеми воспетого чуда любви.
В общий трагический разворот любовной лирики вписываются и отмеченные выше
«русалочьи» мотивы:
Мне больше ног моих не надо,
Пусть превратятся в рыбий хвост!
Плыву, и радостна прохлада,
Белеет тускло дальний мост.
<...>
Смотри, как глубоко ныряю,
Держусь за водоросль рукой,
Ничьих я слов не повторяю
И не пленюсь ничьей тоской...
Превращение лирической героини в русалку понятно, если вспомнить старинные поверья о
том, что «что русалки суть души младенцев, умерших некрещеными, а также утопленниц,
удавленниц и вообще женщин и девиц, самопроизвольно лишивших себя жизни, следовательно
души неудостоенных погребения» (А. Н. Афанасьев)114.
Русалка в ранних ахматовских стихах — символ любовной неприкаянности, единственным
выходом из которой становится самоубийство. Позже Ахматова не случайно будет проявлять
такое внимание к пушкинской «Русалке». В своих заметках о Пушкине она особенно выделяла
драматические развязки произведений, персонажами которых оказывались женщины: «<...>
брошенная девушка утопилась ("Русалка"), героиня "Метели" обречена остаться одинокой,
убежавшая с гвардейцем дочь станционного смотрителя стала проституткой. Нет, нет, нет!
Пушкин бросает Онегина к ногам Татьяны, как князя к ногам дочери мельника. У Пушкина
женщина всегда права — слабый всегда прав» (СС-2, 2, 133).
Однако лирическая героиня Ахматовой отнюдь не ощущает себя слабой и хрупкой. Вот
почему в одном из стихотворений 1911 года возникает коллизия разрыва с собственной «русалочьей» природой:
Я пришла сюда, бездельница,
Все равно мне, где скучать!
На пригорке дремлет мельница.
Годы можно здесь молчать.
Над засохшей повиликою
Мягко плавает пчела;
У пруда русалку кликаю,
А русалка умерла.
Затянулся ржавой тиною
Пруд широкий, обмелел,
Над трепещущей осиною
Легкий месяц заблестел.
Замечаю все как новое.
Влажно пахнут тополя.
Я молчу. Молчу, готовая
Снова стать тобой, земля.
Мельницу и пруд здесь можно в равной мере воспринимать и как детали реального пейзажа
(скажем, слепневского), и как реминисценцию из пушкинской «Русалки». Лирическая героиня,
прощаясь с русалкой — своим двойником, — декларирует причастность к земле как отказ от
участи «неудостоенных погребения». «Стать землей» и означает быть похороненным по
христианскому обряду в противовес языческому, «демоническому» обитанию в водной стихии.
«Русалочье» здесь дано как символическое выражение той слабости, которая ведет к поражению
в поединке с Кипридой.
О том, что лирическая героиня Ахматовой несет в себе волевое, героическое начало, раньше
всех сказал Н. В. Недоброво:
«<...> самое голосоведение Ахматовой, твердое и уж скорее самоуверенное, самое
спокойствие в признании и болей, и слабостей, самое, наконец, изобилие поэтически претворенных
мук, — все свидетельствует не о плаксивости по случаю жизненных пустяков, но открывает
лирическую душу скорее жесткую, чем слишком мягкую, скорее жестокую, чем слезливую, и уж
явно господствующую, а не угнетенную.
Огромное страдание этой совсем не так легко уязвимой души объясняется размерами ее
требований, тем, что она хочет радоваться ли, страдать ли только по великим поводам. Другие
люди ходят в миру, ликуют, падают, ушибаются друг о друга, но все это происходит здесь, в
средине мирового круга; а вот Ахматова принадлежит к тем, которые дошли как-то до его края —
и что бы им повернуться и пойти обратно в мир? Но нет, они бьются, мучительно и безнадежно, у
замкнутой границы, и кричат, и плачут. Непонимающий их желания считает их чудаками и
смеется над их пустячными стонами, не подозревая, что если бы эти самые жалкие,
исцарапанные юродивые вдруг забыли свою нелепую страсть и вернулись в мир, то железными
стопами пошли бы они по телам его, живого мирского человека; тогда бы он узнал жестокую силу
там у стенки по пустякам слезившихся капризниц и капризников» 115.
Если мерить любовную коллизию «Вечера» и «Четок» житейскими критериями, то она
может показаться нарочито и излишне аффектированной. Статья Н. В. Недоброво давала
единственно правильную перспективу для понимания ахматов-ской лирики, в которой любовь
дарит человеку ни с чем не сравнимую радость существования и одновременно предстает
опасной и безжалостной силой, способной смять его, как «цветок или письмо».
От лирической героини Ахматовой требуется напряжение всех душевных сил, чтобы устоять
перед лицом психологической катастрофы и не [стать] пассивной жертвой гибельной страсти:
Проводила друга до передней.
Постояла в золотой пыли.
С колоколенки соседней
Звуки важные текли.
Брошена! Придуманное слово, Разве я цветок или письмо?
А глаза глядят уже сурово
В потемневшее трюмо.
Здесь отчетливо звучит тема внезапно закончившегося любовного праздника. Лирическая
героиня еще стоит в «золотой пыли» солнечного луча и слушает удары колокола, доносящиеся «с
колоколенки соседней», но уже начинают доходить размеры случившегося с ней несчастья.
Ровная, певучая интонация первой строфы неожиданно сменяется «вскриком» в начале второй:
«Брошена!» — и последующим горьким вопросом: «Разве я цветок или письмо?» Глядя на свое
отражение в «потемневшее трюмо», она видит себя не столько изменившейся, сколько
<i>измененной</i> этой властью любви, и — сопротивляется, потому что не хочет уподобиться
брошенной вещи. О подобном сопротивлении в другом ахматовском стихотворении сказано так:
Слаб голос мой, но воля не слабеет,
Мне даже легче стало без любви.
Главную роль в освобождении от порабощающей власти любви у Ахматовой играет
творчество:
Я-то вольная. Все мне забава –
Ночью Муза слетит утешать...
Слово «вольная» здесь тесно связано с «волей» не только как «свободой», но и как
свойством характера: освободиться значить стать «вольной», но чтобы суметь это сделать,
необходима «воля». И если любовь имеет над сердцем лирической героини огромную и опасную
власть, то пределы последней ставит творчество. Или как сказал об этом все тот же Н. В. Недоброво:
«Уже по вышеприведенным стихам Ахматовой заметно присутствие в ее творчестве властной
над душою силы. Она не в проявлении "сильного человека" и не в выражении переживаний,
дерзновенно направленных на впечатлительность душ:
лирика Ахматовой полнится
противоположным содержанием. Нет, эта сила в том, до какой степени верно каждому
волнению, хотя бы и от слабости возникшему, находится слово, гибкое и полнодышащее, и, как
слово закона, крепкое и стойкое. Впечатление стойкости и крепости слов так велико, что, мнится, целая человеческая жизнь может удержаться на них; кажется, не будь на той усталой
женщине, которая говорит этими словами, охватывающего ее и сдерживающего крепкого панциря
слов, состав личности тотчас разрушится и живая душа распадется в смерть»116.
5. «Я любимого нигде не встретила...»
В цитировавшейся выше статье «Трагедия Ипполита и Федры», которая удивительным
образом позволяет найти правильный угол для интерпретации ахматовской лирики, Иннокентий
Анненский, открывал свой взгляд на проблему любви. Говоря о том, что герои еврипидовской
драмы попытались освободиться от власти пола как «ига растительной формы души», Анненский
писал, что это стало возможным только в христианской культуре, где любовный инстинкт
«подвергся этической переработке», и осторожно предполагал, что Еврипиду уже «грезился <...>
философский идеализм Евангелия». Евангельский тип любви означал для автора «Кипарисового
ларца» полное и окончательное освобождение личности от «уз пола», и не случайно в конце
своей статьи он вспоминал Евангелие от Матфея: «Ибо в воскресении не женятся, не выходят
замуж, но пребывают, как ангелы Божий, на небесах»117.
В свое время А. Булдеев написал о «безлюбости» лирики самого Анненского, то есть об
отсутствии в ней любовной темы118. Но «безлюбой» для Анненского была сама современная
жизнь, в которой невозможно было осуществить ни героический идеал античности, ни
«философский идеализм Евангелия». Он хорошо сказал об этом в статье «Античный миф в
современной французской поэзии» (1908): «Любовь? Но на пей горят клейма безмыслия и
тления.
Действие? Но ведь это только пародия мысли,, как мысль —лишь невозможность
действовать»119.
Не удивительно, что ни в «Четках», ни в «Белой стае» Ахматова не признавала влияния
автора «Кипарисового ларца».
Однако в позиции Анненского было нечто такое, что она позже осознает глубоко
родственным своей любовной лирике — напряженный этический пафос, носивший осознанный
христианский характер. Не случайно современников, которые хотели видеть в Ахматовой новую
Сафо, задевала ее духовная ориентированность. Она вспоминала, как в 1914 году «Борис Васильевич Анреп написал своему другу Николаю Владимировичу Недоброво: "Она была бы — Сафо,
если бы не ее православная изнеможденность"». Там же Ахматова пояснила: «С Анрепом я
познакомилась в Вел<иком> Посту в 1915 в Царском Селе у Недоброво» (ЗК, 285).
Но дело было, конечно, не в ее великопостной «изнеможденности». Просто в творческом
«я» этой «русалки» и «киевской ведьмы» были глубоко укоренены христианские ценности.
Ахматова вспоминала, как в 1916 году, когда она сказала Гумилеву «что-то неодобрительное» об
их отношениях, тот возразил: «Нет, ты научила меня верить в Бога и любить Россию» (ЗК, 342).
Религиозность Анненского была, однако, совсем иного порядка чем религиозность
Ахматовой. В письме к А. В. Бородиной он признавался: «<...> я потерял бога и беспокойно,
почти безнадежно ищу оправдания для того, что мне кажется справедливым и прекрасным» 120.
Но в то же время писал другой своей конфидентке Е. М. Мухиной, что «наша божественность —
единственное, в чем мы <...> не можем усомниться» 121. «Божественность» личности у Анненского
проявляла себя в преодолении эгоистической ограниченности индивидуального «я», в даре
всепроникающего сострадания, о чем сам он сказал так:
И где-то там мятутся средь огня
Такие ж <i>я</i>, без счета и названья,
И чье-то молодое за меня
Кончается в тоске существованье.
Этот принцип был внесен Анненским и в любовную лирику — точнее, в то, что у него
выступало как любовная лирика. Так, в стихотворении «Два паруса лодки одной» мучительная
невозможность соединения двух любящих людей парадоксально компенсируется гармонией
авторского всеобъемлющего сострадания:
Нависнет ли пламенный зной
Иль, пенясь, расходятся волны,
Два паруса лодки одной,
Одним и дыханьем мы полны.
Нам буря желанья слила,
Мы свиты безумными снами,
Но молча судьба между нами
Черту навсегда провела.
И в ночи беззвездного юга,
Когда так привольно-темно,
Сгорая, коснуться друг друга
Одним парусам не дано.
Разобщенность и неслиянность героев этого стихотворения, подчеркнуты метафорой «два
паруса», но тою же метафорой и преодолены: «два паруса лодки одной». Их объединяет не только
дующий в оба паруса ветер и единое для обоих море (метафоры общего желания и общей
судьбы), но более всего мука единого чувства — невозможности «коснуться друг друга». Но если
трагизм лирики Анненского заключался в невозможности осуществления любви и остром
переживании «безлюбости» современной жизни, то лирическая героиня Ахматовой осознавала
себя под знаком индивидуальной любви как ценности христианской культуры. И в этом она, как
ни странно, была ближе Михаилу Кузмину, нежели Анненскому.
У Кузмина есть стихотворение «Пламень Федры» (1921), в котором проблематика статьи
Иннокентия Анненского «Трагедия Ипполита и Федры» предстает в совершенно ином ключе.
Неистовая страсть Федры сравнивается с «заразой» — «ядом Киприды», но избавление от этой
«заразы» отнюдь не означает отказа от власти пола:
Палючий заразу ветер несет,
Стекает лава с раскаленных высот,
Смертельные открылись ключи,
Витая труба
Хрипит
Древний рассказ.
Глаз
Мечи
Сквозь страстных туч
Лиловым
(Каким известным и каким новым!)
Блеском слепят
(Критской Киприды яд
Могуч!)
Сердце!
<...>
Подними лиловые веки, Федра!
Взгляни на круглое солнце, Федра!
Печени моей не томи, Федра!
Безумная царица, знаешь,
Что отражаешь
Искривленным зеркалом?
Прекрасный лик любви искажен в «искривленном зеркале» сознания «безумной царицы», а
спасение от этого гибельного беснования приходит в результате превращения палящего огня
страсти в пламень Пятидесятницы:
Покой твой убран.
Вымыт и выметен,
Свеча горит,
Стол накрыт,
- Любящий, любовь и любимый Святая Троица,
Посети нас,
И ветер безумной Федры
Да обратится
В Пятидесятницы вихрь вещий!
В Пятидесятнице, христианском празднике Святой Троицы, посвященном сошествию Святого
Духа, как известно, чрезвычайно важна символика огненных языков, зажегшихся над головами
апостолов (Деян., 2, 1-17).
Нетрудно увидеть, что «святая Троица» Кузмина разительно напоминает треугольник
ахматовского «Зазеркалья» — с тою разницей, что у Ахматовой любовь, персонифицированная античной Кипридой, носит непреодолимо инфернальный характер и загоняет любящих в «адский
круг», тогда как у Кузмина она «серафически» соединяет «любящего» и «любимого». Однако
формула «любящий, любовь и любимый» имеет у Кузмина отчетливый гомосексуальный характер,
что придает ей в религиозном отношении кощунственный акцент.
Если в лирике Анненского любовь в ее мучительной, «страстной» сущности перекрывалась
и даже замещалась «философским идеализмом Евангелия», то есть универсальным чувством
сострадания, если у Кузмина она переводилась в го-моэротическую сферу, то лирическая героиня
Ахматовой ощущала себя в прямом столкновении с инфернальностью любовного чувства. И
одновременно открывала инфернальный аспект собственного «я», поскольку сама была
носительницей и воплощением любви.
Взгляд на стихи Ахматовой как «роман-лирику» со сложной психологической интригой,
героями которой являются мужчина и женщина, чаще всего заслонял это обстоятельство. Так,
Андрей Платонов, разбирая коллизию стихотворения «Сжала руки под темной вуалью...», писал:
«Вопль любящей женщины заглушается пошлым бесчеловечием любимого: убивая, он заботится о
ее здоровье: "не стой на ветру"»122. Но достаточно вчитаться в текст стихотворения, чтобы
увидеть, что это, осторожно выражаясь, не совсем так, или совсем не так:
Сжала руки под темной вуалью...
«Отчего ты сегодня бледна?» Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.
Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот...
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.
Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».
Сначала «она» причиняет «ему» жестокую боль («терпкой печалью напоила его допьяна»)
и бежит за ним «до ворот», а питом «он», перенося нанесенный удар, «спокойно и жутко»
произносит свою убийственную фразу: «Не стой на ветру». Праздник любви оборачивается для
обоих мукой «адского круга», и в этом нет ни правых, ни виноватых. В цитированном выше
стихотворении («И когда друг друга проклинали...») лирическая героиня хорошо понимает, «как
земля для двух людей мала». Вот почему такая деталь, как глаза затравленной кошки в разных
стихотворениях Ахматовой относилась то к мужчине, то к женщине — в равной мере жертвам
любовной страсти.
Любовную лирику Ахматовой и «безлюбую» лирику Ан-ненского роднило острое чувство
столкновения с той объективной силой, которую автор «Кипарисового ларца» назвал жутковатоиррациональным именем «НЕ-Я»:
И грани ль ширишь бытия
Иль формы вымыслом ты множишь,
Но в самом <i>Я</i> от глаз <i>НЕ Я</i>
Ты никуда уйти не можешь.
Но у Анненского мощная власть «НЕ-Я» оказывалась объективной логикой бытия,
исключающей идеальную реализацию любви, тогда как у Ахматовой сама любовь в ее
<i>нуминозном</i> аспекте представала как страшная жестокая сила — как «НЕ-Я».
В работах об Ахматовой давно было замечено, что коллизии всех ее стихотворений
переживаются как имевшие место в прошлом, то есть, воспроизводятся памятью. Первым это отметил в своей рецензии на «Вечер» Валериан Чудовский, а позднее В. В. Виноградов описал эту
связь с лингвистической точки зрения:
«Ведь большинство стихотворений Ахматовой — это лирические повести о застывшем миге.
<...> При этом сам этот миг, застывший одновременно, т. е. в целостной структуре стихотворения, рисуется и как воспроизводимый — в прошлом, и как "<i>остановленный</i>" в момент
его течения. Происходит не "развертывание" действия, а "наложение" одного восприятия на другое (с эмоциональными комментариями обычно) из двух временных аспектов, которые
переплетаются. <...>
Аккомпанемент действий обстановочных, которые как бы сопровождают все течение пьесы,
выражен в формах прошедших имперфективного вида с длительным значением. Их зада ча —
вызвать ощущение устойчивости эмоционального фона и, следовательно, пережитости первичной
остроты эмоции»
.
Опираясь на В. В. Виноградова, И. П. Смирнов продемонстрировал, как эта «игра времен»
(термин В. В. Виноградова) приводит к «наложению» одного восприятия на другое» (т. е.
настоящего на прошлое), при котором любая случайность, имевшая место в прошлом,
воспринимается в настоящем как закономерность124. Именно об этой «неслучайности случайного»
говорит с таким волнением, такой напряженностью, такой остротой и такой (отмеченной Б. М.
Эйхенбаумом) артикуляционной и мимической выразительностью лирическая героиня
Ахматовой.
Перчатка с левой руки, надетая на правую руку; перо, задевшее о верх экипажа; устрицы
во льду; выцветший флаг над таможней (примеры можно продолжить) — все это детали, которые
всплывают в памяти лирической героини задним числом. Они случайны до тех пор, пока не стали
«прошлым» и не воскресли, чтобы быть пережитыми снова. Вот тогда они и воспринимаются как
опознавательные знаки «НЕ-Я»:
Все обещало мне его:
Край неба, тусклый и червонный,
И милый сон под Рождество,
И Пасхи ветер многозвенный,
И прутья красные лозы,
И парковые водопады,
И две большие стрекозы
На ржавом чугуне ограды.
И я не верить не могла,
Что будет дружным он со мною,
Когда по горным склонам шла
Горячей каменной тропою.
«Две большие стрекозы на ржавом чугуне ограды» — здесь и случайная деталь, и «символфраза» (В. В. Виноградов), говорящая о «неслучайности» происходящего. Эта деталь не случайно
поставлена в один ряд с «милым сном под Рождество». С Рождества, как известно, начинались
святки, насыщенные магическими обрядами, гаданиями и прогностическими приметами. Мотивы
Пасхи («Пасхи ветер многозвенный») и Вербного воскресенья («прутья красные лозы»)
сакрализуют эти приметы, придавая им не только фольклорный, но и религиозно-символический
смысл.
Верба, как известно, была в славянской мифологии символом роста, жизненной силы,
плодородия, а «молодая, особенно освященная в Вербное воскресенье, <...> защищает от стихий ных бедствий, нечистой силы, болезней и т. п. »125. В итоге становится понятным, почему вся
предметность этого стихотворения собирается в некое таинственное «все»: «Все обещало мне
его». Причем символичность реалий предметного мира вырастает не из какой-либо философской
концепции, но из женского наития, из обостренной интуиции любящей женщины, догадывающейся о случайности неслучайного.
Героиня Ахматовой — угадчица, чувствующая в случайности происходящего с ней
присутствие высшего смысла, и здесь она вписывается в ту характеристику типов творчества,
которую разработал Иннокентий Анненский: «Весь пророк в случайности, в наитии, он весь в
переработке воспринятого извне. <...> Пророк говорит нам лишь об исконной подчиненности и
роковой пассивности нашей натуры, тогда как деятель, наобо рот, героизирует в ней мужское
начало протеста и дерзания»126. «Роковая пассивность» лирической героини Ахматовой не исключала, однако, «мужского начала протеста и дерзания», о чем хорошо сказал Н. В. Недоброво,
заметивший, что Ахматова в своей любовной лирике разработала «поэтику мужественное-ти»127.
Предметный мир в любовной лирике Ахматовой выстраивался как мир предвестий и
предзнаменований, в котором говоря словами гетевского «Фауста», «все неспроста и все полно
примет». Поэтому не случайно Ахматова так настаивала на своем «купальском» происхождении,
крепко помня, что кануном Ивана Купалы был чтимый в народе день Аграфены-Купальницы,
приходящийся на 23 июня:
Со дня Купальницы-Аграфены
Малиновый платок хранит.
Молчит, а ликует, как царь Давид.
В морозной келье белы стены,
И с ним никто не говорит.
Вот что писал об этом дне А. Н. Афанасьев: «Возле Купала, слившегося в христианскую эпоху
с Иоанном-крестителем, — в наших преданиях выступает К у п а л ь н и ц а , имя которой сделалось
эпитетом св. Аграфены, так как память этой последней празднуется на 23-е июня. <...> В
Переяславле Залесском есть храм Пресв. Богородицы, именуемой местными жителями
К у п а л ь н и ц е ю».
Афанасьев видел в соединении имен Ивана Купалы и Аграфены память о Перуне и Ладе,
которые «купались в дождевых потоках», и объяснял соответственным образом появление в
купальских обрядовых песнях соединение имен Ивана и Марьи128. В этом контексте ахматовское
стихотворение говорит о любовной встрече, освященной таинственной купальской обрядовостью,
но в итоге переведенной в аспект библейско-хри-стианской символики: женщина отождествлена
с Аграфеной-Купальницей (римская мученица св. Агриппина), мужчина — с ликующим царем
Давидом.
Это стихотворение — далеко не единственное свидетельство того, насколько важным для
Ахматовой было так называемое «народное христианство», в котором фольклорная основа все гда просвечивает сквозь религиозную символику. Любимый человек видится лирической
героиней ее стихов не только в интерьере жилой комнаты, гостиной или ресторана, но и в не коем
символическом пространстве, где он предстает «женихом», тем «суженым-ряженым», о ком,
например, гадают на святках:
Я не хочу ни горечи, ни мщенья,
Пускай умру с последней белой вьюгой.
О нем гадала я в канун Крещенья.
Я в январе была его подругой.
Он — тот, с кем обручаются перед аналоем один раз и на всю жизнь:
Все равно, что ты наглый и злой,
Все равно, что ты любишь других,
Предо мной золотой аналой,
И со мной сероглазый жених.
Несмотря на то, что любовь оказывается источником страдания и боли, она все равно
переживается как «божий подарок», а все горькое и страшное в этом чувстве воспринимается
религиозно — как указание на предначертанный свыше «невидимый» путь:
Отчего же Бог меня наказывал
Каждый день и каждый час?
Или это Ангел мне указывал
Свет, невидимый для нас?
День рождения любимого человека переживается лирической героиней как религиозный
праздник:
Солнце комнату наполнило
Пылью желтой и сквозной.
Я проснулась и припомнила:
Милый, нынче праздник твой.
Оттого и оснеженная
Даль за окнами тепла,
Оттого и я, бессонная,
Как причастница спала.
Как известно, причастие — главнейшее христианское таинство и одно из самых
значительных событий внутренней жизни верующего. Так что любовь выступает в данном случае
в своей духовной сущности, как религиозное переживание бытия.
Поэтому так важен в лирике Ахматовой библейско-евангельский языковой ресурс, из
которого черпается лексика ее символических уподоблений. Близость с любимым человеком
уподоблена пребыванию «святилище тьмы», а произнесенный им любовный комплимент
воспринимается как нечто прозвучавшее на неземном языке «серафима»:
И слаще хвалы серафима
Мне губ твоих милая лесть...
Встреча с «ним» переживается как событие полное высокого, едва ли не вселенского
смысла:
Казалось мне, что туча с тучей
Сшибется где-то в вышине
И молнии огонь летучий
И голос радости могучей,
Как Ангелы, сойдут ко мне, а «единое слово» о «нем» оказывается «нужнее насущного хлеба».
В. В. Виноградов, цитируя стихотворение «Память о солнце в сердце слабеет / Желтей
трава...», писал: «Первые строки лишь до тех пор могли быть недвусмысленнно поняты как рассказ о поздней осени, о наступлении зимы, пока этот словесный ряд, органически
развивающийся и лишь смутным намеком в упоминании о "сердце" <...> открывавший намеком
метафорическому смыслу, не был пересечен с назойливой неожиданностью восклицанием, которое
определяет все стихотворение как речь, обращенную к бывшему любовнику (к <i>бывшему</i>
"солнцу": "ты — солнце моих песнопений"):
Может быть, лучше, что я не стала
Вашей женой.
И после этих слов совсем иной свет излучает "солнце" заключительных строк <...>» 129.
В данном случае В. В. Виноградов обратил внимание на символику «солнца», которая в
стихах Ахматовой явно вдвинута в эротический контекст:
Безвольно слабеют колени,
И кажется, нечем дышать...
Ты — солнце моих песнопений,
Ты — жизни моей благодать.
Или:
Но, когда замираю, смиренная,
На груди твоей, снега белей,
Как ликует твое умудренное
Сердце — солнце отчизны моей!
Здесь солнцу уподобляется не просто любовь вообще, а любимый человек, то есть
конкретный современник, которого при желании можно вычислить в биографическом окружении
автора. По этому поводу Н. В. Недоброво писал: «<...> в лучах великой любви является человек в
поэзии Ахматовой. Мукой живой души платит она за его возвеличение. <...>
Я думаю, все мы видим приблизительно тех же людей, и, однако, прочитав стихи
Ахматовой, мы наполняемся новою гордостью за жизнь и за человека. Большинство из нас пока
ведь совсем иначе относится к людям; еще в умерших, так-сяк, можно предположить что-нибудь
высокое, но в современниках? — как не пожать плечами?» 130.
Религиозный смысл любви у Ахматовой был связан с представлением о любви как
универсальной ценности христианского духа и, прежде всего, с даруемой ею чувством свободы:
То пятое время года,
Только его славословь.
Дыши последней свободой,
Оттого что это — любовь.
Высоко небо взлетело,
Легки очертанья вещей,
И уже не празднует тело
Годовщину грусти своей.
В этих стихах любовь становится способом преображения мира в точном религиозном
смысле слова, величайшим торжеством духа, просветлением плотской природы человека и даже
Благовещением:
Ты был испуган нашей первой встречей,
А я уже молилась о второй.
Ты не со мной, но это не разлука:
Мне каждый миг — торжественная весть.
Тем не менее [это] не снимало проблемы инфернального аспекта любви, столь остро
поставленную Вл. Соловьевым. Власть Эроса признавалась в лирике Ахматовой безусловной и
абсолютной как нечто, пролагающее дорогу для чего-то более высшего, чем является она сама по
себе, то есть к высшей свободе. Но так как никакая власть в принципе несовместима со
свободой, то не удивительно, что Эрос выявлял свою демоническую природу и кодировался
античными ассоциациями. Вот почему переживание любви как высшей религиозной ценности
одновременно обостряло сознание ее оборотной, «греховной» стороны:
Протертый коврик под иконой,
В прохладной комнате темно,
И густо плющ темно-зеленый
Завил широкое окно.
От роз струится запах сладкий,
Трещит лампадка, чуть горя.
Пестро расписаны укладки
Рукой любовной кустаря.
И у окна белеют пяльцы...
Твой профиль тонок и жесток.
Ты зацелованные пальцы
Брезгливо прячешь под платок.
А сердцу стало страшно биться,
Такая в нем теперь тоска...
И в косах спутанных таится
Чуть слышный запах табака.
Это стихотворение заставляет вспомнить замечание Б. Эйхенбаума об оксюморонности
образа лирической героини Ахматовой — «не то "блудницы" с бурными страстями, не то нищей
монахини, которая может вымолить у бога прощенье»131. Как известно, именно этой формулой
воспользовался позже А. А. Жданов в своем печально знаменитом докладе 1946 года.
Здесь стоит заметить, что у представителей формальной школы в литературоведении, к
которой принадлежал в 1920-е годы Б. М. Эйхенбаум, была одна общая черта: игнорирование
духовного опыта, реализованного в «конструкции» текста. Это объяснялось не только
разительным несовпадением личного опыта филолога с внутренним миром поэта, но и тем, что
«формалисты» решительно изгнали из сферы своих занятий поэзией религию, этику и
психологию, сосредотачиваясь исключительно на языке, в котором реализован «прием».
Отсюда поражающая психологическая нечувствительность и даже некоторая комичность
характеристики, которую дает Б. М. Эйхенбаум лирической героине Ахматовой. Если речь идет о
«бурных страстях», то носительница их — непременно «блудница», а вымолить у Бога прощенье
может только «монахиня», почему-то названная «нищей». В процитированном выше
стихотворении речь идет, с одной стороны, о религиозной устремленности любовного чувства
(«лампадка», «протертый коврик под иконой»), с другой — о его же неустранимой греховности
(«зацелованные пальцы», «запах табака» в «спутанных косах»). Именно эта антиномичность
рождает ту психологическую напряженность, едва ли не отчаяние, что прорывается
интонационно выделенным словом «страшно»: «А сердцу cтало <i>страшно</i> биться».
Нравственно-психологическая коллизия лирики Ахматовой 1910-х годов обусловлена прежде
всего религиозным переживанием двойственности и двусмысленности любовного чувства, в
котором свобода неразрывно связана с грехом и виной:
Я и плакала и каялась,
Хоть бы с неба грянул гром!
Сердце темное измаялось
В нежилом дому твоем.
Боль я знаю нестерпимую,
Стыд обратного пути...
Страшно, страшно к нелюбимому,
Страшно к тихому войти.
А склонюсь к нему нарядная,
Ожерельями звеня, Только спросит: «Ненаглядная!
Где молилась за меня?»
Здесь внешнее поведение «нарядной», в звенящих «ожерельях», эмансипированной дамы
XX века поразительно контрастирует с ее же психологическим состоянием, более свойствен ным
для женщины, воспитанной в патриархальной традиции старого русского быта. В другом
стихотворении Ахматова воспроизведет коллизию измены в стилизованном, фольклорном
варианте:
Муж хлестал меня узорчатым,
Вдвое сложенным ремнем.
где «узорчатый ремень» функционально соответствует «грянувшему грому».
В конечном итоге любовная коллизия предстает в ее стихах как парадоксальное единство
правой, «высокой свободы» и неправого, «низкого» предательства:
Ты спрашиваешь, что я сделала с тобою,
Врученным мне навек любовью и судьбою.
Я предала тебя. И это повторять —
О, если бы ты мог когда-нибудь устать!
Так мертвый говорит, убийцы сон тревожа,
Так Ангел смерти ждет у рокового ложа.
Прости меня теперь. Учил прощать Господь.
В недуге горестном моя томится плоть,
А вольный дух уже почиет безмятежно.
Я помню только сад, сквозной, осенний, нежный,
И крики журавлей, и черные поля...
О, как была с тобой мне сладостна земля!
Предательство оказывается неразрывно связанным с «вольным духом» любви. Более того,
эта вина в итоге и осмысливается как главная причина «небывшей любви»:
Родилась я ни поздно, ни рано,
Это время блаженно одно,
Только сердцу прожить без обмана
Было Господом не дано.
Оттого и темно в светлице,
Оттого и друзья мои,
Как вечерние грустные птицы,
О небывшей поют любви.
«Греховность» любви может переживаться как ее неустранимая метафизическая «порча», а
освобождение от нее — как «выздоровление» от некоего «обмана» и «морока»:
Оба мы в страну обманную
Забрели и горько каемся.
Однако даже в случае величайшего духовного риска, в который ввергает прикосновение к
инфернальной стороне любви, лирическая героиня продолжает отстаивать ее как неоспоримую
ценность, от которой невозможно отречься:
Мы хотели муки жалящей
Вместо счастья безмятежного...
Не покину я товарища
И беспутного и нежного.
Э. Г. Герштейн однажды заметила, что «все значение поэтической системы Ахматовой
заключается в том, что она разрабатывает порожденный ее творческой фантазией сюжет, не имеющий прямой связи с событиями ее личной жизни» 132. Содержательную сторону этого сюжета, то
по аналогии с названием основного труда Владимира Соловьева — «Оправдание добра» — можно
было бы определить как «оправдание любви», то есть очищение ее от инфернального аспекта.
Об этом Ахматова сказала сама точно и ясно:
Ты, росой окропляющий травы,
Вестью душу мою оживи, Не для страсти, не для забавы,
Для великой земной любви.
«Великая земная любовь» в ранней лирике Ахматовой представала как продиктованная
свыше религиозная задача, решить которую ее лирическая героиня оказывалась не в силах,
переживая это как свою личную трагическую вину:
Я любимого нигде не встретила:
Столько стран прошла напрасно.
И, вернувшись, я Отцу ответила:
«Да, Отец! — твоя земля прекрасна.
Я завет твой, Господи, исполнила
И на зов твой радостно ответила,
На твоей земле я все запомнила
И любимого нигде не встретила».
Примечания
1. Винокур Г. О. Биография и культура. Русское сценическое произношение / Отв. ред.
Н. Н. Розанова. М, 1997. С. 53.
2. Чуковская Лидия. Записки об Анне Ахматовой: В трех томах. Т. 1. 1938—1941; Т. 2.
1952-1962; Т. 3. 1963-1966. М., 1997. При ссылке на это издание в скобках — Чуковская — с
указанием тома и страницы арабскими цифрами.
3. Найман Анатолий. Рассказы об Анне Ахматовой. Издание обновленное и дополненное.
М., 1999. С. 58-59.
4. Воспоминания об Анне Ахматовой / Составители В. Я. Виленкин и В. А. Черных.
Коммент. А. В. Курт и К. М. Поливанов. М, 1991. При ссылках на это издание в скобках —
Воспоминания с указанием страницы.
5. См. : Лянда Наталья. Ангел с печальным лицом. Образ Анны Ахматовой в творчестве
Модильяни. СПб. 1996; Носик Б. Анна и Амедео. История тайной любви Ахматовой и
Модильяни, или Рисунок в интерьере. Документальная повесть. М., 1997. В данном случае на
совести Бориса Носика остается поразительно пошлый тон его книги и совершенно
неуместный ракурс изображения взаимоотношений Ахматовой и Модильяни, не говоря уже
об откровенных натяжках в интерпретации ахматовской лирики.
6. Ахматова Анна. Сочинения: В 2 т. Том 1 / Составл., подг. текста и комментарии В.
А. Черных; Том 2 / Составл., подг. текста и комментарии Э. Г. Герштейн, Л. А. Мандрыкной,
В. А. Черных. Переводы Н. И. Глен. М., 1987. При ссылках на это издание в скобках — СС-2 с
указанием тома и страницы.
7. Ахматова Анна. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1998-2002. При ссылках на это
издание в скобках — СС-6 с указанием тома и страницы.
8. См. комментарий к переписке Бориса Пастернака и Софьи Николаевны Мотовиловой:
«Вы — чудо доброты...». К истории одной переписки / Публ. Александра Парниса // IN
MEMORIUM. Исторический сборник памяти А. И. Добкина / Составл. В. Е. Аллой, Т. Б.
Притыкина. СПб; Париж. 2000. С. 146.
9. Пойман Аврил. История русского символизма /Авториз. перевод. Пере вод с англ. В. В.
Исакович. М., 1998. С. 169-173.
10. Черных В. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Часть I. M., 1996. С. 11; при
ссылках на это издание в скобках — Летопись-1 с указанием страницы. Черных В. Летопись
жизни и творчества Анны Ахматовой. Часть II. М, 1998; при ссылках на издание Летопись-2 с указанием страницы. Черных В. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой.
Часть III. M., 2001; при ссылках на издание — Летопись-3 с указанием страницы. Черных В.
Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Часть IV. М., 2003; при ссылках на издание —
Летопись-4 с указанием страницы.
11. Записные книжки Анны Ахматовой (1958 -1966) / Составл. и подг. текста К. Н.
Суворовой. Вступ. статья Э. Г. Герштейн. Научное консультирование, вводные заметки к
записным книжкам, указатели В. А. Черных. Москва; Torino, 1996. При ссылках на это издание
здесь и далее — ЗК с указанием страницы в скобках.
12. ОР РНБ. Ф. 1073. Ахматова А. А. № 530.
13. Черных В. А. Творчество Н. С. Гумилева в поздней оценке Анны Ахматовой //
Гумилевские чтения. Материалы международной конференции филологов-славистов. СПб.
1996. С. 199.
14. Ермолаев И. П. Историческая хронология. Казань. 1989. С. 111-114.
15. Стихи и письма. Анна Ахматова. Н. Гумилев / Публикация, составл. и примеч. Э. Г.
Герштейн // Новый мир. 1986. № 9. С. 203.
16. Зеленин Д. К. Избранные труды. Очерки русской мифологии: Умершие неестественной
смертью и русалки / Подг. текста, коммент. и составл. указа телей Е. Е. Левкиевской. М.,
1995. С. 273.
17. Лукницкий П. Н. Встречи с Анной Ахматовой. Том I. 1924-1925. Paris. 1991; Он же.
Встречи с Анной Ахматовой. Том II. Париж; Москва. 1997. При ссылках на это издание в
скобках - Лукницкий-1 и Лукницкий-2 с указанием тома и страницы.
18. Брюсов В. Сегодняшний день русской поэзии (50 сборников стихов 1911-1912 г. ) //
Русская мысль. 1912. № 7. С. 22.
19. Мандельштам О. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1993-1997. При ссылках на это
издание в скобках — Мандельштам с указанием тома и страницы.
20. Цит. по: Найман Анатолий. Рассказы об Анне Ахматовой. М., 1989. С. 294.
21. Гроссман Леонид. Анна Ахматова // Свиток № 4. Сборник литературного общества
«Никитинские субботники». М., 1926. С. 295 -297.
22. Гиперборей. 1912. Ноябрь. С. 27 . Существует попытка доказать, что автором этой
рецензии был Николай Гумилев: Крейд Вадим. Неизвестная рецензия Гумилева на книгу
Ахматовой «Вечер» // Записки русской академической группы в США. Т. XXIII. New York.
1990. С. 153-161. В. А. Черных считает ее автором Сергея Городецкого (Летопись-1, 58).
23. Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии / Комментарий и подг. текста Р. Д.
Тименчика. М., 1990. С. 56.
24. Жирмунский В. Два направл ения современной л ирики // Жирмунс кий В. Поэтика
русской поэзии. СПб., 2001. С. 406.
25. Троцкий С. В. Воспоминания / Публ. А. В. Лаврова // Новое литера турное
обозрение. 1994. № 10. С. 63.
26. Там же.
27. В кн. : Жирмунский В. М. Творчество Анны Ахматовой / Отв. редактор Е. Г.
Эткинд. Л., 1973. С. 7, 11.
28. Накамура Есикадзу. Анна Ахматова в дневниках Наруми // Мера. 1994. № 4. С.
88.
29. Рафалович Сергей. Анна Ахматова // ARS. 1919. № 1. С. 2.
30. Югурта [А. К. Топорков]. Тризны и кануны. Ч. II. Распад // Северные записки. 1916. № 6.
С. 133.
31. Л[еонид] К[анегиссер]. Анна Ахматова. Четки. Стихи. 1914 // Северные записки. 1914. №
5. С. 176.
32. Брюсов В. Новые течения в русской поэзии. Акмеизм // Русская мысль. 1913. № 4. С. 141.
33. Анна Ахматова: Десятые годы / Составл. и примеч. Р. Д. Тименчика и К. М. Поливанова.
Послесловие Р. Д. Тименчика. М., 1989. С. 264.
34. Виноградов В. В. О поэзии Анны Ахматовой (Стилистические наброски) // Виноградов В. В.
Избранные труды. Поэтика русской литературы / Отв. ред. М. П. Алексеев, А. П. Чудаков. М.,
1976. С. 428.
35. Брюсов В. Сегодняшний день русской поэзии (50 сборников стихов 1911-1912 г. ). С. 22.
36. Виноградов В. В. О поэзии Анны Ахматовой (Стилистические наброски). С. 428.
37. Блок А. А. Собрание сочинений: В 8 т. М. ; Л., 1960-1963 / Под общ. ред. В. Н. Орлова и
др. Записные книжки. 1901-1920 / Составл., подг. текста, предисл. и примеч. Вл. Орлова. М., 1965.
При ссылках на это издание в скобках -- Блок с указанием номера тома и страницы; при ссылках на
Записные книжки в скобках — Блок, ЗК с указанием страницы.
38. Долинин А. Акмеизм // Заветы. 1913. № 5. С. 161.
39. Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика / Отв. редакторы 10. Д.
Левин, Д. С. Лихачев. Издание подг. Н. А. Жирмунской. Л., 1977. С. 116.
39. Пастернак Борис. Собрание сочинений: В 5 г. / Ред. колл. А. А. Вознесенский и др. М, 19891992. При ссылках на это издание в скобках — Пас-тернаг с указанием тома и страницы.
41. Гиппиус Василий. Анна Ахматова / Публ. и коммент. М. Баженова // Литературная учеба.
1989. № 3. С. 132-133.
42. Эйхенбаум Б. Роман-лирика // Вестник литературы. 1921. № G-7. С. 217.
43. Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 118.
44. Магомедова Д. М. Анненский и Ахматова (к проблеме «романизации» лирики) //
Царственное слово. Ахматовскиечтения. Вып. 1. М., 1992. С. 139.
45. Брюсов В. Год русской поэзии (апрель 1913-апрель 1914). Продолжатели // Русская мысль.
1914. № 7. С. 19.
46. Кузмин М. Парнасские наросли // Завтра. I. II. Берлин. 1923. С. 118.
47. Голлербах Э. Петербургская Камена (из впечатлений последних лет) // Россия. 1922. № 1. С.
87.
48. Миндлин Э. Анна Ахматова. Anno Domini MCMXXI. Петрополис. Птр. 1921 // Экран. 1922. №
17. С. 9.
49. Эйхен6аум Б. О поэзии. Л., 1969. С. 146.
50. Жирмунский В. М. Творчество Анны Ахматовой. Л., 1973. С. 124-125.
51. Ахматова Анна. Десятые годы. С. 265, 270, 273.
52. Тынянов Ю. Н. Вопрос о Тютчеве // Ю. Н. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино /
Отв. ред. М. П. Алексеев., А. П. Чудаков. М:, 1976. С. 51.
53. Там же. С. 51.
54. Жирмунский В. М. Творчество Анны Ахматовой. С. 71.
55. Лукницкая Вера. Николай Гумилев. Жизнь поэта но материалам домашнего архива семьи
Лукницких. С. 105. :° Письмо Г. В. Петровой от 11. 05. 2003.
57. Полянин А. ( С. Парнок). Отмеченные имена // Северные записки. 1913. № 4. С. 114.
58. Иванов-Разумник. Жеманницы. «Четки» Анны Ахматовой и «Печальное вино» В. Инбер //
Заветы. 1914. № 4. С. 141.
59. Л[еонид]К[анегиссер]. Айна Ахматова. Четки. Стихи. 1914 // Северные записки. 1914. № 5.
С. 176.. :
60. Иванов-Разумник. Творчество и критика. 1908-1922. 116. 1922. С. 196.
61. В кн. : Ахматова Анна. Вечер. СПб. 1912. С. 8.
62. Чудовский В. По поводу стихов Анны Ахматовой // Аполлон. 1912. № 5. С. 48.
63. Ходасевич Владислав. Анна Ахматова. Четки. Стихи. Изд-во «Гиперборей». СПб., 1914 //
Новь. 1914. № 68. 5 апреля.
64. ОР РНБ. Ф. 1073. А. А. Ахматова. №№ 1814, 1825, 1839.
65. Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 20 т. Т. 9. М., 1963. С. 375-376.
66. Гинзбург Лидия. О лирике. Л., 1974. С. 240.
67. Недоброво Николай. Милый голос. Избранные произведения / Составление, примечания и
послесловие Михаила Кралина. Томск. 2001. С. 204-207.
68. Недоброво Н. В. Анна Ахматова // Русская мысль. 1915. № 7. С. 53-56.
69. Рейснер Лариса. Избранное. М., 1965. С. 522.
70. Эйхенбаум Б. О поэзии. С. 88-111.
71. Анненский Иннокентий. Книги отражений / Изд. подг. Н. Т. Ашимбаева, И. И. Подольская, А.
В. Федоров. М., 1979. С. 486.
72 Гинзбург Лидия. О лирике. С. 344-345.
73. Айхенвальд Юлий. Поэты и поэтессы. М., 1922. С. 55.
74. Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 174.
75. Чуковский об Ахматовой. По архивным материалам / Публ. и примеч. Елены Чуковской //
Новый мир. 1987. № 3. С. 228.
76. Мочулъский К. Поэтическое творчество Анны Ахматовой // Литературное обозрение. 1989.
№ 5. С. 52.
77. Гинзбург Лидия. О старом и новом. Л., 1982. С. 389.
78. Найман Анатолий. Рассказы об Анне Ахматовой. С. 54.
79. Белый А. Арабески. М., 1911. С. 218.
80 Белый А. Трагедия творчества. Достоевский и Толстой. М., 1911. С. 18.
81. Виноградов В. В. О поэзии Анны Ахматовой (Стилистические наброски). С. 373-374.
82. Там же. С. 399-400.
83. Там же. С. 451.
84. Жирмунский В. М. Творчество Анны Ахматовой. С. 103-105.
85. Симченко О. В. Тема памяти в творчестве Анны Ахматовой // Изв. АН СССР. Сер.
литературы и языка. 1985. Т. 44. № 6. С. 507-508.
86. Жирмунский В. Поэзия Кузмина // Жизнь искусства. 1920. 7 октября. № 576.
87. Гинзбург Лидия. Литература в поисках реальности. Статьи. Эссе. Заметки. Л., 1987. С. 106107.
88. Кузмин М. Эмоциональность как основной элемент искусства // Арена. Пб., 1924. С. 9.
89. Тименчик Р. Д., Топоров В. Н., Цивъян Т. В. Ахматова и Кузмин // Russian Literature.
Amsterdam. 1978/ VI-3/Jule. P. 256-266.
90. Голлербах Э. Радостный путник (о творчестве М. А. Кузмина) // Книга и революция. 1922.
№ 3. С. 44-45.
91. Тименчик Р. Д., Топоров В. Н., Цивъян Т. В. Ахматова и Кузмин. Р. 265.
92. Лавров А., Тименчик Р. «Милые старые миры и грядущий век». Штрихи к портрету М.
Кузмина // Кузмин М. Избранные произведения / Составл., подг. текста, вступ. статья и
комментарии А. Лаврова, Р. Тименчика. Л.. 1990. С. 13.
93. Глебов И. Музыка в творчестве М. Кузмина // Жизнь искусства. 1920. 12 октября. № 580.
94. Тименчик'Р. Д., Топоров В. Н., Цивъян Т. В. Ахматова и Кузмин. Р. 263.
95. Эйхенбаум Б. О поэзии. С. 136.
96. См.: Тименчик Р. Д., Топоров В. Н., Цивъян Т. В. Ахматова и Кузмин. С. 258.
97. Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. С. 335.
98. Павловский А. И. Анна Ахматова. Очерк творчества. Л., 1982. С. 82.
99. Соловьев Владимир. Ф. И. Тютчев // Соловьев Владимир. Стихотворения. Эстетика.
Литературная критика. / Составление, статья, комментарии Н. В. Котрелева. М., 1990. С. 292-293.
100. Недоброво Н. В. О Тютчеве/ Вступительная статья, публикация и комментарий Е.
Орловой // Вопросы литературы. 2000. № 6. С. 303.
101. Там же. С. 282.
102. Соловьев Владимир. Ф. И. Тютчев. С. 290.
103. Альфонсов В. Поэзия Бориса Пастернака. Л., 1990. С. 105.
104. Сэмъюэлз Э., Шортпер Б., Плот Ф. Критический словарь аналитической психологии К. Юнга.
М, 1994. С. 96-97.
105. Чудовский В. По поводу стихов Анны Ахматовой. С. 46.
106. Театр Еврипида. Том первый. СПб., 1907. С. 291-300.
107. Анненский Иннокентий. Книги отражений. С. 383.
108. Герштейн Э. Г. Память писателя. Статьи и исследования 30-90-х годов. СПб., 2001. С.
571.
109. Анненский Иннокентий. Книги отражений. С. 387-388.
110. Жирмунский В. М. Творчество Анны Ахматовой. С. 150-151.
111. Виноградов В. В. О поэзии Анны Ахматовой (Стилистические наброски). С. 395.
112. Герштейн Эмма. Поэт поэту - брат // Знамя. 1999. № 10. С. 135.
113. Барт Ролан. Расиновский человек // Ролан Барт. Избранные работы. Семиотика. Поэтика /
Переводы с французского. Составление, общая редакция и вступительная статья Г. К. Косикова. М.,
1994. С. 146.
114. Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. <Репринтное изд. 1869
года>. Т. 3. М., 1994. С. 240.
115. Недоброво Н. В. Анна Ахматова // Русская мысль. 1915. № 7. С. 64.
116. Там же. С. 57.
117. Анненский Иннокентий. Книги отражений. С. 396-397.
118.Булдеев А. И. Ф. Анненский как поэт // Жатва. 1912. № 3. С. 199.
119. Анненский Ин. Античный миф в современной французской поэзии // Гермес. 1908. № 10 .
С. 287.
120. Анненский Иннокентий. Книги отражений. С. 457.
121. Там же. С. 481.
122. Платонов А. Размышления читателя. М, 1980. С. 129.
123. Виноградов В. В. О поэзии Анны Ахматовой (Стилистические наброски). С. 428.
124. Смирнов И. П. Причинно-следственные структуры поэтических произведений //
Исследования по поэтике и стилистике. Л., 1972.
125. Славянская мифология. Энциклопедический словарь / Научные редакторы В. Я.
Петрухин, Т. А. Агапкина, Л. Н. Виноградова, С. М. Толстая. М, 1995. С. 81.
126. Анненский Иннокентий. Книги отражений. С. 238.
127. Недоброво Н. В. Анна Ахматова. С. 60.
128. Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 3. С. 721 -722.
129. Виноградов В. В. О поэзии Анны Ахматовой (Стилистические наброски). С. 406.
130. Недоброво Н. Анна Ахматова. С. 67.
131. Эйхенбаум Б. О поэзии. С. 136.
132. Герштейн Эмма. Поэт поэту — брат. С. 141.