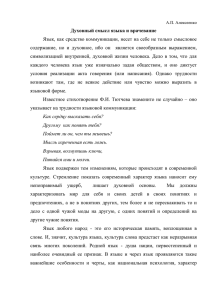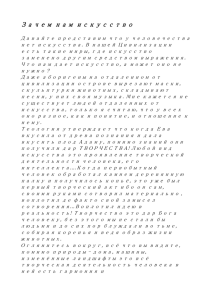1 Александр Ломоносов Заметки по поводу книги Сергея
advertisement

Александр Ломоносов Заметки по поводу книги Сергея Даниэля «Музей» Русский язык за время своей истории успел вобрать в себя множество замечательных красок, т.е. особенных средств выразительности речи, присущих культуре различных народов, что, конечно, нашло своё выражение и в самой культуре нашего языка. В этом может убедиться каждый на примере очередной книги С.М.Даниэля «Музей», выпущенной в свет Санкт-Петербургским издательством «Аврора» в 2012 году. На наш взгляд, однако, настоящее достоинство этой книги отнюдь не в той богатой языковой палитре, с помощью которой автор искусно, как, впрочем, и подобает художнику и историку искусства, облекает известные нам сочетания слов в художественнопривлекательную форму, а совершенно в ином. Ведь у внешней стороны культуры русского языка имеется внутренняя суть, состоящая в почитании совершенно не выразимой внешним образом красоты, по отношению к которой все иные идеалы (будь-то содомский или даже идеал мадонны, о которых писал Ф.М.Достоевский в «Братьях Карамазовых»), просто бледнеют и гаснут. Сокровенная мечта русской души как раз и состоит в том, чтобы предельно близко подойти к тому единственному и неповторимому, но не выразимому с помощью каких-либо красок, звуков или других наличных средств, неземному истоку всех возможных в мире сём явлений красоты. К тому самому первообразу, что, согласно нашей поговорке, нельзя ни в сказке сказать, ни пером описать1. Эту неиссякаемую любовь к недоступной внешнему зрению и выражению во внешнем слове «ненаглядной красе», ради которой герои русских сказок отправлялись на край света, в «иное царство», в «иные земли», где «красно солнышко из синя моря восходит», мы находим и в книге Сергея Даниэля «Музей». Она и составляет эзотерическое, т.е. тайное для внешних чувств и рассудка, содержание данного произведения. Поэтому не удивительно, что такие, казалось бы, безупречные в научном смысле термины, как классицизм, реализм, абстракционизм в свете этой любви оборачиваются, по словам самого автора – ныне доктора искусствоведения, профессора Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина Российской Академии художеств и Европейского университета в Санкт-Петербурге – всего лишь в раскрашенную рассудочность, в некие отвлечённые слова-этикетки. Когда речь идёт об идее самой красоты, тогда всё, что имеет значение в обычной, сменяющей лишь внешние декорации, жизни, уходит на второй план и, если вообще не отвергается, то теряет смысл. Поэтому и убеждение А.С.Пушкина, что «поэзия выше нравственности», Из русских философов Серебряного века, искавших в фольклорном материале ключи к тайне национального духа, можно назвать Е.Н.Трубецкого, написавшего в 1922 году небольшую книгу «Иное царство и его искатели в русской народной сказке» и Б.П.Вышеславцева, выступившего в 1923 году в Риме с докладом «Русский национальный характер». 1 2 высказанное им П.А.Вяземскому, следует понимать так, что художественная деятельность не может быть подчинена никаким, даже самым благородным, но, увы, только условным историческим целям. Перед настоящим художником просто невозможно поставить ту или иную внешнюю задачу, будь-то «согревать любовью к добродетели», или «воспалять ненавистью к пороку» и т.д. В этом смысле красота, поскольку она отрицает все обычные представления о счастье, пользе и смысле человеческого существования, является, несомненно, страшной и ужасной вещью (это выражение тоже принадлежит Ф.М.Достоевскому, однако, чтобы понять его смысл во всей полноте, т.е. понять, каким образом эта ужасная, отрицающая всё и вся, вещь преобразуется в спасающую душу истинную красоту, внешнего знакомства с творчеством великого русского писателя, разумеется, недостаточно). Даже личное имя, со всеми приставшими к нему за отпущенный нам судьбой век регалиями, может быть помехой, мешающей слышать звуки небес, по выражению М.Ю.Лермонтова, а потому должно быть предано забвению. Так что вдумчивого и неравнодушного к истинной красоте читателя, несомненно, впечатлят слова, завершающие эту весьма непростую по своему замыслу книгу – слова, которые, похоже, и сам автор в глубине своей души считает единственно достойными настоящего художника. Благо, что с таковым ему не только довелось встретиться (в книге этого настоящего художника почтительно величают Стариком), но и сообща с товарищами по искусству совершать духовное паломничество в мир ненаглядной красоты, к великолепной храмине, как однажды назвал этот мир художественного слова Н.В.Гоголь. Именно Старику во многом были обязаны его великовозрастные подопечные, к числу которых относится и автор книги, поскольку он буквально вдохнул в них ясное понимание того, что художественная правда лежит глубже самого натурального изображения предмета. Вот эти завершающие эту книгу слова: «Помню, как однажды в Музее он долго стоял у маленькой картины неизвестного мастера, всматривался, надев очки, потом сказал: «Как это хорошо – “неизвестный мастер”. А что значит быть известным? Пыль в глаза…». Читателю ничего неизвестно о личной жизни Старика, разве что отдельные моменты, но зато какие! Старик видел самого Павла Филонова – высокого, ноги в обмотках, но неистово учительствующего. За Филоновым, по его словам, «ученики как за пророком ходили. И знаете, его сам Пикассо не устраивал, вот до чего!»… По своей форме книга «Музей» напоминает «Самопознание» Н.А.Бердяева. Правда, в книге Даниэля мы имеем дело не с философической, а, если можно так выразиться, с художественно представленной автобиографией, где явления внешней жизни имеют значение лишь в связи с их художественным восприятием. Бытие в том виде, как оно непосредственно дано чувственному восприятию и рассудку, в котором, как пишет Даниэль, «всё оценивается пятью баллами и действительностью называют действительность магазинов, жратвы и тряпок», для художественного восприятия не является подлинной действительностью. Отсюда и появляется в книге образ Музея как мира одухотворённых вещей, т.е. вещей, которые способны вещать истинное, благое и прекрасное, где душа художника чувствует себя хотя бы в относительной 3 гармонии с собой и миром. Если бы её не терзала проблема высшей гармонии, или единения с подлинной действительностью, которая, по словам автора, «исполнена тайны, как хорошая старая живопись», то можно было бы остановиться и на пассивном созерцании созданных художниками разных эпох и разных направлений образов красоты – красоты in rebus, т.е. овеществлённой. Однако художественный способ самопознания духа, который последовательно пытается провести в рассматриваемой нами книге Сергей Даниэль, не оставляет его в этой точке, а побуждает идти всё дальше и дальше. Но куда? Во всяком случае, совсем не туда, куда идёт большинство, поскольку автора «не устраивает идея прогрессирующего развития искусства, согласно которой история живописи предстаёт как восхождение от примитивных форм отражения мира к формам более сложным и совершенным. Кто же превзошёл Рублёва и Рембрандта? Малевич?!...». С влиянием Казимира Малевича на художественное восприятие автора книги читатель может познакомиться не только в виде приводимых им фрагментов учения этого художника, но и обратив внимание на включённые в книгу рисунки, выполненные им в 1969-1971 годах. Влияние мэтра чувствуется, прежде всего, в виде довольно прочно усвоенных автором представлений, что «художественное действие достигает выражения посредством линий, плоскостей и тел (объёмов) и создаёт статистические или динамические формы разного рода, которые в свою очередь дают различные результаты по цвету, оттенкам, структуре, фактуре, конструкции и системе». Однако, что ни говори, но художественная правда Малевича как-то уж слишком абстрагировалась от русского представления о «ненаглядной красоте», почему Сергею Даниэлю, наметившему было уже «верный путь из одного тупика» пришлось, разумеется, не без горечи для себя самого осознать безнадёжность «эстетики циркуля и числа». Можно, конечно, упорно придерживаться распространённого представления о том, что эстетическое восприятие индивидуально и непредсказуемо, пытаясь таким способом оправдать свои эксклюзивные, т.е. только тебе понятные, ориентации в искусстве. Но тогда зачем эстетика как теория? И что могут дать критически мыслящему художнику теоретические спекуляции? Метод? Но истинный метод невозможно дедуцировать из теории в виде декартовых правил. Им можно только владеть, но владеть со знанием своего дела. Старик был таков. Впрочем, нашему автору всё-таки удалось выразить суть метода своего наставника в предельно простой, прямо-таки оккамовской формулировке: «Не проводить ни одной линии без необходимости». Много внимания автор уделяет своим друзьям-однокашникам, которым так же приходилось пробиваться искривлёнными путями к гоголевской великолепной храмине. Но в том-то и польза взгляда со стороны, когда роль «стороны» исполняет не просто твой сокурсник, а весьма небеспристрастный соперник, которому доставляет удовольствие ошпарить друга кипятком возражений. Тогда лучше и быстрее доходит. «Знаю ли я, что значит "авангард"?» – с таким явно провокационным вопросом обратился однажды к главному герою и автору книги его, пожалуй, самый близкий друг, некто Акимов, и заметил: «А вот Джон Леннон говорит, что это – "дерьмо" в переводе с французского». Хотя самой 4 важной стороной совместного обучения, будь-то в художественном училище или в Институте имени Репина, являются отнюдь не дерзкие выплески разногласий «сторон», а их внутреннее сближение на благодатной почве служения искусству. Именно сознание себя споспешником общему делу побуждает к самым возвышенным откровениям: «Или – или. Сказал Циркуль (Один из друзей автора книги. – А.Л.). Или духовное содержание – или суета сует и томление души. Или ты проводник истины и принимаешь Евангелие как единственно необходимое содержание жизни и искусства, а вместе с тем берёшь на себя громадную ответственность перед Богом и людьми, – или тебя прельщают и смущают, как говорил отец Павел Флоренский, "духи века сего"». Вот уж действительно, в корень зрел Гоголь, усматривавший в искусстве незримую ступень к христианству! Мы видим, что поиск иного языка, т.е. «языка ещё более чистого, не обременённого вообще никакой телесностью, – языка всеобъемлющего, под стать Слову Евангелия», приводит Циркуля к пределу возможности самого художественного способа познания. «Наконец, может появиться форма, уничтожающая самоё себя!». Да, без таких психопатов, как выразился однажды о Циркуле сам автор книги, нива жизни точно бы заглохла. Ещё раз процитируем А.С.Пушкина: «Есть упоение в бою, // И бездны мрачной на краю». Мы видим, каким стихийно-своеобразно-творческим, а, по Гоголю, искривлённым путём шёл к истинно прекрасному главный герой книги. В его «увлечённости теоретическими изысканиями», в частности, попыткой развить понимание сущности красоты по Уильяму Хогарту, изложенной в книге главе «Анализ красоты», проявилась необходимость для духа как такового преодолеть в себе самом раздвоенность на теорию и практику (опыт), стать действительным для себя самого, достичь безусловного самостоянья, как сказал Пушкин. Пока же истина Старика, что «сокровенный опыт видения принципиально не подлежит истолкованию в границах языка, что рука и глаз должны договориться без слов», – остаётся для идущих по его следу неоспоримой истиной… Впрочем, Старик в глубине души всегда искал, но, конечно, не слова, а единственно стоящее слово, т.е. слово самой истины, понимая, что оно непременно откроется тем из нас, кто будет следовать его доброму совету: «Не торопитесь! У нас мало времени, чтобы торопиться!».