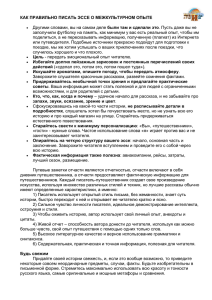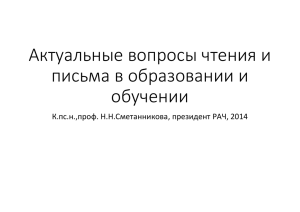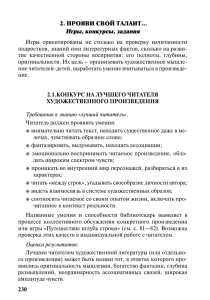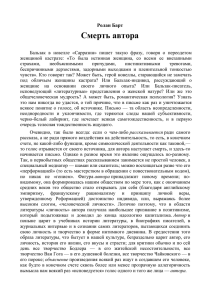А.С. Карпов доктор филологических наук, профессор
advertisement
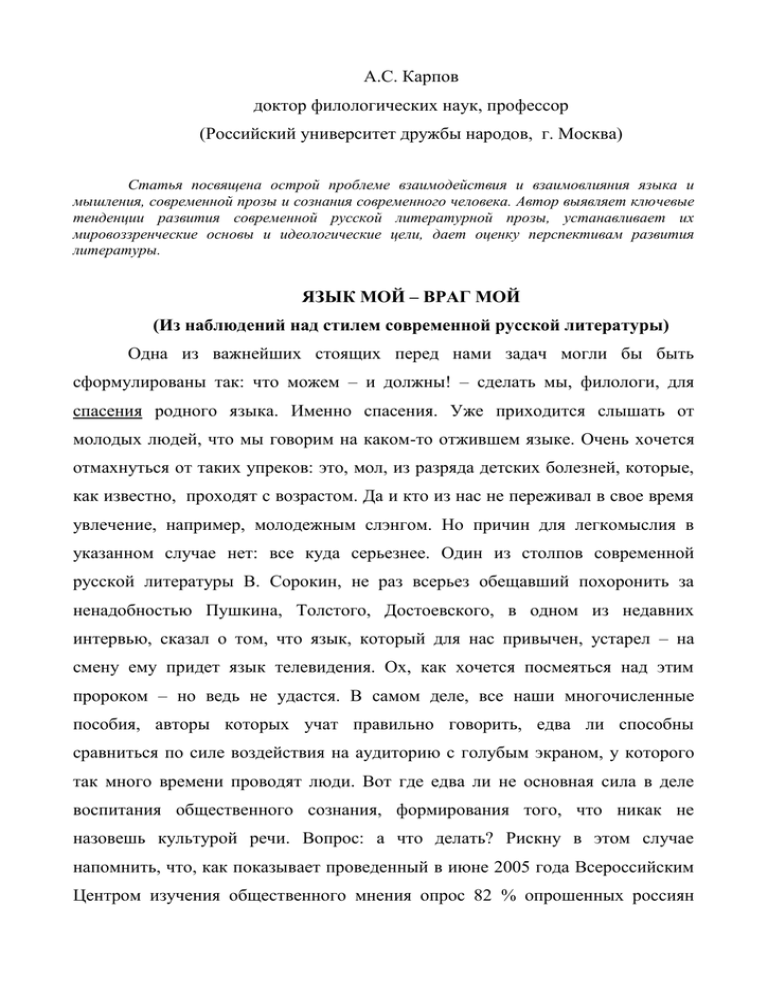
А.С. Карпов доктор филологических наук, профессор (Российский университет дружбы народов, г. Москва) Статья посвящена острой проблеме взаимодействия и взаимовлияния языка и мышления, современной прозы и сознания современного человека. Автор выявляет ключевые тенденции развития современной русской литературной прозы, устанавливает их мировоззренческие основы и идеологические цели, дает оценку перспективам развития литературы. ЯЗЫК МОЙ – ВРАГ МОЙ (Из наблюдений над стилем современной русской литературы) Одна из важнейших стоящих перед нами задач могли бы быть сформулированы так: что можем – и должны! – сделать мы, филологи, для спасения родного языка. Именно спасения. Уже приходится слышать от молодых людей, что мы говорим на каком-то отжившем языке. Очень хочется отмахнуться от таких упреков: это, мол, из разряда детских болезней, которые, как известно, проходят с возрастом. Да и кто из нас не переживал в свое время увлечение, например, молодежным слэнгом. Но причин для легкомыслия в указанном случае нет: все куда серьезнее. Один из столпов современной русской литературы В. Сорокин, не раз всерьез обещавший похоронить за ненадобностью Пушкина, Толстого, Достоевского, в одном из недавних интервью, сказал о том, что язык, который для нас привычен, устарел – на смену ему придет язык телевидения. Ох, как хочется посмеяться над этим пророком – но ведь не удастся. В самом деле, все наши многочисленные пособия, авторы которых учат правильно говорить, едва ли способны сравниться по силе воздействия на аудиторию с голубым экраном, у которого так много времени проводят люди. Вот где едва ли не основная сила в деле воспитания общественного сознания, формирования того, что никак не назовешь культурой речи. Вопрос: а что делать? Рискну в этом случае напомнить, что, как показывает проведенный в июне 2005 года Всероссийским Центром изучения общественного мнения опрос 82 % опрошенных россиян были убеждены в необходимости введения цензуры на телевидении, такой же опрос в июле 2008 года свидетельствует: 58 % опрошенных за цензуру в СМИ. Замечу в скобках, что в США от 25 до 50 % опрошенных убеждены, что искусство должно подвергаться цензуре, если это мнение разделяет большинство общества. Даже из учебных пособий известно, что текст может стать литературным произведением лишь при условии пересечения в этой точке писателя (настаиваю: писателя, а не скриптора) и читателя, к которому он непременно (порою вызывающе отрицая это) адресуется. Отношения писателя и читателя по природе своей всегда далеки от идиллических – причин тому бесконечно много: даже читатель – друг порою не способен в полной мере довериться писателю, что уж говорить о тех, кто стоит на иных, нежели автор, позициях. В советскую эпоху взаимоотношения писателя и власти (идеологии) заставляли едва ли не забывать о читателе: представление о нем, о том, что именно ему нужно давать, формировалось во властных кабинетах, где раздавались чины, звания, награды и т.д. И определялись тиражи: кому не известно, как мало были обеспокоены издатели тем фактом, что значительная часть высоко оцененных властью книг нередко оставалась на книжных складах и потом могла быть попросту отправлено в макулатуру. Но и то сказать: читатель, не избалованный вниманием к нему так называемых «инженеров человеческих душ», охотно принимал едва ли не за шедевры то, что ему выдавали. Вот уж поистине: писатель пописывал (как сказал Шолохов, по велению своего сердца, которое принадлежало партии), а читатель почитывал – книга и жизнь воспринимались как естественно противостоящие явления. Как было сказано когда-то Маяковским: «Мало ли что можно в книжке намолоть». Положение резко изменилось с падением советской власти, с исчезновением цензуры. Впрочем, если иметь в виду последнюю, то она вовсе не пропала, а лишь приняла иную – часто еще более пагубную – форму: идеологию сменила коммерция, ориентация на массового читателя, который еще в 1908 году был назван К. Чуковским «многомиллионным дикарем», «устрицами» и – вслед за Герценом – «паюсной икрой»: «Он, который смеется, когда видит кастрюлю, надетую вместо шляпы, и плачет, когда теряет серебряный рубль…». Подводя в 1910 (!) году итоги минувшего литературного года, Чуковский писал: «Пришел какой-то новый, многомиллионный читатель – и это, конечно, радость, но дело в том, что читатель этот почему-то без головы или с булавочной, крошечной головкой. Читатель – микроцефал. И вот для такого микроцефала в огромном, гомерическом количестве печатаются микроцефальские журналы и книги». По литературоведческой терминологии, существует литература телесного «верха» и «низа», сегодня странным образом смыкающаяся. Здесь можно напомнить о бесчисленных сочинениях всевозможных донцовых, дашковых, устиновых и иже с ними, о подвигах милых дам, у которых из-под цивильного плаща виден милицейский мундир. Или – о романах (преимущественно женских), при встрече с которыми поневоле вспомнишь слова поэта: «Очень многие дяди и тети / За отсутствием вкуса и слуха / Очень часто томления плоти / Выдают за явления духа» (И. Губерман). Такого рода изделия едва ли претендуют на то, чтобы занять место в истории литературы, но, к сожалению, находят своего читателя/покупателя. Но не будем судить слишком строго: вспомним, как плотно была населена советская литература бесполыми партдамами, в интимных ситуациях разражавшихся монологами, которые и с трибуны прозвучали бы фальшиво. Наверное, и в этом объяснение появлению всевозможных – часто псевдоисторических – сочинений, призванных удовлетворять упорно не сбывающиеся сегодня мечты о героях-красавцах, что соревнуются в благородстве с особами противоположного пола, охотно, но не слишком долго, изображающими неприступность. О стиле такого рода сочинений говорить не приходится: это что-то среднее между языком милицейского протокола и инструкцией к пылесосу, обильно сдобренной слащавостью. В этом же ряду находятся и получающие признание у определенной части читающей публики гламурные сочинения О. Робски («Сasual 2. Пляска головой и ногами») и К. Собчак («Стильные штучки Ксении Собчак»), убеждающие читателя в том, что красиво жить не запретишь: здесь апологитизируется социальная пропасть между населяющими Рублевку «новыми русскими» и теми, кому это недоступно. Так что же – возрождать цензуру? Само это слово теперь воспринимается едва ли не как бранное. К тому же сразу возникает вопрос: а судьи кто? Опять чиновники с их вкусами и представлениями о том, что можно и чего нельзя? Но и иначе спросить: а где альтернатива? Не забыть и о том, что для подавляющего большинства публики – читающей и не читающей – представление о свободе (это слово сегодня – из числа самых употребляемых) связывается прежде всего с представлением о возможности выхода за пределы каких бы то ни было норм. И прежде всего – нравственных. Такой читатель ищет сильных раздражений – во все времена такого рода желания удовлетворяются обращением к сексу, смеху, скандалу, смеху, ужасу, азарту погони – к первобытному юмору. Так было и сто лет назад, когда многие бросились раскрепощать плоть: Кузмин писал о гомосексуализме, СергеевЦенский – о некрофилии, Арцыбашев – о свободной любви, ЗиновьеваАннибал – о любви лесбийской. Впрочем, сегодня этим уже никого не удивишь Участники столь же популярного, сколь и малопристойного телешоу «Комедии клаб» возмущаются, когда телеведущий упрекает их за слишком частое употребление слова жопа, и аудитория громко присоединяется к ним. Мы и без них знаем о существовании этих слов и, положа руку на сердце, порой и сами употребляем их. Беда в другом: усилиями всяких «звезд» (а как сказано недавно актером Нагиевым, нынче каждая вонючка может назвать себя звездой) эта лексика переходит в разряд повседневной, воспринимается как нечто обыденное. И уже не приходится удивляться, когда такого рода словечки звучат даже в университетских стенах. Все это – из разряда банальностей, но ведь в языке получает выражение бытовая идеология общества. И недаром он воспринимается теперь как составляющее национальной безопасности. Но дальше громких слов по этому поводу, звучащих с властных высот, дело не идет. Конечно же, язык, как все живое, развивается, одно в нем умирает, другое появляется – идет процесс языкового расширения. А что это такое, в чем выражается, каковы результаты? Да, есть «Русский словарь языкового расширения» А. Солженицына; есть, например, В. Личутин, в романах которого персонажи разговаривают, явно прибегая к словарю Даля. Но кто возьмется утверждать, что такие слова способны вести самостоятельную жизнь в общенародном языке? Разве что законодательно ввести в обращение те из них, смысл которых понятен лишь ограниченному количеству людей. Да ведь и в упомянутом Словаре, как показывают исследователи, 7% (приблизительно 14 000) слов принадлежит самому составителю. Если они и принадлежат живому языку, то автор является единственным его носителем, а для всех других они некая глокая куздра. Но процесс, как выражается Солженицын, «освежения» языка может идти и с помощью научных изысканий. Известна книга П. Орешкина «Вавилонский феномен» (Рим, 1984), где можно встретиться с такими вот упражнениями в области этимологии: этруски – это руски; санскрит – с ан скрит (с ним скрыт) и даже имя Эзоп прочитывается как «е – зоп – у славян поворачиваться задом к собеседнику и было «эзоповским языком». Амазонки = аз жонки (это – женщины). Посмеяться бы над этим «патриотом», для которого не существовало Гомера, Платона, Плутарха, Софокла и пр. – это все псевдонимы тех, кто родился в ХIV – ХV вв. и писал на древнеславянском языке. Бред? Но на обложке книги – выдержка из письма автору Солженицына, где сказано: «Это очень дерзко и несомненно – талантливо». Как говорится в подобных случаях – без комментариев. Уже раздаются сетования по поводу того, что корни русского языка зачахли и почти перестали плодоносить, многие лексические ветви выпадают. Стоит напомниь: в академическом Словаре 1847 года 153 слова начинаются корнем «люб», а в Словаре 1982 года осталось 41 (лексико-семантическая группа «любовь» сократилась вчетверо – может быть, просто она заменяется сексом и, если и встречается, то – в странном соединении со словом «заниматься» ею): на упомянутом стволе не появилось ни одного нового ветвления. То же с «добр(о)» и «зл(о)»: было соответственно 146 и 254, осталось 52 и 85. Да, чрезвычайно активизировался процесс заимствования из чужих языков. Процесс естественный, но не безобидный, ибо речь в этом случае идет о трансляции чужой культуры. И часто – в ущерб собственной. Превосходный пример такого вот словесной мешанины встречается в стихотворении великолепно владеющего современным русским языком поэта Т Кибирова «Инфинитивная поэзия»: «Сникирснуть / Сделать паузу – скушать / Твикс / Оттянуться по полной. / Не париться / Пиарить /Клубиться, / Позиционировать / Зачищать / Монетезировать и растаможить / Зажигать». Поэт, разумеется, иронизирует, только ирония эта – горькая. Кто (а главное – как) возьмется за лексическое и концептуальное обогащение русского языка на его собственной корневой основе? Кажется, с этой целью создан в 2006 году при Санкт-Петербургском университете под эгидой МАПРЯЛ Центр творческого развития русского языка. Центром вот уже два года проводится выбор Слова года по нескольким номинациям: в 2007 году на первое место вышло слово гламур, в 2008 – кризис. Нет необходимости объяснять, почему первенствовали именно они. Любопытно другое: в номинации «неологизм и жаргонизм» вперед вышли «пазитифф», «обаманна», «стабилизец». Не скрою, однако, сомнений по поводу того, можно ли воспринимать итоги этой работы, в которой принимали участи читатели «Новой газеты», «Живого журнала» и электронной рассылки руководителя упомянутого Центра М. Эпштейна, в качестве картины сегодняшнего состояния живого русского языка. Может быть, это относится лишь к языку определенной – и не столь уж многочисленной – части образованной элиты. Но, согласимся: узок круг этих интеллектуалов, страшно далеки они от народа. В ряду самых употребительных, например, встречается здесь слово «тандемократия». Можно порадоваться остроумию людей, которые изобрели его. Но, и понимающему, что такое демократия, доводилось ли встречаться с нею? А что касается тандема, то это – из словаря преимущественно читателей «Новой газеты», играющей на политическом подиуме роль печатного органа интеллигентной оппозиции. Процесс языкового расширения (одновременно – с суживанием лексического поля) действительно идет. Радоваться ли этому? Как сказано очень давно: камо грядеши? В недавно вышедшей монографии М. Кронгауза с названием столь же примечательным, сколь и тревожным, «Русский язык на грани нервного срыва» выразительно охарактеризована картина сегодняшнего состояния нашего родного языка. Точно сказано здесь о существовании в нем групп риска. Это – криминальная лексика, молодежный жаргон, язык гламурных изданий, язык интеркоммуникаций. Примеров тому предостаточно. Запомнилась угроза президента Путина, пообещавшего «мочить в сортире» террористов и т.д. Легко понять, почему криминальная (блатная) лексика занимает такое место в современном русском языке: криминальная обстановка в стране, ничем не стесняемая власть разнообразных вчерашних авторитетов (паханов), которые нынче обзавелись всякого рода «корочками», «пилят» бюджет или «крышуют» бизнес; резко снижающийся (в том числе, благодаря усилиям таких популярных телешоу как «Кривое зеркало» или «Аншлаг») культурный уровень массы – все это очень сближает лексический состав уголовников с речью тех, кто сидит у телеэкранов. Молодежный жаргон существует всегда, но изменяется по своему составу. Щеголяние приблатненными словечками издавна было в моде у молодых, но, пожалуй, сегодня они, благодаря рекламе, пиару, низкопробным телешоу потеснены жутковатыми англицизмами (бьюти-консультант, менеджер по клинингу – уборщица) или просто туалетным юмором. С властных верхов довольно часто раздаются слова о языковой политике, но они остаются пустыми – реальными действиями не подкрепляются. Одно из ярких свидетельств тому – безудержная экспансия англицизмов (именно так – отнюдь не английского языка): лексический состав языка радио, телевидения от этого, может быть, и расширяется, но степень доступности его чрезвычайно суживается. А самое главное – возникает некое месиво, создающее у того, кто к нему прибегает, ложное ощущение своей приобщенности мировой, то есть иноязычной культуре. Особое место занимает здесь гламур, вышедший за пределы глянцевых журналов в литературу, охотно предоставляющей место всякого рода светским львицам: невольно возникает чувство жалости по отношению к читателям, погружающимся в мир, о котором можно рассказывать лишь на языке незабвенной Эллочки-людоедки, лишь количественно увеличив ее лексикон. Но есть еще один чрезвычайно широкий лексический слой, который нынче чрезвычайно активно участвует в процессе языкового расширения. Это – обсценная лексика. Набор корневых слов здесь очень невелик, но, например, том словаря, в основе которого лежит лишь одно – самое короткое в этом ряду – слово имеет объем едва ли не две сотни страниц: и в этом случае составители словаря обращаются к действительно живому языку. Один из самых интеллектуальных современных писателей А. Битов уверяет, что мат – единственная область русского языка, не подвергавшаяся в тоталитарную эпоху геноциду. И нынче, если на экране / телеэкране уже редко обходятся без эротики (подчас – очень, что называется, крутой), то и в литературе она (нередко с применением обсценной лексики) стала едва ли не признаком хорошего тона. Один лишь пример: в романе весьма популярного сегодня писателя А. Иванова «Блудо и мудо» вереница совокуплений венчается пассажем объемом почти в пять строк, где нет ни одного (за исключением предлогов) не матерного слова. А вот еще один забавный случай. Поэт А. Вознесенский, всегда шагавший в ногу со временем, когда-то охотно вводил в свои стихи «синхрофазотроны» и другое, как он выражался «программированное зверье». Его уже нет в живых, но стихи-то продолжают жить, и в них поэт – до конца дней своих продолжавший, если использовать слова Есенина, «задрав штаны, бежать за комсомолом». Среди последних из написанных им стихов встретилось стихотворение «Гламурная революция», где можно прочесть: «Над эстрадой нашей хабалковой / звезды – Галкин и Пугачева», а завершается оно уравнением «Максим + Алла = любовь». Но вот какое обстоятельство: изобретательный поэт к выписанной выше строке дает, мягко говоря, неожиданную рифму. Надо ли напоминать, что рифмующиеся слова не только созвучны, но и по смыслу, так сказать, отсвечивают одно в другом. К слову «любовь» рифмы напрашиваются сами, но, согласитесь, есть разница между рифмующимися словесными парами «любовь – кровь» и «любовь – морковь». Но, конечно, современный поэт куда более изобретателен; процитированная строка стоит следом за «fuck you off». Может быть, на иностранном языке это словосочетание звучит не столь вызывающе, как на родном, но думается, перевод не нужен даже читателю, который читает лишь написанное на заборе. Можно поразиться поэтической виртуозности, но в то же время невольно задумаешься, как выглядят в этом случае обожаемые желтой прессой упомянутый поэтом Ромео и его уже в прошлом веке перезревшая Джульетта? Профессиональная самонадеянность позволяет думать, что в процессе овладения языком, а, стало быть, и формировании сознания – активную роль играет литература. Как сказано писателем М. Шишкиным, «язык русской литературы – это оборона. Островок слов, на котором должно быть сохранено человеческое достоинство». Однако, как свидетельствуют социологические опрос, половина населения книг не покупает, и почти треть – не читает. Ну, а с чем встречаются те, кто оказывается на книжном рынке? Вот это последнее слово в нашем сегодняшнем лексиконе – самое распространенное и, с моей точки зрения, самое страшное: купля/продажа – вот универсальный ценностный критерий. Верно сказано писателем А. Гладилиным: «Книга превратилась в обыкновенный товар, как редиска, как мыло, как подштанники. А товар надо уметь продавать, только и всего». И вот уже на встрече книгоиздателей с работниками книжной торговли прозвучали признания в том, что талантливые писатели издателям не нужны – их книги пользуются у покупателя куда меньшим спросом, чем литература иного сорта. А встреча с нею убеждает в том, что язык современной литературы совсем не то, что всегда привычно именовалось литературным языком, который воспринимался как норма. Уже некорректно было бы говорить о его засорении, искажении и т.д. – так велик на книжных страницах пласт словесного мусора. И воспринимается это как свидетельство деградации общества, теряющего собственное национальное богатство, каким является для нас русский язык. Образцы чистого языка и в наши дни еще можно встретить в литературе (не буду называть имена), но очень беспокоит, с одной стороны, поток сочинений, стиль которых представляет собой нечто среднее между милицейским протоколом и инструкцией к пылесосу, а с другой (если угодно – полярной) – мутный, дурно пахнущий речевой поток. Последнее, к сожалению, отнюдь не метафора. Остается лишь вслед за поэтом Г. Русаковым посетовать по поводу того, что современная русская проза «похожа на человека с грязной шеей… Откуда в литературе Бунина, Булгакова, Паустовского такое великое множество авторов с непрожеванными словами». И это еще мягко сказано. И. Яркевич в книге с выразительным названием «Как я занимался онанизмом» (по-моему, великолепная автохарактеристика индивидуального творческого процесса) пишет: «Когда Булат впервые запел, все задумались и очень обрадовались, а вот когда я сел в жопу, никто не обрадовался, хотя по значению для развитого советского общества это событие было настолько же значительное, как и то, когда впервые запел Булат». Порадуемся за поэта, который, садясь, предпочел иное место. Но ведь приведенные выше слова порождены не просто желанием шокировать читателя. Дело куда более серьезно: так получает выражение стремление сломать всю систему ценностей в нашей культуре, литературе, где по-настоящему формируется, сохраняется язык. Но ведь, если верить И. Яркевичу, «для России сегодня литература – невразумительный либеральный понос» Впрочем, он может выразиться и более резко: «на русскую литературу давно всем насрать», русская литература «скурвилась и опустилась», «у русской литературы нет ничего кроме проблем. Да и самой русской литературы тоже нет, вся она – фантом или мираж, или чтото такое». Понять, чем вызваны эти оценки, можно лишь, вспомнив, откуда смотрит на русскую литературу этот так называемый писатель. Напомнить об этом нужно вовсе не для того, чтобы шокировать аудиторию. Настаиваю: тут – дело чрезвычайно серьезное. В издающемся в Вене журнале «Словесная агрессия» указывается на то, что непристойность (на вербальном уровне – разрядка агрессивного импульса и наоборот. Упомяну в этой связи о том, что один из крупнейших психологов ХХ века Эрих Фромм считал грязную брань проявлением наиболее злокачественной агрессивности: «Прямым проявлением речевой некрофилии (влечение к мертвому – греч.) является преимущественное употребление слов, связанных с разрушением или экскрементами». Не здесь ли находит объяснение свойственная сегодняшнему дню реабилитация лексики, которая когда-то именовалась заборной, а теперь, к сожалению, воспринимается едва ли не как обыденная. Тотальное разрушение всей системы ценностных ориентаций, свидетелями которой мы являемся, отзывается и на том, что, казалось бы, уже никак невозможно у нас отобрать. Я говорю о культуре, литературе – не о сегодняшних литературных упражнениях ретивых особ обоего пола, хорошо усвоивших старую истину: деньги не пахнут. Речь – о процессе коммерциализации литературы, искусства, о громко рекламируемых проектах, рассчитанных уже на ее приватизацию. Как это делает, например, Б.Акунин: теперь и Шекспир, и Чехов для кого-то – это нечто похожее на Акунина, которому принадлежат и «Гамлет», и «Чайка», а какие-то авторы одноименных произведений лишь косят под него. Создавая искусственно (и искусно) стилизованные произведения, писатель демонстрирует абсолютное владение тем или иным типом дискурса (таким образом символически закрепляя его за собой) и одновременно актуализирует его инъекциями столь популярно жанра как детектив: политического, декадентского, комического. Вброшенный им в литературу фальшивый супергерой Фандорин – синтезированный, вымороченный из русской классики и обмундированный по британскому образцу – при первом своем появлении выглядел и новым и интересным: человек, который служит, но самостоятелен. Но трюки с реминисценциями становились все более плоскими: наиболее наглядный пример тому – роман «Ф.М.», весьма скептически оцениваемый самим автором. Стоит быть особо отмеченным акуниский проект 2005 года «Жанры» – проект глобальной экспансии и взятия под контроль всех возможных рынков, жанровых ниш («шпионский роман», «фантастика», «детская книга»): попытка навязать литературному миру свою «глобальную экономику». Любопытны в этом смысле и, так сказать, примеры обналичивания литературных памятников – римейковые проекты издателя Захарова, выпустившего в течение одного года романы «Анна Каренина» Льва Николаева, «Отцы и дети» Ивана Сергеева и «Идиот» Федора Михайлова. В такой литературе принципиально иными оказываются изобразительные средства да, пожалуй, и само изображение. Если в литературе классической читатель встречается с характерами, то теперь их сменяют придуманные персонажи, психологический портрет подменяется мгновенным отражением героя в боковом зеркальце мчащегося автомобиля на фоне стремительно меняющегося ландшафта, социальные границы, в которых существует герой размыты. Писатели (М. Шишкин, О. Славникова, А. Уткин) могут клонировать любую – разговорную, диалектную – свойственную классике стилистику. А. Иванов и вовсе в романе «Сердце Пармы» громоздит лингвистический бурелом: хумляльт, шибасы, мядпухоца – кто бы объяснил, откуда взялись эти словеса? Может и впрямь – из праязыка славянских, финоугорских и тюркских наречий? Гадать можно сколько угодно, ибо авторской фантазии границы не поставлены. Иная стилевая тенденция – «фотографирование» действительности, не нуждающееся в стилевых изысках: у А. Геласимова, В. Козлова и др. Но и это еще не все! Последним «великим русским писателем ХХ века, который не только подвел итог всей русской литературы большого стиля, но в определенном смысле всей литературы Нового времени», назван в одном весьма солидном научном труде В. Сорокин. Да, если согласиться с тем, что упомянутым писателем «могла быть написана и вся предшествующая русская литература». Впрочем, точнее – он просто заменяет ее целиком, ибо, по его мнению, в ней выводятся вместо персонажей «ходячие идеи, лишенные мышц, костей и крови, этакие метафизические облака в штанах и платьях», а авторы таких книг прикладывали «потрясающие гиперусилия» для того, чтобы «оживить бумагу», сделав «ходячие идеи» максимально осязаемыми. Отсюда полемика В. Сорокина – и не только на стилистическом уровне – с русской литературой. Ведется активная игра на понижение вплоть до, как изящно сказано одним из наших коллег, выхода на «фекально-генитальный уровень» в споре с авторитетными языками культуры: натуралистические описания сексуальных сцен, физиологических отправлений, изощренного насилия, обширное включение обсценной лексики призваны восполнить нехватку телесности в русской литературе. Заполняя эту лакуну «запахом пота, движением мышц, естественными отправлениями, спермой, говном», В. Сорокин выполняет задачу, сформулированную им словами, вынесенными в заглавие интервью, откуда выписаны эти признания: «Я хотел наполнить русскую литературу говном». Смеяться или плакать, встречаясь с этими словами? Свой индивидуальный творческий метод В. Сорокин сформулировал чрезвычайно энергично – «Жрать!» То есть, соединив все приемы и средства, созданные в литературе, переварить их и попотчевать читателя результатом этого процесса. А каким может быть его результат, если читатель не догадается, писатель сам скажет – и говорит! – открытым текстом, признаваясь: «Еще я пробовал говно. Сначала свое, потом своих детей. Итак, вот я попробовал и понял, что вся его мифология держится на запахе, а в остальном оно совершенно безвкусно». Следует, очевидно, зажав нос, сказать вслед за Прутковым: удивляйся, но не подражай, – дерзость таких экспериментов с экскрементами, конечно же, остается непревзойденной. Но вот о чем хочется сказать. О стиле В. Сорокина – большом или малом – говорить можно: в его сочинениях действительно встречаешься с изощренной игрой на стилевом, образном, стилистическом и т.д. уровнях. Однако, когда с помощью этих средств читателя погружают в мир, где многократно, тщательно выписываются физиологические отправления, подробности сексуальной (чаще всего – в извращенных формах) жизни персонажей, ненормативная лексика льется нескончаемым широким потоком, то даже ко всему, кажется, привыкшему профессиональному читателю становится не по себе. Хотелось бы списать пассажи такого рода – а их у В. Сорокина, И. Яркевича, Вик. Ерофеева и им подобных очень много – на счет стремления авторов к эпатажу (хотя очень не хочется, чтобы тебя эпатировали таким образом). Но дело куда серьезнее. Так открыто настаивается на «полном разрыве с традиционной литературой» (Вик. Ерофеев), на необходимости освобождения «от пафоса постижения мира, пафоса Достоевского, Пушкина, приоритета духовных поисков над поисками физиологическими» (И. Яркевич). И В. Сорокин бросает упрек Толстому: почему тот «не описывал, как пахнут подмышки или прыщи Болконского»? Хорошо, освободились – дальше что? Для именующего себя номинантом на Нобелевскую премию К. Кедрова, «Пушкин – гений банальности», «наше ничто». И немудрено, если, по его собственному признанию, этот стихоплет «так и не осилил до конца «Евгения Онегина». А рядом с ним встает писака из того же племени, у которого можно прочесть: «Да, убил его пидор / В снегу у Черной речки. / А был он всего лишь Нигер, / Охочий до белых женщин». И, естественно, в этом ряду оказывается и Э. Лимонов, по мнению которого, Пушкин – «поэт для календарей» и вообще «Пушкин нам ни для чего не нужен». Цитировать дальше, право же, не хочется. Но ведь потуги, примеры которых здесь приведены, высоко ценимы в определенной среде и особенно – у зарубежных славистов. Цель такого рода словесных упражнений выражена с предельной откровенностью В. Соркиным: замена человека «мясной машиной» Не выходя за рамки заявленной темы, скажу лишь, что при этом идет интенсивный процесс расширения, если не лексического состава языка в целом, то – определенных его сфер, слоев, участков. Но вспомним о давно сформулированном законе: прибывать (в стилевом полку) может лишь за счет того, что в другом полку убывает. Язык, которым мы дорожим (это поистине наше богатство) терпит урон под натиском тех сил, о которых шла здесь речь. Литература всегда была одним из мощных средств формирования поведения (в том числе, речевого) человека. Будем оптимистами: он (язык) вынесет все, что Господь ни пошлет: как сказано Маяковским – «нам не с чего радоваться, но нечего грустить». Как всегда, резкий перелом (во всех областях нашей общей жизни), резкие изменения в системе ценностных ориентаций завершается, как убеждает история, победой не одной из противоборствующих сил, а того, что лишь вызревает в этом бурлящем котле. Во всяком случае, хочется, говоря о русской литературе, перефразировать Пушкина: «В надежде славы и добра / Вперед глядим мы без боязни». И все-таки становится, если не страшновато, то – явно не по себе, когда повсеместно обнаруживаются следы процесса, о котором шла у нас речь. Издавна одним из самых мощных средств формирования речевого поведения человека была литература: с горечью приходится признавать, что и «инженеры человеческих душ» имеют прямое отношение к происходящим сегодня разрушительным процессам в русском языке.