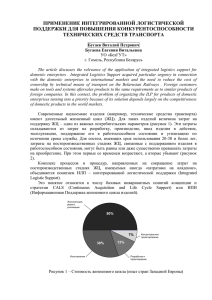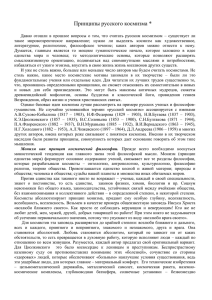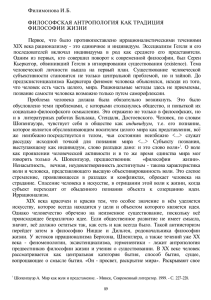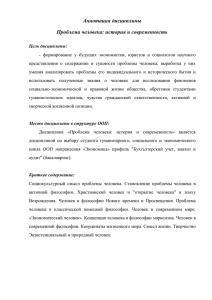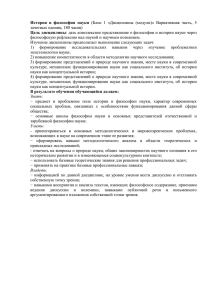Введение - бугаевы
advertisement
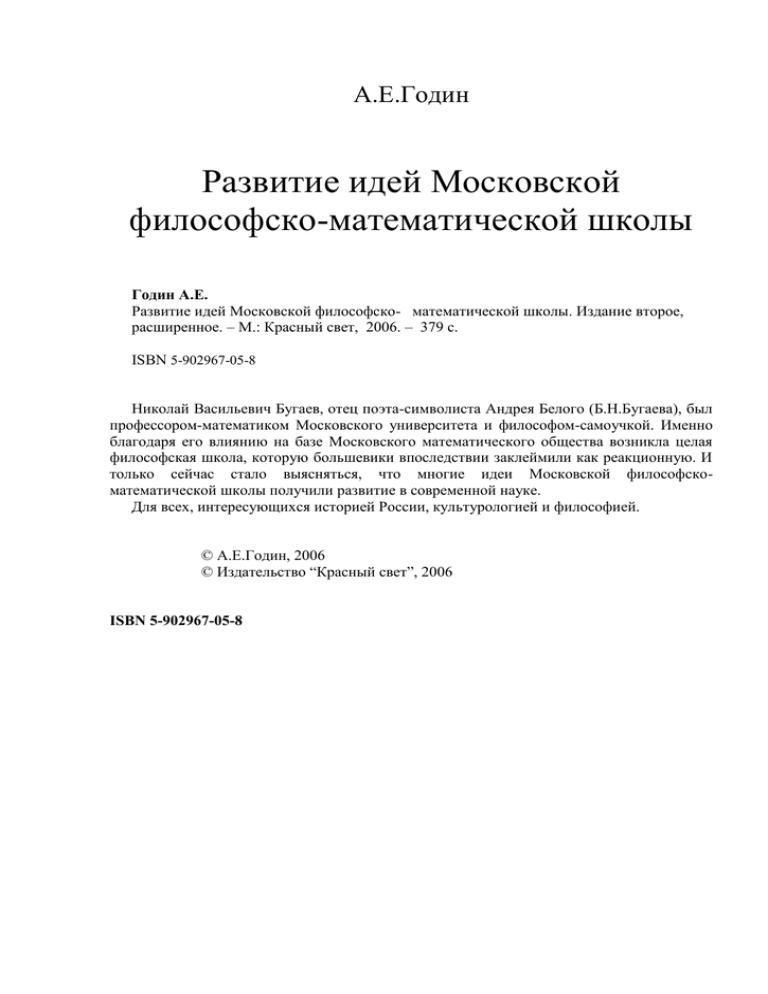
А.Е.Годин Развитие идей Московской философско-математической школы Годин А.Е. Развитие идей Московской философско- математической школы. Издание второе, расширенное. – М.: Красный свет, 2006. – 379 с. ISBN 5-902967-05-8 Николай Васильевич Бугаев, отец поэта-символиста Андрея Белого (Б.Н.Бугаева), был профессором-математиком Московского университета и философом-самоучкой. Именно благодаря его влиянию на базе Московского математического общества возникла целая философская школа, которую большевики впоследствии заклеймили как реакционную. И только сейчас стало выясняться, что многие идеи Московской философскоматематической школы получили развитие в современной науке. Для всех, интересующихся историей России, культурологией и философией. © А.Е.Годин, 2006 © Издательство “Красный свет”, 2006 ISBN 5-902967-05-8 Оглавление Введение........................................................................................4 Глава 1. Московская философско-математическая школа и её представители.........................................................13 1.1 Н.В.Бугаев. Его деятельность и научное наследие...................13 1.1.1 Возникновение и расцвет Московского математического общества..............................................................13 1.1.2 Жизнь и взгляды Н.В.Бугаева................................................16 1.1.2.1 Научная и общественная деятельность Н.В.Бугаева.....................................................................................16 1.1.2.2 Частная жизнь Н.В.Бугаева...............................................21 1.1.3 Обсуждение философско-полемических работ Н.В.Бугаева............................................................................32 1.1.3.1 Работа Н.В.Бугаева «О свободе воли».............................32 1.1.3.2 Работа Н.В.Бугаева «Основные начала эволюционной монадологии»......................................................40 1.1.3.3 Работа Н.В.Бугаева «Математика и научнофилософское миросозерцание»....................................................44 1.1.3.4 О возможном влиянии личных качеств Н.В.Бугаева на его философскиевоззрения.................................46 1.2 Особенности взглядов П.А.Некрасова......................................48 1.3 Ученики, соратники и критики Н.В.Бугаева.............................60 1.3.1 Жизнь и деятельность В.Я.Цингера......................................60 1.3.2 Развитие В.Г.Алексеевым идей Н.В.Бугаева.......................64 1.3.3 Л.К.Лахтин – ученик и верный помощник Н.В.Бугаева......................................................................................68 1.3.4 Жизнь и философские идеи Л.М.Лопатина.........................70 1.3.5 Оценка места и роли Московской философско-математической школы в истории русской мысли.................................................................................76 Глава 2. Научно-философский контекст идей Московской философско-математической школы................78 2.1 Критический персонализм в русской философии второй половины XIX – начала XX веков......................................78 2.1.1 Г.А.Тейхмюллер – родоначальник критического персонализма в России...................................................................78 2.1.2 Жизнь и деятельность А.А.Козлова.....................................83 2.1.3 Краткие сведения об Я.Ф.Озе...............................................87 2.1.4 Е.А.Бобров и его взгляды......................................................88 2.1.5 Философия критического персонализма: ее возникновение и развитие..............................................................89 2.1.6 О взаимном влиянии Московской философскоматематической школы и русских философских школ...............91 2.1.7 Биография и взгляды Н.О.Лосского.....................................93 2.2. Влияние идей Московской философскоматематической школы на философию П.А.Флоренского...........95 Глава 3. Социокультурные корни идей Н.В.Бугаева...........100 3.1 Теоретическая интерпретация представителями Московской философско-математической школы ситуации в России во второй половине XIX – начале ХХ веков..............................................................................100 3.1.1 Социокультурная обстановка в России во второй половине XIX века........................................................................100 3.1.2 «Реакционность» идей Московской философско-математической школы..........................................109 3.2 Деятельность членов Московской философскоматематической школы в области образования...........................112 Глава 4. Критический анализ идей Московской философско-математической школы....................................116 4.1 Анализ влияния идей Московской философскоматематической школы на научную и философскую мысль................................................................................................116 4.1.1 Развитие взглядов представителей Московской философско-математической школы в дальнейшей истории отечественной науки......................................................116 4.1.2 Влияние идей Н.В.Бугаева на зарубежную науку.............117 4.1.3 Продолжение идей Н.В.Бугаева в зарубежных философских школах....................................................................118 4.1.4 Сравнительный анализ идей Н.В.Бугаева и П.А.Некрасова о свободе воли.....................................................118 4.1.5 Концепция культуры как системной памяти в работах Н.В.Бугаева...................................................................121 4.2 Критический анализ идей Московской философскоматематической школы с позиций современного естествознания................................................................................122 4.2.1 Критика терминологии........................................................122 4.2.2 Критика критики Н.В.Бугаевым позитивизма..................123 4.2.3 Математика в глазах математиков.....................................125 4.2.4 Критика взглядов Н.В.Бугаева на роль математики в познании окружающий действительности..............................128 4.2.5 Имеется ли у ума прирожденная способность к познанию истин логики и математики?......................................132 4.2.6 Кто победил с точки зрения современных естественнонаучных воззрений – позитивисты с их детерминизмом или Н.В.Бугаев со своей аритмологией?...............................................................................134 4.2.7 Может ли оказаться так, что Бугаев был во всем прав?......................................................................................136 Глава 5. Синтез и развитие идей Московской философско-математической школы и критического персонализма с позиций культурологии...............................138 5.1 Пути развития идей Н.В.Бугаева..............................................138 5.2 Категория «души культуры».....................................................139 5.3 Возможности математического моделирования культуры............................................................................................146 5.4 Специфика системного подхода................................................149 5.4.1 Конструктивная критика позитивизма................................149 5.4.2 Системность и проблемы философии.................................150 5.5 Системный подход к изучению культуры................................151 Библиография...........................................................................153 Введение Термин «Московская философско-математическая школа» возник в работах учеников и последователей основателя этой школы Николая Васильевича Бугаева и имеет неоднозначный смысл. Возникают ассоциации с применением математических методов в философии, но эти ассоциации неверны. Н.В.Бугаев был известным математиком, но в его «философских» работах совсем нет математических терминов, за исключением достаточно общих, почти житейских, терминов разрыва и прерывности, и не используются никакие математические приемы. Не был Бугаев и философом в обычном смысле: в его «философских» работах отсутствует традиционная философская терминология; сам стиль этих работ является не философским, а скорее публицистическим, полемическим. В том, что он не является традиционным философом, признается и сам Бугаев: «Мне следовало предпослать своим положениям критику предшествующих философских систем. Я этого не сделал. Для этого требовалось очень много работы и специальных знаний» [33]. Полемические работы Бугаева и его учеников вызвали большой резонанс в российском обществе и целый спектр мнений: от горячего одобрения до резкой критики. В чем же причина этого резонанса? Скорее всего в том, что они стояли не на стыке наук, а на острие полемики, существовавшей тогда в российском обществе. В работах С.М.Половинкина [103, 104, 105], В.В.Мороза [89, 90] и В.А.Шапошникова [133] анализировались некоторые идеи из полемических работ Н.В.Бугаева. Но анализ этот осуществлялся в основном в двух разрезах: в плане влияния этих идей на творчество отца П.Флоренского и в плане возможности использования идей Н.В.Бугаева для философскоматематического синтеза. Анализ полемических работ Бугаева в социокультурном плане пока не осуществлен. Не изучены и многочисленные работы учеников и последователей Бугаева. Идеи Н.В.Бугаева и его учеников остались не исследованы ни традиционной философией, ни философией науки. Фактически целый пласт российского исторического наследия остался пока неисследованным. В то же время анализ этого неисследованного пласта поможет лучше понять процессы, происходившие в общественной и культурной жизни России в конце – начале XX века. С идеями представителей Московской философско-математической школы во многом перекликаются идеи представителей философии персонализма в России того времени: Г.Тейхмюллера, Я.Ф.Озе, А.А.Козлова, Е.А.Боброва. В работах В.В.Зеньковского [50] и ряда других исследователей проанализирована сущность учений Г.Тейхмюллера и А.А.Козлова с позиций традиционной философии. Вместе с тем, остался незамеченным критический и полемический аспект философии персонализма в России, остались не выявленными социокультурные корни этого философского течения. Необычность высказанных Н.В.Бугаевым идей обусловлена не только очень сложной и напряженной социокультурной обстановкой в России того времени, но и крайней оригинальностью многогранной личности Н.В.Бугаева. Н.В.Бугаев был известен всей Москве того времени не меньше, чем Лев Толстой. О его чудачествах и страстной полемичности ходили легенды. Вот что писал Андрей Белый, сын Н.В.Бугаева, известный поэт-символист: «…спорщикБугаев – московский миф восьмидесятых годов, как говорун-Юрьев, добряк-Ковалевский, весельчак-Иватоков, красавец-Муромцев, умница-Усов. О спорах отца ходили легенды» [14]. Н.В.Бугаев не только был известным математиком, ярким полемистом, он был истинным патриотом, ревностным гражданином и известным общественным деятелем, который много сделал для реформы не только высшего, но и начального и среднего образования в России второй половины XIX века. В то же время, если полемические работы Н.В.Бугаева частично освещены в недавно переизданной книге Л.М.Лопатина [81], то яркая личность Н.В.Бугаева остается совершенно неисследованной. А ведь он может считаться не только одним из физических, но и одним из идейных родоначальников символизма в России. Вот что вспоминает сам Андрей Белый: «Его влияние огромно: в согласиях, в несогласиях, в резких мировоззрительных схватках и в жесте таимой, горячей любви он пронизывал меня действенно; совпаденье во взглядах и даже полемика с ним определяли круг моих интересов; с ним я считался – в детстве, отрочестве, юности, зрелым мужем …Стиль <его> каламбуров – Лесков, доведенный до бреда, до... декадентства; иными из них я воспользовался, как художник, ввернув их в «Симфонии» и в «Петербурге» [14]. Возникновение системного подхода традиционно рассматривается в рамках истории зарубежной науки. Это объяснимо тем обстоятельством, что период институциализации системных исследований пришелся для России на период социальных конфликтов и репрессий первой трети ХХ века. Естественное развитие многих отраслей знания было прервано. Работы, выполненные на русском языке и не переведённые на европейские языки, были неизвестны за рубежом в том случае, если не находили «пропагандистов», таких, как Р.Якобсон, открывший миру работы одних из основоположников семиотики Н.В. Крушевского и И.А. Бодуэна де Куртенэ. Основная сложность изучения истории системного подхода в исследованиях культуры заключается в необходимости перехода от исследований, основанных на идеографическом, описательно-систематизирующем методе, к проблемно-логическому методу, к обобщенному осмыслению фактов и событий в истории научной мысли и культуры, к их типологизации с использованием сравнительного анализа, к построению моделей, в том числе реконструирующих систему взглядов авторов или научных школ. Последнее обстоятельство есть следствие той исторической «недоговоренности», что характеризует насильственной прерывание развития научных исследований. Необходима также и отсылка к специальным знаниям из области математики и естественных наук. В силу этого, разработка культурологического материала, связанного с генезисом системной теории вообще и теорией прерывности в социокультурных процессах в частности, в данной момент еще не стала полноценным направлением научной деятельности, а существует как исследовательская перспектива. На данный момент представляется, что эта перспектива касается двух направлений исследований: изучение концепций усложнения структуры и концепций прерывности развития. В истории российской науки генезис системного подхода в изучении культуры связан, во многом, с феноменом Московской философско-математической школы, объединяющим оба указанных дискурса системности. Ещё к началу ХХ века стала очевидной мысль, сформулированная, в ряду прочих, и автором термина «культурология» Лесли Уайтом: «Математические истины существуют в культурной традиции, в которую вступает при рождении индивид, и, таким образом, проникают в его сознание извне. Однако вне культурной традиции математические понятия не существуют и не имеют смысла, а культурная традиция, разумеется, не существует отдельно от человеческого рода» [118]. Поскольку язык математики относится к культурной традиции как вторичная моделирующая система, один из языков культуры, то рассмотрение культуры на базе математического мировоззрения вполне правомочно. Термин «Московская философско-математическая школа» (МФМШ) возник в работах учеников и последователей основателя этой школы Николая Васильевича Бугаева. Школа развивалась в период с 1870-х по 1920-е гг. и объединяла в себе три поколения исследователей. Она сложилась в среде членов Московского Математического Общества и преподавателей Императорского Московского Университета. В школу входили специалисты в области математики, пытавшиеся, в ряду прочего, развить и перенести идеи прерывности, системности и самоорганизации в область общественных наук и наук о культуре. Работы Бугаева и его учеников носили ярко выраженный полемический характер, чем вызвали большой резонанс в российском обществе и целый спектр мнений: от горячего одобрения до резкой критики. Тем не менее эти работы не получили признания в гуманитарном сообществе и не вошли в популярные курсы истории философии в России. Причины этого следующие: сложность научного языка и логических построений при относительной неразработанности терминологического аппарата; свойственный многим работам тезисный характер изложения и отсутствие развёрнутой аргументации; радикализация идей в трудах некоторых последователей Н.В.Бугаева (особенно П.А.Некрасова), а также причины субъективного характера. В советской историографии негативная оценка деятельности МФМШ была дана в связи с «Делом Промпартии» и разгромом статистики в РСФСР. «Эта школа Цингера, Бугаева, Некрасова поставила математику на службу реакционнейшего «научно-философского миросозерцания», а именно: анализ с его непрерывными функциями как средство борьбы против революционных теорий; аритмологию, утверждающую торжество индивидуальности и кабалистики; теорию вероятностей как теорию беспричинных явлений и особенностей; а все в целом в блестящем соответствии с принципами черносотенной философии Лопатина – православием, самодержавием и народностью» («На борьбу за диалектическую математику». М.; 1931) [91]. После окончательного разгрома в 1931 году об идеях, развивавшихся МФМШ, забыли на долгие годы. На Западе работы не были известны из-за того, что публиковались исключительно на русском языке. Мало исследован и тот научный и философский контекст, в котором стало возможным возникновение идей МФМШ. Так, с идеями представителей Московской философско-математической школы во многом перекликаются идеи представителей философии критического персонализма в России того времени во главе с Густавом Тейхмюллером. Анализировать работы представителей МФМШ независимо от анализа развития критического персонализма в России не представляется возможным. В работах В.В.Зеньковского и ряда других историков мысли проанализирована сущность учения Г.А.Тейхмюллера с позиций «литературоцентрической», то есть ориентированной на анализ в форме беллетризированного текста, философии. Вместе с тем, остался незамеченным критический и полемический аспект философии критического персонализма в России, остались не выявленными социокультурные корни этого философского течения. Содержание высказанных Н.В.Бугаевым и его последователями идей во многом обусловлена сложной и напряженной обстановкой в России того времени. Следует признать, что системный подход, прослеживающийся в работах представителей МФМШ, был ответом на вызов времени. Рефлексия по поводу неудачи реформ 1860-х годов, стагнации в общественно-политическом развитии России, очевидная перспектива грядущих социальных катастроф выразились в интересе к понятию «прерывность». Активно работая в области народного образования, представители МФМШ определяли ситуацию в обществе как разрыв и рост напряжённости между социальными слоями. Несогласие с доминировавшей тогда парадигмой линейного развития, прогрессизма и эволюционизма как источников опасного упрощения в анализе ситуации и выборе путей развития России привело к поиску альтернативы неизбежно надвигавшейся революции. Они рассматривали развитие как усложнение внутренней структуры, стабилизирующее систему. Методология представителей МФМШ с её анализом знаков, символов, их организации, созвучна идеям И.А.Бодуэна-де-Куртенэ. Возможны параллели и с теорией психического ритма П.Е.Астафьева и другими авторами. Также и в связи с этим можно повторно отметить, что Н.В.Бугаев может считаться одним из родоначальников литературного символизма в России. Вот что вспоминает его сын Андрей Белый: «…совпадение во взглядах и даже полемика с ним определяли круг моих интересов; с ним я считался – в детстве, отрочестве, юности, зрелым мужем…». В данном исследовании впервые осуществлено культурологическое изучение целого пласта российского исторического наследия в виде работ учеников и последователей Н.В.Бугаева. Большое количество историко-научного материала впервые исследовано в новом, социокультурном аспекте. Впервые исследована яркая, многоплановая личность Н.В.Бугаева как ученого, гражданина, полемиста и общественного деятеля, как человека, оказавшего определенное влияние на возникновение символизма в России. Уже в процессе изучения фактического исторического материала довольно неожиданно было обнаружено, что Московская философско-математическая школа во главе с Н.В.Бугаевым и представители философии критического персонализма в России стояли у самых истоков и во многом явились родоначальниками системного подхода в естественных науках. Было проанализировано влияние конкретной социокультурной среды и особенностей социальнополитической и культурной обстановки в России того времени на генезис идей системности. В процессе исследования было выявлено, что становление идей системного подхода происходило у Н.В.Бугаева и его учеников одновременно с осознанием и во многом за счет такого осознания ограниченной применимости используемых человеком в процессе мышления абстракций и понятий, причем именно общенаучных, а не чисто математических. Путем применения последних достижений современной психологии было показано, что многие антиномии мышления и противоречия познания обусловлены биологическими особенностями единого процесса целеполагания-восприятия-мышления-памяти. Именно эти особенности определили возникновение человеческой культуры и во многом определяют ее развитие; одновременно социокультурные связи и обучение индивида приемам мышления в рамках культуры во многом определяют процесс его мышления. При последовательном применении системного подхода антиномии и противоречия познания снимаются и разрешаются, и эта идея была отмечена самим Н.В.Бугаевым. Было показано, что последовательное применение системного подхода важно именно для культурологии, которая стремится выявить наиболее общие закономерности развития человеческой культуры. В то же время, было показано, что так как условия применимости многих теорий и концепций в культурологии еще до конца не выявлены, преждевременно ставить вопрос о разработке математической модели культуры и, несмотря на уже накопленный багаж знаний о культуре, необходимо продолжить системное накопление в первую очередь наиболее объективных, количественных данных. Системный подход к культуре позволяет сделать вывод о постепенном повышении связности системы культуры, то есть усложнении ее внутренней структуры и повышении количества связей между структурными элементами. Значительная часть этих связей осуществляется с помощью вербальной коммуникации. В соответствии с этим был предложен и проверен на практике экспериментальный метод количественного измерения относительной частотности наиболее часто циркулирующих в коммуникационных сетях интернета понятий с помощью автоматизированных поисковых систем. В качестве стратегического метода при проведении данного исследования было выбрано последовательное применение культурологического принципа, гласящего, что поведение и мышление людей как объектов во многом определяется их социокультурным окружением и полученными им в процессе обучения культурными реалиями; вместе с тем не только всем своим возможностям и подходам и сам исследователь обязан человеческой культуре, усвоенной им; но и вся ограниченность подхода исследователя, узость и «зашоренность» его взгляда впитана им вместе с этой культурой. В соответствии с этим, в качестве тактического метода исследования применялась целенаправленная вариация взглядов и подходов, попытка максимальной переформулировки, периодическое расширение и сужение объекта рассмотрения, намеренная попытка «потрясания основ». Никто не станет спорить с утверждением, что культура – очень сложный объект, особенно при широком понимании феномена культуры как всего неприродного, искусственного мира [38]. Фактически культура или даже какая-то небольшая её часть или аспект представляют собой очень сложную систему; информация о структуре и внутренних связях между элементами этой структуры нам или недоступна, или не поддаётся формальному описанию. Ситуация усугубляется тем, что система изучается изнутри и изучается одной из ее частей, что похоже на попытку вытащить себя из болота за волосы, да еще вместе с собственной лошадью. Или другая метафора: изучающий настолько «перепачкан» системой, что его деятельность напоминает попытку в перепачканных гудроном рукавицах починить механизм наручных часов. Изложенные обстоятельства убеждают в том, что вопросы методологии культурологического исследования являются очень важными. При изучении сложных систем целесообразно применение принципа, который назовем принципом метаисследования. Этот принцип был сформулирован автором этой работы путем размышлений, мысленных экспериментов и наблюдений. Полное теоретическое обоснование целесообразности их применения представляется затруднительным, частичное обоснование имеется в работах автора [44]. Подробное же изложение этих размышлений и мысленных экспериментов может перегрузить данную работу деталями, поэтому оно выведено за ее пределы. Вместо обоснований для пояснения сути вопроса будет лишь приведен некий ассоциативный ряд. С позиций математики культура представляет собой систему с огромным количеством переменных и колоссальным количеством связей между этими переменными. Она в принципе может быть описана с помощью системы нелинейных уравнений. На практике оказывается, что составить подобную систему, а тем более решить вряд ли когда-нибудь удастся. Несмотря на это, математика может оказаться полезной даже в этой ситуации. Система нелинейных уравнений в многомерном пространстве описывает некоторую многомерную поверхность. Эта поверхность очень сложна, но математики научились рассматривать такие поверхности, даже не решая уравнений. Они доказали, что качественное поведение поверхности, описываемой сложной системой уравнений, определяется конечным числом определенных точек, которые называются особыми. Существует раздел математики, называемый топологией, который описывает сложные поверхности на основании информации об особых точках. Математики доказали, что топологическая структура зависит не от всех особых точек, а только от некоторых, самых важных, которые называются устойчивыми, потому что они не исчезают при микроскопически малом изменении начальных условий, системы координат и параметров системы. Чтобы рассматривать только эти существенные особые точки, математики придумали термин, возможно не слишком удачный, «шевеление». Если «пошевелить» систему, то есть чуть-чуть изменить начальные условия, параметры системы или систему отсчета, то все малозначимые особенности исчезают, и остаются только самые важные [13]. Самое существенное и самое интересное, что этот факт не зависит от свойств системы, справедлив для любых, самых сложных систем. В разделе математики, который называется «комплексным анализом» рассматриваются свойства функций, заданных на множестве комплексных чисел. Несмотря на «мнимость» подобных функций они оказались исключительно полезными в изучении функций действительного переменного, теории чисел и других разделах математики. Был даже введён термин «комплексификация», обозначающий переход от функции действительного переменного к соответствующей функции комплексного переменного. Функции комплексного переменного, которые являются дифференцируемыми много раз, называются голоморфными. Они обладают интересным и важным свойством – их значения могут быть экстраполированы с малой области на всю область голоморфности. Но если в одной точке (или в нескольких) функция теряет голоморфность (например, вообще не определена), то такая функция называется мероморфной в области. В этом случае поведение функции определяются поведением именно около особых точек, то есть для решения задачи экстраполяции достаточно значения функции в малых окрестностях особых точек. Для культурологии эти факты означают следующее. Если мы хотим избежать случайных ошибок, если мы намерены рассматривать не частные, редко встречающиеся и быстро исчезающие явления, то во время наблюдения и описания мы должны «шевелить», то есть немного менять сам объект, под которым понимается культурологический текст (то есть текст в обобщенном понимании этого слова: обычный текст, последовательность знаков, символов, музыку, танец, творения искусства), менять начальные условия, то есть наблюдающего субъекта и систему координат, а также метод наблюдения. Изучаемый объект мы можем изменить, допустим, заменяя отдельные слова или элементы синонимами или меняя последовательность слов или элементов. Мы можем варьировать метод исследования, так как культурологией их накоплено множество. Но как мы можем изменить субъекта наблюдения? Можем, если он сам захочет измениться. Мы попросим его изменить свою точку зрения, степень предвзятости, эмоциональный настрой, мы попросим его сыграть роль другого человека. При культурологическом исследовании мы не можем до конца понять культурологический обобщенный текст по следующим причинам: – как вербальные, так и невербальные языки часто многозначны; нужное значение слова или символа выбирается из контекста; если контекст утерян или недоступен, неоднозначность остается, и это приводит к ошибкам в интерпретации; – значение слов или символов как артефактов меняется во времени, исторически, в разных социальных группах или субкультурах, и не всегда удается это адекватно учесть; – исследователь видит объект «через очки» собственной культуры, окружающей его культуры, культуры, элементы которой находятся в его подсознании; мы зашорены, «запачканы» окружающей нас социокультурной средой, не совпадающей со средой объекта; мы не всегда можем сознательно контролировать, в какой степени и в каких аспектах наш взгляд отличается от взгляда исторического окружения объекта. Поэтому нужны специальные правила для повышения достоверности исследования. Нам следует сформулировать эти правила и заставить себя искусственно подчиняться этим правилам в процессе проведения исследования. Таким образом из вышесказанного следует, что при изучении сложных систем необходимо осуществлять: – синонимизацию, переструктуризацию изучаемого обобщенного текста; – изменение точки наблюдения во времени: попытка обозревать объект из настоящего, из прошлого, из будущего; – изменение точки наблюдения в пространстве: попытка обозревать объект изнутри и с позиций современных объекту различных социальных групп; – изменение точки наблюдения эмоциональное: а) понимание, сопереживание, участие; б) критика, сарказм, ирония; в) подобострастие, восхищение, преклонение. Обратимся ко второй части основного принципа. При рассмотрении сложной системы часто оказывается, что она как бы распадается на две или несколько более или менее изолированных подсистем. Это означает, что внутренние взаимодействия между элементами подсистемы существенно больше, чем взаимодействия между самими подсистемами. Культурология часто встречается с этим явлением, выделяя субкультуры, культуры отдельных народностей внутри нации, культуры профессиональных сообществ внутри общества. Итак, вторая часть принципа метаисследования состоит в том, что при изучении сложных систем целесообразно осуществить попытки: – расширить объект исследования, рассмотреть более широкий объект, включающий в себя первоначальный; – разбить объект на два или несколько более или менее независимых объектов. Наконец, последняя, третья часть основного принципа. В процессе проведения исследования необходимо периодически осуществлять документирование выявленных свойств объекта, связей между элементами объекта и других относящихся к объекту данных в виде промежуточных выводов. Сформулировав принцип метаисследования, обратимся к методам исследования. Учитывая культурную специфику объекта, целесообразно использовать в качестве методов культурологические как наиболее современные и исчерпывающие. Что же это за методы? Методы культурологических исследований разнообразны. В зависимости от объекта изучения культурологи пользуются методами историко-сравнительным, историко-генетическим, историкотипологическим, историко-системным, методами сравнительной лингвистики, психолингвистики, этнопсихологии, социальной психологии и философии, социологии, антропологии, политологии и других наук [72]. В этом же источнике отмечаются наиболее важные разделы культурологии, которые тоже в определенной степени можно отнести к методам. Историография изучает возникновение и эволюцию культурологических концепций и взглядов. Философия культуры исследует культуру как явление, выявляет законы ее развития; создаёт философский контекст, опирающийся на прикладные исследования, необходимый для адекватной философской рефлексии культуры. Морфология культуры изучает формы культуры и их динамику. Предметом социологии культуры является культура различных социальных и профессиональных групп, присущие им модели поведения и стили общения, системы приоритетов и ценностей, материальных и культурных предпочтений. Задача прикладной культурологии заключается в установлении и анализе того, как организована культурная жизнь общества: как функционируют культурные учреждения, каковы их взаимосвязи и взаимовлияние, каковы особенности культурной политики, проводимой в данном обществе. Предмет культурной антропологии – взаимоотношения человека и общества, закономерности процесса окультуривания человека. Ученые пытаются выяснить, как на человека влияет среда, семья, школа, массовая культура, национальные обычаи и традиции, каковы процессы становления духовного мира людей, способы и результаты деятельности человека. Культурная антропология также ставит своей задачей изучение национального характера человека, особенностей его менталитета. История культуры исследует генезис общечеловеческой культуры, этнических и национальных культур, вклад конкретных народов в мировую культуру, достижения в области архитектуры, живописи, скульптуры, литературы, музыки, философии, науки, религии [72]. Используется и несколько иной подход к классификации методов культурологии – по уровням их становления. Первоначальный уровень – эмпирический, основанный на сборе и описании фактического материала в рамках так называемой гуманитарной культурологии. Здесь используются традиционные полевые антропологические методы – описание, классификация, включенное наблюдение, интервью, а также сравнительно-исторический метод. На следующем уровне происходит сопоставление, компаративный, то есть сравнительный анализ уже описанных культур, выявление особенного и общего, объяснение различий. В гуманитарно-ориентированных исследованиях культура рассматривается как комплекс уникальных феноменов. В социально ориентированных исследуются в большей мере процессы кризиса той или иной культуры, ее распада и гибели, формирования новой культуры, различные процессы трансформации культурных институтов. В последние годы все чаще используются методы математического моделирования социокультурной реальности. Возможности математического моделирования культурных решений и принятия на этой основе культурных решений далеко еще не раскрыты, хотя очевидны и некоторые сложности, в частности, проблема несводимости масштабной и сложно-структурированной культурной информации к недвусмысленным и точным математическим формулам. Возникает риск огрубления, упрощения культурной ситуации и ошибки в принятии решения, а также проблемы перехода от реальности к модели и обратно [75]. А.Я.Флиер перечисляет основные компоненты предмета культурологии, из которых тоже можно получить представление о ее методах. Это: – онтология культуры: многообразие ее определений и ракурсов познания, социальных функций и параметров; – гносеология культуры: основания культурологического знания и его место в системе наук, внутренняя структура и методология; – морфология культуры: основные параметры ее функциональной структуры как системы форм социальной организации, регуляции и коммуникации, познания, аккумуляции и трансляции социального опыта; – культурная семантика: представления о символах, знаках и образах, языках и текстах культуры, механизмах культурной коммуникации; – антропология культуры: представления о личностных параметрах культуры, о человеке как «производителе» и «потребителе» культуры; – социология культуры: представления о социальной стратифицированности и пространственно-временной дифференцированности культуры, о культуре как системе «правил игры» и технологий социального взаимодействия; – социальная динамика культуры: представления об основных типах социокультурных процессов, генезисе и изменчивости культурных феноменов и систем; – историческая динамика культуры; представления об эволюции форм социокультурной организации; – прикладные аспекты культурологии: представления о культурной политике, функциях культурных институтов [121]. А.С.Кармин считает одним из наиболее перспективных подходов, разрабатываемых в современной культурологии, информационно-семиотическую концепцию культуры [57]. Вместе с тем он выделяет аксиологический и антропологический подходы. В рамках информационносемиотического подхода рассматривается морфология культуры, анатомия культуры и динамика культуры. Анатомический подход реализуется в трехмерной модели культуры в пространстве когнитивных, ценностных и регулятивных парадигм. Когнитивно-ценностная плоскость представляется духовной культурой, ценностно-регулятивная – социальной культурой, а когнитивно-регулятивная – технологической культурой. Духовная культура разделяется на мифологию, религию, искусство и философию, социальная культура – на нравственную, правовую и политическую культуры, а технологическая культура – на технику, науку и инженерию [58]. Культура рассматривается современной культурологией во всем ее многообразии. Фактически в рамках такого подхода культура представляет собой сложнейшую многосвязную систему. Но сложность системы не является фундаментальным препятствием для человеческой мысли. И пример тому – развитие медицины. Медицина с большим или меньшим успехом всегда использовала диагностический подход, который предполагает разбиение всех возможных состояний системы на классы и отнесение состояния конкретной системы к определенному классу. Классификация возможных состояний человеческого организма началась задолго до того, как была более или менее изучена структура физиологических систем организма. По мере изучения структуры организма медицина добивается всё больших успехов в диагностике и лечении различных заболеваний. Описанный А.С.Карминым и Е.С.Новиковой подход представляет собой попытку структуризации явлений культуры и вполне может быть использован для «диагностики» культур или определенных культурных явлений. В.М.Розин понимает под парадигмой систему научных представлений и методов, разделяемых и поддерживаемых определенным научным сообществом и выделяет эволюционистскую парадигму, концепцию культурно-исторических типов, а также психологическую, функционалистскую, структурно-антропологическую парадигмы и парадигмы понимающей социологии и постмодерна [107]. Пояснения перечисленных терминов берем из этой же работы. Для эволюционистского объяснения характерны: метод сравнительного анализа разных культур, а также сопоставление современной европейской культуры с предшествующими и особенно примитивными культурами; использование идеи развития культуры, трактуемой в естественно-научном ключе (то есть предшествующие состояния культуры рассматриваются как причина появления последующих); наконец, философско-психологическое истолкование культурных феноменов. В рамках этой парадигмы наиболее известной концепцией периодизации и типологии культуры является концепция К. Ясперса [121]. Концепция культурно-исторических типов в определенном смысле противоположна эволюционистской, поскольку разные культуры, точнее разные типы культурного сознания, рассматриваются не как этапы развития и усложнения единой культуры, а как сущностно замкнутые, несоизмеримые культурные ценности. Характерным представителем этой парадигмы является О.Шпенглер [121]. В психологической парадигме для объяснения культурных феноменов их редуцируют к психологическим, а затем на основе полученных психологических характеристик истолковывают особенности культуры. На разных этапах эту парадигму представляли философскопсихологические представления, гештальт-психология, бихевиоризм, психоанализ, когнитивная психология, теория информации или психологическая антропология, теория личности. В функционалистской парадигме культура и ее явления редуцируются и объясняются на основе структурно-функциональных представлений. Иначе говоря, они рассматриваются функционально, а также как системы и структуры из элементов, каждый из которых выполняет свою функцию. Структурно-антропологическая парадигма в культурологии возникает при распространении на область изучения культуры методов современного языкознания и семиотики. Парадигма понимающей социологии опирается на гуманитарный подход и ставит в центр изучения культуры анализ субъективных представлений (идей, ценностей, верований и т.п.), определяющих, однако, объективные явления культуры – институты, статусы, сферы и т.д. Начало ей было положен М.Вебером, чья конструкция социологии опиралась на культурологический фундамент, т.е. на специфику человека как культурного существа [52]. Обратимся к парадигме постмодерна. Новые правила, устанавливаемые в постмодерне: отказ от построения единой системы культурных норм в пользу множества частных нормативных систем, вместо согласия и порядка – различия, разногласия, противостояния, не общезначимость, а условность или метафоричность, приоритет не науки, а других дискурсов, прежде всего искусства, не существование, а разные, в том числе и «непрозрачные» реальности. Текст в постмодерне допускает множество прочтений, авторы постмодерна преодолевают власть языка, разрешая «языковую анархию», «дурачат» язык, «играют» словами, составляя причудливые калейдоскопические изображения. Термин «постмодернизм» появился в период Первой мировой войны в работе Р.Паннвица «Кризис европейской культуры», но популярность приобрёл лишь в 70-е годы прошлого века благодаря Ч.Дженксу, Р.Барту, недавно скончавшемуся Ж.Даррида и другим [107]. Многообразие культурологических парадигм, по-видимому, является не только следствием исторического изменения культурной среды разрабатывавших эти парадигмы мыслителей, но и сложности и многозначности культуры как объекта исследования. Поэтому попытка абсолютного применения какого-то одного подхода с отрицанием всех остальных выглядит по меньшей мере поспешной. Раз уж возникла парадигма понимающей социологии, которую можно естественным образом обобщить до парадигмы понимающей культурологии, ничто не мешает нам упомянуть и другие исторически существовавшие не конкретно-научные подходы к осознанию культуры (правда, в ее сильно упрощенном понимании): мифологический и религиозный. А.С.Кармин в своей классификации не рассматривает экономику и финансы, возможно, оттого, что непонятно, куда их отнести, к социальной или технологической культуре. Но уже существуют примеры культурологического анализа и этих сторон человеческой деятельности [76]. Не за горами, может быть, возникновение экономической [70] или финансовой культурологи. Можно упомянуть еще рекреационную культурологию и медицинскую культурологию [77]. Й.Хейзинга прослеживает роль игры во всех культурных сферах: в поэзии, философии, науке, юриспруденции, войне, спорте, быту – во всей истории культуры [28]. Раз уж игровой компонент применяется в философии, почему бы его не применить в качестве метода культурологического исследования? К сопереживанию в методе понимающий культурологии в качестве некоторого противопоставления так и напрашиваются состязательно-игровой и репертуарно-игровой методы. Наконец, нелишне упомянуть еще голое критиканство, когда критикуются известные подходы и не предлагается взамен новый. Данный метод, несмотря на кажущуюся непродуктивность, выполняет важную «санитарную» функцию, осуществляет «санацию» подходов к рассмотрению культуры. Вышеизложенный принцип метаисследования и методы резюмируем ниже. Временной вектор наблюдения: I – из нашего настоящего; II – из настоящего для объекта, из времени объекта; III – из прошлого для объекта; Пространственный вектор наблюдения: 1 – изнутри, наблюдающий субъект находится внутри объекта; 2 – с позиций математического сообщества; 3 – с позиций философского сообщества; 4 – с позиций обывателя. Эмоциональный вектор наблюдения: о – объективное, безэмоциональное рассмотрение; = – понимание, сопереживание, участие; > – умственное, моральное или национальное превосходство, нетерпимость; – – критика, скептицизм, сарказм, ирония; + – восхищение, преклонение, подобострастие; ~ – юмор, прикол, скоморошничанье. Кратковременное изменение объекта наблюдения: А – первоначальный объект наблюдения, нет изменения; Б – более широкий объект наблюдения; В – наблюдается какая-либо часть объекта. Основные методы: а – историографический; б – историко-сравнительный; в – историко-генетический; г – культурантропологический; д – социокультурный; е – информационно-семиотический; ж – культурно-психологический; з – культурно-философский; и – аксиологический. Отметим, что в процессе исследования могут использоваться и другие методы, не указанные выше. В соответствии с принципом метаисследования тактика исследования будет заключаться в императивном варьировании параметров объекта, вектора наблюдения субъекта и методов. Это императивное варьирование будет осуществляться путем квазинезависимого перебора вариантов на каждом из пяти уровней для получения многообразных комбинаций для конкретных реализаций. Термин квазинезависимый будет означать стремление к исключению хоть и маловероятного, но возможного повторения одних и тех же комбинаций. Первоначально планировалось, что начиная с основной части перед каждым разделом и даже перед отдельными фрагментами разделов будет стоять обозначение типа I1оАа, или I2=Ав, или II1+Бж и т.п., чтобы обеспечить определенное средство самоконтроля, побуждение к периодическому изменению параметров вектора наблюдения и методов, а возможно и позволить читающему текст сделать поправку на личность исследователя, получить более объективное впечатление от исследуемого материала и придти к более правильным выводам путём «синхронизации» процессов построения понимания у автора и читателя. Однако такая разметка текста сильно увеличила бы объем текста, выводя его за рамки общепринятого. Поэтому обозначения пришлось опустить; однако они присутствовали в черновиках при написании данной работы и, хочется надеяться, помогли взглянуть шире на рассматриваемые в книге проблемы. Кроме того, по мере возможности будут формулироваться предварительные выводы. Глава 1. Московская философскоматематическая школа и её представители 1.1 Н.В.Бугаев. Его деятельность и научное наследие 1.1.1 Возникновение и расцвет Московского математического общества Московское математическое общество, образованное в 1864 году, является старейшим среди крупных математических обществ мира. Так, Лондонское математическое общество было учреждено в 1865 году, Математическое общество Франции – в 1872 году, математический кружок Палермо в Италии в 1884 году, Американское математическое общество в 1888 году, а Германское объединение математиков – в 1890 году [136]. В течение долгого времени деятельность Московского математического общества охватывала математику, механику, астрономию и физику, что, естественно, определялось его составом и интересами руководителей. Постепенно, однако, Общество становилось все более и более математическим или, точнее, математико-механическим. Об этом говорит хотя бы то обстоятельство, что в первых десяти томах «Математического сборника», издаваемого Обществом, математике посвящено почти 50% статей, а в следующих пяти томах около 85%. В общей сложности на заседаниях Общества по 1917 г. было сделано 971 сообщение, причем по математике – 640 (или 66%), по механике – 217 (или 22%), остальные 12% приходятся на физику и астрономию [136]. Действительными членами Московского математического общества могли быть магистры и доктора математических наук, а также «лица, заявившие себя трудами в этих науках». Первоначально в Обществе было всего 14 членов, в 1901 г. в нем состоял уже 101 член, а в 1913 году число членов достигло 112, из них 34 жили в Москве, 57 – в других городах России, остальные 21 были иностранными учеными. В дореволюционное время Общество было несколько замкнутым, и научная молодежь редко допускалась в его состав [136]. Московское математическое общество было тесно связано, даже чисто персонально, с физикоматематическим факультетом университета, но его рамки были значительно шире факультетских, оно служило центром всей московской математической жизни. Напомним, что уже среди первых организаторов Общества имелись и не университетские работники, такие как Летников или учительствовавший в гимназии Петерсон [136]. По своему значению Московское математическое общество уступало только Академии наук. Деятельность Общества не ограничивалась научными собраниями и публикацией «Математического сборника». Оно поддерживало тесные связи с научными объединениями и отдельными математиками Петербурга и других городов, а также зарубежных стран, содействовало реферированию и публикации работ русских математиков в иностранных журналах, занималось вопросами преподавания в средней школе, вело регулярный обмен изданиями с редакциями различных журналов, находилось в тесном контакте с Обществом распространения технических знаний и т.д. [136]. А начиналось все так. В 1864 году (15/27 сентября) несколько молодых профессоров и преподавателей математического отделения Московского университета образовали кружок, чтобы знакомить друг друга с развитием различных отделов математики оригинальными рефератами и отчетами о новых работах других ученых. К этому кружку примкнули также лица, не принадлежавшие к числу университетских преподавателей. Центром кружка был заслуженный профессор Н.Д.Брашман, в то время только что оставивший службу в Московском университете [5]. Кроме Брашмана в этом кружке были А.Ю.Давидов, Н.Н.Алексеев, А.В.Летников, К.М.Петерсон, Ф.А.Бредихин, О.А.Слудский, В.Я.Цингер, М.Ф.Хандриков, К.А.Рачинский, Р.О.Блажеевский, Н.В.Бугаев, Е.Ф.Сабинин, кн. С.С.Урусов и С.А.Юрьев; затем присоединился еще П.Л.Чебышев. Этот кружок собирался раз в месяц в течение 1864, 1865 и 1866 гг. совершенно частным образом. С 1867 года (28 января) он получил уже официальное утверждение как Московское математическое общество. После смерти Брашмана в мае 1866 года руководителем кружка сделался Август Юльевич Давидов, с января 1867 года в качестве президента Общества [5]. В течение 22 лет до самой своей смерти А.Ю.Давидов стоял во главе Математического общества и, обладая обширными познаниями в различных частях математики, проявлял энергичную ученую деятельность. А.Ю.Давидов не был типом кабинетного ученого: он интересовался многими областями знания, любил общественную деятельность и не был в состоянии замкнуться в какой-нибудь ограниченный отдел науки, чтобы изучать его во всех деталях. Такой ученый и был необходим для поддержания молодого ученого общества. Постепенно Математическое общество стало накапливать материал, и появилась потребность в периодическом издании трудов Общества. Такое издание, наконец, появилось в виде Сборника трудов Общества в 1865 году и к 1905 году насчитывало 24 тома, каждый том объемом до 600 страниц. Наконец, благодаря ходатайству А.Ю.Давидова министерство ассигновало 1000 рублей ежегодной субсидии Обществу [5]. Первым русским математическим журналом был «Вестник математических наук», который издавал в 1860-1863 гг. в Вильнюсе воспитанник Казанского университета, астроном М.М.Гусев; в нем участвовали Брашман, Бугаев и другие математики. Следующим по времени был орган Московского математического общества «Математический сборник», первый том которого вышел в 1866 году [136]. Последние 10 лет своей жизни А.Ю.Давидов, отчасти вследствие расширения своей служебной и общественной деятельности, отчасти вследствие утомления уже меньше уделял времени Математическому обществу, и заведовать делами последнего стал Н.В.Бугаев, состоявший секретарем Общества с 15 ноября 1869 года, то есть почти с основания Общества. После смерти А.Ю.Давидова, последовавшей 22 декабря 1885 года, короткое время 1886-1891 гг. президентом Общества был В.Я.Цингер, а с 16 сентября 1891 года президентство перешло к Н.В.Бугаеву, хотя фактически Н.В.Бугаев уже задолго до этого заведовал делами Общества [5]. Николай Васильевич соединял в себе два совершенно несоединимых типа научного деятеля: он был в одно время и кабинетным ученым, ушедшим в свою любимую область аритмологических исследований, и весьма живым общественным деятелем, отзывчивым на всякие научные и даже общественные вопросы. Он вносил много энергии в занятия Математического общества и собственными рефератами, и привлечением молодых ученых к деланию сообщений в заседаниях Общества. По его предложению в члены Математического общества был избран В.Г.Алексеев вскоре после окончания им университетского курса [5]. В последнее десятилетие века Николай Васильевич значительно расширил деятельность Математического общества привлечением студентов старших курсов к реферированию как оригинальных, так и заимствованных из текущей литературы исследований по различным отделам математики, причем для этих студенческих сообщений устраивались отдельные заседания под председательством одного из членов Общества. Благодаря настойчивым ходатайствам Николая Васильевича Математическое общество стало получать 2000 рублей ежегодной субсидии из средств Государственного казначейства [5]. Говоря о деятельности Николая Васильевича в Математическом обществе, нельзя обойти молчанием один факт, имевший место в самом начале существования Общества, но наложивший отпечаток на характер Сборника Общества. Когда возник вопрос о языке статей Сборника, то сначала перевешивало мнение в сторону иностранных языков, мотивированное необходимостью общения научных исследований русских ученых с заграничными. Николай Васильевич энергично защищал право русского научного языка. Хотя Николай Васильевич прекрасно знал наиболее употребительные европейские языки, знал европейскую научную литературу и был знаком со многими западными учеными, но он требовал от иностранцев и от нас самих уважения к русскому языку. Николай Васильевич постоянно повторял, что кто не уважает родного языка, тот самого себя не уважает и не заслуживает уважения других. Он говорил также, что со временем иностранцы будут принуждены изучать наш язык, когда у нас появятся серьезные исследования. Исследования Николая Васильевича, напечатанные почти исключительно по-русски, между прочим, послужили причиной этому распространению интереса к математическим исследованиям на русском языке между заграничными учеными [5, 80]. Французский ученый Лиувилль, занимавшийся теорией чисел, имел обыкновение давать в издаваемом им журнале множество числовых теорем, не открывая методы их доказательства. Многие ученые бились над разгадкой этих методов, но почти безрезультатно. Николай Васильевич, открыв такие общие теории как учение о числовых производных и другие, не только разгадал все загадки Лиувилля, но стал предлагать и свои теоремы, которые не мог бы доказать даже Лиувилль своими методами. Другой французский ученый Гальфен, составляя весьма полный трактат об эллиптических функциях, обратился к Николаю Васильевичу с просьбой познакомить его с исследованиями в области приложений этих функций к теории чисел, имеющимися в русской литературе. Вследствие смерти Гальфена третий том этого трактата, посвященный приложениям эллиптических функций к теории чисел, не вышел в свет. Николай Васильевич шутил, что Гальфен умер с горя, не будучи в состоянии познакомиться с весьма интересовавшими его русскими исследованиями в этой области [5]. Во время президентства Николая Васильевича Математическое общество торжественно отпраздновало 25-летие своего существования в объединенном заседании с IX Съездом русских естествоиспытателей и врачей 9 января 1894 года. Хотя 25-летие Общества исполнилось 28 января 1892 года, но Общество отложило празднование до предстоявшего в Москве Съезда, дабы дать возможность большему числу русских математиков принять участие в этом праздновании. Президент Общества при открытии юбилейного заседания произнес речь об отношении математики к другим наукам и о значении Математического общества для русского просвещения [5]. В президентство же Николая Васильевича состоялось торжественное заседание Математического общества по поводу выхода в свет двадцати томов издаваемого Обществом Математического сборника. Это заседание имело место 21 марта 1900 года и было открыто речью Николая Васильевича, где раскрываются его глубокие мысли об отношении математики к другим областям знания и о значении Математического общества в деле просвещения страны. Вот фрагмент этой речи: «Любовь к истине, великий двигатель новейшей цивилизации, служит самым лучшим побуждением для ученого, разрабатывающего отвлеченные области математических наук. При своих изысканиях математический исследователь ничего не имеет в виду, кроме истины. Математика, кроме истины, непосредственно дает мыслителю весьма слабое вознаграждение, сравнительно с другими областями знания. Здесь нет ни вопросов дня, ни общественных эмоций, ни картин, действующих на воображение и чувства. Слабое распространение математических наук делает ученого почти уединенным. Только одна истина, только достоверность результата, только уверенность, что труд его войдет как необходимое звено в общее здание науки и культуры, непосредственно вознаграждают его за умственные усилия. Ученый в математических науках постоянно руководится соображением, что его усилия возвышаются тем значением, которое имеют эти науки для других сфер знания. Он понимает, что при помощи математических наук, с одной стороны, складывается самым лучшим образом удовлетворение материальных нужд общества, с другой – вносится гармония и порядок в миросозерцание. Кроме того в математике сказывается в самой явной форме дедуктивная мощь человеческого духа. Все свое научное содержание ученый-математик черпает и развивает изнутри самого себя, из бесконечной глубины человеческого духа. В истории развития этой науки проявляются в наибольшей степени идеальные стремления человеческого духа, его духовная красота и сила» [5]. В этом же заседании сочлены Математического общества устроили чествование Николая Васильевича как президента Общества и ученого, неутомимая деятельность которого была неразрывно связана с жизнью Математического общества с самого его основания. От различных лиц и учреждений были присланы приветствия маститому ученому. Между прочим, был прочитан адрес от студентов – посетителей заседаний Московского математического общества, для которых Николай Васильевич организовал особые, внеочередные заседания этого Общества. От членов Московского математического общества приветствие было прочитано вице-президентом Общества П.А.Некрасовым, и от товарищей по факультету – профессором К.А.Тимирязевым [5]. В ответ на эти поздравления Николай Васильевич высказал свою глубокую благодарность всем, почтившим его своими приветствиями: «Приношу глубокую благодарность за ту высокую честь, которую Вы оказываете мне. Скажу откровенно, что я не заслуживаю этой чести. Служа интересам Математического общества и работая на пользу русской науки, я руководился только чувством долга и присущими каждому человеку побуждениями к добру и благу. Если я иногда видел некоторый успех в осуществлении своих научных целей и задач, то этот успех и был нравственной наградой для меня. Значит, я уже получил вознаграждение за свою деятельность. Несмотря на это, Ваше благосклонное отношение ко мне доставляет мне великое удовольствие. Оно происходит от того, что я в ваших отношениях ко мне вижу с Вашей стороны проявление высоких и благородных чувств. Вы любите науку, заботитесь о процветании Математического Общества, беззаветно преданы делу образования и развития русского юношества, и в данном случае я случайно являюсь лицом, по поводу которого Вы проявляете Ваши собственные высокие и благородные побуждения. Мое преимущество перед Вами состоит только в том, что я родился несколько раньше Вас. Я убежден, что каждый из Вас, если бы ему выпало на долю родиться раньше, осуществил бы в своей деятельности то же самое, что и я и даже лучше меня. Если я пользуюсь этим преимуществом, то я могу и должен также позавидовать Вам. Если бы я родился несколько позднее, может быть, я имел бы возможность осуществить и более высокие идеалы. Мне приятно, меня радует то, что я вижу вокруг себя людей, которые так горячо любят наше Общество, с такой энергией осуществляют в своей деятельности его задачи и цели. Это укрепляет во мне уверенность, что блестящее будущее обеспечено нашему Обществу. Позволю себе высказать пожелание, чтобы надолго процветали как Московское математическое общество, так и наш Университет, под сенью которого оно выросло и развилось. Да будет наш Университет навсегда тем учреждением, которое высоко держит знамя науки на пользу русского юношества и на благо родной страны» [5]. Московское математическое общество немало делало для средней школы. Например, в начале XX века по предложению Московского математического общества было создано при Московском университете Педагогическое общество. В Математическом сборнике с 1867 по 1882 гг. публиковались статьи по вопросам элементарной математики, по истории математики, рецензии на учебники [136]. Настойчивое требование Н.В.Бугаева печатать в Математическом сборнике статьи только на русском языке имело не совсем те последствия, которые он ожидал. Иностранные математики так и не выучили русский язык, а весьма внушительные достижения российской математики остались практически неизвестными мировому математическому сообществу. Отмечено множество случаев [80, 136], когда западные ученые заново открывали то, что было открыто нашими математиками несколько десятилетий назад. Выводы: 1. Московское математическое общество сыграло важную роль в интенсификации контактов русских математиков друг с другом, сформировав нечто вроде «метаболического котла» для зарождения качественно новых идей. 2. Издаваемый Обществом Математический сборник способствовал как развитию высшей математической мысли в России, так и повышению качества обучения математике в средней и высшей школе. 3. Московское математическое общество во многом обязано своими успехами кипучей энергии и высокой ответственности Николая Васильевича Бугаева, выполнявшего обязанности секретаря, а затем президента Общества. 1.1.2 Жизнь и взгляды Н.В.Бугаева 1.1.2.1 Научная и общественная деятельность Н.В.Бугаева Николай Васильевич Бугаев родился на Кавказе, в Душете, в 1837 году. Его отец был военным врачом Кавказских войск. Десятилетним мальчиком он был послан в Москву, в Первую гимназию [80]. Относительно его образа жизни, начиная с 7-го класса и далее, в течение университетского курса имеются весьма ценные воспоминания его сослуживца и приятеля, профессора Московского университета Н.И.Стороженко, который приехал в Москву осенью 1854 года для поступления в Московский университет. Судьба привела его поселиться как раз на том же дворе, где жил и Николай Васильевич (Малый Афанасьевский переулок на Арбатской площади, дом Милославского) [5]. Николай Васильевич гимназистом 7-го класса занимал небольшую комнату в подвальном этаже, рядом с кухней, из которой через не доходившую до потолка перегородку валил кухонный чад. Пробыв не более четверти часа в этой атмосфере, Стороженко почувствовал головную боль, до того сильную, что просил позволения открыть окно. К его удивлению, хозяин комнаты, повидимому, не чувствовал угара и принялся расхваливать ее, называя ее сухой, теплой, а главное дешевой; стоила она три рубля в месяц. После посещения Стороженко часто виделся с Николаем Васильевичем. Его посещали и другие гимназические товарищи, однако отношения его с ними были хоть и хорошие, но довольно отдаленные; это по всей вероятности происходило от замкнутости характера Николая Васильевича, который, пройдя суровую жизненную школу, говорил охотно обо всем, кроме самого себя. Однажды, впрочем, он проговорился, что с четвертого класса не получает ничего из дома и живет исключительно уроками; он тут же взял со Стороженко слово держать сказанное в величайшем секрете. Товарищи, впрочем, догадывались об этом и отыскивали для Николая Васильевича уроки. Один из них нашел ему место репетитора математики в пансионе одного француза. И француз, и Николай Васильевич были страстные патриоты, и ежедневно после уроков между ними поднимался спор о Севастополе. Француз доказывал, что рано или поздно союзники возьмут Севастополь. Николай Васильевич утверждал, что никогда этого не будет, и так как по-французски он говорил плохо, то ограничивался многократным повторением слова — jamais (никогда), но зато это слово выкрикивал с такой силой, что совершенно заглушал старческий голос француза [80]. Весной 1855 года Николай Васильевич окончил с золотой медалью гимназию и поступил в Московский университет на физико-математический факультет. В университете Николай Васильевич кроме лекций по математике профессоров Н.Е.Зернова, Н.Д.Брашмана и других посещал также некоторые лекции на факультетах юридическом и историко-филологическом – профессоров Рулье, Кудрявцева, Буслаева и др. [80]. В материальном отношении счастье ему улыбнулось: он нашел место домашнего учителя у госпожи С., где прожил около трех лет, не имея надобности бегать по грошовым урокам из одного конца Москвы в другой. Благодаря этому Николай Васильевич имел достаточно свободного времени, которое посвящал пополнению своего общего образования не только посещением лекций других факультетов, но также изучением капитальных сочинений но философии и политической экономии. В минуты же отдыха он любил предаваться поэзии, читая нараспев стихотворения своего любимого поэта Майкова; особенно приводила его в восхищение как гармония, так и глубина мысли драматической поэмы этого поэта «Три смерти» [5]. В конце третьего или начале четвертого курса Николаю Васильевичу пришлось расстаться с его местом домашнего учителя, где он благодушествовал три года, и испытать все прелести жизни в дешевых меблированных комнатах [5]. Там Николай Васильевич близко сошелся с Селезневым, который начинал художником, но стал ретушером, человеком талантливым и честным, но пьющим, и они часто коротали вечера вместе, причем Николай Васильевич обыкновенно читал вслух либо Тургенева, либо Майкова, а художник, покуривая папироску, слушал его со своей загадочной улыбкой и иногда вставлял свои замечания. Николай Васильевич пытался иногда просвещать своего приятеля и сообщал ему различные свои философские размышления, плод своих занятий по философским трактатам, но, по-видимому, художник был туг к восприятию каких бы то ни было философских воззрений и оставался верен лишь своему девизу in vino veritas [80]. По словам Н.И.Стороженко, впоследствии также профессора Московского университета, Николай Васильевич был занят в это время выработкой собственного философского мировоззрения, в основе которого лежало положение, которое должно было примирить идеализм с реализмом: все относительно и только в пределах данных условий становится абсолютным. Это положение Николай Васильевич иллюстрировал перед своим приятелем примерами из естественных наук, истории, литературы, и Селезнев, удивляясь его учености, часто в упоении восклицал: «Николай Васильевич! Если я хоть слово понимаю, – продолжайте!» [80] В начале июня 1859 года Николай Васильевич окончил математическое отделение Московского университета, а осенью того же года уже поступил экстерном в Николаевское инженерное училище в Санкт-Петербурге. Предварительно ему пришлось зачислиться унтерофицером в гренадерский саперный батальон. На следующий год Николай Васильевич сдал выпускной экзамен Инженерного училища, был произведен в военные инженер-прапорщики с оставлением при Николаевской инженерной академии. Здесь ему пришлось слушать лекции знаменитого математика М.В.Остроградского. Окончить академический курс Николаю Васильевичу не удалось по совершенно непредвиденным обстоятельствам: вследствие увольнения из Академии инженер-прапорщика Никонова по распоряжению начальства его товарищи подали, в виде протеста этому распоряжению начальства, прошения об их увольнении, и они были немедленно отчислены из Академии и определены в саперные батальоны. Какие мысли руководили Николаем Васильевичем в этом деле, остается покрытым мраком неизвестности, потому что он не любил вспоминать об этом, во всяком случае неприятном в его жизни, событии [80]. Николай Васильевич оставил военную службу и стал готовиться к экзаменам на степень магистра. Но два года, проведенные Николаем Васильевичем в Инженерном училище и Инженерной академии, оставили след в его характере. Николай Васильевич высоко ценил военную дисциплину, порядок и точность в исполнении работ. Кроме того, он получил вкус к прикладным знаниям и часто проводил мысль, что теория и практика не должны жить обособленно: практика выдвигает интересные задачи, будит мысль, удерживает от бесплодных тем и доктринерства; с другой стороны только серьезная теоретическая подготовка дает человеку практики, инженеру возможность быть хозяином своего дела. Эту мысль Николай Васильевич развивает в записке «О пользе учреждения технических отделений при физико-математических факультетах университетов». К той же мысли он любил возвращаться в своих речах в Обществе распространения технических знаний и в качестве декана факультета. Николай Васильевич любил видеть приложение чистой науки; отсюда его расположение к Обществу распространения технических знаний и к Константиновскому межевому институту, который Николай Васильевич очень ценил за его здоровое направление и где он читал два года лекции по высшей математике. Было одно время, когда Николай Васильевич склонялся принять на себя чтение лекций в Московском техническом училище [80]. В 1863 году Николай Васильевич сдал свой магистерский экзамен и после защиты диссертации «Сходимость бесконечных рядов по их внешнему виду» получил степень магистра. Эта работа имела большое научное значение, так как содержала множество признаков сходимости бесконечных рядов, краеугольного камня математического анализа [80]. В этом же 1863 году Николай Васильевич отправился в заграничную командировку и провел целых два с половиной года за границей. Главным образом его заинтересовали французские математики, и он прослушал ряд университетских курсов у Лиувилля, Бертрана, Серре, Шаля, Ламе и Дюгамеля. Немецкие математики нравились ему меньше: они не соответствовали крайне живому, горячему темпераменту Николая Васильевича. Кроме того научное творчество в области точных знаний в то время было несравненно выше во Франции, чем в Германии. Из немецких математиков Николай Васильевич особенно ценил Куммера, у которого он слушал лекции по теории чисел, теории поверхностей, теории гипергеометрических рядов и по аналитической механике. Николай Васильевич посещал также лекции Вейерштрасса, но он не вполне разделял восторгов ученых по поводу исследований Вейерштрасса, распространившихся далеко за пределы Германии [80]. В 1865 году Николай Васильевич вернулся из-за границы с докторской диссертацией, посвященной уже аритмологии: «Числовые тождества, находящиеся в связи со свойствами символа Е» [34]. В этом же году он был единогласно избран факультетом в доценты по кафедре чистой математики. На своей вступительной лекции Николай Васильевич впервые высказал вполне определенно ту мысль, что теория чисел должна занять со временем самостоятельное положение в математике, совершенно равноправное с анализом. Этот взгляд Николая Васильевича на теорию чисел, весьма новый и смелый для того времени, впоследствии блистательно оправдался, благодаря замечательным открытиям самого Николая Васильевича в области прерывных функций [5, 59]. В 1865 году Николай Васильевич после своего возвращения из-за границы был единогласно избран доцентом на кафедру чистой математики. В феврале 1866 года он защитил докторскую диссертацию и в январе следующего 1867 года был избран экстраординарным профессором по той же кафедре. Николай Васильевич стал читать лекции по теории чисел, исчислению конечных разностей, вариационному исчислению, теории эллиптических функций и теории функций комплексного переменного. Последний курс был впервые прочитан в России Николаем Васильевичем. В декабре 1869 году Николай Васильевич был избран советом и утвержден министерством в должности ординарного профессора [80]. Осенью 1871 года Николай Васильевич получил право отправиться в заграничную командировку до начала весеннего семестра. Эта командировка позволила ему завязать более тесные отношения с зарубежными учеными, с некоторыми из которых у него завязалась научная переписка; Николай Васильевич стал после этого посылать в зарубежные журналы короткие резюме Математического сборника [80]. Николай Васильевич был деятельным членом Совета Университета. В 1869 году он был избран в попечители о бедных студентах, с 1868 по 1882 год состоял сначала кандидатом в судьи, а затем судьей Университетского суда [80]. Бугаев никогда не принадлежал к какой-либо фракции в Совете, потому что обладал слишком твердыми, здравыми убеждениями и ярко выраженною индивидуальностью, – качествами, которые не мирятся с партийной деятельностью. Особенно заметно выразилась деятельность Николая Васильевича как члена Совета в деле избрания заместителей профессуры и доцентуры по кафедре философии. Кандидатом на профессуру явился весьма известный впоследствии психолог М.М.Троицкий, а на доцентуру В.С.Соловьев. Факультет забаллотировал Троицкого и дело поступило на решение Совета. Несколько профессоров и в том числе Николай Васильевич представили по этому делу свои письменные заявления. Николай Васильевич в своей докладной записке подробно рассматривает мнение противной партии, подчеркивавшей противоречие во взглядах Троицкого и Соловьева; он доказывает, что противоречия совсем нет, а есть только различие во взглядах, что даже весьма ценно для полного освещения преподаваемого предмета. Это мнение Николая Васильевича повлияло на членов Совета, и оба кандидата были избраны [80]. В 1878 году Николай Васильевич был избран секретарем физико-математического факультета, а в 1886 году был назначен его деканом. В последней должности Николай Васильевич оставался до конца жизни, с небольшим перерывом в два года, когда он был сильно болен ревматизмом [80]. На факультете Бугаев играл очень видную роль и в расширении программы, и в усилении практических занятий, и в привлечении оканчивающих курс студентов к научной работе. Его учениками были Сонин, Андреев, Некрасов, Анисимов, Преображенский, Лахтин, Млодзеевский, Егоров и др., многим из них он сообщил первые стимулы к самостоятельным исследованиям [136]. Николай Васильевич принимал деятельное участие в Обществе распространения технических знаний и особенно в основании и организации зарождавшегося в то время Учебного отдела; в последнем он был избран товарищем председателя. Учебный отдел в первый же год продемонстрировал значительное развитие (от 25 до 500 членов), но затем из-за наветов некоторых лиц председатель Отдела Стоюнин должен был сложить с себя это звание и уехал в Петербург. Учебный отдел два года после этого не проявлял своей деятельности, и его считали уже погибшим; но 8 апреля 1875 года горячая речь Николая Васильевича снова вызвала к жизни этот Отдел [80]. Весь период с 1886 года и до конца жизни Николая Васильевича отмечен непрерывным, энергичным участием его в делах факультета. Нередко случалось, что интересы отдельных членов сталкивались между собой, возникали горячие прения, приводившие споривших к неудовольствию друг другом. В таких случаях Николай Васильевич был незаменимым деканом. Всегда спокойный, но с некоторым юмором, объективный, но настойчивый, Николай Васильевич был, по собственному его выражению, пожарный, умевший искусно тушить всякие вспышки гнева и раздражения. Обыкновенно дело, грозившее большими неприятностями, кончалось к общему удовольствию [80]. Николай Васильевич в различных своих речах, статьях и заметках неоднократно поднимал животрепещущие практические вопросы. Так, например, он дает вполне определенное решение важному вопросу: имеет ли право русский человек, особенно интеллигентный, служить развитию своего народа на началах исконно-русских, или же его долг и обязанность – стремиться оторвать этот народ от уклада его старины, стереть его индивидуальность и слить его в общее русло эволюции всего человечества [5]. Решение этого вопроса мы находим, в наиболее определенной форме, в некрологе С.А.Усову, прекрасно составленном Н.В.Бугаевым и помещенном в отчете Московского университета за 1886 год. Посмотрим же, какими выражениями и оттенками своего всегда глубоко продуманного и независимого слова Николай Васильевич интерпретирует свое положение, отмеченное им курсивом: «Наконец, Сергей Алексеевич был истинно русский человек». Это выяснит нам воззрения Николая Васильевича на права и задачи истинно-русского человека, вытекающие из аритмо-монадологического мировоззрения философа-математика [5]. «Всеми корнями своего духовного бытия он (Усов) прирос к своей стране, владел всеми тайнами русского языка, любил все бытовые проявления русской жизни. Впрочем, не это одно хочу я сказать. Я желаю выразить, что живя духом со всем человечеством, чувствуя себя членом космоса, он относился к этому космосу не рабски, а самостоятельно. Как ни велик, как ни грандиозен этот космос, он не заслонял для него своего народа. Его отношения к своей стране проникнуты были чувством долга. Народ русский много страдал. Ему трудно было отстоять свою самобытную личность. Повсюду его окружали физические преграды, неумолимые враги. С большим трудом, проливая потоками свою кровь, он не только отбился от них, но и завоевал себе великое всемирноисторическое значение. Наше настоящее и наше будущее покоится на могучих плечах этого великого русского народа. Мы не должны забывать об этом и свято хранить дорогие заветы его истории. Мы все в долгу у него. На каждом русском образованном человеке лежат по отношению к своей стране великие обязанности. Их понимал Сергей Алексеевич весьма серьезно. Он живо чувствовал, неуклонно выполнял их. В своих отношениях к науке и искусству он не был только просвещенным эпикурейцем. Он не искал в них только тонких и высоких наслаждений. Помимо личного духовного блага, он видел в знании могучее орудие для развития и совершенствования своего народа, считал своим долгом смиренно послужить этому развитию. Он служил космосу через свой народ, а не помимо его. Он знал, что плодотворное служение науке и человечеству получает особую силу только тогда, когда оно поднимает и развивает близкую ему родную среду. В выражениях отвлеченного космополитизма он видел проявление жалкой иллюзии, грубого обмана или расчетливого эгоизма, желающего отделаться от обязанностей и ответственности. Он был врагом и грубого, и тонкого эгоизма. Я сказал о долге. Это только первая низшая стадия в оценке его отношений к своей стране. Это чувство доступно всякому честному человеку. Нет не долгом только, а чувством глубокой любви к своей родине он руководился. Это то чувство, которое не задает вопросов: за что и почему? Оно не покупается, не продается ни за материальные, ни за духовные блага. Оно не нуждается ни в благодарности, ни в награде. Сергей Алексеевич смотрел на людей, не обладавших этим чувством, как на людей нравственно изуродованных, духовно искалеченных. Он глубоко сожалел об них» [5]. Николай Васильевич живо интересовался вопросами воспитания и обучения; не ограничиваясь преподаванием в Университете, он принимал горячее участие в судьбе средней и начальной школы. Он писал учебники, участвовал в различных комиссиях, возникавших при округе и при министерстве, составлял для этих комиссий обширные записки, не щадя ни труда, ни времени [80]. Высшей духовной наградой для ученого, по мнению Бугаева, служит дальнейшее развитие его идей. Ученый, запутывающий ход и источник своих научных построений, увлекающийся чрезмерным желанием предать глубокомыслие своим идеям, впадает в крайность и придает своим соображениям форму, идущую в разрез с его научными целями. В самом желании глубокомыслия проявляется детское малодушие и отсутствие внутреннего величия духа. Изложение самого Николая Васильевича, как в устных лекциях, так и в печатных работах, отличалось ясностью, простотой и прозрачностью [80]. По свидетельству учеников и соратников Бугаева, он делал очень много добра, хлопоча за обращавшихся к нему за помощью в различных инстанциях, но старался это скрыть и никогда не говорил об этом. Ему нередко приходилось испытывать неблагодарность. Но он этим мало огорчался и говорил, что всякое доброе дело нужно искупить своим страданием, иначе было бы слишком просто делать добрые дела [80]. Всякое постигавшее его горе или болезнь Николай Васильевич переносил с удивительным спокойствием. По его словам, болезнь и горе – повинность, которую мы обязаны отбывать безропотно. Он находил даже присутствие духа шутить по поводу своей болезни. С конца 1902 года его мучили приступы сердечной болезни. Николай Васильевич вполне понимал опасность своего положения, но оставался по-прежнему весел, интересовался текущими событиями, скрывал свои страдания от близких [80]. Часто Николай Васильевич говаривал, когда его постигала болезнь, что он хочет умереть, как солдат на посту. Желание его сбылось: с полной энергией он дослужил Университету до последнего дня своей жизни. Он умер в предпоследний день весеннего семестра, закончив с обычной пунктуальностью все дела по должности декана и председателя Испытательной комиссии. 28 мая 1903 года, вернувшись домой, он радостно рассказывал домашним о счастливом окончании экзаменов его учениками. К утру его не стало [80]. Выводы: 4. Бедственное положение Н.В.Бугаева в юности в сочетании с врожденной страстностью его характера привели к развитию у него колоссальной силы воли, упорства и работоспособности, и в то же время огромного чувства долга перед своим народом и горячего патриотизма. 5. Участие в своеобразной забастовке в Инженерном училище и последующее отчисление из него, возможно, способствовали выработке у Н.В.Бугаева весьма критического отношения к господствующей власти, авторитетам, канонам и меркам. 6. Два года военно-инженерной деятельности Н.В.Бугаева еще больше развили у него уважение к дисциплине, а также понимание важности прикладных и технических исследований. 7. Длительная заграничная командировка Н.В.Бугаева в крупнейшие математические центры мира сделала его математиком высокого класса, способного впоследствии внести значительный вклад в разработку принципиально новых разделов математики. 8. Деятельный, активный характер Н.В.Бугаева способствовал тому, что его занятия преподавательской деятельностью вылились в целый комплекс ярких идей и предложений по реформе образования, не потерявших актуальности и по настоящее время. 1.1.2.2 Частная жизнь Н.В.Бугаева О Н.В.Бугаеве его учениками было написано много хорошего после его смерти. В соответствии с русским обычаем, все нетрадиционное и вся частная жизнь опускались из описания. Нам же важно знать всё, чтобы правильно понять учение Николая Васильевича. Единственным источником, который может нам помочь, являются воспоминания его сына, писавшего под псевдонимом Андрей Белый [14]. Мы не можем привести здесь его воспоминания как из-за недостатка места, так и из-за весьма своеобразной, несколько сумбурной поэтической формы изложения материала. Однако самое важное в схематизированной, систематизированной форме привести необходимо. Подзаголовки придуманы автором данной работы. Внешний вид Невысокого роста, сутулый, плотный и коренастый, зацепляющийся карманом за кресло, с необыкновенно быстрыми движениями, не соответствовавшими почтенному виду, в очках, с густой, жесткой каштановой бородой, он производил впечатление воплощенного неравновесия; точно в музее скульптур перепутали номера, в результате чего ассирийская статуя, попавши к фарфоровым куколкам, пастухам и пастушкам, должна была вместе с ними производить менуэтные па и сидеть на козеточках; и козетки ломались, а куколки – разбивались; но «носорог» в гостиной монументально выглядел в чертогах Ассаргадона, и отец становился изящным, легким, грациозным, едва усаживался за зеленый стол: заседать… Предки и биография Отец его – военный доктор, сосланный Николаем Первым и, кажется, разжалованный; так попал из Москвы в Закавказье он, чтоб годами службы себе завоевывать положение; храбрец и наездник, он пользовался уважением среди врагов-лезгин: он их пользовал часто, когда попадались в плен они; он безнаказанно ездил один в горах; «враги», зная его, его не трогали; выезжали порою к нему и выстреливали в воздух в знак мирных намерений; первое детское воспоминанье отца: гром орудий в крепостце, обложенной лезгинами. Семейство деда было огромно: четыре сына, четыре дочери; средств – никаких; позднее дед перебрался в Киев, где был главным врачом какого-то госпиталя; под конец жизни с усилием выстроил он себе дом на Большой Владимирской, чуть ли не собственными руками; здесь умер он от холеры в один день с бабушкой… Кавказ – трудная полоса жизни деда; когда отцу минуло десять лет, его посадили впервые верхом и отправили по Военно-Грузинской дороге с попутчиком в Москву; здесь устроили у надзирателя первой гимназии, в которой он стал учиться; жизнь заброшенного ребенка у грубого надзирателя была ужасна: ребенка били за неуспехи детей надзирателя, которых должен был готовить отец же, хотя они были ровесниками и соклассниками; он молчал; и шел – первым (кончил с золотою медалью) . Вспоминая невзгоды, перенесенные им, он грустнел; когда он перешел в пятый класс, то из письма деда понял: деду его содержать нелегко; тотчас же пишет он, что-де прекрасно обставлен уроками и в помощи не нуждается; с пятого класса он уроками зарабатывает себе оплату гимназии, пропитание и квартирный угол; в седьмом классе снимает он угол у повара, – в кухне, под занавескою; в это время завязывается его знакомство с С.И.Жилинским (впоследствии генераллейтенантом, заведующим топографическим отделом в Туркестане); второе знакомство: к нему приходит в гости гимназист первой гимназии Н.И.Стороженко, сын богатого помещика Полтавской губернии. Связь со Стороженкой продолжалась всю жизнь. Третий товарищ отца по гимназии М.В.Попов, впоследствии – наш домашний доктор, лечивший отца до смерти; уже впоследствии, молодым человеком, он сходится и одно время дружит с М.М.Ковалевским, с которым даже живет вместе в Париже. Стороженко, Ковалевский, думается мне, и были теми, кто смолоду втянул отца в круг литераторов и общественных деятелей эпохи семидесятых годов; одно время отец – непременный член всяческих собраний и начинаний; он волнуется организацией «Русской Мысли», как личным делом; громит учебный комитет; он делается одним из учредителей Общества распространения технических знаний; состоит товарищем председателя Учебного отдела его; вносит речью своей бодрость в Отдел, разгромленный правительством в 1875 году; он спорит с С.А.Юрьевым; он бывает и в лево-либеральных, и в славянофильских кругах; в свое время он был близок с Янжулом, Стороженко, Иванюковым, Усовым, Олсуфьевыми, Алексеем Веселовским, которого он всячески соблазняет в свое время профессорскою карьерой (в то время Веселовский выказывал желание готовиться к опере), с Танеевыми, Боборыкиными и т.д.; он хорошо был знаком с Николаем и Антоном Рубинштейнами, с композитором Серовым, с Писемским, Львом Толстым, историком С.М.Соловьевым, с Троицким, Владимиром Соловьевым, с Герье, с Тургеневым, с Захарьиным, с Зерновым, Склифосовским, Плевако, Б.Н.Чичериным, С.А.Рачинским и сколькими другими в то время видными деятелями Москвы. Мне мало известны его отношения с Рубинштейнами, Серовым, Тургеневым, Писемским, Григоровичем и другими деятелями искусства; знаю, что на многих он производил сильнейшее впечатление; композитор П.И.Чайковский пишет в 1867 году брату: «Познакомился... недавно с очень интересным профессором Бугаевым. Невероятно ученый и очень умный малый. На днях он до глубокой ночи говорил нам об астрономии...; ...до какой степени мной овладел ужас, когда пришлось встретить... истинно просвещенного человека»... (М.Чайковский, «Жизнь П.И.Чайковского», том I, стр. 268); в воспоминаниях Чичерина последний с недоумением передает восторг Тургенева перед ораторскими способностями отца; Чичерин не понимает этих восхищений, отмечая неинтересность одной из речей отца, прочтенной по записке; Чичерин и не мог понять отца, ибо они – зенит и надир; а что касается до «Записки», то отец всегда терял, когда схему речи записывал, он блистал импровизациями: и Тургенев, по словам Чичерина, метил его, тогда «молодого ученого», в лидеры левой группы им чаемого парламента (см. воспоминания Б.Н.Чичерина); помню, как мать рассказывала: на юбилее Н.И.Стороженко отец так поразил речью Суматова-Южина, что он, не будучи лично знаком с матерью, подошел к ней представиться, чтобы выразить ей свое восхищенье; однажды на каком-то юбилейном собрании старики, военные инженеры-механики, после речи отца бросились его качать; в 1863 году, проживая в Берлине, он поразил воображение будущего инспектора Межевого института, Рашкова, горячностью своих речей в ресторанчике, где собирались молодые русские ученые, проживающие в Берлине, и т.д. (см. брошюру Л.К.Лахтина «Николай Васильевич Бугаев»). Не ограничиваясь математикой, он с молодых лет усиленно самообразовывал себя; в своих воспоминаниях об отце Н.И.Стороженко пишет, что, будучи студентом-математиком, он «...часто появлялся на лекциях тогдашних любимцев молодежи: Рулье, Кудрявцева, Буслаева и др. Придя с лекций домой, Николай Васильевич продолжал дело самообразования, изучая капитальные сочинения по философии, политической экономии, а когда хотел «побаловать» себя, то читал нараспев стихотворения...» Его темперамент в те годы не знает предела; математикой не может он оградить себя в эти годы; и усиленно занимается философией; изучает пристально Канта, Гегеля, Лейбница, Локка, Юма; становится одно время начетчиком позитивистов и комментатором Милля и Герберта Спенсера; он силится одолеть юридическую науку своего времени и пристально следит за развитием французской и английской психологии вплоть до смерти; он даже изучает фортификацию; и удивляет в Дворянском клубе старожилов, уличив какого-то генерала-стратега, читающего доклад о ходе военных действий под Бородиным, в полном незнании действительного расположения войск; сорвав генерала, он прочитывает блестящую лекцию по фортификации; он писал стихи, статьи (после смерти я нашел статью его об «Отцах и детях» Тургенева), сочинял текст либретто для оперы «Будда», которым Серов, встретившись с Вагнером, сильно заинтересовал последнего; он полемизировал в молодости под каким-то псевдонимом с деРоберти. И одновременно: он все время крупно работал в математике и всю жизнь изучал классическую математическую литературу; но в чистую математику углубился он не сразу; по оставлении при университете его он поступает в Военно-Инженерную академию, где слушает лекции Остроградского, и едва не проходит всего курса наук; но окончить академию не удалось: он был исключен из-за какой-то разыгравшейся в академии истории (на почве политической); тогда он возвращается в университет и едет в учёную командировку, где два года работает, знакомясь с крупнейшими немецкими и французскими математиками. Слушал лекции Куммера, Вейерштрасса, Лиувилля, Бертрана, Серре и др.; всю жизнь переписывался с Лиувиллем, Клейном, Пуанкарэ и другими; в двух французских математических журналах он сотрудничал много лет. Он становится одним из основателей Московского математического общества и журнала «Математический вестник»; председателем первого и редактором второго состоял он в ряде лет. Широта в нем пересекалась с глубиной, живость темперамента с углубленностью; потрясающая рассеянность с зоркостью; но сочетание редко сочетаемых свойств разрывало его в «чудака»; и тут – точка моего странного к нему приближения. Человек огромных знаний, ума, способностей, опыта имел и уязвимую пяту: он мало знал экономическую литературу; и - не читал Маркса, к которому относился со сдержанным почтением, как относятся к чему-то большому, опасному, мало ведомому; с утопическим социализмом он был знаком, но отмечал его философскую невыдержанность. Но менее всего его удовлетворяла либеральная фраза для фразы; и тут начиналась в нем издавна критика его друзей и близких знакомых – Чупрова, Виноградова, Муромцева, Стороженко, М.М.Ковалевского; сперва – дружеская; потом и довольно яростно-нападательная; в семидесятых годах он еще с ними сливался: либерал, как и они, позитивист, как и они; но с усложнением его философской позиции и с углублением в нем чисто математических интересов он не мог удовлетвориться их ходячей платформою; особенно подчеркивал он в них философское пустозвонство и отсутствие твердой методологической базы; некогда изучив логику и методологию эмпиризма на первоисточниках, он потом высмеивал в многих из былых друзей «второсортность» их верований и знакомство с логикой даже не из вторых, а из третьих, четвертых рук: «взгляда и нечто» не мог выносить он; ведь преодоление канонов позитивизма совершалось в отце в годах: упорной работой мысли, знакомством с источниками и, главное, собственным творчеством в точнейшей науке. Взгляды …улет в пифагорейство, в беспартийный индивидуализм, в одном совпадающий с либералами, в другом с консерваторами, в третьем залетающий левее левых; рычаг критики – его философия, социологическая база которой была аритмологична; а проповедовал он, применяя сократический метод и им прижимая к углу, чтобы водрузить над прижатым стяг «монадологии». Главный пункт: агитационная пропаганда основ «эволюционной» монадологии; тезисы ее вырабатывались в десятилетиях; с первых лет детства я слышу имена: Фрэнсис Бэкон, Рид, Юм, Локк, Уэвель, Гамильтон, Спенсер, Милль, Бэн и т. д.; эти-то имена и преодолевались, вывариваясь в аритмологии: в основе монадологии эти имена вместе с именами Лагранжа, Лейбница, Эйлера, Коши, Абеля. Ненавидел Шопенгауэра… Не любил он священников: «попы»— предмет иронии, нападок, гнева… Характер Откинется: весь подобрев, просияет, и тихо сидит; в большой нежности, – так: ни с того ни с сего: большеголовый, очкастый, с упавшею прядью на лоб, припадая на правый на бок как-то косо опущенным плечиком; и... засунувши кисти совсем успокоенных рук под манжетом к себе; накричался; и – тихо сидит, в большой нежности, – так, ни с того ни с сего; улыбается ясно, тишайше: себе и всему, что ни есть. Тёмен был мне отец в этих странных усилиях к ясности, к точности и к немедленной ликвидации всякого иррационального пятнышка, выступившего перед ним точно на переосвещенной поверхности; он все удивительно переосвещал: освещал со всех сторон пунктами и подпунктами своих объяснений; но переосвещенная плоскость переменяла обычный рельеф: на рельеф диковатый и от переосвещения – темный: – Люблю я Риццони: вот это художник; его можно в лупу разглядывать. Он очинивал карандашики так, что их прямо бы под микроскоп: до того совершенно они заострялись; и всем выдвигал острие карандашиков, как неизбежное; люди смеялись: «Чудак»! Он поражал... кротчайшим лицом, просиявшим улыбкою; ведь некрасивый и часто свирепый на вид; кипяток: раскричится, – на весь Арбат слышно; а мы – не боимся; улыбка отца была нежная, просто пленительная; лицо – славное: не то Сократа, не то – печенега. Меня поражало в отце сочетание непредвзятости с резким пристрастием; поражало и сочетание гуманности в жизненных вопросах с узким фанатизмом в настаивании на проведении мелочей именно так, а не иначе; и – страсть к ясным формулировкам, уживающаяся со страстью к дичайшим гротескам, подносимым под видом сочиненного каламбура… Отношение коллег …грустно жаловался: Знаешь, наши профессора-математики далеко не все могут усвоить мои последние работы. И перечислял, какие именно математики могут его понять: насчитывал он лишь с десяток имен, во всем мире разбросанных. Изобретатель Когда я родился, отец обложился пятью огромными сочинениями, трактующими воспитание; он появлялся в детской с книгой в руке: читал няне метод подвязывания салфеточки; но – был изгнан. …совершенно случайно расслышав, как что-то кухарка бормочет о чистке картофеля; и – как снег на голову: из отворенной двери карманом куртчонки своей зацепляясь за дверь, прямо в кухню: – Не так-с надо чистить картофель: вот как-с! Цифрами, формулами начинает выгранивать методы: чистки картофеля или морения тараканов, которые вдруг завелись; помню сцену: приехал к отцу математик по спешному делу из дальней провинции; мой же отец, стоя на табурете, имея по правую руку кухарку, по левую горничную со свечами, спринцовкой опрыскивал тараканов испуганных, с ужасом им вдруг в буфете открытых: – Вот видите-с, – как-с негодяй убегает, а я его – так-с. И – пфф-пфф – в таракана спринцовкою; вспомнивши, что математик приезжий стоит, рот раскрыв, с удивлением созерцая картину гоняющегося спринцовкою за тараканом отца, угрожающего падением с табурета и развевающего полы халата, он бросил ему: – Посидите тут, – вот, изволите видеть: морю тараканов; да-с, да-с – тараканы у нас развелись. Отвернувшись от математика, бросился он спринцовкою за убегающим тараканом: – Ах, ах, – негодяй: ишь ты, – тоже спасается; а я его... Моя мать, тетя и гувернантка, следящие исподтишка за картиною этой, тут фыркнули; сам математик почтительный, вижу, уже начинает беззвучно трястись; и кухарка, и горничная тоже пляшут плечами; и я смеюсь; только отец – нуль вниманья на смехи, хотя слышит их: – Ах, какая гадость; вот дьявольщина,– развелись тараканы: скажите, пожалуйста! Только минут через двадцать, сойдя с табурета, отдавши прислуге халат, он подшаркнул, превежливо и предовольно перетирая руками: – Ну вот-с, и прекрасно: садитесь, пожалуйста, – ведь уж и так математик уселся, – да-с, нечего делать ведь: тараканы – ужасная пакость; ну, чем я могу вам служить? ...дошел до мысли обозначить полочки и ящики комодов направлениями земного шара: север, юг, восток, запад; отец, уезжающий в Одессу, Казань, Киев председательствовать, устанавливая градацию: сундук «А», сундук «Б», сундук «С»; отделение — 1,2,3,4, каждое имело направления; и, укладывая очки, он записывал у себя в реестрике: сундук А,3,СВ; «СВ» – северо-восток; как он приставал ко мне, чтобы и я последовал его примеру... На все он имел свой метод: метод насыпания сахара, метод наливания чаю, метод держания крокетного молотка, очинки карандаша, заваривания борной кислоты, запоминания, стирания пыли и т. д. С невероятной трудностью «методами» побеждал он мышиную суетню жизни, таская за собой музей методов; но за эти методы ему влетало у нас; методы отправлялись... в помойную яму; и он уже тихонько, исподтишка, схватывал меня, пятилетнего, в темном коридорике и, испуганно озираясь (нет ли мамы, тети, прислуги), вшептывал какой-либо из им изобретенных методов: – Ты бы, Боренька, знаешь ли, не капризничал, а прочитывал до трех раз «отче наш»: урегулирует это психику. Только на робкого человека, не искушенного ни методом, ни практическим знанием, что эти «методы» в загоне у нас, он, очень робкий дома, храбро нападал с методом; и иные с уважением его слушали, как метод урегулирует хаос возможностей; стоило робкому человеку послушаться, как наступало учение: – Вот так, эдак, а не так; как же вы это?.. Не так-с! – уже свирепо кричал он. Кто его ближе знал, тот знал: не страшен «метод»; резкий жест отстранения, и – «метод» летел к черту; и отец кротко отходил и грустно поохивал, делясь со мной горем: – Не хватает у них, Боренька, рациональной ясности! Но у пятилетнего Бореньки не хватало тоже той ясности. Не забуду обучения отцом крокетной игре старенького, робеющего учителя математики, Дроздова, имевшего несчастие стать его партнером и исполненного уважения к «профессору», переживавшему свирепый азарт «разбойника» и угонявшему шары к черту на кулички: совсем Атилла! В таком азарте он и напал на дрожащего от страха старичка: – Не так-с! Опять не попали в шар... Эхма! – с презрительным отчаянием он замахивался на Дроздова. – Как вы держите молоток? Кто так держит молоток? Вот как держат молоток. – И он уже выламывал руки и ноги Дроздова; и угрожал поднятым молотком: – Прицеливайтесь!.. Топырьте ноги!.. Не так, топырьте же, я вам говорю! И тут он был пойман с поличным проходящей матерью; Дроздов вылетел, как дрозд, из рук Атиллы, а Атилла, надвинув на лоб котелок, покорно вернулся к своему шару и уже Дроздову не угрожал ничем. Вообще он никому ничем не угрожал; гром, тарарах, а – губительная молния не падала; но лицо освещалось улыбкой, как полярная ночь сиянием. Всё же «методы» распаляли страсти отца; и согласись до конца Дроздов на метод держания молотка, он был бы обременен вторым, третьим, четвертым методом; читались бы лекции; и метод стирания пыли с башмаков излагался бы в пунктах и подпунктах: а, б, в, г и т. д. Каждый подпункт был бы сформулирован ясно, кратко, точно. Отношение людей А тупицы пофыркивали: – У профессора Бугаева, вероятно, старческое размягчение мозга, – сказала однажды одна из интеллигентных тупиц. А в это время: выходили его замечательные брошюры, одна за другою, читались прекрасные лекции и писалась глубокая статья по философии математики: но простота вершинного кругозора и ширь птичьего полета не принимались в быту. Да и сам Брюсов, на отца брюзжащий за Лейбница..: «Бугаев опять говорил с точки зрения монадологии. Мне это было мучительно...» (Брюсов: «Дневники», стр. 112). Он был истинно одинок, истинно осмеян там именно, где начиналась в нем оригинальная глубина его; «Глас, пошлый глас, – вещатель общих дум», по словам Баратынского, поднимал над его одиночеством пошленькие хихики; люди копчика языка в нем Сократа не видели; вот как отразился отец в воспоминаниях И.А.Линниченко (сборник «Живой Толстой», издание 1928 г., стр. 371-372): «Однажды в приемный день Николая Ильича..., в числе гостей, пересидевших время чая, были: известный математик, мнивший себя философом, проф. Н.В.Бугаев, какой-то приезжий англичанин и я... Вскоре... в кабинет вошел Л.Н.Толстой. Англичанин... даже побледнел от восторга и весь насторожился, ожидая услышать пророческое слово поэта-философа... Не успел, однако, Л.Н. занять свое место, как Н.В.Бугаев бросился к нему и... руками и крикливым голосом, в пылу спора доходившим до предельных нот сопрано, ...бегая по комнате, спеша... и захлебываясь, начинает излагать Л.Н. основные тезисы своей философии. Весь проникнутый философским... задором (с философами ему всегда приходилось воевать), Н.В. и тут стал бороться с несуществующим противником. Л.Н. молча слушал философа... Тем не менее Н.В. постоянно подбегал к нему с криком: «Нет, позвольте, я вам докажу» . …я знаю: Толстой именно на иные ноты монадологии откликался сочувственно, как откликались сочувственно и Лопатин, и Грот, и Троицкий, не полагавшие, что отец «мнит» философом себя, ибо он был – философ воистину... И я знаю прекрасно свои смешные стороны; знал их и отец; и прекрасно видел, как смеялись над ним. Когда этот смех был добродушен, он сам принимался смеяться; но и злой хихик чуял он; и – ожесточался; впрочем, был он отходчив… Спорщик Что общего – лейбницианец-математик и оставивший Маркса, проповедующий Бодлэра символист Эллис; а – как они спорили, сцеплялись, схватывали друг друга за пиджаки! И отец, накричавшись, говаривал: – Из всех твоих товарищей, Боренька, самый блестящий – Лев Львович: да, да-с, – блеск один! Покойный В.И.Танеев, наш критик быта, спокойно рассказывал: – Еду на именины я к Николаю Васильевичу; въезжаю на Сенную площадь; и уже слышу крик из глубины Оружейного переулка; понимаю, что спорит Николай Васильевич; и говорю извозчику: – Поворачивай-ка обратно: Бугаев спорит! Такой факт имел место (дело было весной, и окна на переулок в квартире Стороженки были открыты); жена Стороженки потом жаловалась: – Ужасно, дорогая, – Николай Васильевич кричал на Гамбарова, махал ножом; и лезвием его рубил скатерть; а скатерть-то не наша: взяли у знакомых; ну, думаю, погибла! В споре отец схватывал любой предмет и им махал в воздухе; иногда и подкидывал в воздухе предмет; не сомневаюсь, что в данном споре профессор Гамбаров не сумел сформулировать. Ужасны были схватки его с Боборыкиным; они кидались друг на друга, как быки; первое знакомство матери с Боборыкиным: где-то на обеде к уху её склоняется лысая, багровая голова в очках и яростно шепчет: – Когда ваш муж будет меня ругать, – не верьте ему! Оказывается, незадолго до этого они кричали друг на друга: – За такие слова надо вам оборвать уши! – А вас надо – вот этим графином, – и был схвачен уже графин. Споры отца – борьба за метод формулировки; брошюра «Основы эволюционной монадологии» – инвентарь формулой; страсть к спору – оттого, что, терпя всюду неудачу при внедрении своих методов, отец переносил жажду к проведению метода в чисто теоретическую сферу: когда он вступал в спор, он знал, что на людях его не станут одергивать. Неизжитость потребности с методом внедриться в жизнь сказывалась при споре как свирепость; спорщик-Бугаев – московский миф восьмидесятых годов, как говорун-Юрьев, добрякКовалевский, весельчак-Иватоков, красавец-Муромцев, умница-Усов. О спорах отца ходили легенды; я их не привожу, не будучи уверен в их истинности; но вот что мне рассказывали об отце, вычитавшие этот эпизод с ним (он где-то записан): председательствуя на заседании, где читался доклад об интеллекте животных, отец, председатель, прервал референта вопросом, знает ли он, что такое есть интеллект; обнаружилось: референт не знает; тогда отец начал спрашивать сидящих в первом ряду: – Вы? – Вы? Никто не знал. Отец объявил: «Ввиду того, что никто не знает, что есть интеллект, не может быть речи об интеллекте животных. Объявляю заседание закрытым». Так и вижу его в этом жесте. Методы, ясные формулы – это способ борьбы его с темнотой быта; он изживался: в каламбурах и спорах; входя в быт, препирался на каждом шагу; но вменил в правило: быть, как и все; поступать, как и все. Отношение к авторитетам «Педераст» – другого именования не было для великого князя Сергея. – Расшатывает мальчишка все! «Мальчишка» – Николай. – Позвольте-с, да это ерунда-с! – кричал на министра Делянова; и Делянов – терпел: с Бугаевым ничего не по делаешь; лучше его обойти, а то шуму не оберешься. «Странности» Брюсов: «После Бугаев рассказывал о своих столкновениях с чертом – любопытно». Эти темы рассказов о черте уже относились к серии диких каламбуров отца; отец, не веривший в черта, уличал его бытие в странных мифах; и Брюсов клюнул на них. Мысли: он в мыслях выворачивал самое представленье о связи наук; и порою меня, «декадента», сражал он полетами, смелостью, дерзостью математических выводов, к жизни приложенных; выскажет; и вдруг припустится мысль остраннять в каламбурище. Передавали: за ужином у С.А.Усова раз при Толстом он пустился в гротески; Толстой оценил чрезвычайно один из них: за художественность! …«художество» это преследовалось у нас в доме; кухаркам, извозчикам нес свое творчество неоцененный «мифолог»; извозчики в чайных передавали друг другу словечки отца; и известностью у приарбатских извозчиков очень гордился он. …но стоило отцу открыть рот, как мать прерывала его: – Вы опять за свое! – Не любо, не слушай, а врать не мешай, – отзывался он, что-нибудь высказав: с очень довольным, хотя виноватым, стыдливым, слегка перепуганным даже лицом, себя сдерживая; не сдержавшись, сорвавши салфетку с себя (каламбуры слагались им за обедом), он несся на кухню, где был он свободен от нашей цензуры; и, бухнув гротеском пред кухонного плитою, он с хохотом, полуприплясывая и полуподмаршовывая, мотал головой сверху вниз; и к столу возвращаяся, чтобы подвергнуться действительному обстрелу глаз матери. Эта потребность к чудовищностям – органический зуд, выраставший из вечного сопоставления оригинальных и новых мыслей о мире и жизни с «бытиком», мысли такие расплющивающим; из среды – куда вырваться? Он в ней, как узник, до смерти сидел пребеспомощно; сидел со страхом; и страх атрофировал в нем, революционере сознания, самую мысль об замене иною средою среды, окружавшей нас; ведь ее представители – сливки Москвы; не к извозчикам же бежать в чайные? И он изживал в каламбурах стремленье к «не как полагается», следуя в быте канонам: с усилием невероятным; такого усилия быть, «как и все», я ни в ком не встречал; «всем» легко то давалось; а у отца это «быть, как и все» интегрировалось с непомерным трудом; с угловатостью, вызывающей хохот «у всех», он проделывал все бытовые каноны. Иные из профессоров, как подметил я, будучи тоже свободными в мыслях от тех бытовых предрассудков, в которых мы жили, все силились, как и отец, уравнять себя среднею линией; и – выпирали: смешными казались; отец был смешнее их всех. Семейная жизнь Дед по матери, Дмитрий Егорович Егоров, переменил фамилию («Егоров» от «Егорович»), когда узнал, что его усыновивший «отец» (он был незаконнорожденный) – «отец» со стороны (он был богатый аристократ); дед разорвал все с отцом; и сам стал себя воспитывать; имея художественные наклонности, он кончил театральное училище; одно время он пел в хоре Большого театра; но скоро, уступая совету хорошего знакомого, купца, стал помогать ему в его деле, бросил театр, занялся коммерцией; позднее имел и свое дело (меха); у него был достаток; был он человек очень чистый и строгий, но – замкнутый; его друг – доктор Иноземцев; другой, хороший знакомый – доктор Белоголовый; с ними он затворялся у себя; бабушка была ниже его и по уровню развития, и по интересам, ее девическая фамилия – Журавлева; где-то, через прабабушку, она была в родстве с Ремизовыми, с Лямиными и с другими купеческими фамилиями; с А.М.Ремизовым (с писателем) я нахожусь в каком-то преотдаленнейшем свойстве через прабабушку; мать помнит хорошо свою прабабушку (мою прапрабабушку); она ходила в мехах и в кокошнике; умерла же ста четырех лет; няня матери двенадцатилетней девочкой пережила двенадцатый год; я ее помню хорошо; она являлась к нам из богадельни, и мне вырезывала ворон; в доме у дедушки почему-то часто бывал молодой студент, Федор Никифорович Плевако; с Плевако были знакомы родители; но традиции знакомства шли через мать. Дедушка Егоров имел уязвимую пяту: боготворил свою Звездочку (так звал мою мать); и разрешал ей все, что ей ни взбредет в голову; так стала пятилетняя Звездочка тираном в доме; дедушки боялся весь дом, а дедушка боялся Звездочки; так и произошло, что Звездочка, будучи в четвёртом классе гимназии, объявила, что из гимназии она выходит; дедушка не перечил: началась эпоха домашних учительниц, которые, разумеется, Звездочку ничему но научили, кроме музыки, которую она любила; наоборот: она их учила. Одна из воспитательниц стала позднее другом матери; она бывала у нас: Софья Георгиевна Надеждина, дочь Егора Ивановича Герцена, жившего слепцом на Сивцевом Вражке, впавшего в нищету, которому помогали старики Танеевы: с Сивцева Вражка и приходила Софья Георгиевна к нам, оставаясь верной насиженному месту; по Сивцеву Вражку гуляли мы; здесь же жил Григорий Апетович Джаншиев, о котором ниже. Дедушка умер сорока пяти – сорока шести лет; бабушка в год лишилась всего, отдав деньги в руки какому-то негодяю; наступила ужасная нищета; и одновременно – заболевание матери, полюбившей одного из Абрикосовых (сыновей фабриканта), которому родители запретили жениться на матери, как нищей (Абрикосовы – хорошие знакомые дедушки); мать ряд лет любила его; у нее было множество женихов, среди которых были и богачи; но она всем отказывала, к негодованию бабушки; и терпела нищету. С отцом познакомилась она на предводительском балу; странно: отец в молодости, томясь тем или иным математическим открытием, испытывал настоящие муки творчества; и, чтобы рассеяться и угомонить мысль, начинал бывать всюду; и – на балах; отец был поклонником женской красоты; но чтил в красоте какие-то геометрические законы; когда ему указывали на хорошенькую, он подбегал к ней, тыкался носом в нее, подперев руками очки, и измерял соотношения: лба, носа, рта; на фигуру, на жест не обращал он никакого внимания; лишь на геометрию линий лица. Мать, по настоянию ее кузена, Лямина, была почти насильно свезена на бал, и произвела сильнейшее впечатление; открылась новая московская красавица; рой юношей, офицеров, старцев потянулся к ручке новоявленной «знаменитости»; сам генерал-губернатор, князь Долгорукий, попросил разрешения представиться; отец, увидав мать, увидел искомую им формулу соотношения пропорций: лба, носа, рта; и – тоже представился; из этого представления возникло знакомство: отец, попав в дом матери, ахнул, увидев ужасный развал, нищету; и даже: опасности, грозящие «московской красавице»; он стал другом дома, опекуном, спасителем, сторожем; и – влюбленным; три раза делал он предложение; и – получал отказ: Наконец мать согласилась; отец женился на пропорциях: лба, носа, рта; по-видимому, было нечто в пропорциях, потому что их отметил и Константин Маковский, знакомый отца, изредка заезжавший к нам в бытность в Москве; он сам признавался, что взял голову юной матери образцом картины своей «Невеста на свадебном пире»; лицо матери служило ему моделью для «невесты», а лицо сестры жены (кажется) Е.П.Лотковой (потом Салтановой) служило моделью для ревнивицы, стреляющей глазами в невесту; Леткова-Салтанова где-то часто встречалась с родителями; и ее с матерью сажали перед Тургеневым на интимном обеде в честь него, как декорум; в раннем детстве помню говор вокруг нее: «В Москве три всего московских красавицы: Баташова, Рутковская, Бугаева». Я очень гордился «славой» матери; но я никогда в ней не видел так называемой красоты. Мать вышла замуж за «уважение»; отец женился на «пропорциях»; но ни «уважаемых пропорций», ни «пропорционального уважения» не сложилось никак. Все было для меня непропорционально; и никаким уважением к быту нашему не пылал я; «пропорции» – давили; а вместо уважения я испытывал страх. Трудно найти двух людей, столь противоположных, как родители; физически крепкий, головою ясный отец и мать, страдающая истерией и болезнью чувствительных нервов, периодами вполне больная; доверчивый, как младенец, почтенный муж; и преисполненная мнительности, почти еще девочка; рационалист и нечто вовсе иррациональное; сила мысли и ураганы противоречивых чувств, поданных страннейшими выявлениями; безвольный в быте муж науки, бегущий из дома: в университет, в клуб; – и переполняющая весь дом собою, смехом, плачем, музыкой, шалостями и капризами мать; весьма некрасивый и «красавица»; почти старик и – почти ребенок, в первый год замужества играющий в куклы, потом переданные мне; существо, при всех спорах не способное обидеть и мухи, не стесняющее ничьей свободы в действительности; и – существо, непроизвольно, без вины даже, заставляющее всех в доме ходить на цыпочках, ангелоподобное и молчаливое там, где собираются профессорши и где отец свирепо стучит лезвием ножа в скатерть с «нет-с, я вам докажу»...; слышащий вместо Шумана шум; и – насквозь музыкальное существо; наполненный бытом университета, хотя давно этот быт переросший; и во многом еще не вросшая в него никак: не умеющая врасти; во многом, – не принятая в него; поэтому, хотя и непокорная, но боящаяся, что скажет... Марья Ивановна. Что могло выйти из жизни этих существ, взаимно приковавших себя друг к другу и вынужденных друг друга перемогать в небольшой квартирочке на протяжении двадцати трех лет? И что могло стать из их ребенка, вынужденного уже с четырех лет видеть происходившую драму: изо дня в день, из часа в час, – двадцать сознательных лет жизни. Я нес наимучительный крест ужаса этих жизней, потому что ощущал: я – ужас этих жизней; кабы не я, – они, конечно, разъехались бы; они признавали друг друга: отец берег мать, как сиделка при больной; мать ценила нравственную красоту отца; но и – только; для истеричек такое «цененье»— предлог для мученья: не более. Скоро мать обрела себе подругу по балам, куда естественно выпорхнула из нашей квартиры; дом подруги и увозы ею матери на балы, в театры и т. д. вызывали изредка кроткие реплики отца: – Они, Шурик мой, – лоботрясы. Они – бальные танцоры и частью знакомые Е.И.Гамалей, тоже «красавицы», подруги матери; потом она разошлась с мужем, переехала в Петербург, выйдя замуж за оперного певца, А.Я.Чернова; отсюда: знакомство матери с Фигнерами. Но «лоботрясы», кавалеры матери, потрясали детское воображение: вдруг появится в нашей квартире лейб-гусар; и сразит: ментиком, саблей, султаном, гродненский гусар, Сорохтин, брат Е.И.Гамалей, меня восхищал; но тут поднимался отец и гусаров вышучивал. Помнятся еще имена молодых людей, с которыми мать часто встречалась у Гамалеев или чрез Гамалеев: графы Ланские, князь Трубецкой (предводитель дворянства), Похвистовы, Кристи, капитан Банецкий, братья Хвостовы (в их числе – будущий недоброй памяти черносотенник). «Котик», по представлению матери, должен был стать, как эти «очаровательные» молодые люди, а в нем уже наметился «второй математик»; и – поднимались бури. – Уеду и увезу Кота! – восклицала мать. – Никогда-с! – восклицал отец. И – бой гладиатора с львицей: опять и опять разгорался; а я – опять и опять ждал: светопреставления. Любовь матери была сильна, ревнива, жестока; она владела мной, своим «Котенком», своим зверенышем. – Мой Кот, – так называла меня, – и что захочу, то с ним сделаю! Не хочу, чтобы вырос вторым математиком он; а уж растет лоб: лобан! Любовь родителей рано разрезала на две части. – Что есть, Боренька, нумерация? – спрашивал отец, когда было мне пять лет. – Как же, голубчик мой, опять не знаешь: ужасно-с. – А как знать? Не смею знать. – Если выучишь, – помни: не сын мне! Так угрожала мать; и эти угрозы реализовались тотчас же сценой с отцом, если он был тут; и гонениями ужасающей силы на меня с момента выхода отца; а он – всегда уходил; и дома был гостем; все прочее время – заседал вне дома иль вычислял в кабинете. Описывая страдания, наносимые мне матерью, я был бы безжалостным сыном, если бы не оговорил: болезнь чувствительных нервов приросла к ней, как шкура Несса к умирающему Гераклу; она испытывала невероятные страдания; ее «жестокость» – корчи мук; в минуту, когда с нее снималась эта к ней прирастающая шкура, она менялась; в корне она была – прекрасным, чистым, честным, благородным человеком; потом видел я ее в процессе медленного выздоровления и высвобождения из-под ига несчастного недуга; и я с восхищением и с любовью на нее смотрел. Она была в описываемый период вполне беспомощна; беспомощность – и болезнь, и условия воспитания. Последние дни И я и отец расклеились: я – от своих опытов с памятью; он – от толканья экзаменов в двух отделеньях его факультета; экзамены у математиков – раз; у нас – два; там он казался таким молодым и здоровым, а дома – сипел, иссякал, задыхался, хватаясь за пульс; Кобылинский позднее рассказывал мне: – «Забегаю, – тебя дома нет; Николай же Васильич, в халатике, жалуется: «Душит, вот!» – и бьет в грудь». На следующий день отец объявил, что он едет со мной на Кавказ: полечить свое сердце; и кроме того: у него был участок земли вблизи Адлера; участок тогда – пустовал; четверть века назад раздавала казна почти даром участочки профессорам; «тоже – собственность», – иронизировал годы отец; по проект черноморской дороги взбил цены на землю; отец торопился участок продать; сердце екнуло у меня; я понял намерение: чувствуя смерть, нас хотел обеспечить; и вот загорелся: скорей на Кавказ! Я был в ужасе: в эдаком-то состоянии? Доктор Попов, друг отца, покачал бородой: «Поезжай, брат, в деревню!» Прослушавши сердце отца, он – такой весельчак – мрачно крякнул; рукою – по воздуху: «Плохо!» Услышав, что плохо, отец заспешил: все описывал горы, Душет, где родился; мне думалось: просится в смерть. Мне – не жаловался, видя, как я измучен; и гнал все от книг: – «Брось, брось, Боренька, шел бы к Владимировым!» В эти дни говорил с сожалением: – «Долго, голубчик мой, ждать окончания курса; да и – труден путь литератора: существовать на строку! Это, ясное дело, – разбитые нервы; Петр Дмитриевич Боборыкин талант потерял; стал журнал издавать; просадил двести тысяч, чужих; и выплачивал долг лет пятнадцать: романами; выплатил – ценой таланта; да-да-с! Что же это за путь? Притом, Боренька, – бегал в испуге глазами он, – твоя-то ведь литература для кучки; ну где ж тут прожить? Измотаешься! – Вдруг просияв: Облегченье мне знать, что естественный кончил ты; как-никак, а – диплом есть; в крайнем случае вывернешься!» Вдруг забыв, что еще я студент, он к портному тащил, мне заказывать партикулярное платье: «И осенью-с – фрак: молодой человек – да-с – иметь должен – фрак-с, шапоклак-с!». – «А зачем?» – «Так-с! Все может случиться», – и глазки опять начинали испуганно бегать. А мне сердце щемило: он хочет при жизни, пока деньги есть, обеспечить меня одеждой; не верит в «студента»; и знает, что смерть у него на носу. Разговоры, поездки к портному и сбор – меж экзаменами; математики еще не кончили; да и дипломы еще не подписаны им; я в ожиданьи сидел вечера у Владимировых; возник план: покататься на лодках в Царицыне; были: Владимиров, А.П.Печконский, Погожей, Чиликни, Иванов; катались блещущим днем по прудам; по развалинам лазали; тешились перегонками; но сердце екало: «А что с отцом?» Стало ясно: припадок, последний! Он – ждет там, а – я? – «Да что с вами? Оставьте!» – бурчал мне Владимиров; но я спешил и засветло все же вернулся; звонил с замиранием сердца; отец отворил: «Что ж ты так мало гулял?» Он шел в клуб. На другой день, под вечер, ушел на последнее он заседание, где прозаседал часов пять; подписал нам дипломы; к вечернему чаю пришел Василий Васильич Владимиров; невзначай завернул Балтрушайтис; в двенадцать – звонок: отец – тихий, усталый, задумчиво-грустный; и в клуб не пошел, изменяя привычке; уселся в качалку в сторонке от чайного столика, тихо раскачивая головою одною ее, благосклонно прислушиваясь и не вмешиваясь; он смутил Балтрушайтиса, тоже – когда-то студента-естественника. Гости к часу ушли; мы с отцом побеседовали; он продолжал тихо радоваться, просияв не без грусти и превозмогая усталость; я поцеловал на прощанье его; он сидел в той же позе, в качалке, раскачивая подбородком ее; я в дверях на него обернулся; и – видел: тот же ласковый взгляд и кивок, – как прощальный, как благословляющий грустно, как бы говоривший: «Иди себе: путь жизни труден!» Часов эдак в пять просыпаюсь; и не одеваясь – в столовую, чтоб посмотреть на часы; возвращаясь к себе коридором, я видел в открытую дверь кусок комнаты; в нем фигурочка в белом халатике: сгорбленно ложкой в стакане помешивала: «Принимает лекарство!» Не раз я утрами отца наставал копошащимся: все не спалось. …не стало его; а лежит, как живой! Засветилось лицо, как улыбкою сквозь кисею; продолжала по смерти свершать свою миссию светлая очень, шестидесятишестилетняя жизнь: утешитель в скорбях! Было строго и радостно, будто он мне говорил выраженьем: «А ты не тужи: надо радоваться!» …встречание профессоров, из которых иные мне совали два пальца и били глазами в ланиты, как будто отца укокошил; меня оттесняли от гроба, как вора, забравшегося не в свой дом, а не того, кто из нашего дома мог этих невеж удалить. Волновало: приедет ли мать? Телеграмма, что «еду», пришла; ее ж – не было. Вынос: десятки венков, над седыми волосами, над краем перил, как над бездною, – куча цветов золотого, открытого гроба – с тем самым лицом. Мать? Не поспеет! Когда гроб выносили в подъезд, я увидел, как с плачем слезает под черными крепами мать с лихача, обнажившего голову; и – прямо в церковь. Стоял вдалеке, в посторонних леваках, чтобы не видеть Лопатина, евшего гадко очками меня, и Церасского, бледно-зеленого, евшего тоже, когда поднялась над холмом треуголка дрожавшего всхлипом своим попечителя округа; и столь знакомое с детства лицо, желто-одутловатое, помесь хунхуза с поэтом Некрасовым, хрипло сказало надгробное слово. Влияние Его влияние огромно: в согласиях, в несогласиях, в резких мировоззрительных схватках и в жесте таимой, горячей любви он пронизывал меня действенно; совпаденье во взглядах и даже полемика с ним определяли круг моих интересов; с ним я считался – в детстве, отрочестве, юности, зрелым мужем. Иные из жестов отца, его слов, афоризмов, весьма непонятных при жизни, вспыхивают мне ныне, как молнии; и я впервые его понимаю в том именно, в чем он мне был непонятен. Стиль каламбуров – Лесков, доведенный до бреда, до... декадентства; иными из них я воспользовался, как художник, ввернув их в «Симфонии» и в «Петербурге» [14]. На этом мы закончили цитирование воспоминаний Андрея Белого. В них есть одна важная деталь: почти все факты о жизни Николая Васильевича до 1990 года повторяют ранее изданные воспоминания его друзей и соратников. Андрею Белому пришлось восстанавливать жизнь своего отца по другим сочинениям. Это значит, что между отцом и сыном не было того общения, когда более старший рассказывает о своей жизни и делится опытом. Возможно, в тем времена такое общение было не принято. Конечно, тут сказались и усилия жены Николая Васильевича, старавшейся максимально ограничить общение отца с сыном. Возможно также, здесь сказался отмечаемый многими внешне закрытый, даже замкнутый характер Николая Васильевича, какимто чудом сочетавшийся с взрывным темпераментом и страстью к спору. Выводы: 9. Кавказское детство, возможно, отчасти объясняет создавшийся впоследствии имидж Н.В.Бугаева как яростного спорщика и чудака, что, с одной стороны, несколько отвратило от него некоторую часть московской интеллигенции, но в то же время развязало ему руки, позволив выдвинуть совершенно необычные для его времени философские идеи. 10. Обширные знакомства и контакты Н.В.Бугаева с самым цветом московской интеллигенции способствовали, часто путем отрицания бытовавших в ее среде воззрений и идей, становлению его этического и философского мировоззрения. 11. Отчаянное стремление Н.В.Бугаева привести в философскую систему весь окружающий мир, вплоть до мелочей быта и хозяйства, выразились в философской сфере в тщательном анализе громадного количества философских сочинений всех веков и результирующему гигантскому, хоть и неуклюжему по терминологии, скачку вперед. 12. Не слишком удачный брак и не особенно счастливая семейная жизнь – вот тот фон, на котором вырастала новая, необычная и внутренне противоречивая философская система Н.В.Бугаева, а возможно и причина того, что он так и не совершил окончательного синтеза концепций прерывности и структурной целостности в концепцию равновесной самоорганизованной сложной системы, управляемой несколькими параметрами порядка, с состояниями, прерывно меняющимися при постепенном изменении внешних условий. 1.1.3 Обсуждение философско-полемических работ Н.В.Бугаева 1.1.3.1 Работа Н.В.Бугаева «О свободе воли» Эта работа Н.В.Бугаева, вышедшая в свет в 1889 году [32], разделена на десять параграфов. В первом параграфе говорится о постановке проблемы. Вопрос о свободе воли имеет обширную литературу. Он стоит в прямой связи с основными задачами человеческой жизни. Его точное решение очень трудно. Эта трудность коренится в самой сущности наших воззрений на свободу и волю. Наши понятия о свободе и воле очень сложны. Следует раскрыть содержание, уяснить их внутренний смысл. Без предварительного разбора этих понятий сочетание их неясно, сбивчиво. Рассуждая о воле, Бугаев имеет в виду конкретную человеческую волю. Есть другая метафизическая воля. В некоторых философских построениях она стоит вне отношения к человеку и природе. Но Бугаев рассматривает то, что подлежит нашему наблюдению, что доступно внешнему и внутреннему опыту. При каких условиях обнаруживается конкретная человеческая воля? Наша воля не обнаруживается там, где нет деятельности. Нет деятельности – нет и воли. Это отрицательное положение остается верным, будет ли деятельность мускульная, умственная или эмоциональная, активная или пассивная, эгоистическая или альтруистическая, целесообразная или эстетическая, индивидуальная или общественная. Неизбежные условия проявления нашей деятельности и нашей воли одни и те же. Каковы же эти условия? По свойству нашей природы всякая наша деятельность сопровождается некоторой работой. Присутствие этой работы всем заметно. Для деятельности необходим расход сил, затрата накопленной энергии. Во внутреннем опыте эта трата сил, эта работа сопровождается субъективным чувством усилия. Это чувство указывает нам, что в нашей деятельности мы встречаем препятствия, преодолеваем некоторые сопротивления. Это чувство усилия можно назвать чувством работы. Французский философ Жуффруа смотрел на чувство усилия как на первоначальный факт сознания. Он считал его основанием нашего бытия, нашего я. Мы, говорит он, ничто иное как усилие, сила самосознательная, самообладающая. Известно, что всякая долгая и напряженная деятельность заканчивается истощением сил. Истощение это идет рука об руку с субъективным чувством утомления. Деятельность бывает кинетическая и потенциальная. Первая проявляется, вторая только способна к проявлению. Бугаев рассматривает проявленную или кинетическую деятельность. Первое необходимое условие для проявленной деятельности есть работа и чувство работы. Последнее чувство иногда бывает незаметно. Иногда оно не достигает нашего сознания. Тем не менее, самая работа постоянно имеет место, она всегда существует. Большая или меньшая работа указывает на большую или меньшую активность деятельности. Доказывать положение о связи человеческой деятельности с работой излишне. Физиология ощущений, учение о нервной энергии, наше прямое наблюдение и опыт подтверждают истину этого положения. Наука не сомневается в его верности. Она имеет в виду измерить количество этой работы, задается лишь вопросом об ее отношениях к деятельности и формах ее проявления. Другое необходимое условие деятельности, а следовательно и воли, есть форма ее проявления. Эта форма обусловливается организацией человека и окружающей средой. Организация и среда находятся во взаимном соответствии. Для деятельности мышечной необходима организация мускульная, для деятельности внешних чувств то или другое физиологическое устройство органов внешних чувств. Для умственной деятельности необходим еще тот или другой запас общих понятий, готовых суждений и умозаключений, умственных навыков и привычек. Запас этот приобретается воспитанием человека и всей историей человечества. Та или другая физическая, эмоциональная, эстетическая, индивидуальная или общественная организация обусловливают и самое проявление соответствующей деятельности человека. Те же заключения относятся и к среде, в которой проявляется деятельность. В тесной связи с вопросом об организации стоит вопрос о привычках или определенных формах обнаружения деятельности и воли. Привычка является иногда капитализованной предыдущей деятельностью. Продолжительная предыдущая работа преобразуется в привычку. Такое преобразование работы в привычку дает замечательный пример психического преобразования сил. Это преобразование совершается под непосредственным контролем организующей силы деятеля. Существование хороших привычек умножает средства человеческой воли, возвышает ее силу. Организация общества также облегчает деятельность и увеличивает силу индивидуума. Вопрос об организации полезных и дезорганизации вредных привычек есть один из существенных вопросов прикладной психологии. Положение «нет деятельности, нет воли» означает, что нет воли там, где нет работы, организации и среды для деятельности. Люди не способные к работе, люди, которых индивидуальность не организована физически и духовно, люди без среды не имеют воли. Отсутствие одного из этих условий парализует волю, уничтожает всякую возможность ее проявления. Во втором параграфе Бугаев обсуждает отношение воли и сознания. Человеческая воля не обнаруживается там, где нет сознательности. Нет сознания, нет воли. Для сознательной деятельности необходимо, чтобы ее проявление было нам заметно, отмечалось нами, чтобы деятельность останавливала, сосредоточивала внимание на себе. Кроме свойства быть заметным, сознание еще отличается соотносительным характером. Сознание есть знание чего-нибудь одного в его отношении к другому. Нет сознания там, где впечатления не заметны. Нет сознания и там, где деятельность стоит одиноко, ни с чем не связана. Нет сознания там, где нет прочных ассоциаций, правильно развитой памяти. Сознание может проявляться в самых разнообразных видах. Одна из важных форм его известна под именем самосознания. Сознание может быть направлено на чувство работы, на организацию, среду для деятельности и на результаты деятельности. Где нет сознания, там нет и вменения, нет и ответственности. Нет сознания – нет и нет воли – это второе отрицательное положение. Оно означает, что нет воли там, где восприимчивость так мало развита, что ощущения, выражаясь технически, не могут перейти порога сознания, или войти в поле сознания. Нет воли там, где наличные впечатления отличаются такою непосредственностью, что не входят ни в какие взаимные отношения, не образуют связей, не дают материала для ассоциаций. Нет воли там, где впечатления не могут воскреснуть из своего прошлого бытия, где нет памяти и воображения. Наконец нет воли там, где эти впечатления не входят в ассоциацию с тем неизменным и постоянным единством, которое является организующим элементом в нашей жизни и известно под именем нашего я. Нет воли там, где нет самосознания и правильно развитой индивидуальности. В третьем параграфе Бугаев обсуждает взаимоотношение воли и желания. Наша воля не обнаруживается там, где нет желания. Желание, освещаемое сознанием, желание осложненное получает определенное направление. Оно делается хотением, стремлением, носит название плана, основания, цели, мотива для деятельности. Иногда мотивированную деятельность в связи с ее теоретическими и практическими средствами можно назвать целесообразной. Распространяя так широко понятие желания, можно формулировать третье отрицательное положение: нет желания, нет воли. Это значит, что воли нет там, где нет плана, основания, мотива, цели для деятельности. Деятельность, сознание и желание суть три необходимые элемента для проявления воли. Таким образом, имеет место следующее общее положение: Воля проявляется только там, где есть сознательная, мотивированная или целесообразная активная деятельность. В четвертом параграфе обсуждается проявление воли в поступках. Всякая деятельность состоит из ряда цельных, связанных между собою звеньев. Каждое такое отдельное звено будем называть поступком. Выше уже были определены те необходимые условия, которые решают вопрос, присутствует ли в данной деятельности или в данном поступке воля, или ее нет. Воля проявляется в поступках не с одинаковой силой. Можно различать в деятельности сильную и слабую волю. Каковы же условия, указывающие на большую или меньшую волю? Деятельность как необходимое условие проявления воли, обнаруживается с большей или меньшей энергией. Чем энергичнее деятельность, тем сильнее воля. Но есть исключение. В той энергии, которая проявляется бессознательно, безучастно или бесцельно, мы не признаем присутствия воли. Такую энергию, как бы она ни была велика, зовут мимовольной энергией. Нецелесообразный и непроизводительный расход сил не имеет никакого отношения к воле. Энергия в деятельности должна обнаруживаться в определенной форме, соответствующей индивидуальной и общественной организации и условиям окружающей среды. Талантливая речь на непонятном языке не производит впечатления, глубокие и тонкие соображения, не соответствующие обстоятельствам дела, не ведут к полезному результату. Вот почему мы силу воли измеряем не только той энергией, с которой обнаруживается деятельность, а часто и тем результатом, к которому данная энергия ведет. Знание организации и среды увеличивает этот результат и повышает силу проявления воли. Оно предохраняет деятельность от бесцельной затраты сил, оно возвышает ее значение. Закон сохранения энергии играет тут очень важную роль. В тесной связи с нашим представлением о силе воли находится субъективное чувство усилия или работы. При этом кроме абсолютной мерки нужно принимать во внимание соотношение между волевым напряжением и теми средствами, которыми располагает та или другая индивидуальная организация. Иногда в малых размерах волевого напряжения мы должны видеть проявление очень сильной воли. При ничтожных средствах деятеля даже малое напряжение указывает часто на присутствие сильной воли. При измерении силы воли мы должны всегда принимать во внимание и абсолютную и относительную оценку волевого напряжения. В пятом параграфе Бугаев обсуждает связь степени сознательности и воли. Большая или меньшая сознательность влияет на интенсивность воли. Повышение сознательности совершается в двух направлениях. Может повышаться способность замечать или отмечать явления или впечатления. Эта способность увеличивается воспитанием, упражнением, опытом. Она передается иногда наследственно. Она увеличивается с возрастанием способности находить сходства и различия, с развитием умственной жизни. В области чувства она является иногда непосредственным даром природы. Часто этот дар есть только потенциальная энергия, продукт предыдущих условий жизни. Может повышаться также способность сохранять и воспроизводить впечатления. Могут развиваться память и воображение. Сознательность может повышаться еще от того, что в духе накапливается все большее и большее количество ассоциаций или связей между явлениями. Развиваясь и поднимаясь, сознательность повышает и силу воли. Сознание повышает волю тем, что, благодаря знанию условий организации и среды, получается возможность направлять деятельность с большей пользой, делать ее более целесообразной, вести к более плодотворным результатам. Сознание, уясняя средства и цели для деятельности, в то же время ослабляет чувство работы. Оно дает возможность достигать требуемых целей с меньшим усилием. Оно практически освобождает деятельность от препятствий и сопротивлений. Освобождая деятельность, оно освобождает и волю. Однако одна развитая сознательность не всегда указывает на сильную волю. Бессилие или неспособность к деятельности могут идти рука об руку с сознанием этого бессилия. Есть очень много людей с широко развитым сознанием, без решимости и энергии, без почина и характера. Они бессильны, ибо у них нет ни сильных желаний, ни сильных чувств, ни решимости, ни способности к действию. Это происходит от того, что у них нет необходимой жизненности для действия. У них ослаблено чувство жизни. В шестом параграфе Бугаев обсуждает связь воли и желания. Третье необходимое условие присутствия воли есть желание простое или сложное. Желание имеет различные степени силы и напряжения. Более сильное желание указывает на большую жизненность. Повышая жизненность, мы всегда повышаем и волю. Желание на первой ступени своего развития, не освещенное вполне сознанием, является в форме волевого зуда. Оно есть смутное стремление удовлетворить той или другой необходимой потребности. Этот зуд и есть та метафизическая воля, которая в некоторых философских системах является основанием для дальнейших построений. Переходя на высших ступенях развития в стремление и мотив, освещаемое сознанием средств и целей, опираясь на организацию и среду, оно служит главным и необходимым элементом для проявления сильной воли. Сильный мотив необходим для проявления сильной воли. Сильный мотив сопровождается или сильным чувством или глубоким сознанием важности мотива для наших целей. Чувство и идея являются одинаково важными элементами всякого желания. От преобладания того или другого элемента зависит самый характер мотива. Сильное чувство и сильное убеждение могут в одинаковой мере служить основанием для проявления сильной воли. В самом мотиве уже есть элемент сознательности. Вот почему сознательное, ясное желание или мотив характеризуют лучше всего сильную волю. В наших заключениях о силе воли мы принимаем во внимание не одну наличную силу мотива. Мотивы имеют не одинаковую продолжительность во времени. При равных прочих условиях тот мотив сильнее, который захватывает больше поступков, обнимает большую деятельность. Если сильные мотивы быстро сменяются, мы в такой деятельности не замечаем проявления сильной воли. Кроме силы энергическая воля характеризуется также постоянством и продолжительностью желаний и мотивов. Судорожная и непоследовательная смена хотя бы и мощных мотивов указывает на слабость и болезненность воли. Те мотивы, которые проникнуты более широкими и постоянными чувствами, более глубокими, обширными и общими идеями берут верх над мотивами, проникнутыми более узкими чувствами и более ограниченными идеями. Более широкие и глубокие мотивы связывают больше поступков, захватывают большую продолжительную деятельность, а следовательно и более способны служить выражением сильной воли. Сильные характеры всегда крепче и дольше стоят на своих целях и планах. Настойчивость, выдержанность, постоянство иногда побеждают сильный ум, сильное чувство и энергическую деятельность. Подъему силы воли содействует только то воспитание, которое расширяет сознание в области идей, заменяя простые более общими идеями, организует чувства, заменяя случайные и мелкие чувствами возвышенными и глубокими, желания эгоистические стремлениями альтруистическими и гуманными. В этом воспитании не должна быть упущена из виду также весьма важная и существенная цель – это подъем жизненности и энергии. Такому подъему очень много содействует физическое воспитание. Одна из важных идей, способных связывать и объединять поступки и придавать деятельности цельность и единство есть идея нашего я. Развитие самосознания и индивидуальности много содействует развитию воли. При этом развитие личности не должно направляться в сторону мелких идей и грубых чувств. Развитие личности и самосознания идет рука об руку с развитием способности ставить наше я в гармоническое соотношение к целому миру. Оно тесно связано с развитием нашего личного достоинства в хорошем смысле слова: оно далеко от эгоистических и мелких интересов. Оно кладется в основание самообладания и характера. Самообладание должно опираться на познание самого себя, на знание своей личности, ее особенностей и недостатков. Познание самого себя есть исходное основание для развития всякой сильной воли. Из всех побуждений стремление к достижению истины, идеи и чувства всеобщего и разумно понимаемого блага и гармонии, идеалы личного и общественного совершенствования суть те мотивы, которые отличаются наибольшею широтой и глубиной, а следовательно и наибольшим постоянством. История неуклонно указывает нам, что это в то же время и самые сильные мотивы для деятельности. Есть еще одна полезная сторона во всяком широком мотиве. Господство глубокого и мощного мотива в нашей деятельности обладает способностью направлять сознание на эти мотивы, отвлекать его от чувства работы. Чувство работы мало по малу притупляется, заглушается сильным мотивом. Деятельность и воля все более и более как бы освобождаются от препятствий и сопротивлений. Это освобождение чисто субъективное, тем не менее играет очень важную роль в нашей деятельности. Из всего вышесказанного вытекает следующее общее положение: Воля проявляется тем сильнее, чем энергичнее, жизненнее, разумнее, целесообразнее и свободнее деятельность, чем шире и богаче сознание, полнее и глубже область самосознания, сильнее, постояннее и общее мотивы для деятельности, то есть чем сильнее, полнее и совершеннее раскрывается вся личность человека. В седьмом параграфе Бугаев рассматривает понятие свободы. В конце анализа понятия воли использовались выражения: «свободнее», «освобождает». Переход от анализа понятия воли к понятию свободы прямо вытекает из самой сущности дела. Гегель, применяя свой диалектический метод образования понятий, утверждал, что понятие свободы есть синтез понятий произвола и необходимости. Эти понятия, согласно с его диалектическим методом, играют роль тезы и антитезы. Оставляя в стороне эту диалектическую игру понятиями, мы должны признать, что есть некоторая доля справедливости в этом соотношении понятия свободы к понятиям произвола и необходимости. Главное свойство всякого произвола есть случайность, неопределенность, индетерминизм. Главный же характер всякой воли обусловливается определенным и постоянным мотивом. Понятия о произволе и воле исключают друг друга. Произвольная воля есть выражение неуместное. Оно есть отрицание воли. Нет воли там, где деятельность носит на себе случайный характер, т. е. не имеет границ, плана и цели действия. Такая деятельность есть судорожная смена поступков. Самодурство и каприз – это болезни воли. Психологи верно указывают, что это в то же время тяжелые и глубокие болезни. Они всегда сопровождаются чувством неудовлетворенности и страдания. В восьмом параграфе Бугаев рассматривает соотношение случайности и необходимости. Понятию случайности противополагают понятие необходимости. Необходимость бывает внешняя и внутренняя. Необходимость внешняя обнаруживается в двух видах. Или она является под видом непреодолимости внешних препятствий и сопротивлений. Выражаясь математически, необходимость соответствует случаю, когда величина сопротивления или препятствия нашей деятельности равна бесконечности. Все мотивы, встречающие подобные неодолимые сопротивления, парализуются. Всякое их обнаружение невозможно. Наша деятельность и наша воля должны принять это во внимание. Воля, действующая в направлении невозможных или несообразных мотивов, не целесообразна. Она противоречит разумной сознательности, основному условию для своего обнаружения. Такая деятельность перестает быть проявлением воли. В другой форме необходимость является под видом тех неизбежных условий, сообразно с которыми следует действовать. Этих условий, налагаемых окружающей средой, нельзя иногда отделить от внутренней необходимости. Они составляют постоянную принадлежность всех проявлений воли и не могут практически стеснять ее. Действуя сообразно с ними, воля не преодолевает никакого сопротивления. Ее деятельность не сопровождается никаким чувством работы. Подчиняясь им, она делается в некотором смысле свободной. То же можно сказать и о внутренней необходимости. Если она является в форме непреодолимых внутренних препятствий, она парализует волю. Если же внутренняя необходимость является в форме неизбежных условий обнаружения всякой воли, она входит основным элементом в самое существо воли и не может стеснять ее. Воля, действующая по внутренним неизбежным условиям какого-нибудь разумного и нормального деятеля, соответствующим его сущности, не противоречит себе. Такая необходимость не мешает проявлению воли. Итак, сочетание понятий необходимости и воли немыслимо, если под необходимостью разуметь непреодолимость внутренних и внешних сопротивлений. Как произвольной воли, так и воли необходимой в этом смысле слова нет. Воля проявляется только там, где мотив – такого свойства, что препятствия и сопротивления для его обнаружения преодолимы теоретически или практически. Остается только сочетание понятий свободы и воли. Свобода проявляется при тех же условиях, при которых проявляется и воля. Для свободы необходимы деятельность, сознательность и мотивы, сопровождаемые преодолеваемыми сопротивлениями. Чем больше сопротивлений или чем меньшим чувством работы они сопровождаются, тем деятельность свободнее. Деятельность свободная не есть деятельность ни произвольная, ни необходимая. Она скорее есть деятельность закономерная, сознательная и стесняемая только преодолеваемыми сопротивлениями. Таким образом, условия, при которых проявляется воля и свобода, одни и те же. Разница определяется только объектом сознания. Когда идет дело о воле, наше сознание главным образом сосредоточивается на мотиве, а когда дело идет о свободе, оно сосредоточивается на отсутствии препятствий. Выше отмечалось, что в случае проявления более сильной воли, сознание, сосредоточиваясь на мотиве, притупляет субъективное чувство работы. Деятельность, которая не стесняется чувством работы, как бы освобождается. Отсюда заключаем, что свобода и деятельность, в которой проявляется сильная воля, в своем идеальном обнаружении совпадают. В русском языке прямо существует очень меткое выражение для данного понятия – «вольная воля». Это выражение указывает на волю как на сильно мотивированную, сознательную деятельность, не сопровождаемую чувством стеснения, работы, сопротивления и подчиняющуюся в своем проявлении только внутренним необходимым законам деятеля. По-русски дать волю значит дать свободу, устранить стеснения и препятствия. Мэн-деБиран ставил свободу в связь с актом, в котором интеллектуальные мотивы преобладают над чувственными желаниями. Этот акт есть акт внимания. Свобода воли есть сила, которой обладает душа, – давать значение мотивам, на которых она останавливается. Свобода есть чувство деятельной мощи, предполагает реальность этой мощи, а внутреннее чувство доказывает своим существованием его реальность. Для Мэн-де-Бирана свобода воли есть неоспоримый факт опыта. Конкретная человеческая воля никогда вполне не освобождается от чувства преодолеваемого сопротивления. Абсолютно свободной человеческой воли нет. Есть воля более или менее свободная. Чувство работы имеет высокое практическое значение. Оно присутствием своим указывает, в какой мере человек руководится реальными мотивами, способными к осуществлению, а не побуждениями фиктивными и несообразными. Оно ослаблением своим указывает, что воля действует в направлении целесообразном и верном. Воля постольку, поскольку она проверяется этим чувством, получает действительное, реальное значение и способна верным путем приближаться к вполне свободной воле как своему последнему идеалу. К сожалению, понятие о свободе смешивают с понятием о произволе. Это ведет к большим недоразумениям. Чтобы избегнуть их, следует вопрос о свободе воли заменить вопросом о самостоятельности воли или вопросом об автономии каждой индивидуальности. Идея свободы неразлучна с идеей индивидуальности. Идея же индивидуальности противоположна идее универсальности. С идеей универсальности связана идея необходимости. Отвлеченный вопрос о свободе воли, решаемый на почве одних абстрактных соображений, обыкновенно связывают с вопросом о том, подчиняются или не подчиняются все мировые явления законам необходимости. Этот же вопрос тесно связан с вопросом о том, суть ли индивидуальности реальные единицы, или в общем ходе мировых явлений они не имеют никакого действительного значения, а суть только галлюцинации и иллюзии. При такой отвлеченной постановке вопрос о свободе воли стоит в необходимой связи с вопросами, точное решение которых стоит далеко за пределами сил и способностей человека. Эти вопросы трансцендентного характера. Следует устранить в своих соображениях всякую трансцендентность не из-за отрицания ее, а только потому, что необходимо остаться в пределах простой и всем доступной области понимания. Не следует связывать самых существенных вопросов конкретной морали, права, воспитания и общественности с отвлеченно поставленным вопросом о свободе воли. Гораздо правильнее эти существенные вопросы человеческой жизни поставить в связь с вопросом о самостоятельности воли или лучше с вопросом об автономии человека. Этот вопрос важнее вопроса о свободе воли. Он важнее для нравственных целей, для развития личности и для общественного блага. В девятом параграфе Бугаев и рассматривает этот вопрос об автономии человека. Имеет ли воля человека, или лучше сам человек в общей совокупности мировых сил какое-нибудь самостоятельное значение? Может ли человек смотреть на себя как на равноправный источник деятельных и творческих сил в общем мировом порядке явлений? Можно ответить на этот вопрос, внимательно всматриваясь в общий процесс мировых сил и явлений. В общем ходе мировых явлений ученый замечает, что носителями всех явлений и источниками всех мировых сил являются элементы мира. Для нашего непосредственного и научного наблюдения в мире имеются только те силы, которые обнаруживаются в элементах или вытекают из взаимного их отношения. Для научного сознания мир есть идеальный и конкретный синтез этих элементов. Всякая мировая сила есть тот или другой синтез элементарных сил. Если бы их не было в элементах этих сил, не было бы их в целом мире. Из ничего не вышло бы ничего. Наука даже заставляет полагать, что с механической точки зрения количество этих сил остается постоянным. Изменяется только форма и способы их проявления. Как мировые силы не создаются из ничего, так они и не обращаются в ничто. Мир есть совокупность всех его элементов. Во вселенной, доступной нашему наблюдению, каждый из ее элементов является самостоятельным источником всех ее сил. Если в мире есть самостоятельные и самодеятельные творческие силы, то они заключаются и в его элементах. Каждый элемент вносит в мировую физиономию свою черту, влияет и изменяет его судьбу. Как ни слаб этот источник в общей системе мира, однако он существует. Он действует в известных пределах самодеятельно и самостоятельно, то есть по внутренним основам своей сущности и природы. Без любого из этих элементов мир был бы другой. Несмотря на ничтожность этих элементов мировой ход и мировой порядок необходимо изменяются от действия каждого из них. Это бывает особенно заметно тогда, когда мы рассматриваем результаты этого действия на очень большом протяжении времени. Человек есть существенный элемент мира. Он играет одну из видных и крупных ролей в общем ходе мировых событий. Если мы признаем, что существуют деятельные и творческие силы в ходе мировых событий, мы должны необходимо признать их существование в каждом человеке. Всякий человек имеет право и обязан смотреть на себя как на один из самодеятельных и самостоятельных источников мировых сил. В отношении человека к миру обнаруживается таким образом две стороны. С одной стороны судьба человека зависит от мирового процесса и общего хода мировых событий. С другой – судьба целого мира до некоторой степени зависит от человека. Как мир отливает человека в известную форму, так и человек имеет возможность преобразовывать и перестраивать мир по своим идеалам в размере имеющихся у него сил, средств и способностей. Если, согласно с идеальным научным пониманием, в судьбе целого мира может быть прочитана судьба человека, то и обратно в судьбе человека может быть разгадана судьба целого мира. Если мир в его целом может быть представлен как безграничная индивидуальность, у которой все закономерно и разумно, то и человек есть целый мир в сжатом и стереотипном издании. Вся задача науки и жизни в числе других великих задач главным образом состоит в том, чтобы уметь прочитывать смысл и значение этих двух дивных изданий высшего разума, учиться по ним, сообразоваться с ними в своих поступках. Сущность человека и вселенной скрыта для нас под непроницаемым покровом глубокой таинственности. Наши усилия направлены к тому, чтобы объяснить ее. Для этого в нашей внутренней природе мы стараемся найти средства раскрыть тайны вселенной и в то же время в явлениях окружающего мира разгадать самих себя. Мир и человек таким образом взаимно пополняют и объясняют друг друга. Вся история человечества проникнута этими двумя взаимно действующими течениями. В глубоких тайниках своего духа при помощи одного умозрения человек открывает великие законы, которым подчиняются число и мера. Ими он объясняет самые сокровенные пути природы. Под влиянием присущего ему эстетического чувства он стремится обнять мир как целое. Посредством таких наблюдений над жизнью бесконечной, загадочной вселенной – постольку, поскольку она проявляется в явлениях жизни, общественности и морали, – человек в то же время усматривает безграничную и таинственную сущность своей дивной природы. В последнем параграфе Н.В.Бугаев резюмирует сказанное в предыдущих параграфах. Итак человек есть один из самостоятельных, самодеятельных, активных источников творческих, мировых, солидарных между собой сил. Он есть вполне автономный элемент в общей системе мировых элементов. Находя среду для приложения своей деятельности в обнимающем его мире и окружающих его элементах, он сам в то же время является и точкой приложения для проявления других сил. Он не может обойти этого основного закона взаимодействия сил. В своих отношениях к элементам ему подобным он превращает этот простой закон взаимодействия в законы солидарности, общежития и общественности. Высказанное положение делает до некоторой степени излишними абстрактные рассуждения о свободе воли в том извращенном виде, в каком они являются под влиянием различных недоразумений. В виду автономии человека с точки зрения простого научного наблюдения делаются также излишними отвлеченные соображения о том, существует или не существует случайность в мире, подчинено или не подчинено все законам необходимости. Эти трансцендентные вопросы не должны иметь никакого влияния на законы права, морали, воспитания и общественности. Человек в своей деятельности разумной, самостоятельной, целесообразной и солидарной с другими силами должен искать истинного и справедливого решения всех вопросов. Человек прежде всего сам для себя является основным источником своей воли. В себе самом и в своей солидарности со всеми окружающими его силами он должен самостоятельно искать разумной свободы, высшей правды, внутренней гармонии и примирения всех антиномий, которые встречаются на пути его деятельности. При таком философском взгляде человек не подавляется целой вселенной, а стоит с ней рядом. Внешнему великолепию этого мира безграничности, закономерности и причинности человек противополагает внутреннюю гармонию, бесконечную глубину, свободу своей личности и целесообразность. При таком воззрении делается понятнее нашему разуму и глубже проникает в наше сердце мудрое евангельское изречение: «Царствие божие внутри вас есть». Вышеприведенные общие заключения можно свести к следующим положениям: 1) Воля проявляется только там, где есть сознательная, мотивированная, активная и целесообразная деятельность. 2) Воля проявляется тем сильнее, чем энергичнее, разумнее, свободнее и целесообразнее деятельность, чем шире, богаче сознание, полнее и глубже область самосознания, сильнее, постояннее и общее мотивы для деятельности, то есть чем цельнее, полнее и совершеннее раскрывается вся личность человека. 3) Условия, при которых проявляются свобода и воля, одни и те же. 4) Выражения «произвольная воля и необходимая воля» не имеют значения. 5) Воля тем свободнее, чем больше условий для проявления сильной воли. 6) Вопрос о свободе воли, поставленный отвлеченно, ведет к большим недоразумениям. 7) Основные задачи права, морали, воспитания и общественности должны стоять в связи не с абстрактным вопросом о свободе воли, а с вопросом об автономии человека. 8) Человек есть автономная единица в общей системе мировых элементов. 9) Только в своей солидарности со всеми окружающими его элементами и силами человек должен самостоятельно искать внутренней гармонии, высшего совершенства и разумного примирения всех антиномий, встречающихся на пути его деятельности. В этой своей первой философской работе Н.В.Бугаев выступает как исследователь, полностью отринувший все философские каноны и понятия традиционной философии. Он отказывается от анализа взаимоотношения и взаимодействия философских сущностей, применявшегося философами до него. Для него не являются авторитетами ни Кант, ни Гегель. В чем-то он похож на Г.Тейхмюллера с его персонализмом, с его постановкой в центр философского внимания синтетической личности. Но с очевидностью можно сказать, что это не развитие идей Тейхмюллера. Это почти одновременное независимое выражение двумя совершенно разными людьми назревших в культуре идей и понятий путем преодоления старых воззрений традиционной философии. Там, где Г.Тейхмюллер идет осторожно, тщательно взвешивая каждую новую посылку, каждое утверждение, Н.В.Бугаев летит вперед как кавалерист, отметая в сторону любые сомнения. Все свои суждения и утверждения он берет из собственной личности, из собственной культуры, из собственных сложившихся взглядов. Его построение логично и стройно, его суждения четки и непротиворечивы, насколько четким и непротиворечивым может быть подход математика к окружающей жизни. В результате у Н.В.Бугаева получается выверенное и последовательное описание, тщательный синтез самого Н.В.Бугаева, со всеми его прекрасными человеческими качествами и со всеми внутренними противоречиями. В философской работе он выставляет всего себя, себя в процессе становления и себя сформировавшегося. Но, конечно, не только себя, а себя, неразрывно связанного с окружающим обществом, себя, культурно сформированного. По этой работе можно молодому человеку воспитать себя, здесь рецепт, как стать вторым Н.В.Бугаевым. По этой работе можно исследовать взгляды и мироощущение части профессоровматематиков. Уже в этой первой работе чувствуется некоторая аналогия с монадами Лейбница, каждая из которых отражает в себе весь мир. Но монады у Лейбница не обладают свободой и волей, мир у него выступает как предустановленная Творцом гармония монад, как представление, развивающееся по заранее написанному сценарию. Н.В.Бугаев категорически не согласен с такой постановкой вопроса. Но более развернуто он выскажет это через девять лет в своей второй философской работе. Вывод: 13. Работа Н.В.Бугаева «О свободе воли» явилась стихийным выражением синтетического персонализма, к которому, только выраженному на более высоком уровне, шел Н.В.Бугаев в последующих работах, но не успел дойти; здесь уже выражено его полное философское бесстрашие. 1.1.3.2 Работа Н.В.Бугаева «Основные начала эволюционной монадологии» Эта работа Н.В.Бугаева 1898 года [33] состоит из вступления и 184 пунктов, пронумерованных самим Николаем Васильевичем, довольно кратких, за исключением пункта 5. Во вступлении Н.В.Бугаев просит извинить его за то, что он за неимением времени не предпослал своим положениям критику предшествующих философских систем, а также за то, что его положения очень отвлеченны и лишены образной конкретности и художественного колорита. Бугаев сразу заявляет, что его теория имеет некоторое сходство с монадологией Лейбница, но отличается от нее многими существенными особенностями. В первых десяти пунктах Бугаев дает определение монаде как он ее понимает. Под монадой он понимает некую единицу, самостоятельный и самодеятельный индивидуум (п. 1), единицу живую в том смысле, что она обладает потенциальным психическим содержанием (п. 2). Называя монаду единицей, Бугаев хочет подчеркнуть этим, что монада не просто отвлеченная абстракция, а некоторая сущность, характеризующаяся признаками постоянства, целостности и неделимости «в некоторых отношениях» (п. 5). И в то же время эта единица живая, то есть единство, отличающееся от единства мертвой машины и свойственное живому организму, характеризующемуся внутренним единством, внутренними причинами и целями, субъективными и не всегда доступными внешнему наблюдению. Живому свойственен психизм в смысле наличия способности оценивать собственное внутреннее содержание (п. 5). Следует сразу отметить, что определение монады у Бугаева весьма противоречиво и даже запутанно. В обширном по сравнению с другими пункте 5 он старается в разных выражениях донести, что же он понимает под монадой, вводя собственные определения психики, в некоторых местах путая психику с сознанием и даже декларируя некоторую степень непознаваемости внутреннего содержания монады и невозможность выражения законов поведения монады в терминах слов и понятий. В этом определении монады как бы сконцентрированы все особенности философской системы Н.В.Бугаева, часто антропоцентрической, основанной на опыте собственных ощущений и переживаний, которые ему не всегда удается ясно выразить. В этом заключается с одной стороны определенный недостаток его системы, а с другой – преимущество: он как бы оставляет простор для читателя, оставляя некоторые пустые ячейки и словно призывая наполнить их собственным содержанием. Нельзя, однако, говорить и о каком-либо произволе в понимании системы Бугаева. Благодаря его методичности в последующих пунктах вполне раскрывается весь его замысел, который ему не удается раскрыть в каждом конкретном пункте. Здесь как бы проявляется эффект постепенного уменьшения многозначности смысла вербального текста при его варьировании путем синонимизации. В пунктах 11-19 Бугаев вводит свою классификацию монад. Здесь его учение начинает в корне отличаться от учения Лейбница, здесь начинает ярко вырисовываться, что его монады это не реальные предметы окружающего мира, а абстракции, но абстракции особого рода. Бугаев говорит, что монады бывают весьма разнообразны: бывают монады первого, второго и т.д. порядков. Монады второго порядка могут образовать монаду первого порядка, которая образует для них тот мир, за пределы которого они не переходят, пока существует монада первого порядка. Символическими примерами монад различных порядков Бугаев называет химическую частицу, биологическую клетку, человека, государство, человечество. Здесь, когда Бугаев начинает приводить конкретные примеры, и начинает четко прорисовываться его идея. Идея некоторого «сверх-единства» определенных структур, которое Бугаев методологически не совсем верно называет душой. Порядок монад для Бугаева вверх и вниз идет до бесконечности. В пунктах 20-28 Бугаев говорит о взаимодействии монад различных порядков. Тут еще одно основное отличие от системы Лейбница с его абсолютной невозможностью взаимодействия монад и лишь реализацией ими некоего действа, спектакля, замысла Творца. У Бугаева на каждом уровне свой «Творец», определяющий поведение монад более низкого порядка. В пунктах 29-50 Бугаев вводит понятие сложной монады (и, в частности, диады), которое отличается от понятия монады более высшего порядка. Сложная монада имеет качественную однородность с составляющей ее монадой, например, семья и ее члены (п. 34). Монада более высшего порядка не может распасться на монады более низкого порядка, не теряя своей сущности; сложная монада может распасться на простые, не теряя своего качества (п. 35). Здесь Бугаев делает явную оговорку: по-видимому, он имел в виду, что при распаде сложной монады составляющие ее простые монады не теряют своего качества (что также не вполне верно). Для Бугаева вообще характерно перенесение собственного жизненного опыта в создаваемую им философскую теорию, а в толковании им сложных монад и диад это бросается в глаза особенно отчетливо: в области семейных отношений его жизненный опыт был не слишком удачным; в толковании сложных монад и диад просто физически чувствуется некоторая растерянность и даже беспомощность Бугаева; может быть, отсюда и его тезис о неполной познаваемости монад. В пунктах 51-66 Бугаев говорит о взаимодействии монад, в частности, внутри диады, но здесь его эзоповы акценты смещаются в явно более успешную область его жизнедеятельности – в преподавание. Монада низшего развития продвигается вперед от своей связи с монадой высшего развития благодаря своим усилия подняться до уровня идеала (п. 51), но и монада высшего развития поднимается в своем совершенстве благодаря усилиям поднять другую монаду (п. 52). Только активная самостоятельная работа может привести к подъему. Только деятельное, активное ученичество и учительство могут привести к совершенствованию. Далее, в пунктах 67-72 Бугаев развивает эти положения, вводя два закона – закон монадологической косности и закон монадологической солидарности. Закон монадологической косности заключается в том, что монада не может без взаимодействия с другими монадами изменить своего внутреннего содержания. Закон монадологической солидарности заключается в том, что монада, только воздействуя на другую монаду, совершенствуется сама. Бугаев вводит для монад понятия более высокого и менее высокого развития. «Монада низшего развития подвигается вперед от своей связи с монадой высшего развития. Усилие подняться сопровождается работой, которая может быть названа работой поднятия. Монада высшего развития поднимается в своем совершенстве благодаря усилиям поднять другую монаду до высшего идеала. Усилие поднять сопровождается работой, которая может быть названа работой подъема». В пунктах 73-84 Бугаев говорит о комплексах монад. Здесь ярко проявляется то, что монада в его понимании является лишь научной абстракцией, но не произвольной, а подчеркивающей реально существующие в окружающей действительности сущности. Монада у Бугаева может входить в различные комплексы (коллективы), и тогда ее поведение подчиняется некоторой высшей сущности, свойственной сложной монаде, но и сама монада влияет на сущность комплекса, реализуя свое поведение как под влиянием сущности комплекса, так и под влиянием своего прошлого. Фактически Бугаев говорит о социокультурных связях и культурном развитии индивида, но в других терминах. В пункте 85 он говорит, что вместе с законами сохранения энергии и вещества имеет место закон сохранения прошлого: прошлое не исчезает, а накапливается, благодаря этому совершенство и сложность монад и комплексов постоянно увеличивается. Здесь у Бугаева налицо идея культуры и культурного прогресса. Эту свою уверенность в прогрессе человечества Бугаев развивает во всех последующих пунктах. В духе своей монадологии он вводит понятия гармонии, этики, любви. Принцип солидарности для сложных и однородных монад называется любовью. Любовь себя и других выражается в жизни в самодеятельном и свободном стремлении монад к совершенствованию себя и других. Конечная цель деятельности монады для него – снять различие между монадой и миром, достигнуть бесконечного совершенства. Он верит в бессмертие сущности монады (души). Он утверждает, что в его монадологическом миросозерцании примиряются наука и история, дух и материя, пантеизм и индивидуализм, свобода и необходимость. Фактически для Бугаева материя и дух – тоже абстракции. Если одна монада рассматривает другую в терминах внешнего изменения, протяжения и движения, то эта другая монада является для первой с атрибутами материи, а если она рассматривает эту другую монаду в терминах внутреннего изменения присущего ей психического содержания, то при таком толковании (выделение наше – А.Г.) эта монада является для первой с атрибутами духа. Материя и дух для Бугаева – понятия относительные (п. 133), приближения, абстракции. «Материя и дух – понятия соотносительные. Если мы не обращаем внимания на внутреннюю индивидуальную жизнь чегонибудь, оно является для нас материей. Если же мы обращаем внимание на внутреннюю субъективную сторону деятельности, материя является для нас одухотворенной» [33]. Бугаев анализирует понятия обычаев, привычек, инстинктов. Простейшие социальные формы жизни предшествуют более сложным. В процессе социальной жизни постоянно происходит превращение обычаев в привычки, привычек в инстинкты. Простейшие и наиболее распространенные обычаи, привычки и инстинкты вырабатываются раньше более сложных. Бугаев, таким образом, получает своеобразный ряд: чем дальше, тем сложнее, многообразнее, неповторимее, а значит, свободнее будут «обычаи». Он продолжает свой ряд и в обратную сторону, вниз: значит, физические законы – это самые простейшие, самые распространенные и раньше всех возникшие привычки монад. За последнее утверждение, а также за наделение клеток, молекул и атомов душой его будут многие ругать, не заметив, что ни разу не употребив слова «абстракция», Бугаев фактически высказал идею о том, что все человеческое мышление и восприятие условно, оно зависит от размещенной культурой в его сознании системы координат, системы категорий, которую сам же человек, хотя бы в принципе, волен изменить, что непознанное или недоступное для познания в данный момент он называет душой, а познанное – материей, более повторяющееся – законами, а менее повторяющееся и менее детерминированное – привычками и обычаями. Он не высказал эту идею именно этими словами, но она синтезирована нами из его конкретных слов и «микро-идей»; и справедливость того, что именно эту идею имел в виду Бугаев, как раз и подтверждается его бросающимися в глаза своей «дикостью» утверждений о том, что физические законы – это привычки монад и что атомы наделены душой. Пока мы не изучили атом, пока не поняли его сущность, для нас он наделен такой же непроницаемой для нас душой, как и душа находящегося рядом человека. Пока мы не познали социальные законы, для нас они – обычаи. И познанные физические законы – тоже в некотором роде «привычки», потому что это всего лишь абстракции, пределы применимости которых неизвестны для нас. Эйнштейн обобщил законы Ньютона, доказал, что они имеют ограниченную применимость, что они всего лишь абстракции, хорошо описывающие действительность в одном диапазоне физических величин и плохо описывающие ее в другом диапазоне. И эту теорию Эйнштейна словно предчувствовал Бугаев. Завтра явится новый Эйнштейн и докажет, что законы старого Эйнштейна имеют ограниченную применимость. Бугаев ни разу не сказал этого в своей статье, но из всего ее текста следует, что противоречия между науками и философскими категориями чисто внешние, они возникают оттого, что разные приближения и разные абстракции с разной эффективностью описывают действительность в различных контекстах. И если знать это, то все «противоречия» развеиваются как дым. Заканчивает свою статью Н.В.Бугаев следующими словами: Человек состоит не из случайного собрания атомов как бездушных камней, а есть проникнутое во всех своих частях жизнью и духом художественное здание, живой храм. В заседании Психологического Общества от 7-го ноября 1892 года, посвященном заслушанию и обсуждению доклада Н.В.Бугаева об его эволюционной монадологии, в прениях приняли участие: П.Е.Астафьев, Л.М.Лопатин, Н.Я.Грот, А.А.Токарский, кн. С.Н.Трубецкой [5]. П.Е.Астафьев заявил, что тема реферата Н.В.Бугаева необыкновенно интересна и касается самых жизненных вопросов философии, что по его мнению также задача метафизики сводится к познанию субъекта, а потому монадология должна служить основанием метафизики. Но затем П.Е.Астафьев указал на существенный недостаток системы, предложенной Н.В.Бугаевым: отсутствие прочного обоснования отношения монад, каким образом в механические отношения между ними привходит психический элемент. Этот существенный вопрос монадологии Лейбниц разрешил допущением предустановленной гармонии, в системе же Н.В.Бугаева этот вопрос обойден без надлежащих разъяснений. Около этого вопроса, в общем, вращались и возражения других оппонентов, впрочем последние упрекали еще Н.В.Бугаева в некотором злоупотреблении антропоморфизмом: в приписывании монадам привычек, инстинктов, стремления к идеалам и т. д. Николай Васильевич в ответ на эти возражения разъяснил, что он был далек от мысли дать вполне обоснованную систему, для чего потребовалось бы ему просмотреть и переработать все философские системы; он имел лишь в виду в коротких положениях представить результат долгой и сложной работы своей мысли, он старался разгадать по-своему загадку жизни; разгадывая же одну загадку обыкновенно создают другую, а раскрыть все тайны природы человеку, вероятно, не дано. Существенное же отличие его теории от монадологии Лейбница в том, что в определение монады внесено больше общности и отвлеченности. Монада есть живая единица, нечто конкретное. С другой стороны, до наступления для монады мира объекта она потенциальный субъект-объект. Наконец, по существу своему монада не может быть определена точно, а лишь символически; она получает различное освещение в зависимости от различной терминологии. Что касается до его обвинения в антропоморфизме, то оно устраняется его же указанием на символизм монадологии. Кроме того, без антропоморфизма нельзя совершенно обойтись даже при менее общих рассмотрениях, ведь говорят же о сродстве химических элементов и считают это вполне ясным [5]. Н.В.Бугаев объяснил в этих прениях, что при истолковании действительности обыкновенно стараются обойти индивидуальность, тогда как научное мировоззрение непременно должно иметь в своем основании понятие единицы, индивидуума, так как отдельные науки это понятие содержат: механика – идею о материальной точке, физика – молекулу, химия – атом, в органическом мире – клетка, в социологии – человеческая личность. Такое всеобщее стремление устранить индивидуальность при построении мировоззрения Н.В.Бугаев впервые объясняет здесь, уже довольно определенно, при помощи своих воззрений из области чистой математики, воззрений, которым он сообщил несколько позже гораздо большее развитие и большую силу [5]. При современном состоянии науки, говорил Н.В.Бугаев, явления можно объяснять, рассматривая их с точки зрения непрерывности и прерывности. Объясняя их с точки зрения непрерывности, обыкновенно стараются выработать законы непрерывного течения явлений; при этом значение индивидуальности устраняется. В этом случае объяснения отличаются своей универсальностью, но они недостаточны. Устраняя совсем роль индивидуальности, мы не можем понять многих сторон в явлениях. Необходимо принимать во внимание влияние индивидуальностей как прерывных единиц, ибо в связи с ними и в явлениях замечается прерывность [5]. Казалось бы, Н.В.Бугаев взял у Лейбница главное, монады. Но он добавил им свойство, полностью несовместимое с монадологией Лейбница – взаимодействие монад. У Лейбница предустановленная гармония, она полностью разрушится, если допустить волю монад менять чтолибо. И Бугаев полностью разрушает монадологию Лейбница, у него от Лейбница остается только название. Он предлагает совершенно другую, новую систему. Конечно, и эта работа Н.В.Бугаева «страдает» сильным влиянием индивидуальности Бугаева, здесь он уходит от спасительной математики и вынужден схватиться за свои убеждения, воззрения, веру. Но в ней не только портрет его личности. В ней великая (и казавшаяся большинству дикой) идея одухотворенности монад, не только человека или общества, но и клетки, и даже атома. За это его прозвали панпсихистом, не заметив его главной аллегории. Душа приказывает нашему телу, куда идти. Не рука хватает вещь, а душа желает вещь и заставляет руку схватить вещь. Атом не есть куча из ста электронов и ста протонов, это сложнейшая самоорганизованная система, «душа» которой управляет каждым электроном так, что он и пикнуть не может. Бугаев хотел сказать важнейшую вещь: чтобы описать поведение атома, не нужно описывать поведение каждого из ста электронов. Панпсихизм Бугаева обусловлен его антропоцентризмом и эгоцентризмом. Одной из расхожих точек зрения является утверждение о том, что первобытному человеку было свойственно оживлять, одухотворять окружающий мир. Современная психология ставит под сомнение это утверждение [29] и различает два вида эгоцентризма: скрытый, недифференцированный эгоцентризм, при котором не различают личных точек зрения и который Д.Брунер называет реализмом, и диаметрально противоположный ему эгоцентризм, рассматривающий все физические явления как созданные человеком и для человека. Первый вид эгоцентризма характерен для коллективистских обществ восточного типа, второй – для индустриальных обществ с индивидуалистической ориентацией. Именно последний вид эгоцентризма тесно связан с анимизмом [29]. Таким образом, некоторые панпсихические черты в мировоззрении Бугаева было бы ошибочно приписывать его некоторой отсталости и провинциальности. Но без концепции прерывности монадология Бугаева недостаточна для реконструкции картины мира. Эту концепцию Бугаев и вводит в своей последней, третьей философской работе. Вывод: 14. Эволюционная монадология Н.В.Бугаева в корне отличается от монадологии Лейбница; некоторая образность и поэтичность философской системы Н.В.Бугаева привела впоследствии к несправедливым обвинениям его в панпсихизме, при этом обвинители не заметили главного – понятия самоорганизующейся системы. 1.1.3.3 Работа Н.В.Бугаева «Математика и научно-философское миросозерцание» В начале своей статьи [30] Н.В.Бугаев отмечает, что вопрос о сущности научно-философского миросозерцания важен для правильной оценки научных, художественных и социальных явлений, для решения многих практических и общественных задач. Бугаев предупреждает, что собирается подойти к решению этого вопроса хоть и не во всей полноте, но с совершенно особой точки зрения. Наука стремится в своих выводах к точности и определенности. Эта точность и определенность достигается с помощью применения числа и меры. Но как только что-либо становится возможным измерить, на сцену появляется математика. Вот почему математика имеет существенное значение для современного человечества. Бугаев считает, что развитие математических методов и средств – главное условие для успешного развития наших знаний о природе, что мы должны прежде всего в чистой математике искать ответы на вопросы о сущности и коренных основах научно-философского миросозерцания. Бугаев дает определение математики как науки, изучающей сходства и различия в области явлений количественного изменения. Все остальные определения математики вытекают из этого как простые следствия. Изменяющееся количество называется переменной величиной. Переменные величины могут изменяться независимо или в зависимости от изменения других величин. Согласно этим изменениям, они называются независимыми или зависимыми переменными. Зависимые переменные называются также функциями. Математика является таким образом теорией функций. Изменяться величины могут прерывно или непрерывно. Соответственно, функции разделяются на непрерывные и прерывные, а математика распадается на два раздела: теорию непрерывных и теорию прерывных функций. Теорию непрерывных функций называют математическим анализом, а теорию прерывных функций – аритмологией. Бугаев подчеркивает, что метод бесконечно малых или дифференциальное и интегральное исчисление составляют один из самых могучих способов изучения непрерывных функций. На почве этого метода сложилось грандиозное здание математического анализа. Однако рядом с анализом постепенно воздвигается другое грандиозное здание чистой математики – это теория прерывных функций или аритмология. Выдвинувшись под скромным названием теории чисел, она постепенно вступает в новую фазу своего развития. Аритмология не уступит анализу по обширности своего материала, по общности своих приемов, по замечательной красоте своих результатов. Можно даже сказать, что непрерывность есть частный случай прерывности, в котором изменение идет через бесконечно малые и равные промежутки. Кроме анализа и аритмологии, пишет Бугаев, в область чистой математики входят геометрия и теория вероятностей. В геометрии рассматриваемое количество есть протяжение. Протяжение подлежит нашему чувственному восприятию. Это придает геометрическим истинам, кроме логической доказательности, наглядность и созерцательную убедительность. Анализ, аритмология, геометрия и теория вероятностей дают все элементы для выработки коренных основ научно-философского миросозерцания. Бугаев отмечает, что период древней астрономии можно назвать геометрическим. В новом периоде при помощи анализа астрономия приняла вполне научную форму. Физические науки пережили те же фазы исторического развития, что и астрономия. За эпохой смутных построений последовал период, когда сказалась потребность в наблюдении и опыте. Стали появляться обобщения, явления распределялись по родам и группам. Из числовых фактов слагались эмпирические числовые законы, с помощью индуктивного процесса были сформулированы законы сохранения вещества и энергии. Математический анализ стал находить в физике и химии все большее применение. Мы замечаем постепенное восхождение физических наук по точности и совершенству. Химия все больше стремится встать на чисто физическую, а физика – на чисто механическую почву. По мнению Бугаева, обширное и многостороннее применение математического анализа к изучению явлений природы придает особый оттенок научно-философскому мировоззрению. Его по справедливости можно называть аналитическим. Явления природы изменяются непрерывно. Сложные явления природы образуются, складываются из явлений элементарных. Функции, определяющие законы природы, однозначны, постоянны и неизменны. С помощью аналитических функций можно обрисовать явление для всех моментов не только прошлого, но и будущего. Бугаев констатирует, что идея о непрерывности явлений природы стала проникать в биологию, психологию и социологию. Учение Дарвина есть ничто иное, как попытка применить к биологии те воззрения на непрерывную изменяемость явлений, которые господствуют в геометрии, механике и физике. В социологии тоже стало преобладать воззрение, что изменение в ходе общественных явлений совершается не скачками, а складывается под влиянием непрерывных изменений в быте, нравах, обычаях и привычках социальных единиц. Все более укрепляется идея, что социальный рост совершается путем медленного и непрерывного прогресса всех элементов общества, эволюционные теории берут верх над теориями революционными. В научных взглядах философов стал преобладать детерминизм, механическая причинность, чувство фатальности и роковой необходимости. Бугаев отмечает, что такой взгляд на ход мировых явлений стал встречать горячий отпор у многих мыслителей, которые стали усматривать в нем опасность с этической и эстетической точки зрения. Возникло противоречие между научно-философским миросозерцанием и естественными стремлениями человека. И это противоречие возникло оттого, что к объяснению явлений мира прилагался только один раздел математики, математический анализ. Но аналитическое объяснение мировых явлений явно недостаточно. Это можно видеть, наблюдая явления природы. Сложные химические соединения образуются из простых при взаимодействии их только в определенных пропорциях, непрерывность здесь неприменима. Прерывность проявляется в кристаллическом строении минералов. Только определенное сочетание звуков производит эстетическое впечатление, непрерывность и здесь неприменима. Непрерывность неприменима при объяснении клеточного строения органических тел, при объяснении явлений сознания, при описании общественных явлений. Бугаев уверен, что аритмологическое мышление освобождает нас от фатализма, приводит нас к убеждению, что добро и зло, красота, справедливость, свобода и целесообразность не есть только иллюзии, созданные воображением человека. Природа не механизм, а организм, универсализм и индивидуализм не исключают, а дополняют друг друга. Человек не пассивное существо, не зеркало, только отражающее явления окружающей природы, а активный и творческий деятель. Бугаев приводит в пример закон Вебера из физиологии ощущений; он считает, что закон Вебера доказывает, что в физиологическом восприятии существует многозначность, что одно и то же ощущение может возникать при различных впечатлениях, воздействиях. Отсюда в человеческое восприятие проникает случайность, возникает неопределенность в наших суждениях и действиях, границы которой может несколько уменьшить только продолжительное воспитание. Теория вероятностей необходима при анализе сложных явлений, в частности, общественных и социальных. Бугаев подчеркивает, что еще Лейбниц, основатель аналитического подхода, сознавал его недостаточность для объяснения мировых явлений и хотел дополнить его с помощью своей монадологии. Непрерывность и прерывность есть два понятия, не сводимые одно к другому. Полное понимание математических фактов возможно только при условии, что оба эти понятия принимаются во внимание, что между этими понятиями устанавливается не противоречие, а гармония. Точно так же в областях логики, психологии, истории, философии и социологии мы убеждаемся, что универсальное и индивидуальное, абстрактное и конкретное, личное и общественное, интеллектуальное и художественное взаимно дополняют друг друга. Точно так же причинность и целесообразность, необходимость и случайность, анализ и синтез должны находиться в соответствии и гармонии друг с другом. Третья работа Н.В.Бугаева, впрочем, как и вторая, поднимает сложнейшие, основополагающие проблемы познания. И решает их Бугаев традиционно для себя, персоналистски, основываясь полностью на своем здравом смысле, блестящей интуиции и гениальном ощущении назревших в культурном пространстве человечества необходимых перемен в философском объяснении окружающего мира. Его идеи кажутся наивными, его терминология неуклюжа и топорна, его аргументация выглядит неверной. И вместе с тем, если абстрагироваться от частностей и увидеть в этой работе целое, то четко вырисовывается прорыв, озарение, открытие, которых по значимости мало можно насчитать в истории человечества. Особенно важное значение принимает эта третья работа Н.В.Бугаева, если рассматривать ее в неразрывной целостности с его второй работой. Н.В.Бугаев не успел в полной мере осуществить синтез своих двух открытий, не успел «растолковать» сущность формировавшегося в его голове мировоззрения последователям. В результате его мировоззрение было подхвачено естественными науками и впоследствии философией, но без должной рефлексии, без упоминания его вклада и его заслуг. Ему самому, возможно, все равно. Но нам это небезразлично. Мы должны восстановить справедливость. Вывод: 15. В работе Н.В.Бугаева «Математика и научно-философское миросозерцание» высказана блестящая догадка о двойственной, непрерывно-разрывной природе окружающего мира, которая вместе с идеей о духовности сложных монад дает ключ к кардинально новому мировоззрению. 1.1.3.4 О возможном влиянии личных качеств Н.В.Бугаева на его философские воззрения В предыдущем разделе прослежена возможная связь между социокультурной обстановкой в России того времени и основными воззрениями Н.В.Бугаева. Но почему такие необычные и парадоксальные идеи появились именно у Бугаева? Ведь в ту эпоху в России было множество блестящих умов, в том числе и значительно более подкованных в философии. Один из таких умов, Л.М.Лопатин, критикует Н.В.Бугаева: «Допустим, в самом деле, что все элементы мира, даже простые атомы, суть психические центры; следует ли все-таки из этого, что все они стремятся к идеалам, ищут своего и чужого совершенствования, что законы, которым они подчиняются, суть ими самими выработанные обычаи и навыки, которые образовались путем опыта и индуктивных обобщений? Ведь даже душам животных мы не приписываем ничего подобного, – тем более трудно это предполагать о душах физических и химических молекул. В этом крупная неясность системы Бугаева» [81]. Для Лопатина не является странным предположение, что все элементы мира, даже простые атомы, есть психические центры, он только упрекает Николая Васильевича за несоблюдение общепризнанной иерархии живых существ, которая утверждает, что только человек может вырабатывать обычаи, а животным и менее развитым существам это недоступно. Нам же, современным людям, кажется странной сама мысль одухотворения всех элементов мира Н.В.Бугаевым, Л.М.Лопатиным и его современниками. Что это за мысль? Откуда она возникла? Может быть, это первые предвестники возвращения к определенным чертам первобытного мировосприятия, которое уже позже предрёк Питирим Сорокин в своих теориях? [73, 112] Почему Н.В.Бугаев взял в качестве основы, отправной точки для своей теории монадологию Лейбница? Ведь монады Лейбница полностью непроницаемы друг для друга, никак не взаимодействуют друг с другом и лишь демонстрируют в своем поведении предустановленную мировую гармонию и великий замысел Творца. В то же время монады Николая Васильевича взаимодействуют между собой, влияют друг на друга, совершенствуют друг друга. Н.В.Бугаев столько сил и страсти приложил впоследствии к отстаиванию свободы человеческой воли и человеческого духа, к обличению механистического детерминизма. Может быть, он просто пытался опереться на известный авторитет, на солидную опору, а не на мелких современных философов? По свидетельству окружавших его людей, Н.В.Бугаев был знаком с колоссальным количеством философских сочинений, он постоянно размышлял на тему философских проблем, обсуждал их при малейшей возможности. Он не был дилетантом в философии. Монады Лейбница – это действительно непроницаемые моно-элементы, а сложные комплексы Бугаева просто несовместимы с понятием «моно». Бугаев взял в качестве основы теорию предустановленной гармонии, полную фатальность, полный детерминизм, абсолютную несвободу, и на ее основе попытался сделать что-то вроде свободы. Свобода у него особенная, это скорее воля, сильная воля, заставляющая воля, постоянное принуждение себя. Воля, постоянно подстегивающая человека, заставляющая его трудиться все упорнее. И только в конце работы вознаграждающая человека. А еще в виде награды – дальнейшее повышение трудоспособности, упорства и производительности. Свобода – целесообразная необходимость. Даже не слишком осознанная. Подсознание трудоголика неявно выражает себя. Ему пришлось тяжело в детстве, пришлось много трудиться и терпеть обиды. Ему пришлось тяжело в юности, бесконечная работа, бесконечная учеба, полная несвобода. Он всего добился в жизни сам, своим упорным и самоотверженным трудом. Он и не знал, что такое свобода. В театре побывал первый раз, уже будучи приват-доцентом. Но как же? Как же без свободы? Как же без отдыха? Нельзя же все время работать, двигаясь только вперед, не останавливаясь не на минуту, сокрушая всё и себя на своём пути. В своей работе «О свободе воли» он пишет: «Понятия о произволе и воле исключают друг друга. Произвольная воля есть выражение неуместное. Оно есть отрицание воли. Нет воли там, где деятельность носит на себе случайный характер, то есть не имеет границ, плана и цели действия. Такая деятельность есть судорожная смена поступков. Самодурство и каприз – это болезни воли. Психологи верно указывают, что это в то же время тяжелые и глубокие болезни. Они всегда сопровождаются чувством неудовлётворенности и страдания». А потом, развивая свою аритмологию, много раз подчеркивает важность для описания внешнего мира, для обоснования понятия свободы функций, обратных прерывным. Но ведь функции, обратные прерывным, как раз и демонстрируют произвол, судорожную смену поступков, самодурство, каприз, придурь. В Н.В.Бугаеве истинная государственность и горячий патриотизм сочетаются с неуважением к царю, попам. Всё для сына, а сына отнимают. Жена и гусары. Ляпнуть ужасный каламбур, кого-то ниспровергнуть, всех удивить, поразить, ошеломить присутствующих отчаянным вольтерьянством, ниспровергнуть устои, а потом виновато замолчать, стушеваться; или сидеть, мечтательно улыбаясь чему-то. Пошуметь, покричать, поспорить, схватить кого-то за грудки, а потом – помириться. И делать как все. Как требуют традиции и устои. Шум, крик на весь Арбат… Может быть, отец его – «военный доктор, сосланный Николаем Первым и, кажется, разжалованный, ...храбрец и лихой наездник», так воспитал его? Этого мы никогда не узнаем. Остается только предполагать. Все-таки панпсихизм Бугаева – это атавизм, взгляд из первобытного общества. Атомы у него вырабатывают физические законы привычкой и усилием воли. Как и он сам. Он был дикий, отчасти первобытный. И жену он себе купил, как джигит. И спорил, как джигит. Судя по всему, он был похож на джигита. Храбрый, честный и прямой. Н.В.Бугаева не понимали многие современники, многие тогдашние авторитеты относились к нему пренебрежительно, свысока. Личные качества Николая Васильевича сыграли в этом немаловажную роль. Сформировавшееся еще в молодости убеждение, что математику следует излагать просто, привели его к фактическому отказу поддерживать бытовавшую тогда и бытующую сейчас в среде ученых закрытую корпоративность, стремление запутанностью и «навороченностью» терминологии отторгнуть непосвященных, не допустить широкую публику к обсуждению научных идей. Личные черты характера Н.В.Бугаева – горячность, страстность, непримиримость, колоссальная сила воли и упорство, – подвигли его на путь ярко выраженного персонализма как метода философского познания. Формулируя свои философские идеи из собственного здравого смысла, из собственной логики и интуиции и одновременно бесстрашно и намеренно отказавшись от традиционной философской лексики, терминологии и манеры изложения, Н.В.Бугаев вынес самые ранние свои идеи на суд широкой общественности. Его неукротимый нрав и страстная жажда истины вновь и вновь толкали его на вступление в спор при малейшей на то возможности, на обсуждение своих философских идей с любым желающим. Мы знаем только жалкую толику его первоначальных идей, но можно с уверенностью сказать, что именно благодаря особенностям его характера эти идеи смогли пройти такую большую эволюцию, закалиться и сформироваться в спорах настолько, что это может только поражать. Можно не сомневаться, что в яростных спорах с очень большим числом ярких индивидуальностей и гениальных личностей было рождено много истин, которые Н.В.Бугаев с педантичностью ученого червя записывал, классифицировал и обдумывал, а потом хватал эти преображенные истины и вновь бросался в бой, чтобы затем вновь и вновь преображать их. Сидя за столом в тиши кабинета не родишь идей, настолько кардинально отличающихся от всего, высказанного человечеством. Так что мы должны благодарить его родителей, особенности его раннего детского окружения, трудности его юношеских лет за то, что они выковали столь необычный и яркий характер. Вывод: 16. Особенности характера и личные качества Н.В.Бугаева, вероятно, сыграли очень важную роль в формировании его философского мировоззрения, в эволюции его философских взглядов и идей. 1.2 Особенности взглядов П.А.Некрасова Павел Алексеевич Некрасов родился 13 февраля 1853 года. Учился в Рязанской духовной семинарии, а затем на физико-математическом факультете Императорского Московского университета. Ученик и последователь Н.В.Бугаева. Окончил университет в 1878 году. В 1883 году защитил магистерскую диссертацию, а в 1886 году – докторскую. С 1886 года – экстраординарный профессор, а с 1890 года – ординарный. Преподавал в Московском университете, в Константиновском межевом институте, в Санкт-Петербургском университете. С 1893 года – ректор Московского университета. С 1897 года – попечитель Московского учебного округа. Активный член Московского математического общества, в 1891 году – его вицепрезидент, а в 1903 – 1905 гг. – председатель. В 1905 году переехал в Санкт-Петербург на службу в Министерстве народного просвещения. Умер 20 декабря 1924 года [108]. Ниже приведем характеристику П.А.Некрасова из воспоминаний Андрея Белого [14]. «Ходил некогда Павел Алексеич Некрасов, оставленный при университете отцом; в молодости он видом был – вылитый поэт Некрасов, – но с очень болезненным видом: худой, с грудью впалою; к дням профессуры он не поздоровел, но престранно разбрюзг; стал одутловатый и желтый, напоминал какую-то помесь китайца с хунхузом; отец про него говорил, что он некогда был недурным математиком; он поздней пошел в гору как ректор; в эту пору отец стал помалкивать; и «Павел Алексеевич» уже не произносилось им ласково. Другие, бывало: – А Павел Алексеевич… Отец встанет, пройдет в кабинет. В детстве помню доцентом его, туберкулезным и кашляющим, и скорбящим на что-то, и красным весьма; меня брали на елку к Некрасовым; нас посещали Некрасовы; но сколько ни вслушивался, – ни одной яркой мысли, ни взлетного слова: тугое, крутое, весьма хрипловатое и весьма грубоватое слово его [14]. Первой значимой для тематики этой книги работой П.А.Некрасова является книга о применении теории вероятностей к общественным наукам [96]. Стоит отметить, что математика в семье наук всегда пользовалась почётной и завидной репутацией образцовой науки по точности её методов и выводов. П.Тихомиров в работе [117] отмечает, что «по бесспорности содержания и по отсутствию в её истории таких революций, не раз переживавшихся другими руками, которые бы заставляли все веками достигнутые результаты «вменять яко не бывшие» и начинать всю науку сначала; – в ней каждое новое открытие, каждый новый метод лишь обогащают её содержания, расширяют сферу её приложения и усовершенствуют прежние приёмы и методы». Сам Некрасов в предисловии заявляет, что «потрудившись много над чисто математическими вопросами по теории вероятностей, а именно – над новым учением о вероятностях средних величин, составляющих основы для раскрытия в различных родах массовых случайных явлений математической закономерности, я хочу теперь опять вернуться к теории средних величин, но с другою целью…Я хочу взглянуть на теорию вероятностей с её дисциплинами, как на ветвь логики точных индуктивных наук, имеющих дело с массовыми проявлениями политической, общественной и духовно-нравственной жизни людей, и предполагаю воспользоваться здесь успехами теории вероятностей, сделанными после Кетле, для усовершенствования этой логики в соответствующих частях». За опорой в этом начинании П.А.Некрасов обращается к теореме Чебышева (закону больших чисел). Эта теорема даёт ответ на вопрос о поведении последовательности взаимно независимых случайных величин, имеющих конечные математические ожидания. В этом случае усреднённые случайные значения по вероятности сходятся к усреднённым значениям математических ожиданий (средних величин). То есть другими словами, чем большего размера мы берём последовательность случайных величин, тем выше вероятность того, что их среднее значение будет достаточно близко к среднему значению их средних. Для нас это означает, что частные особенности независимых измерений, поведений, входящих в систему, при увеличении количества элементов в системе ведут себя всё более предсказуемо, причём эта предсказуемость не зависит от самих участников (элементов) системы. На основе этих соображений П.А.Некрасов стремится усовершенствовать логику вместе с философией, на которую она опирается; прояснить и по-новому объяснить значение философских категорий необходимости, свободы, стеснения, причины, влияния и цели, устранить традиционно существовавшую спутанность, какая существовала во взглядах на свободу, свободную волю. Его основной идеей было оценить напряжение или степень влияния «числовым мерилом, изучая стеснения и изоляторы, являющиеся спутниками свободы и независимости, и открывая математическую закономерность в массовых независимых случайных явлениях свободно-нравственного человеческого характера». В развернутой рецензии на эту книгу П.Тихомиров подытожил полемику, завязавшуюся при ее обсуждении на двух заседаниях Московского психологического общества [117]. Он отмечает, что «социологи и политико-экономисты, приверженцы так называемого «исторического материализма», марксисты, вообще представители разных оттенков позитивизма – будут стараться отвергнуть в неприятной им книге и те ценные указания, которые в ней бесспорно есть. Наконец, и религиозно-нравственные и политические взгляды автора, родственные христианскому теизму и славянофильству, – хотя они, на наш взгляд, не слишком уж прочно связаны с основной идеей книги, – тоже не могут не вызывать некоторой вспышки старинного антагонизма, существующего в нашем образованном обществе». Многие идеи, появившиеся в данной работе П.А.Некрасова были впоследствии изложены в идентичном или переработанном виде в работе «Московская философско-математическая школа и её основатели» [95]. Здесь мы приведём в сжатом виде избранные тезисы к докладу П.А.Некрасова, важные именно в связи с понятием свободы воли. 1. Познающий субъект принадлежит к основным единицам социальной физики, следовательно, он может постигать свойства не только внешним опытом, но и внутренним. Эта особенность делает социальную физику, по сравнению с другими науками, более богатой понятиями, доступными непосредственной психологической проверке. При такой ясности понятий некоторая отсталость развития в XIX веке социальной физики по сравнению с ходом развития других наук представляет явление ненормальное, вызванное преходящими причинами и подлежащее устранению при помощи более совершенной научной методологии. Этой отсталостью только и можно объяснить стремление XIX века к материалистическому истолкованию духовных свойств человека, вызванное, очевидно, частью чрезвычайно быстрыми успехами физических и технических знаний, частью экономической борьбой. Здесь ярко проявляется открытая неприязнь П.А.Некрасова к материализму. Ниже мы ещё не раз встретимся с этой прямо-таки реакционной позицией. 2. Социальная физика строит свои выводы на данных физиологии и психологии человека, получая сведения о психических свойствах человека главным образом из внутреннего опыта. Эти психологические данные социальная физика включает в свои умозрительные схемы для исследования явлений, происходящих на арене общественной деятельности людей, а затем поверяет этих схемы статистическим и историческим наблюдением. Логика социальной физики должна опираться на философское и математическое умозрение и наблюдение. При этом она должна шире воспользоваться умозрительными дисциплинами теории вероятностей, применяя их там, где действуют сокровенные мотивы и разные причины, недоступные познающему уму. П.А.Некрасов здесь практически повторяет идеи Н.В.Бугаева, изложенные в работе «Математика и научно-философское миросозерцание». 3. В основе математического умозрения, обнимаемого теорией вероятностей, лежит философский детерминизм Лейбница и Лапласа, выражаемый в формуле: нет действия без причины. Отношение этой аксиомы к понятию о свободной воле определено у Лапласа такими словами: «Самая свободная воля не может без определяющего мотива породить действия, так как если при всех совершенно одинаковых двух положениях она действовала бы в одном случае и удерживалась бы действовать в другом, то её выбор был бы следствием без причины: она была бы тогда, говорит Лейбниц, слепой случайностью эпикурейцев». 4. В основах теории вероятностей играет важную роль также индетерминизм, с которым (как и с детерминизмом) связано даже самое определение вероятности. Этот индетерминизм по отношению к свободной воле определяет самое её могущество сообразно количеству и роду возможных для неё решений в её актах. Но индетерминизм воли относится лишь к этим возможностям; а если бы индетерминизм обнаруживался в самых актах свободной воли, то это возможно лишь в субъективном или относительном смысле. ... Так как ... всегда находится в миропорядке посторонняя причина, определяющая действие, то этот субъективный или относительный индетерминизм объективно и абсолютно переходит всегда в детерминизм. ... По отношению к возрастающему по степени могущества ряду личных состояний свободной воли это сочетание индетерминизма с детерминизмом сохраняет постоянно свою философскую силу, и лишь в пределе, в бесконечном могуществе Безусловного говорит о неизбежности такого сочетания детерминизма с индетерминизмом. Сочетание детерминизма с индетерминизмом, рассматриваемое в теории вероятностей, можно назвать свободным детерминизмом. Этот детерминизм не имеет ничего общего с фатализмом материалистов и позитивистов, так как он не упраздняет творческих свободных сил, действующих в мировом процессе, и предоставляет собой вместе с классификацией бытия по родам и видам лишь методологический принцип, необходимый для ясного и связного понимания этого процесса. 5. То «я», которое составляет психику человека, имеет различные стороны, представляющиеся как психические силы, относящиеся к областям сердца (моральные) и ума (интеллектуальные) и участвующие в мотивациях свободной воли. «Свободная воля есть заключительный акт этих сил, и в этом смысле она в каждом своём акте может быть названа равнодействующей всех психических сил духовно разумного существа». Это определение-свойство вызвало наибольшие споры и возражения. 6. Социальная физика, прибегая к математическому умозрению, принимает во внимание все влияющие факторы и условия общественной жизни, стремясь всеми силами постигнуть прежде всего достоверную причинную связь явления и лишь при недоступности для познающего ума причин какого-либо явления применяя теорию вероятностей. В социальных отношениях своих каждый человек руководится инстинктивно умозрениями теории вероятностей. При оценки случайностей человеческий ум делает оценку и сообразует с ней свои действия. Эти умозрения может рассматривать и теория вероятностей, оценивая случайность количественно. 7. Кроме психических моральных и интеллектуальных влияний людей друг на друга, каждый человек подвержен физическим и физиологическим влияниям, зависящим от многих факторов. Эти влияющие факторы природы, действующие фатально, при современном состоянии и успехах знания содержат в себе всё менее и менее тайн и сами по себе реже нуждались бы в применении теории вероятностей, если бы в социальной физике эти факторы не переплетались с психическими явлениями, которые борются иногда с фатальными силами природы. Эти фатальные силы не всегда подавляют человека, сами повинуются воле человека, получают лишь служебное значение, уступая первенствующую роль проявлениям активной психической силы человека, то есть человек способен изменить мир, создавая антропогенные объекты природы и прочее. 8. «Основной социально психический закон стационарного состояния массового общественного процесса: В стационарном массовом общественном процессе случайные явления, представляющие результаты нестеснённой деятельности свободной воли, будучи взаимно независимы, именно в силу этой независимости должны из года в год повторяться в одинаковых приблизительно итогах. Если с этими массовыми случайными явлениями связаны определённые соответствующие числа, то и средние арифметические этих чисел должны повторяться из года в год приблизительно в одних и тех же итогах». Здесь используется прямое следствие из теоремы Чебышева (закона больших чисел). 9. «Описание нестационарных состояний: По моральному направлению своему человеческая воля консервативна; перемены этого направления составляют особый нелегко совершающийся переворот в личной жизни. Консервативность свободной воли однако не безгранична. В социальной жизни бывают даже иногда моменты усиленного скопления коллизий, составляющих перемену направления воли граждан, и в таких случаях общество переживает особую психическую нестационарность, представляющую перевороты общественной жизни». 10. Применение всех вышеуказанных философских и математических умозрений к различным задачам социальной физики открывает в явлениях общественного организма особую социальную гармонию, являющуюся лишь частным случаем универсальной регулярности или гармонии, понятие о которой сложилось в умах Лейбница и других философов и которая реально проявляется в законах вселенной. В уяснении характера как социальной, так и универсальной гармонии играют роль, во-первых, различные обособления (изоляции) процессов и, во-вторых, некоторое объединение обособленных процессов. Именно в указанных обособлениях (изоляциях, стеснениях), так и объединениях и заложены начала частью независимости, частью фатальной необходимости и частью такой зависимости, которая занимает промежуточное положение между независимостью и необходимостью. 11. Фатальная связь причины со следствием составляет не единственный вид регулярности, в которой выражается универсальная гармония. Учение Чебышева о средних величинах представляет другую форму регулярности, относящейся к универсальной гармонии. Таким образом, в мировом порядке регулярность выражается двояко: не только в точных фатальных законах (связанных с необходимостью), но и в точных свободных законах (связанных с независимостью и осуществляющихся в массовых явлениях). Теорию вероятностей, которая открывает эту двустороннюю регулярность в мировом порядке, по справедливости можно было бы назвать универсальной гармонией. 12. Мысль об этой универсальной гармонии может быть с успехом противопоставлена увлечению материализацией духовно-нравственных свойств человека, господствовавшему в 19 веке, – увлечению, которое отличается узостью взгляда и противоестественностью и которое в глазах его последователей казалось заманчивым, благодаря единству (монизму) вносимому им в мировоззрение. Но этому материалистическому монизму можно противопоставить более широкий монизм психический, допускающий творческие акты воли, а потому наилучшим образом объясняющий непонятную без этого творчества эволюцию и прогресс. 13. Этот психический монизм дан в монадологии Лейбница и в сходных с нею системах. Возникает вопрос, как объяснить на основании этого мировоззрения механикоподобные процессы. Возможны и действительно существуют в опыте социальной гармонии, во-первых, такие механикоподобные психические процессы, которые совершаются в силу добровольного или принудительного повиновения некоторому исключающему свободу императиву. Но в психическом мире возможны и другого рода объяснения характера всеуниверсальной гармонии. Для осуществления этих механикоподобных монадологических процессов не нужно какого-либо невероятного договора или принуждения всех особей или монад всей вселенной действовать в известных случаях однообразно механически в разных концах мира, но достаточно, чтобы особи эти носили в себе внутренний духовный закон причинности, выражающийся в психических актах воли, и чтобы затем воля каждой особи обладала в известной сфере независимостью. Таким образом, духовная независимость или свобода способна порождать особую механикоподобную регулярность 14. Указанное свободномонистическое мировоззрение, как зиждущееся на духовном начале, лучше, шире и естественнее объясняет конкретную универсальную гармонию и моральноинтеллектуальный прогресс, нежели фатально-монистическое мировоззрение с его непостижимой эволюцией. Свободномонистическое мировоззрение более мирится и с чувством человека, а потому легко воспринимается сердцем и верой. Но это мировоззрение сложнее, а потому оно труднее воспринимается чистым умозрением, что и служит тормозом для распространения его не только среди полуинтеллигенции, но и той высокообразованной интеллигенции, которая слишком зарылась в отдельные специальности, изучая их оторванными от великого целого и преувеличивая их значение. Эта более высокая сложность свободномонистического мировоззрения математически характеризуется тем, что законы свободномонистической гармонии требуют для своего выражения не только уравнений и анализа непрерывных изменений величин, связанных между собой лишь уравнениями, но и понятий о прерывном, изучаемом с помощью аритмологических сочетаний и неравенств. Такое осложнение вытекает из несовместимости свободы с уравнениями, посредством которых выражаются лишь фатальные законы. 15. При затруднениях облечь какую-либо часть свободномонистической гармонии в точные формулы, соответствующие данной конкретной области, это мировоззрение не препятствует пользоваться и эмпирическими приёмами исследования, которые могут индуктивно привести впоследствии к точным формулам. Собственно научное содержание книги сводится к следующим трём пунктам: 1) применимость теории вероятностей к изучению социальных явлений; 2) необходимость включить в число факторов социального процесса психику человека с её интеллектуальными, моральными, эстетическими и религиозными стремлениями; 3) необходимость в виду этого реформировать программу собирания статистических данных, каковое собирание теперь часто бывает проникнуто позитивистическими и материалистическими тенденциями. В решении вопроса о свободе воли главное философское значение книги П.А.Некрасова полагаем в том, что она провозглашает и довольно оригинально обосновывает совместимость свободы воли с закономерностью социальных и исторических процессов. Это, конечно, не есть доказательство существования свободы воли, но этим устраняется один из сильных косвенных доводов против свободы воли: отрицание строгой закономерности социальных процессов. Книга Некрасова важна как серьёзная научная попытка уничтожить заинтересованность социологии и истории непременно в отрицательном решении вопроса о свободе, чем расчищается путь научному беспристрастию в его разработке; ничто так не мешает удовлетворительной обработке философских проблем, как разного рода посторонние интересы, связанные с ними [117]. Отрицательное отношение автора к эволюционной теории может считаться существенной принадлежностью его индетерминизма лишь постольку, поскольку эволюционизм идёт рука об руку с материализмом. Конечно, по нынешнему времени выступать против эволюции стало даже как-то неприлично; но, во-первых, для философа неприкосновенных догматов не должно существовать, а во-вторых, не так уж нерасторжимо и эволюционизм связан с материализмом [117]. На заседаниях Московского психологического общества 25 января и 1 февраля 1902 года состоялось обсуждение доклада П.А.Некрасова. Ему возражали А.И.Введенский, С.С.Глаголев, Д.Н.Цертелев, В.А.Гольцев (которому П.А.Некрасовым впоследствии был написан письменный ответ на его возражения в работе «Логика мудрых людей и мораль» [94]), Д.Н.Анучин, Б.К.Млодзеевский, П.П.Соколов. В целом основной критике было подвергнуто содержание пятого тезиса, который определяет понятие «свободная воля». В целом П.А.Некрасов отвечал уклончиво, соглашаясь почти со всеми замечаниями, и даже отказался от благословения «бронированного кулака». Основной и наиболее объемной (249 страниц) работой П.А.Некрасова является «Московская философско-математическая школа и ее основатели» [95]. Это не историографическая работа, воспоминаниям и истории в ней отведено от силы процента три. Это работа теоретическая, философско-математическая, в ней Некрасов попытался проанализировать все, что сделал Н.В.Бугаев, и предложил свое собственное развитие этих идей в различных областях. Работа состоит из больших 33 разделов. Лишь в 1-2 и 33 разделах П.А.Некрасов касается конкретной роли Н.В.Бугаева в развитии описываемых в работе идей. Он отмечает, что Николай Васильевич был не только основателем и несколько лет президентом Математического общества, но и его душой, идейным лидером и вдохновителем. Некрасов прекрасно демонстрирует весь дух Московской математической школы вместе со всеми его передовыми взглядами и вместе со всеми недостатками. Один из них – это антропоцентризм. Характерен, например, такой фрагмент (стр. 7): «Естественные способности исчисления велики не только у человека, но и у животного, которое по инстинкту как бы взвешивает предстоящие ему препятствия и с удивительной гибкостью ума и воли целесообразно преодолевает их. Муравей, пчела, бобр и разные другие представители животного царства прославились своими инстинктивными как бы математическими способностями, своим врожденным чувством меры или, вернее, чутьем, которое сделало их способными к возведению изумительных построек для своего жилья и вообще к целесообразному устроению своей индивидуальной и общественной жизни». Вместе с тем, Некрасов, отдавая дань математике как царице наук (никакая закономерность не может быть определена без математического элемента), остается на весьма здравых позициях относительно роли математики в процессе познания (стр. 15): «Отводя важную роль математике, не следует однако умалять значение слова, как средства выражать идеи и понятия, и опыта, как средства ощущать, открывать и проверять связь вещей… Чистое математическое познание нужно причислить к … весьма ценным, но односторонним простым элементам познания, требующим синтеза с прочими внутренними и внешними элементами познания». Под этим синтезом П.А.Некрасов понимает философско-математический синтез. Для изучения мира Некрасов предлагает обобщенную математическую схему из гармонического слияния анализа непрерывных изменений, анализа прерывных изменений и психоаритмологической логики мерных (категорических и некатегорических) суждений, основанных на теории вероятностей. Включение этой психоаритмологической логики и является, без сомнения, главным развитием теории Н.В.Бугаева, предложенным Некрасовым. Нужно, в то же время, не забывать, что к моменту выхода анализируемой работы Некрасов четыре года был ректором Московского университета (1893-1897) и семь лет попечителем Московского учебного округа. Одиннадцать лет административной работы, по-видимому, дали о себе знать, и эту логику некатегорических суждений П.А.Некрасов демонстрирует весьма туманным образом, скорее не как учитель, а как администратор. С научной точки зрения это обедняет рассматриваемую работу, зато дает много пищи для размышлений над бытовавшими в профессорской и чиновничьей среде нравами. Некрасов отзывается о философии Лейбница как о «не чуждой многих неясностей» (стр. 26) и предпочитает ей философию Лапласа, который рассматривает психологию на границе с физиологией, относя психологические процессы к жизни особого седалища мысли или чувствилища, которое не только сознает, мыслит и чувствует, но и вибрирует, взаимодействуя с окружающим миром и объединяя в себе психические и механические процессы. Некрасов развивает эту идею Лапласа (стр. 27): «Так как интеллекту принадлежит способность делать в своем течении мыслей перерывы, скачки и переходы, ведущие к мысленному сближению отдаленных вещей, к разделению близких вещей и к почину или творчеству, то объединение психических и механических элементов в жизни чувствилища нельзя считать непрерывно действующим механизмом; это слияние образует психо-аритмо-механизм, в котором заключены важные особенности и который функционирует по другим законам исчисления». Разъясняя особенности этих законов счисления, П.А.Некрасов вплотную подходит к пониманию прерывного и непрерывного как абстракций (стр. 30), но не делает решающего шага. Рассуждая о кажущейся непрерывности физического тела, о сближении прерывного с непрерывным, Некрасов пресекает почти возникшую у него догадку соображением, что прерывное и непрерывное – два начала, существующие совместно в бытии и свойствах вещей. Так, вслед за антропоцентризмом Некрасов демонстрирует вторую окову для мысли, непреодолимую в рассматриваемой эпохе, – так и не изжитый механицизм, эмпиризм. Некрасов старается забыть о сидящей в нем занозе сближения и взаимоперехода прерывного и непрерывного и обращается к чувствилищу. (стр. 32): «Сознание и воля, являясь функциями душевной жизни, могут … управлять движением душевного строя в жизни чувствилища. Действия эти происходят как бы непрерывно, а между тем воля может прервать их во всякий момент или дать им другое по целям направление». И снова яркое озарение: «В действительной массовой жизни социальных организмов, как в объединенном целом, существует коллективное социальное сознание (политический логос) и действует его психо-аритмо-механика. В этой деятельности могут происходить предельные аритмологические процессы… Действие социального суверенного сознания на социальный организм может… направлять его жизнь к определенным целям… Это не исключает во многих мировых отношениях и взаимодействиях и непредельного аритмологизма, обнимающего разные мировые коллизии, пертурбации, катастрофы и перевороты, создаваемые интеллектуальными влияниями. Эти непредельные аритмологические процессы возможны как в жизни индивидуальной, так и социальной» (стр. 33). Дальше Некрасов пытается преодолеть, а вернее, красиво обойти некоторую несуразность системы Бугаева, касающуюся произвольности, капризности функций, обратных прерывным. Для этого он переходит к рассмотрению интегралов от прерывных функций и к возникающим при интегрировании произвольным постоянным. «Если в механическом процессе, – пишет он, – эти произвольные количества устраняются апостериорным опытом и априорными начальными данными, то там, где имеются возможности для коллективной или индивидуальной воли распорядиться имеющимися возможностями по своему усмотрению, неопределенность уже не устраняется вполне никаким числом наблюдений. И здесь нужно применять вероятностный подход. Вероятностный подход более универсальный, более общий; аналитический подход есть лишь его частный случай» (стр. 35). Пониженный рационализм, к которому можно отнести и эмпиризм, пополняет агностицизмом пробелы познания, а высокий рационализм покрывает пробелы познания некатегорическими, вероятностными суждениями. Последовательный психо-аритмо-механик живо сознает вероятность как оценку, меру возможности ожидаемого, он понимает эту оценку как независимую координату в числе прочих независимых координат воображаемой им вселенной, и эту координату он измеряет статистическим методом. Своевременность практической статистической разведки имеет большую цену для разведывающих и покрывает с избытком расходы на содержание статистиков, разведчиков, агентов и контор. Каждый человек есть по природе теоретический и практический статистик и разведчик, действующий как для своего обихода, так и для ближних и для общественной пользы (стр. 41). В психоаритмологической логике есть неопределенность мирная, не такая, как в категорической аналитической логике с ее законом противоречия и абсурда; и эта мирная неопределенность, опираясь на свойственное разуму чувство меры, открывает простор для творчества, а с другой стороны, для морали и этики и помогает свободоволевой организации блага (стр. 43). Далее Некрасов вводит (n+1)-мерное пространство всех сознаваемых физических и моральных оценок, относящихся к элементам нашего миросозерцания. В качестве существенного элемента этого пространства он принимает вероятность как существенный элемент психоаритмологической логики и берет эту вероятность в качестве абсциссы этого пространства. Рассматривая распределение плоскостей этого пространства, мы можем начать отсчет этих плоскостей от плоскости абсолютных или аналитических достоверностей. Эту плоскость обозначим буквой А и назовем миром анализа. Вторую плоскость В рассматриваемом (n+1)-мерном многообразии можно определить вероятностью, близкой к аналитической достоверности (к единице, если аналитическую достоверность принять за единицу) и принадлежащей к так называемым нравственным оценкам. Третья, четвертая и т.д. плоскости будут последовательно выделять слои, все более удаляющиеся от области анализа в сторону все менее и менее категорических суждений. Последовательные удаления приведут нас в плоскость М, которая соответствует вероятности Ѕ, в которой все тезисы столь же вероятны, как антитезисы. Дальнейшее уменьшение вероятности приведет к повторению в обратном порядке прежних плоскостей рассматриваемого пространства с уменьшением вероятности тезиса до нуля и увеличением вероятности антитезиса до единицы (стр. 45-46). Психомеханик есть агностик, который в указанном выше пространстве игнорирует вероятность. Его мышление плоско, все, что выходит за пределы плоскости, он причисляет к хаотическому, неурегулированному никакой нормой, непознаваемому. Психоаритмологическое мышление другое, психо-аритмо-механик оценивает ожидания будущего и риск, он готов аритмологически изменить ошибочный курс по более целесообразному этическому направлению. Он оценивает закономерности гипотезами, теориями, достоверностями, вероятностями и ожиданиями, и на основе накопления опыта методом последовательных приближений подходит к истине. С другой стороны, индетерминисты не умели подвести свободную волю под точные определения, трактуя ее то как слепой случай, то как двойственное этическое понятие, помогающее произволу и софистическим изворотам. Эти обстоятельства вызывали к историческому индетерминизму как к точной системе недоверие многих философов (стр. 56). Опыт внутренний и внешний, данный в пределах личной истории человеческого существа, с очевидностью и ясностью может подтвердить ему многие принципы, относящиеся к познанию исторических процессов. Эти пределы личной истории можно назвать пределами интерполирования. Это поле узко, его можно раздвинуть экстраполированием, но при этом мы должны сознавать, что вероятность наших суждений об отдаленном прошлом уменьшается. Здесь наука не может судить определенно и должна сочетаться с религией. Эволюционисты не учитывают этот факт, экстраполируя и обосновывая экстраполяции с помощью генетических рядов, составленных лишь на основании внешнего сходства. Сомнительность таких построений обнаружена многими естествоиспытателями. Утверждения дарвинистов имеют все признаки не научного, а религиозного учения. И этот вывод вытекает не только из сомнительности экстраполяций в бесконечно далекие времена, но и из прерывности дарвинистических рядов. Само наличие этих разрывов доказывает, что к этим рядам неприменим метод аналитической логики, и аналитичность, непрерывность этих рядов могло засвидетельствовать дарвинистам только религиозное вдохновение (стр. 60). Некрасов приводит еще один довод против дарвинизма, основанный на подсчете роста народонаселения. Этот подсчет приводит к тому, что религиозная дата начала человеческого рода более вероятна, чем дарвинистская. Если принять точку зрения дарвинистов, то средний прирост человеческого населения в течение гигантского периода должен быть равен нулю, что свидетельствует либо о чрезвычайной глупости человеческого рода по сравнению с другими породами, либо, что вероятнее, о несостоятельности категорических утверждений дарвинистов (стр. 63). Для тех, кто не согласен допускать иных мерил, чем аналитические и детерминистские, все пробелы в науке и в истории могут быть заполнены лишь иррационализмом и слепыми творческими началами. Для истинного рационалиста это области вдохновения и мысли, пробелы могут быть заполнены этическими и моральными догмами и догмами религии. Истинный рационализм чужд поклонения кумирам. Он есть строго осмысленное разумное отношение ко всем ценностям и благоговейное почтение к источнику всех ценностей, Божественному разуму (стр. 65). Ощущение способно заглушать тонкую работу чистого сознания. Но, подчинившись чистому сознанию, ощущение помогает ему своим опытом. Люди с сильным развитием процессов чистого сознания и его функций, с одной стороны, управляют ощущением, отрешаются от его грубых дисгармоний, с другой стороны, развивают в себе истинное нравственное чувство. Гражданин, воин, святой праведник легко переносят лишения и физическую боль (стр. 68). Материальные следы даже крупных деятелей дают впоследствии очень неполное понятие об этих лицах: остаются лишь могилы и кости, да и эти памятники исчезают. Поэтому все выводы антропологии должны делаться лишь некатегорически, при категорическом синтетическокритическом религиозном признании, что высшие разумные начала были сообщены человеческому роду в лице его родоначальников. Мудрость проложила пути в человеческом обществе, создав в нем покрытые седой древностью драгоценные культурные учреждения: церкви, монастыри, академии, университеты, в которых рядом с писаниями и другими мертвыми памятниками хранится еще и живая непрерывная духовная традиция, превращающая цивилизованные человеческие общества в организмы, объединенные связью и разумным распределением функций между отдельными частями (стр. 74). Поднятие некоторой части человеческого сознания и воли на высшие ступени истинного познания и морального действия выразилось в различиях и неравенстве среди людей. Некрасов делит общество на следующие группы: 1) истинно мудрые люди, возвысившиеся до критического и истинного понимания авторитетов; 2) рядовые культурные люди, трудоспособные и с деловыми привычками, выработанными под авторитетными влияниями; 3) люди чистого природного неведения и природного неправомочия и 4) люди поверхностного взгляда, ложных настроений и ложных начал. Люди четвертой группы подрывают святость истинных авторитетов и устоев. К ним Некрасов относит некоторых политиков, публицистов, журналистов и преступников. Задача педагогики – переводить людей из третьей, а при возможности, и четвертой группы во вторую и в первую. Для этого нужно включить в систему общего образования начала аритмологии и теории вероятностей как логики мудрых суждений и моральных ожиданий и оценок (стр. 89). Нужно изменить не только систему оценки личностей на государственных экзаменах, но и на судебной арене, при определении к государственным и общественным постам, в психиатрической экспертизе (стр. 97). Давая высокую оценку идее Н.В.Бугаева о сложных монадах, Некрасов предлагает назвать их свободосвязями, в которых совмещаются аналитические, детерминистские связи и психоаритмологические, автономные, свободные начала. Каждая монадологическая свободосвязь объединяет самодержавное начало (автономнейшую автономию) при совместной автономии других частей. Для человеческого организма роль самодержавного начала выполняет сознание (стр. 105). Материалистический принцип индивидуализма на западе привел к тому, что стачки там стали неизбежной формой борьбы труда с капиталом. Капиталисты стремятся пожрать индивидуальную свободу людей, стараясь сделать их равноголодными и равнопокорными экономическим кумирам. Этот строй и есть тот призрачный либерализм, в котором свобода есть мираж, а царит желтый металл, то есть абсолютизм, но уже без всякого идеала. Как всякий ложный строй, этот экономический порядок сам себя подрывает, ведя к нравственной анархии. Идеалы истинной нравственной солидарности, поддерживаемые здравыми политическими мерами, способны смягчить жестокость экономического соперничества и сплотить людей в свободосвязную армию труда и промысла, не забывающую истинного призвания живого цельного человека (стр. 115). Нет ли несовместимой противоположности между государством и обществом, между политическим логосом и общественным логосом? Социальное мерило принадлежит к категории интегральных мерил, а индивидуальное мерило является лишь дифференциальным. Интегральные и дифференциальные уравнения связаны мернонеопределенными отношениями. В связь между социальным и интегральным мерилом должны входить произвольные постоянные и даже произвольные функции. Эта связь некатегорическая, оставляющая простор для религиозных, правовых, этических и моральных суждений (стр. 121). Закон, разрешающий социальные противоречия и коллизии на основе права, дан не только в букве каждого узаконения, но и в духе целого законодательства и в живой совести судей (стр. 133). Хороший судья, оставаясь твердым, тем не менее должен принимать евангельские слова о тщательном мерном суждении и должен углублять это свое суждение, смотря не только назад, но и вперед (стр. 135). Аксиома здравого смысла, протестующая против аналитических, уравнительных начал жизни, отнимающих у будущего все его права, есть всеобщая логика, созданная жизнью и утверждающая, что поверх аналитических устоев дана некатегоричность, психоаритмологичность и этическая мерность суждений и мотивов, взаимоотношений и взаимодействий. Эта некатегоричность приводит к биполярности. Собирательные монады: человек, племя, общество, государство и мир проникнуты этой биполярностью (стр. 136). Государство как сложная личная монада имеет свой положительный личный полюс. Отрицательный полюс есть особое государство в государстве, объединяющее отрицательные силы для целей, враждебных государству. Этот политический антилогос не следует смешивать с честной оппозицией, действующей правомерно, иногда честно заблуждающейся, а иногда несущей правду и святую истину (такова оппозиция святых праведников и мучеников). Правомерное честное столкновение этических и политических убеждений и интересов есть та коллизия, при которой осуждаются насилия и одобряются всевозможные снисходительность сторон друг к другу и терпение, а в крайнем случае обращение к законному суду, если практические интересы столкнувшихся оказываются непримиримыми. Оппозиция вполне подходит под эту формулу. Но хитрый политический антилогос пользуется лукавыми и коварными средствами, и государство вынуждено обороняться от него, как от стоящего вне закона врага, особыми средствами, прерывая относительно него действие обычных правовых норм. Вражда эта и ее зло имеют совсем особый характер, не подходящий под категории норм права и нравственного закона, регулирующих взаимные отношения между отдельными людьми-братьями (стр. 137). Отрицательную сторону гражданской биполярности нужно представить себе воплощенной в типе личности низшего отрицательного уровня. Фальшивый блеск фарисеев – изобличителей социальных противоречий есть главный источник помрачения социального разума. Презирая общество, они стараются дискредитировать в общественном мнении работу полезных государству и народу слуг с помощью фактов противоречия, имеющих вес в глазах той части общества, которая страдает этико-социальной безграмотностью и не понимает, что не всякое противоречие есть ложь и не всякое отсутствие противоречия есть истина. Используя эти противоречия для мистификации, для неуязвимой правдоподобной инсинуации и клеветы, им удается возбуждать ложные общественные страсти и подстраивать кровавые бани, предавая в пасть страсти невинные жертвы, возбуждая одних против других и оставаясь при этом почти на «легальной» почве. Они ставят ловушки простодушию. Кроме того, в жизни существуют ошибки решающих инстанций и правдивые риски, последствия которых при неудаче бывают удобны для клеветы (стр. 139). В политической и общественной жизни для решающей инстанции часто возникают особые безвыходные противоречия, которые приходится разрешать немедленно, хотя бы и с риском. Плевелы иногда перерастают пшеницу. Человеческому суду нужно разобраться в этом процессе не только осторожно, но и быстро, своевременно, чтобы осторожность не опоздала спасти погибающее. В такой критический момент риск для решающего бывает обязателен, так как воздержание от этого правдивого риска грозит худшими последствиями. За этот риск нельзя винить решающего судью, хоть бы его решение и привело к печальному результату (стр. 139). Всякий деятель государства есть судья и воин. Гражданский судья не имел бы авторитета среди лукавых, если бы не имел в своих ресурсах репрессию и силу (стр. 145). Он отличается от воина лишь тем, что имеет в своем распоряжении более длительный срок для обсуждения своего решения и приведения его в исполнение. Государство не есть платоническиидеальное учреждение; не есть и грубо-реальное учреждение. Оно есть человеческое, то есть телесно-духовное, идеально-реальное учреждение. Государство как многовековая многогранная личность имеет перед собой не только близкие, но и весьма далекие различные цели. Нужно исследовать и слить гармонически как общие близкие цели, так и многостороннюю дальнюю цель государства. Специальную цель о ближайшем благополучии государства имеют в виду преимущественно экономисты и техники промышленно-профессиональных дел. Они правы, придавая ей большое значение, ибо здоровый дух государственной личности может жить лишь в здоровом государственном теле (стр. 145). На пути закономерного исторического движения государства к многосторонней дальней цели на него воздействуют всегда две силы каждого поколения – центростремительная, прогрессивно ведущая к цели, и тангенциальная, которая отклоняет путь в сторону. Неправды отдельных людей не организованы и не оставляют большого следа в человеческом роде. Иное значение имеют собирательные лица, существующие в преемственных поколениях столетиями и тысячелетиями. Вражда и зло собирательных лиц поэтому подлежат другим мерилам и нормам. Неправды эти упорны, стихийны и долговечны, и столкновения между этими враждующими собирательными монадами имеют мировой характер и управляются мировыми мерилами. В этой борьбе решаются вопросы рода человеческого, в котором пшеница и плевелы так тесно переплетены, что отделить их лишь индивидуальными правомерными действиями невозможно. Нельзя вообразить какой-либо возможности полного искупления мировых ложных противоречий без осмысленных страданий. Герой-гражданин принимает на себя эти страдания, неся гражданский долг с личным для себя риском и ожиданием даже смерти, которую иногда принимает от анархически-озлобленных рук (стр. 147). Вопрос о разделении и специализации функций в государстве является очень важным, и государство, которое правильно решило этот вопрос, называют правовым. Вождь либеральной партии английского народа В.Гладстон выяснил, что часто защитники свободы служили не истинной политической свободе и тем самым попирали и истину, и свободу (стр. 149). На Западе мы имеем во множестве явлений либо просвещенный абсолютизм, либо либеральный фатализм. На Востоке, к которому приобщена православно-русская политикообщественность, мы имеем нечто, составляющее драгоценную особенность, имеющую мировое значение и представляющую основу высшей просвещенности и государственности, которую нужно охранять и культивировать для блага всего человечества и смысл которой с удивительным рвением затемняется декаденствующей частью русской литературы и науки, разрывающей связь с прекрасным наследством (стр. 151). В исторически сложившейся суверенной власти русского народа слепая независимость и слепое объединение заменяется мыслемерной и правомерной свободой, нужной каждому живому элементу разумно дирижируемого хора и подчиненной живой автономнейшей автономии, могучему Государю-Самодержцу (стр. 153). Среди разделенных властей государству нужна для обеспечения истинной политической свободы и истинного правомерного взаимодействия власть научно-гносеологическая, которая, имея в виду как близкие, так и более далекие, но важные жизненные цели и горизонты, направляет свои силы на применение высших научных и технических знаний к задаче гармонического сочетания и объединения раздробленных и частных интересов (стр. 154). Эта власть не вправе отдавать высших своих жизненных задач на решение общества как диссоциированной коллективной массы, отыскивая ее взгляд лотерейным способом (стр. 155). Для решения высших и общих жизненных своих задач государство исторически вырабатывает особый политический логос, который не только не отделен от собирательной мысли народа, но теснейше связан с ним по мерилам мудрости, опытности, добросовестности и национальной преданности. Под этими мудрыми лицами разумеются не только индивидуальные, но и исторические собирательные лица (именитые роды, общины, сословия, культурные учреждения и т.д.) (стр. 155). В обращениях к соборной совести важнее всего непосредственность ее связи с суверенной волей. Преступно при этом посягать на автономию просвещенного политического логоса. Автономия Государя, суверенного носителя просвещенного политического логоса, является святыней, перед которой благоговейно склоняют головы все истинно благотворные автономии государства (стр. 157). Органическая координация политических функций предполагает некоторые практические принципы. Первый принцип: естественность подвижного гармонического равновесия политических функций и естественность реформ этих функций. Естественность мы понимаем не в смысле учений Локка, Руссо и других, трактовавших о естественном состоянии первобытного общества. Слова естественность и искусственность мы понимаем в относительном смысле. Абсолютная естественность принадлежит лишь Безусловному Существу (стр. 159). Во всем естественном имеется прежнее искусственное, превратившееся в естественное под действием упражнения и привычки. Естественное может быть утрачено от недостатка упражнения. Следовательно, можно и должно говорить о естественном состоянии общества не только тогда, когда оно спустилось до потери культуры и одичания, но и тогда, когда оно поднято своими привычками, нравами и благодатью на самые высокие ступени культуры. Благой консерватизм свято охраняет добрые старые привычки и нравы (стр. 160). Второй принцип: органическая свободосвязность природных и бытовых автономий с политическими автономиями (стр. 160). Органическое законодательство избегает крайностей чисто аналитического, механического и хаотического (стр. 161). Третий принцип: живое сочетание уравнений и личных единств с личными неравенствами и различиями и с благим многообразием видов природных и бытовых моральных автономий (стр. 166). Четвертый принцип: охрана языка, символов и других внешних черт социальной дифференцировки (стр. 170). Пятый принцип: применение статистики и моральстатистической разведки закономерностей явлений и расценки к задачам государственной гносеологии, активной статистической индукции, социальной техники и антроподинамики (стр. 173). Шестой принцип: организация народного образования и статистическое управление им. Седьмой принцип: благая свобода совести и мысли (стр. 189). Восьмой принцип: суд и возмездие (стр. 190). Девятый принцип: мерная свобода печати (стр. 195). Десятый принцип: материальное этическое действие защитников и охранителей. Одиннадцатый принцип: организация сословного суда чести (стр. 198). Двенадцатый принцип: святость семейного союза и отделение в меру мужских и женских социальных функций (стр. 199). Правильная планомерная государственная организация народообразовательного дела должна иметь целью по мере возможности переводить людей третьей группы (агностиков), а также людей четвертой группы (отрицательной) в одну из положительных групп (стр. 202). Поэтому в составе школьной сети должны существовать две школьные группы – академическая и ремесленная. Могут быть и школы смешанного типа. Последнюю часть своей работы П.А.Некрасов посвящает рассмотрению проблем образования и описанию вклада Московского математического общества и Николая Васильевича Бугаева в совершенствование народного образования; эти вопросы уже были освещены выше. Эта работа П.А.Некрасова являет собой характерный пример метаповествования, которое на практике доказывает читателю справедливость тезиса Ж.-Ф.Лиотара об утрате доверия к метаповествованиям в современную эпоху [52]. В своей другой работе [94] П.А.Некрасов более компактно излагает свои воззрения. Нет смысла повторять то, что уже было сказано, воспроизведем лишь отдельные наиболее яркие моменты. Пониженный рационализм покрывает животным агностицизмом те пробелы знания, которые здравомыслящий человек должен покрывать некатегорическими суждениями. Такой агностицизм и чрезмерный категоризм суждения и действия характеризует именно интеллектуальность животного царства, а также дикарей и детей, и есть шаг назад, возвращение к пониженной интеллектуальности. Высокий рационализм совпадает вполне с логикой христианства. Евангелие, запрещая категорическое суждение, настоятельно рекомендует прибегать к тщательному глубокому мерному некатегорическому суждению, требуя извлечения бревна из глаза судящего (стр. 8). Не только механические эволюционисты, но и многие рационалисты уперлись в своих учениях о государстве, обществе и личности в мертвые (безличные, исключительно книжные, бумажные) категорические формулы вроде права всеобщего равенства (которого на самом деле нет), замкнутого индивидуализма, просвещенного (то теократического, то монархического, то парламентского, то демократического) абсолютизма-фатализма (которого также на самом деле не было и нет) и не хотят понять более живых и свободных, но правомерных взаимоотношений. Жизнь не руководится лишь этими крайностями, между которыми существует бесконечное множество переходов, и насилие над жизнью, направленное в сторону тех или других крайностей, всегда сопровождается болезнями социальных организмов (стр. 12). Нормы логики некатегорических суждений есть у всякого разумного существа. Этот высокий рационализм испорчен пониженным рационализмом, который слишком категорично отделяет мысль от чувства, воли, силы и действия, ноумен от феномена, церковь от государства, науку от религии, суд от администрации, родителей от детей, человека от общества, общество от государства (стр. 14) . Есть люди-верхогляды, которые кое-чему научились, нахватались верхушек разных наук и зазнались. Они ушли от природного неведения, но не успели дойти до подлинной мудрости тех ученых, которые поняли несовершенство и ничтожество всех человеческих знаний. Эти-то люди, считающие себя умниками, и мутят мир. Они обо всем судят самоуверенно и опрометчиво и, разумеется, постоянно ошибаются. Они умеют бросать пыль в глаза, и часто люди к ним относятся с уважением, но простой народ их презирает, видя их бесполезность (стр. 20) [94]. Со многими из здравых суждений П.А.Некрасова нельзя не согласиться. Вместе с тем, в его концепции некатегорического мыслемерного суждения есть определенный произвол, который сам П.А.Некрасов часто заполняет некоторой реакционностью и даже своеобразным если не черносотенством, то чрезмерной категоричностью. В отсутствии критерия категоричности и некатегоричности, по-видимому, заключается главный недостаток всех попыток П.А.Некрасова развить и продолжить философские идеи Н.В.Бугаева. Резюмируя, можно сказать, что П.А.Некрасов в душе горячий и последовательный сторонник учения Н.В.Бугаева, во всяком случае, в том виде, в каком он его понимал. Многие идеи Некрасова являются подлинным развитием мировоззрения своего учителя в аспекте его применения к общественным наукам. Вместе с тем определенные человеческие черты П.А.Некрасова явно не нравились его учителю и беспокоили его. Н.В.Бугаев словно предвидел то, в каком направлении направит его учение его же близкий ученик. После смерти Н.В.Бугаева П.А.Некрасов опубликовал несколько больших работ. Он, в отличие от Н.В.Бугаева, не рождал свои новые идеи в бурных спорах с оппонентами, он вообще не был склонен выносить свои идеи на суд широкой общественности, и в изложении своих идей он стремится возвратиться к обычной в «солидной» науке терминологической закрытости. Но область, в которой он развивает идеи своего учителя, настолько нова, что его терминология выглядит довольно неуклюжей и требует обсуждения, о чем заявил В.Г.Алексеев [5], явно не согласный с определенными выводами П.А.Некрасова. В силу особенностей своего характера П.А.Некрасов пошел по руководящей, бюрократической стезе. Вероятно, он был прирожденным и талантливым карьеристом, он на лету ловил взгляды и идеи, которые тогда приветствовались правящей элитой, весьма реакционной. П.А.Некрасов «приспособил» свое мировоззрение в полезном для его карьерного роста направлении, одновременно он попытался приспособить и учение своего учителя для обоснования весьма реакционных, вредных для развития России идей. Как это ни прискорбно признать, этим он нанес определенный ущерб пропаганде философии Н.В.Бугаева и имиджу своего учителя. Все учение Н.В.Бугаева стало ассоциироваться с реакционными, отжившими идеями. На Втором всероссийском съезде преподавателей математики в январе 1915 года Б.К.Млодзеевским был затронут вопрос о преподавании в школе теории вероятностей, и это вызвало вскоре ожесточенную полемику. П.А.Некрасов, в прошлом профессор математики Московского университета, а в рассматриваемое время член Ученого совета Министерства народного просвещения, задумал использовать теорию вероятностей для поддержки самодержавия и православия [92]. Вместе со своим коллегой по Ученому совету министерства В.Г.Алексеевым, профессором математики в Юрьеве, и некоторыми педагогами П.А.Некрасов стал добиваться включения в курс гимназии теории вероятностей, принципы которой трактовались в идеалистическом ключе. Как открыто заявляли Алексеев и Некрасов, их целью была «борьба с материализмом, который завоевывал симпатии учащейся молодежи» [136]. Против Некрасова и его единомышленников выступили крупнейшие математики во главе с академиком А.А.Марковым. В «Журнале Министерства народного просвещения» за 1915 год велся резкий спор между обоими лагерями. В октябре того же года Академия наук, по предложению Маркова, создала комиссию, в которую вошли он сам, академики А.М.Ляпунов, В.А.Стеклов, члены-корреспонденты механик Д.К.Бобылев, А.Н.Крылов и астроном Н.Я.Цингер. В ноябре комиссия вынесла решение, категорически осуждавшее лженаучное использование теории вероятностей П.А.Некрасовым, как «злоупотребление математикой с предвзятой целью превратить науку в орудие религиозного и политического воздействия». Осуществить свои планы П.А.Некрасову не удалось [136]. Попытки П.А.Некрасова в 1915 году «протащить» некоторые из своих реакционных идей, якобы вытекающих из учения Н.В.Бугаева, в верхах, минуя общественное обсуждение, встретили отпор в математических кругах. Не совсем понятно, насколько сознательно примкнул к этим попыткам В.Г.Алексеев. С другой стороны, сама шумиха вокруг имени Н.В.Бугаева заставила многих ученых достать работы Н.В.Бугаева и прочитать их. Возможно, именно П.А.Некрасов таким особенным, неказистым путем способствовал тому, что работы Н.В.Бугаева были спасены от забвения. Вывод: 17. П.А.Некрасов, ученик Н.В.Бугаева, сыграл двойственную, неоднозначную роль в развитии и пропаганде идей Н.В.Бугаева; с одной стороны, он предложил пути практического применения философии Н.В.Бугаева к общественным наукам, с другой – несколько извратил в реакционном духе идеи своего учителя. 1.3 Ученики, соратники и критики Н.В.Бугаева В Московском университете передовые традиции, заложенные Н.Д.Брашманом и Н.Е.Зерновым, были продолжены прежде всего А.Ю.Давидовым, а затем их учеником Н.В.Бугаевым, приступившим к преподаванию в 1865 году. Бугаев поставил чтение лекций по теории функций комплексного переменного, а также вводил новые научные идеи в другие свои курсы — по эллиптическим функциям, конечным разностям и др. С 1862 года на факультете начал работать механик и геометр В.Я.Цингер, заслуживший общее признание слушателей яркими лекциями по проективной геометрии. В 1885 году специальным курсом по синтетической теории конических сечений начал блестящую лекторскую деятельность Б.К.Млодзеевский и одновременно с ним пришел на факультет П.А.Некрасов. В 90-е годы к преподаванию приступили Д.Ф.Егоров (1893), Л.К.Лахтин (1896), К.А.Андреев (1898), в 1902 г.– И.И.Шегалкин и в 1914 году Н.Н.Лузин. Млодзеевский, Егоров и Лузин внесли в преподавание математики на факультете новейшие идеи анализа и теории функций и в корне изменили характер студенческих занятий [136]. 1.3.1 Жизнь и деятельность В.Я.Цингера Дед Василия Яковлевича Цингера, Христиан Иванович Цингер, был чистейший немец, лютеранин, поселившийся в Москве и занимавший много лет место эконома в Голицинской больнице за Москвой-рекой. Рассказывают, что при занятии Москвы французами в двенадцатом году Христиан Иванович, оставленный один для наблюдения за покинутой всеми больницей, сумел припрятать и сохранить больничные деньги и предотвратить опасность ее разорения и разграбления. Оставаясь сам лютеранином, он крестил своих детей в православную веру. Службой он приобрел звание потомственного дворянина. В результате отец В.Я.Цингера, Яков Христианович, уже с рождения был не только православным, но и принадлежал к русскому дворянству. Он был скромный учитель математики и умер рано, еще при жизни своего отца, оставив жену Анну Васильевну, дочь московского купца, с тремя детьми. Василию Яковлевичу в это время было 11 лет [8]. Первоначальное воспитание Василий получил в семействе деда, куда был отдан еще при жизни отца. Он был живым и резвым ребенком, проказником и шалуном, за что нещадно наказывался. Когда он был отдан пансионером в Первую московскую гимназию на казенное содержание, то скоро приобрел себе плохую славу между наставниками как плохо учившийся и шаловливый ребенок, способный на различные проделки. О своем пребывании в гимназии Василий Яковлевич вспоминал без малейшей горечи, но с полным неодобрением тогдашней воспитательной системы. Он признавался, что в младшем возрасте учился плохо и ничем не интересовался; преподавание в гимназии велось формально и скучно [8]. Однако затем в нем произошла крупная перемена. Он стал учиться лучше и поражал своих учителей быстротой соображения, находчивостью и самостоятельностью мышления. У него была прекрасная память, он быстро схватывал все услышанное и прочитанное. По свидетельству самого Василия Яковлевича с переходом его в старший класс преподавание в гимназии улучшилось и стало более интересным. После гимназии Василий Яковлевич поступил на физикоматематический факультет Московского университета на казенный счет. Строгий режим и формальные стеснения, установленные для учившихся за казенный счет, оказались для него нестерпимыми; он предпочел выйти из интерната и, поселившись со своей матерью, стал уроками добывать средства к существованию [8]. Круг обязательных предметов в университете был довольно обширный, но объем изложения был довольно ограничен. Всю математику читал один профессор Н.Е.Зернов. Его курс был значительно короче, чем его прекрасный учебник. Он как будто боялся сообщить студентам лишнее и, прочитав самое необходимое, обыкновенно говорил: Здесь кончается наука университетская и начинается академическая. Механику читал Н.Д.Брашман, уже старый профессор, преданный служитель науки, любивший ее и до конца жизни следивший за ее успехами, но, к сожалению, ему не было дано от природы ни дара ясного изложения, ни широты научного кругозора. Лекции его почти не оставляли следа в умах его учеников. Различные приложения математики читал ученик Брашмана, во всех отношениях превзошедший своего учителя, А.Ю.Давидов, образцовый лектор и талантливый ученый. Какой бы предмет он не излагал с кафедры, он умел поддерживать слушателей в том неослабном напряжении мысли, при котором научная истина становится ясной и глубоко запечатлевается в уме [8]. Весной 1857 года В.Я.Цингер окончил университетский курс со званием кандидата и через год был оставлен в университете для усовершенствования в науках на три года. Он принялся за занятия математикой с особенным увлечением и усердием. Но он по-прежнему оставался оживленным и общительным, не отказывался от разного рода развлечений и охотно посещал своих родных и знакомых. В кругу собеседников он привлекал всеобщее внимание содержательностью и мастерством речи. Немалое значение в глазах общества имела также его чрезвычайно красивая внешность. Мужественный и цветущий, высокий блондин с высоко поднятым красивым челом, с длинными вьющимися волосами, выразительными светлыми глазами, с непринужденными манерами, со звучным, низким, густым голосом, он обычно овладевал всеобщим вниманием везде, где появлялся [8]. Весной 1862 года В.Я.Цингер защитил диссертацию на степень магистра по теме «Метод наименьших квадратов». В ноябре 1863 года он был утвержден доцентом по кафедре чистой математики. Начавшаяся преподавательская деятельность, безусловно, составляет высшую заслугу Василия Яковлевича перед университетом и всем русским обществом. За три с половиной десятилетия он прочитал множество курсов: по дифференциальному исчислению, высшей алгебре, аналитической геометрии, теоретической механике и т.п. Но излюбленным его предметом, где проявлялась вся оригинальность его дарований, была проективная геометрия [8]. Осенью 1864 года за преклонностью лет Н.Д.Брашман решился оставить службу в университете, но он не был оставлен своими учениками. В течение двух лет молодые математики собирались у него на квартире ежемесячно для сообщения своих трудов и для научной беседы. Протоколы вел В.Я.Цингер, взявший на себя обязанности секретаря. Большая часть сделанных на этих собраниях сообщений была впоследствии напечатана в Математическом сборнике, мысль об издании которого возникла еще при жизни Брашмана [8]. В 1865 году В.Я.Цингер женился на Магдалине Ивановне Раевской. Брак его был счастливым, в семейной обстановке он нашел как бы свой законченный мир, из которого его никуда не влекло. Зимой университет, лекции, научные занятия, летом деревня, круг родственников, сельское хозяйство, сад. В январе 1867 года математический кружок был официально признан Московским математическим обществом, и В.Я.Цингер был избран его вице-президентом. Осенью 1867 года он защитил докторскую диссертацию «О движении свободной жидкой массы», касающуюся некоторых способов интегрирования уравнений динамики, в феврале 1868 года был избран на должность экстраординарного профессора, а в 1871 году – на должность ординарного профессора. С 1870 по 1876 год он был секретарем физико-математического факультета, после чего был избран деканом, а через полтора года – проректором. Но через два года он понял, что эта должность не соответствует его призванию и отказался от нее [8]. После защиты диссертации он в свободное время занялся философией (что привело к написанию к 1874 году работы «Точные науки и позитивизм») [131] и… ботаникой. Проводя каждое лето в деревне, он увлекся изучением растительного мира, а именно, практической систематикой растений. За восемь лет работы он написал капитальный труд размером более 500 страниц убористого текста под названием «Сборник сведений о флоре Средней России». По мнению специалистов-ботаников, сборник Цингера явился самым крупным и основательным трудом такого рода, наиболее выдающимся исследованием природы России [8]. В 1888 году неожиданно от острой болезни скончалась жена Цингера, когда большинство его детей было в юношеском возрасте. На этом счастливая домашняя жизнь его закончилась. Избалованный домашним благополучием, он не мог долго оставаться один и вскоре женился на дочери своего бывшего друга профессора А.В.Летникова, Екатерине Алексеевне. Несмотря на взаимную любовь и преданность обоих супругов, различие их возрастов не могло не сказаться в некоторой неполноте взаимного понимания. Благоволившая к нему судьба вдруг стала посылать ему один за другим тяжелые удары. Неизлечимая тяжелая болезнь младшей дочери, неожиданная трагическая смерть старшей, частые заболевания жены, страдавшей пороком сердца [8]. В 1892 году В.Я.Цингер уходит из университета и становится директором большого учебного заведения – Александровского коммерческого училища. Но эта деятельность приносила ему все меньше удовлетворения и оказалась связанной с непредвиденными неприятностями. В конце 1898 года В.Я.Цингер решительно отказывается от службы. Следуя влечению к уединению и сельской жизни, он отказывается и от чтения университетских лекций. Его желание отдохнуть в сельском уединении не осуществляется в полной мере: прогрессировавшая болезнь жены заставляла ее оставаться в целях лечения подолгу в городе. В 1903 году Екатерина Алексеевна скончалась, оставив троих малолетних детей. Но это был еще не последний удар. Вскоре ему пришлось похоронить любимого сына, умершего во цвете лет от обострившегося диабета [8]. Уже в преклонном возрасте Василий Яковлевич решился еще раз коренным образом изменить свою жизнь. Он вступил в третий брак, отказался от пребывания в деревне и поселился в Москве, в скромной обстановке, занимаясь лишь воспитанием малолетних детей и чтением книг. В феврале 1907 года на 72-м году жизни он скончался от крупозного воспаления легких [8]. В.Я.Цингер, бывший секретарем, вице-президентом и президентом Математического общества, охарактеризовал высоко-идеальные традиции Московского математического общества, благодаря которым последнее достигло замечательного развития, поборов многие ложные тенденции в современном просвещении нашей родины [5]. Разобрав в своей живо и художественно написанной статье [130] всевозможные недоразумения во взглядах различных ученых на основания геометрии и показав, что эмпиризм никоим образом не может утвердить достоверность, определенность и точность этих оснований, а скорее может разрушить их, В.Я.Цингер весьма убедительно объясняет, что эти основания имеют чисто идеальный, априорный характер, суть неотъемлемые качества нашей способности созерцания или пространственного представления. Эта способность созерцания внешних предметов несомненно шире и разнообразнее, чем простое наблюдение действительности. Эта способность совершенно не подчинена никаким физическим законам, нимало не стеснена ни размерами, ни расстояниями, ни временем. Она, безусловно, подчинена законам математическим, которые составляют ее существенное качество [5]. В заключение своей статьи В.Я.Цингер высказывает следующие важные слова: «Если возможны недоразумения и заблуждения даже в такой простой области познаний, как науки математические, то в необозримой, чрезвычайно разнообразной и сложной области естествознания, без сомнения, еще более опасности попасть на ложный путь неправильных выводов и незаконных обобщений. В эту область, где опыт доставляет и материал для научного исследования, и средство для контроля гипотез и теоретических выводов, где глубина замысла, остроумие и искусство в производстве опыта составляют высокое умственное наслаждение естествоиспытателя и нередко его славу, в эту область чаще всего проникают тлетворные воззрения эмпиризма, который, унижая достоинство человека отрицанием его духовной природы, стремится сделать его рабом материи. Для всякого беспристрастного мыслящего человека эмпиризм опровергается строго логическими доказательствами, но еще более возмущается против него нравственное чувство, так как отрицанием духовного бытия уничтожается единственная прочная опора нравственности и подавляются все высшие идеальные стремления человека [130]. Наука и истинное знание не должны быть рабами опыта, они должны над ним господствовать и заставить его служить своим задачам. Верно то, что наука должна руководиться не материальными, а идеальными стремлениями, но еще вернее то, что она основывается не на материальных, а на идеальных началах. Высшие качества науки – это ясность, простота, искренность и добросовестность мысли; светоч науки – это идеал истины. Но наука есть только одна из сторон духовного бытия и жизни человека; тот же идеал истины является с других сторон, то как идеал красоты и гармонии, то как идеал добра и чести, правды и человеколюбия; это один и тот же идеал, – тот, перед которым мы все без различия возрастов и положений, без различия взглядов и убеждений, без различия заслуг и талантов, благоговейно преклоняемся, как перед идеалом божественной мудрости и любви!» [130]. В.Я.Цингер намного опередил свое время, некоторые высказанные им идеи начинают завоевывать поклонников только сейчас. Например: «Опытные данные сами по себе, вследствие неизбежного недостатка точности, настолько податливы, что всегда могут быть приноровлены и к неевклидовой и ко всякой другой геометрии, а из этого еще с большей ясностью обнаруживается, что достоверность аксиом не может ни подтверждаться, ни опровергаться посредством опытной проверки» [130]. Вместе с тем, как и Н.В.Бугаеву, ему присуща убежденность в том, что представления о евклидовом пространстве заложены у человека в мозгу от Бога. В.Я.Цингер даже упорно критикует уже существовавшее тогда мнение о том, что математические представления постепенно развивались вместе с развитием культуры. Цингер уверен, что представление о евклидовом пространстве есть чистое никаким внешним чувствам не доступное и от них совершенно не зависящее представление, с совершенной полнотой и ясностью открытое для нашего ума. Против взгляда о том, что геометрические представления вырабатывались долговременным путем накопления опыта в предшествующих поколениях, Цингер приводит следующий аргумент. Каким образом наши предки могли извлекать из опыта то, что никоим образом из опыта извлечено быть не может? Каким образом предки, жившие, как и мы, под таким же круглым сводом неба, замечавшие, как и мы, что все, что кажется прямым на близком расстоянии, при удалении неизбежно искривляется по линии горизонта; наблюдавшие, что с удалением предметы становятся меньше и меньше, каким образом они не выработали себе геометрических воззрений, наиболее согласующихся с этими ближайшими и постоянными опытными данными, а пришли к евклидовским воззрениям, на первый взгляд нисколько этими данными не указываемым? [130] Здесь В.Я.Цингер остается неисправимым идеалистом, он просто не желает понять, что математические понятия могут вырабатываться путем абстрагирования, приближения, отбрасывания единичного, чтобы ухватить суть общего. К осознанной идее искривленного пространства сложно придти минуя идею пространства Евклида. Человечество шло к идее евклидова пространства долгим и сложным путем. В представлениях первобытных народов пространство не было евклидовым, бесконечным, а представлялось ограниченным, замкнутым [109]. Евклид пришел к идеям таких математических абстракций, как точка, прямая, плоскость, бесконечное пространство путем наблюдения и обобщения свойств непосредственно окружавших его предметов. Еще дольше был путь к осознанной идее искривленного пространства. Художники открыли законы перспективы не сразу, до этого изображения были лишены перспективы. И только через несколько веков Лобачевский и Эйнштейн смогли придти к осознанным представлениям об искривленном пространстве. В.Я.Цингер был учеником и соратником Н.В.Бугаева, с которым он обсуждал многие свои идеи. В определенных аспектах он даже четче представлял суть вопроса о роли математических абстракций в постижении действительности. Вместе с Н.В.Бугаевым он был убежденным противником голого эмпиризма и позитивистского детерминизма в науке. В то же время, роль В.Я.Цингера в формировании философского мировоззрения Н.В.Бугаева остается до конца невыясненной. Возможно, более тесное взаимодействие Н.В.Бугаева с этим своим соратником помогло бы ему преодолеть определенный недостаток своих воззрений, касающийся некоторого преувеличения роли математики в познании действительности и неясности относительно природы и роли математических абстракций. Вывод: 18. В.Я.Цингер определенно способствовал синтезу философских идей Н.В.Бугаева в последующих естественно-научных воззрениях российских ученых; вместе с тем, не удалось выяснить его роли в формировании философских воззрений Н.В.Бугаева. 1.3.2 Развитие В.Г.Алексеевым идей Н.В.Бугаева Виссарион Григорьевич Алексеев (1866-1944?) – математик, представитель Московской философско-математической школы. В 1888 году окончил курс в Императорском Московском университете. В 1893 году защитил магистерскую диссертацию, а в 1899 году – докторскую. С 1895 года экстраординарный, а с 1901 года – ординарный профессор Юрьевского университета [108]. В Юрьевском университете В.Г.Алексеев работал до 1917 года [136]. В.Г.Алексеев указывает на последовательные стадии развития понятия о высшей аритмологической закономерности в науках естественных и социальных. Первые следы, более или менее ясно выраженные, этого понятия имеются в исследованиях бывших дерптских профессоров: философа Г.Тейхмюллера и мораль-статистика, богослова Александра фон Эттингена. У Н.В.Бугаева это понятие приобретает вполне определенные формы. Кроме того, В.Г.Алексеев подчеркивает, что в исследованиях об аритмологических областях геометрии и алгебры, а в особенности в его собственных исследованиях по формальной химии находится много фактических подтверждений отвлеченных философских воззрений Николая Васильевича. Наконец, по мнению Алексеева, в исследованиях ученика Николая Васильевича – П.А.Некрасова находят себе полное оправдание воззрения Николая Васильевича на закономерность социальных явлений [5]. В своих работах по химии Алексеев указывает, что вся чистая математика делится на два громадных отдела: математический анализ, который изучает непрерывную закономерность, и аритмологию, которая трактует весьма различные виды прерывной закономерности. Первый отдел математики находился уже во времена Алексеева на высокой степени совершенства – вследствие своей сравнительной простоты, а второй отдел ее лишь зарождался и представлял громадные затруднения исследователям в раскрытии свойств прерывных (скачкообразных) закономерностей; наиболее развита была та часть аритмологии, которая называется теорией чисел и в которой рассматриваются функции от переменных, меняющихся скачками по целым числам [5]. Для того, чтобы уяснить различие анализа и аритмологии, Алексеев приводит следующий пример. Положим, что мы изучаем какое-нибудь физическое свойство твердого тела, например теплопроводность. Конечно, мы должны начать это изучение с наиболее простого случая, когда тело имеет однородное строение во всей массе и теплота непрерывно сообщается телу; в этом случае теплота в теле будет распространяться непрерывно и равномерно во все стороны; здесь будет приложим анализ. После такого простого случая идут крайне разнообразные случаи тел с неоднородными строениями, где теплота распространяется то непрерывно, то скачками, и где при исследовании необходимо уже иметь дело с аритмологическими соображениями [5]. Алексеев подчеркивает, что универсальность и безусловная необходимость или роковая неизбежность суть характерные черты аналитической, непрерывной закономерности. Наоборот, индивидуальность и свобода суть спутники закономерностей аритмологических. Явления физические и астрономические дают полный простор приложениям математического анализа, что доказывают блестящие открытия последних столетий в физике и астрономии, полученные исключительно применением аналитической механики к изучению этих явлений. Следовательно, эти явления обладают характером универсальности и роковой неизбежности, иначе они не поместились бы в рамки аналитической, непрерывной закономерности, не вошли бы в схемы исследований математического анализа с его главными методами: бесконечно-малых величин и пределов [5]. Все остальные явления, изучаемые в науках, – продолжает Алексеев, – требуют уже преимущественного применения аритмологии, так как обладают прерывной закономерностью. Это суть явления химические, биологические, психические и, наконец, социальные. Конечно, совершенно не основательно навязывать этой категории явлений понятий универсальности и роковой неизбежности, необходимых лишь для применения математического анализа и весьма часто совершенно неуместных в применениях аритмологии. К сожалению, история развития химии, наук биологических и социальных дает весьма много фактов, когда ученые с тщанием, наперекор действительности старались привить этим наукам несвойственные им аналитические воззрения и аналитическую закономерность изучаемых в них явлений [5]. В.Г.Алексеев доказывает, что химические исследования, несмотря на все старания знаменитого французского химика Бертолле (еще в начале 18-го столетия) их механизировать и вдвинуть в схемы математического анализа, выбились на путь аритмологический и обнаружили таким образом прерывную закономерность химических явлений [6]. Он показывает, кроме того, что выработанная химиками, с большими трудом и ценой многих споров, атомистическая структурная теория, давшая почти все блестящие открытия современной химии, совершенно совпадает своими формальными методами с особым, весьма специальным отделом высшей математики – символической теорией инвариантов, которая несомненно носит аритмологический характер [5]. Алексеев восклицает: Не показывает ли этот факт совпадения формальной, спекулятивной теории, выработанной химиками вполне самостоятельно, с одним из весьма специальных отделов математики, совершенно неизвестного даже многим математикам – громадного, мирового значения математических воззрений? Хотя исследования чистой математики слагаются по доброй воле и даже прихоти ученого и помимо всех практических целей, но из указанного факта совпадения двух теорий ясно видно, что эти исследования имеют какую-то таинственную целесообразность, и что рано или поздно к математическим воззрениям и схемам приведут торные пути других наук. Все это раскрывает нам грациозный порядок и совершенную гармонию нашего внутреннего мира, нашего автономного микрокосма, озаряемого лучами из царства совершеннейшего Интеллекта [5]. Если химические атомы потребовали аритмологических средств исследования, оставляющих свободу и простор проявлениям их индивидуальных качеств, – подчеркивает Алексеев, – то бесспорно элементы биологические, а тем более социальные, обладающие более сложными индивидуальными качествами, с несомненными началами свободы, должны подлежать изучению по схемам аритмологии. Знаменитая теория Дарвина о непрерывном происхождении видов, приведшая наиболее крайних последователей ее даже к атеизму, служит прекрасным примером навязывания миру живых существ, вообще говоря несвойственной ему или, по крайней мере, не исчерпывающей в нем всех явлений – непрерывной закономерности [5]. И действительно, – пишет Алексеев, – в настоящее время в биологии вырабатываются уже аритмологические теории с идеями прерывной закономерности; это – мутационная теория деФриза и теория гетерогенезиса академика Коржинского. Все это было с замечательной категоричностью предусмотрено Г.Тейхмюллером еще четверть века тому назад посредством отвлеченных умозаключений, отчасти математического характера, в его знаменитой критике дарвинизма [5]. Что касается социологии, то здесь много фальши и много крайне превратных воззрений на сущность человеческого бытия внес кетлеизм, возникший из неправильных постулатов «социальной физики» знаменитого бельгийского астронома и социолога Кетле. Само название «социальная физика» вполне характеризует те заблуждения, которые породил кетлеизм. Навязывание социальным явлениям, при изучении этих явлений, шаблонов явлений физических, с их непрерывной закономерностью, с их универсальностью и фатальной неизбежностью, породило столько печальных заблуждений, уже длительное время тяготеющих над интеллигентными классами. Эти заблуждения явились главным образом вследствие отрицания свободы воли и свободы действий человека и подчинения его роковой физической необходимости. Отсюда произошли: с одной стороны – современный пессимизм, с другой – грубая, безобразная идея Ницше о сверхчеловеке; и то, и другое суть результаты крайнего отчаяния человека, лишенного индивидуальности, свободы и закованного, в его воззрениях, в цепи роковой судьбы [5]. Александр фон Эттинген, – продолжает Алексеев, – дал сильные возражения ложным предпосылкам кетлеизма в своем знаменитом сочинении [138]. Н.В.Бугаев показал своими философско-математическими исследованиями, что понятие о свободе не исключается математическим детерминизмом, если в основание последнего, наряду с функциями аналитическими, помещать и функции аритмологические. П.А.Некрасов [96] окончательно разрушил эти заблуждения, доказав строго математически, что свобода воли человека не только совместима с грандиозной закономерностью социальных явлений, но есть даже неотъемлемое условие этой закономерности. Такое замечательное предложение П.А.Некрасов получил как прямое следствие главного условия в одной теореме П.Л.Чебышева о средне-арифметическом нескольких величин: случайные массовые явления должны быть независимы между собой; только в таком случае применение средне-арифметического дает верные результаты, иначе же это не может утверждаться. Так как результаты применения средне-арифметического к социальным явлениям действительно дали многие верные, из года в год повторяющиеся числа, то надо признать, что в деятельности человека имеется фактор с разумными целеположениями, изолирующий разумно деятельности отдельных лиц [5]. Для пояснения этого, – пишет Алексеев, – воспользуемся следующим наглядным примером: Если в каком-нибудь большом городе число пожаров отдельных домов повторяется из года в год с незначительными колебаниями, то на основании главного условия в теореме П.Л.Чебышева мы можем утверждать, что город обладает разумно организованной изоляцией (посредством брандмауэров, значительных расстояний, хороших средств тушения огня и т. д.), то есть в городе пожар одного дома есть случайное явление, не зависящее от пожаров соседних домов [5]. Таким образом мы видим, что один из главных методов теории вероятности, аритмологический метод средних величин только в том случае применим, когда случайные явления социальной жизни людей материально разграничены, индивидуализированы, а связь их остается лишь где-то вне нашего чувственного мира, связь чисто метафизическая, но вполне закономерная, ибо она поддается точному изучению при помощи теории вероятностей. Эта метафизическая связь случайных явлений и есть та «тайна, повелевающая неизбежным». Эта связь есть связь разумная, потому что ее закономерность познается, как мы видим, при помощи теории вероятностей, а «теория вероятностей», – сказал Лаплас, – «в сущности есть не что иное, как здравый смысл, переложенный на счеты: она доставляет средства определять с точностью то, что верный ум постигает по инстинкту, часто не давая себе сознательного отчета». Следовательно, случайные явления в социальной жизни людей, кажущиеся на первый взгляд не подчиненными никакому закону, при ближайшем рассмотрении обладают закономерностью, но закономерностью совсем особого характера, не основанной на законе причинности, а покоящейся на законах целей, поставляемых ограниченному уму человека абсолютным Интеллектом [5]. Вообще свободно волевые действия человека, – утверждает Алексеев, – с одной стороны, зависят от условий окружающей человека физической среды на точном основании закона причинности, с другой – от разумно поставляемых целей, восходящих от его частных целей до целей общественных и, наконец, до целей универсальных – нравственного, божественного миропорядка. Физические условия такого сложного механизма, как человек с его физиологическими и психическими процессами, заставляют этот организм совершать в некоторые промежутки времени вполне определенные движения, но в некоторые моменты, повторяющееся даже весьма часто, направление движения может быть неопределенно – или в одну сторону, или в другую, или в третью и т. д. без нарушения законов ограничивающих его физических условий; в таких критических точках направление избирается взвешиванием целей, то есть работой чисто духовной и без затраты материальной энергии [5]. В аритмологии, – продолжает Алексеев, – имеются особые функции, обратные прерывным или функции произвольных величин. Каждому значению независимого переменного такой функции соответствует бесчисленное множество значений самой функции, подобно тому, как в соотношении между ощущением и впечатлением: каждое ощущение может быть результатом весьма разнообразных впечатлений, или одного изменяющегося в известных пределах впечатления, но каждое впечатление дает в данном лице определенное ощущение: здесь ощущение есть прерывная функция впечатления, а впечатление есть произвольная величина в известных пределах для данного ощущения. Вот такой класс аритмологических функций и наводит нас на мысль о возможности некоторой доли закономерной свободы наших поступков и наших чувств, управляемой координацией нравственных целей [5]. Здесь В.Г.Алексеев почти вышел на правильное понимание естественнонаучного обоснования свободы воли, но затем тут же возвратился на позиции Н.В.Бугаева, фактически подменяющие свободу воли, разумное целеполагание эмоциональной неустойчивостью, капризом. Однако, как Н.В.Бугаев и В.Я.Цингер, В.Г.Алексеев остается сторонником идеалистического взгляда на сущность математических понятий; он уверен, что эти понятия даны нам от Бога, что они полно и безошибочно отражают окружающий нас мир. В своей другой работе [4] В.Г.Алексеев подробно рассматривает развитие представлений о материи и ее химических превращениях от древнейших времен; при этом он поднимается до весьма важных обобщений. Уже в глубокой древности различными философами были придуманы разнообразные гипотезы и теории для объяснения всевозможных изменений, претерпеваемых веществом или материей в природе. Совершенно фантастичны представления о природе в мифологии древних индусов и китайцев, а также в мифологической космогонии древнейшей эпохи греческой жизни. Только в Ионической школе, и то с большой натяжкой, можно усмотреть впервые стремление философов строить гипотезы о превращении материи, более или менее соответствующие действительности. Затем ближе к действительности подошли пифагорейцы и атомисты. В качестве первоначальной основы для объяснения явлений природы пифагорейцы брали материю не в чувственной конкретности, а в формальных численных отношениях. Но здравые в своих основаниях, их суждения слишком мало проверялись наблюдением и опытом, вследствие чего они перешли в совершенно умозрительное философствование с числовым мистическим характером [4]. Атомисты для объяснения явлений природы использовали гипотезу атомистического строения вещества. Но при этом они стали все более и более вдаваться в область фантазии и пришли к отрицанию разумных начал мироздания и полному атеизму. В средние века ученые, наоборот, впали в другую крайность: они пренебрегали всякими гипотезами и даже систематизацией результатов наблюдений и опытов, а вся их научная работа сводилась к смешению различных веществ, кипячению и накаливанию этих смесей в попытке получить философский камень. Но даже такая механическая работа алхимиков принесла больше пользы для развития химии, чем отвлеченное фантазирование пифагорейцев и атомистов: многочисленные опыты алхимиков дали богатый материал для последующих ученых [4]. В эпоху возрождения в характере химических исследований произошел перелом. Сначала химики обратили внимание на процессы восстановления и окисления в химических реакциях, выдвинув гипотезу флогистона, невесомого вещества, ответственного за окисление. Но во второй половине XVIII века Лавуазье, а затем Дальтон показали точным взвешиванием, что гипотеза флогистона неверна, что в природе существует около семидесяти простых элементов, которые, соединяясь между собой, образуют все тела природы. И наконец, атомистическая теория Бутлерова с введением числовой характеристики атомов – значностью и периодическая система элементов Д.И.Менделеева с введением числовой характеристики атомов – атомным весом фактически привели химию к ее современному состоянию [4]. Из этого краткого очерка развития химии В.Г.Алексеев заключает, что основные постулаты и числовые характеристики умозрительной схемы должны строго согласовываться с действительностью, иначе лучше отказаться от умозрений и заняться накоплением опытного материала. В биологических, общественных и социальных науках люди часто увлекаются умозрениями, не имеющими никакой реальной почвы; это поучительно выражено в словах Эпиктета, которые А.фон Эттинген поставил эпиграфом к своей «Moralstatistik»: Не факты вводят в заблуждение умы людей, а учения и догматы, с ними связанные» [4]. Это очень важная мысль, не теряющая актуальности и сейчас, особенно в применении к культурологии. Может быть, стоит хотя бы на время отказаться от построения теорий и попытаться накопить количественные данные, а уже потом на их основе попытаться строить теории. Все же хочется несколько реабилитировать Пифагора и его школу. Пифагорейцы занимались не только умозрениями, но и наблюдениями, а возможно, и опытами. Они описали численно соотношения частот в гармонических аккордах, числовые закономерности года, сезона, дней и месяцев, исследовали инкубационные периоды созревания зародышей, циклы биологического развития [10]. Вряд ли все это можно сделать одними умозрениями. Другое дело, что свойство человеческого разума состоит в том, что он всегда стремиться построить здание познания до конца. Там, где не хватает твердых кирпичей надежного опыта и знания, он без зазрения использует весьма ненадежные мысленные конструкции. Этим же занимался и сам В.Г.Алексеев. Там, где не хватало твердых знаний, у него сразу же появлялся спасительный Творец. В.Г.Алексеев анализирует рассуждения Г.Тейхмюллера, подвергшего дарвинизм уничтожающей критике [116]. Г.Тейхмюллер пользуется весьма интересным приемом. Он расширяет объект исследования Дарвина. Чтобы рассматривать объект с философской рассудительностью, мы должны все формы природы рассматривать вместе. Растения и животные состоят из химических соединений, организованных в различные ткани. Обобщая таким образом, мы по необходимости не должны полагать никакой разницы между более простыми и более сложными соединениями, а следовательно должны и все формы неорганической химии причислить сюда. Но и этого недостаточно для философского рассмотрения, ибо каждое химическое соединение есть только форма проявления некоторого закона природы, и было бы весьма близоруко, если бы мы не причислили сюда физическую область и физические формы, например, агрегатные состояния твердых, жидких и газообразных тел и формы проявления всех законов как типы жизни природы. Но и этим взор не должен ограничиваться, мы должны причислить сюда и все формы духовной жизни: аффекты и страсти, добродетели, искусства и науки. Дарвинисты опираются на закон непрерывности, но они забывают, что существует также закон прерывности. Непрерывные и незаметные переходы, требуемые дарвинистами, возможны только там, где мы не имеем дело с системами. Даже в чисто физической области можно указать качественно прерывные переходы, например, в кристаллизации. Такие же скачки происходят и при образовании живых существ. Логика требует, чтобы и виды отделялись один от другого большими или меньшими промежутками [4]. Тут уж мы видим со всей ясностью, что идея скачкообразного качественного перехода при образовании сложных систем высказывалась уже Г.Тейхмюллером, и В.Г.Алесеев это замечает и подчеркивает. Количественные переменные для характеристики сложных систем могут быть весьма нетрадиционными; в качестве примера В.Г.Алексеев приводит исследование профессора Любовича, который изучает ход умственного движения по числу книг и брошюр в различных книгохранилищах в разные времена, а также по числу студентов в различных университетах, исследует имущественное развитие городского населения по числу плательщиков податей различных категорий в различных городах [4]. В.Г.Алексеев выглядит наиболее последовательным и вдумчивым учеником Н.В.Бугаева. Ему удалось найти гораздо более убедительные примеры разрывности в физических и химических явлениях, чем самому Н.В.Бугаеву. Он поправляет своего учителя и в вопросе свободы воли и человеческого поведения, приводя гораздо более убедительное обоснование этой свободы в рамках идей своего учителя. Четкий, последовательный ум В.Г.Алексеева позволил ему снять ряд противоречий в обоснованиях Н.В.Бугаевым своих философских концепций без какого-либо извращения сути идей своего учителя. Отдавая должное глубине проникновения В.Г.Алексеева в вопросы разрывности в явлениях окружающего мира, нельзя не отметить, что, по-видимому, В.Г.Алексеев не смог так же глубоко проникнуть в суть второй части философских воззрений своего учителя – эволюционной монадологии. Понятие сложной системы он берет у Г.Тейхмюллера для доказательства разрывного характера окружающей природы, не связывая его с бугаевскими монадами. Вывод: 19. В.Г.Алексеева по праву можно назвать наиболее последовательным из учеников Н.В.Бугаева; он находит более четкую аргументацию, приводит более удачные примеры, снимает ряд противоречий и, тем самым, вносит определенный и весьма существенный вклад в распространение философских идей своего учителя. 1.3.3 Л.К.Лахтин – ученик и верный помощник Н.В.Бугаева Леонид Кузьмич Лахтин (1853-1927) состоял профессором в Дерптском (Юрьевском) университете в период с 1892 по 1896 гг., а затем до конца жизни работал профессором Московского университета [136]. Первая статья Л.К.Лахтина, по существу, – это целая книга в 430 страниц, «Алгебраические уравнения, разрешимые в гипергеометрических функциях», завершающаяся исследованием уравнений 3, 4, 5-й степеней и одного вида 6-й степени, вышла в 1892 – 1893 гг., за нею последовала столь же обширная монография «Дифференциальные резольвенты алгебраических уравнений высших родов» и еще несколько лет спустя две статьи о резольвентах общего уравнения 6-й степени. В работах Лахтина нашли применение и теория функций, и дифференциальные уравнения и теоретико-групповые методы, распространение которых явилось, важнейшим событием в развитии алгебры рассматриваемого периода. В последние годы жизни Л.К.Лахтин занимался также математической статистикой [136]. Личность Лахтина и его отношение к Н.В.Бугаеву талантливо и своеобразно описана Андреем Белым [14]: «Вот еще математик: профессор Леонид Кузьмич Лахтин; скромный, тихий, застенчивый, точно извечно напуганный, точно извечно оскопленный, с маленькою головкою на высоком туловище, с редкой растительностью; он и в молодости имел вид... скопца; и уж, конечно, видом своим не хватал звезд; но отец отзывался о нем: – Талантливый математик! И Леонид Кузьмич любил нежно его: после смерти повесил его портрет в увеличенном виде у себя в кабинете, указывая на него матери; и говорил ей: – Нет дня, чтобы я мысленно не обращался к моему учителю и вдохновителю! Отец любил Лахтина не только за тихую скромность, но и за ум; и, кажется, ему помог в первых научных его шагах; появился он у нас растерянным молодым человеком, садился в стул, ронял нос в стакан чая, перетирал влажными руками; и невероятно косил выпученными глазами; позднее он был и реальным помощником отца, как секретарь факультета при декане; и часто являлся с портфелем: под предлогом дел посидеть за чаем от восьми до полдесятого, когда отец уходил в клуб. Отец распространялся при нем на самые разнообразные темы: от темы факультетской до комментария к Евангелию; Лахтин не распространялся, а слушал: роняя нос в стакан, перетирал влажными руками; и пучил глазки. Этот небойкий светлый блондин с худым лицом и малой растительностью, вспыхивающий от стыда и перепуга и тогда становящийся пунцовым, одно время почему-то вызывал в матери, болевшей чувствительным нервом, иррациональные взрывы негодования; и отцу указывалось: – Тихоня этот ваш Леонид Кузьмич: сидит, молчит, косит, высматривает! А мне выдвигалось: – Вырастешь вот этаким вот вторым математиком: смотри тогда у меня!.. И я трепетал; и начинал со страхом поглядывать на перепуганного Лахтина и подозревать его самое появление у нас в доме. Бедный Леонид Кузьмич! Впоследствии мать устыдилась своей истерики; после смерти отца бывала у Лахтиных, возвращалась от них взбодренной и постоянно ставила в пример Лахтина: – Прекрасный человек... А как любит Николая Васильевича! А было дело: однажды явился Лахтин; мать, особенно нервничавшая, перед носом его и отца захлопнула дверь в гостиную; отец растерялся и, усадив растерянного Лахтина, клюющего носом в клеенку стола, стал его разгуливать; но из-за замкнутой двери раздалось отчетливо: – Опять сидит тут этот заяц косой! Лахтин стал малиновый; и через две минуты исчез; не был три месяца; и – опять появился для отца, ради любви к нему; в этом сказалось его достоинство, его моральная сила. Леонид Кузьмич же казался мне серым, убогим, неинтересным; казался – педантом; а он был гораздо талантливей Млодзиевского в математических выявлениях, по уверенью отца; и позднее я видел в нем некую силу прямоты и чистоты («Блаженны чистые сердцем»); пусть она проявлялась в узкой прямолинейности; у него было нежное, тихое сердце; и он многое возлюбил и многое утаил под своей впалой грудью, в месте сердца, которое спрятано под сюртуком, всегда наглухо застегнутым. А когда я потом его видывал профессором в форменном сюртуке, бредущим по университетскому коридору со странно загнутыми кистями рук (точно он терял манжеты), с клюющим грудь носом, он казался человеком в футляре, верней... пигалицей в футляре, а может быть, и законсервированным пеликаном, клюющим собственное сердце. Во всяком случае он был герметически закупорен в ясную металлическую жесть, в жестокую жесть университетского быта; и не противился, неся на себе в годах эту жесть. И никто не мог бы сказать, что под этою жестью пылало сердце; и прядали математические таланты; а как трогательно он волновался во время болезни жены своей, когда был молод? А как нежно любил он отца? Там, где Млодзиевский блистал красноречием и очками, Лахтин начинал поникать, моргать, косить, краснеть и мять руки, точно мучаясь своею бесталанностью (он-то и был талантлив в чистой науке!); а где действовало сердце, там он выказывал свой высокий, хотя и уплощенный, однолинейный рост. Мать моя, некогда заподозрившая его кротость и не видевшая его научных талантов, предпочитала юрк Млодзиевского и блеск его холодных очков, – блеск стекла; но юрк Млодзиевского в культурных гостиных был лишь беспомощным метанием летучей мыши, попавшей из мрака в свет; Лахтин же откровенно садился в уголочек; и в «высшую» культуру не вмешивался; под сюртуком этого «формалиста» сердце билось тепло; – и не укалывались о него, как укалывались о холодные осколки очковых стекол Млодзиевского. … в Лахтиных мозоли большой работы вылезли на лицо; и рассеялись на нем бородавками: кричать издали; и люди указывали: – Какой урод! Урод, потому что много вертел головой в ужасных тисках быта, в результате чего мозоли вылезли и кричат с лица... » [14] Что тут можно сказать? Верный, преданный ученик. Усердный помощник, старавшийся отвлечь на себя хоть часть круговорота текущих дел, захлестывавших учителя, не дававших ему углублять свою философию. Внимательный слушатель. Преданный, полюбивший Н.В.Бугаева один раз и не предававший его никогда. Несомненно, такие ученики были тоже нужны Н.В.Бугаеву, не понятому большинством современников и часто одинокому. И кто знает, что было бы без их поддержки. 1.3.4 Жизнь и философские идеи Л.М. Лопатина Лев Михайлович Лопатин родился в Москве 1 июня 1855 года. По своему происхождению он принадлежал к старинной дворянской семье Орловской губернии. Отец его, Михаил Николаевич Лопатин, был выдающимся юристом, пользовавшимся огромной популярностью в московском обществе; он занимал в последнюю половину своей судебной деятельности должность председателя департамента Московской судебной палаты. Мать его, Екатерина Львовна, урожденная Чебышева, была родной сестрой знаменитого математика П.Л.Чебышева. С самого детства Льва Михайловича окружала в семье атмосфера высокой культурности, гуманности и духовного аристократизма. Лев Михайлович познакомился в семье своих родителей с целым рядом выдающихся русских деятелей, близких друзей его отца: постоянными посетителями Лопатинских «сред» были И.С.Аксаков, А.Ф.Писемский, С.М.Соловьев, Забелин и др. [97]. Среднее образование Л.М.Лопатин получил в образованной в 1868 году московской частной гимназии Л.И.Поливанова, в которой в это время собирались воспитанники из самых лучших культурных семей Москвы. Л.И.Поливанов был выдающийся педагог, страстный любитель Жуковского, Пушкина и Шекспира. Любительские спектакли «шекспиристов», бывших воспитанников гимназии Поливанова, среди которых деятельную и выдающуюся роль играл Л.М.Лопатин, привлекали самое утонченное московское общество [97]. По окончании гимназии Л.М.Лопатин поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Год проработал в реальном училище преподавателем русского языка. Через год после окончания он был оставлен при кафедре философии Московского университета. Связав на всю жизнь свою судьбу с Московским университетом, Л.М.Лопатин не прекращал преподавания и в средней школе, в частности, в женской гимназии С.А.Арсеньевой, где он почти до конца своих дней состоял председателем педагогического совета. В 1892 году Лопатин был назначен профессором философии в Московском университете; в этой должности он и проработал до самой смерти [97]. Л.М.Лопатин всю жизнь оставался холостяком и большим оригиналом в укладе своей жизни и своих привычках. Он продолжал жить в доме своих родителей. Теплые дружеские отношения с целым рядом московских семей и заботливое отношение к нему матери (после смерти отца Льва Михайловича продолжавшей жить вместе с сыном и умершей в глубокой старости), сестры, братьев и прислуги, горячо любившей Льва Михайловича, вносили тепло и уют в его жизнь, заменяя ему недостаток собственной семьи. Только летом Лев Михайлович ненадолго уезжал из Москвы за границу или на Кавказ, в Ессентуки, почему-то особенно ему полюбившиеся, или в гости на дачу к кому-нибудь из своих многочисленных друзей [97]. Лев Михайлович много времени уделял Московскому Малому театру, в редакционном комитете которого он состоял деятельным членом, бывая неизменно на генеральных репетициях новых пьес. Долгое время он состоял председателем Московского психологического общества. Волнения событий после 1917 года сильно подорвали здоровье и нервы Льва Михайловича, и 21 марта 1920 года он скончался от воспаления легких, осложнения после гриппа [97]. Лопатин был, как описывает его князь Е.Н.Трубецкой, «чудак и оригинал, каких свет не производил..., в особенности поражало в нем сочетание тонкого, ясного ума и почти детской беспомощности». Высоко талантливый, очень самостоятельный в своей мысли, Лопатин, увы, не дал всего того, что мог бы дать по размерам своего философского дарования. Он отдавал слишком много сил общественной жизни, был постоянным и любимейшим посетителем разных салонов и кружков, – но зато был и одним из самых популярных университетских деятелей в Москве. После смерти ПЛ.Грота Лопатин оставался все время председателем Московского психологического общества, пока оно не прекратило своей деятельности после революции 1917 г. В 1920 г. в тех ужасных условиях голода и холода, которые царили тогда во всей России, он скончался от голода и истощения...[50] Писал Лопатин очень ясно и увлекательно, писал много, – но при жизни его не вышло полного собрания сочинений (чего он вполне заслуживал), а после смерти уже царила атмосфера, неблагоприятная для свободной и независимой мысли. Две диссертации Лопатина представляют два тома одной книги, носящей название «Положительные задачи философии». В том же году друзья, почитатели и ученики Лопатина издали «Философский сборник» в честь его. К сожалению, остались не переизданными ценнейшие статьи Лопатина по психологии и по этике, – все они печатались в «Вопросах философии и психологии» и могли бы составить вместе два солидных тома. Нужно упомянуть еще большую статью Лопатина о свободе воли, напечатанную в 3-м выпуске Трудов Московского психологического общества (весь этот выпуск посвящен вопросу о свободе воли). Надо иметь в виду, что Лопатина можно назвать – без преувеличения – самым выдающимся русским психологом; его статьи по общим и частным вопросам психологии сохраняют доныне свое высокое значение [50]. Тесная дружба с Владимиром Соловьевым имела, бесспорно, большое влияние на внутреннюю диалектику мысли Лопатина. Лопатин в очень многом не сходился с Соловьевым и в то же время чрезвычайно высоко ценил его. На философскую мысль Лопатина оказали большое влияние Лейбниц и Лотце, – об этом свидетельствуют и ссылки на них (особенно на Лотце), и действительная близость Лопатина к их идеям. По-видимому, Лопатин испытал также большое влияние Шопенгауэра [50]. В основе всех построений Лопатина лежит антропология, понимание человека. Центральная идея метафизики Лопатина – творческая сила духа, и основное его этическое убеждение, вдохновенно им не раз выражаемое, – возможность «нравственного перелома», т.е. нравственного творчества, – оба принципа восходят к учению о человеке у Лопатина. Творческая сила духа раскрывается в нашем непосредственном самовосприятии, а «пластичность действительности», возможность свободного творчества покоится на глубоком убеждении, что «нравственные действия должны иметь мировое значение, простирающееся на всю вселенную». Эта высокая этическая идея даже более первична у Лопатина – достаточно вчитаться в его замечательную статью «Теоретические основы нравственной жизни», чтобы почувствовать это. Все авторы, писавшие о Лопатине, были как бы ослеплены блестящими страницами главной работы Лопатина («Положительные задачи философии») и, очевидно, не интересовались его ранними статьями по этике; поэтому в общих характеристиках философии Лопатина эта сторона обычно совсем не затрагивается – тогда как в ней ключ к пониманию философии Лопатина. Философское творчество у него стоит в стороне от религиозной темы. Его «рациональный теизм» ни в какой степени не открывает простора для религиозной жизни, а в его теории познания работа разума поставлена над верой. Но тем ярче и глубже в Лопатине этическое начало, которое было в нем согрето подлинным энтузиазмом. Именно потому надо начинать изучение философии Лопатина с его этики, что является в то же время первой частью его антропологии [50]. Самой существенной статьей Лопатина по вопросам этики и антропологии является его этюд «Теоретические основы сознательной нравственной жизни». «Нравственная жизнь не вершится в нас, а мы ее совершаем», — пишет здесь Лопатин. Этот акцент на творческой природе моральных движений является задушевным убеждением Лопатина, перенесшего и в область метафизики это свое убеждение: «духовность и творчество, – пишет он тут же, – понятия нераздельные», но эта творческая моральная установка, эта живая преданность идеалу, – что составляет движущую силу нашего духа, – хотя и ведут к признанию, что «коренное начало нравственности дано во внутреннем достоинстве духовной личности», но реальность зла в мире, некое бессилие добра не превращают ли моральное творчество в пустую иллюзию? «Власть стихийных случайностей, бесплодные мучения живых существ, их бессмысленная гибель, – вот что постоянно окружает нас». И в то же время, «жизнь вселенной, насколько мы можем исследовать ее, на всех стадиях представляет действительное, хотя и очень медленное и постепенное торжество внутреннего единства над хаотической разрозненностью, все утончающейся целесообразности над случайным бессмыслием». Мы стоим перед трудной задачей – осмыслить творческую, вдохновляющую силу этических движений при наличии торжествующего на земле зла. Нельзя, ведь, не признать «разительной несообразностью то, что смысл человеческого бытия состоит в выполнении того, чего нельзя выполнить». Очевидно, моральная жизнь получает свой смысл лишь в том случае, если можно признать, что «добро есть свойство и закон природы»; очевидно, мы должны признать, что «для разрешения этической проблемы» нам нужна «реальность нравственного миропорядка». «Свобода человеческой воли и нравственная разумность мировой жизни – таковы два коренных предположения этики», – говорит Лопатин. Но как же нам убедиться в «нравственной разумности мировой жизни»? Опыт говорит против этого, – но это только значит, что опыт и не может быть той инстанцией, в которой может быть раскрыт смысл нравственных движений, разрешено то противоречие, которое существует между действительностью (как она открывается нам в опыте) и нравственным сознанием. «Вопрос об отношении этического идеала, – пишет Лопатин, – к законам действительного мира требует для своего разрешения каких-то других, более общих данных уже умозрительного характера». «Можно ли,– пишет дальше Лопатин,– найти какие-нибудь основания... для мысли, что постепенное торжество добра в природе и человеческой истории не есть явление мнимое и обманчивое, а коренное и телеологическое, что основа мира не относится равнодушно к осуществлению нравственного идеала?» Ответ на этот вопрос и дает вся система Лопатина, вырастающая из его антропологии, из его понимания человека, – ибо через разумность и нравственное начало «человек получает верховное значение в природе», – и ему... «ставится задача сознательной реализации его назначения в мире» [50]. Основная истина о человеке заключается как раз в его активности, в преображающей силе этой активности. Лопатин не раз возвращается к одной мысли, которая ему очень дорога не только как истина о моральной жизни человека, но и как некое откровение о тайне всего бытия. Это мысль о «возможности для нас нравственных переворотов, коренным образом переставляющих движущие силы нашей деятельности». «Возможность нравственных переворотов – вот великий, коренной факт человеческой природы... в самой природе человеческого духа обоснована возможность коренных нравственных переворотов». И Лопатин особенно здесь прославляет Шопенгауэра за то, что «нигде его блестящее изложение не достигает такой захватывающей силы, как на страницах, на которых он изображает таинственный процесс внутреннего просветления всего человеческого существа» [50]. Но что означает этот «великий, коренной факт человеческой природы»? К каким «данным умозрительного характера» ведет он, какие метафизические перспективы открывает он? Чтобы понять внутреннюю диалектику мысли Лопатина, нужно принять во внимание два исходных мотива в его системе – прежде всего, глубочайшее убеждение в субстанциональной природе человеческого духа (что образует основную идею антропологии Лопатина), а с другой стороны, его учение о том, что свободная творческая деятельность «предшествует в бытии всякой необходимости». Как сам Лопатин подчеркивает, это последнее учение, лежащее в основе всей его метафизики, навеяно Шеллингом [50]. Но обратимся сначала к его антропологии, к его учению о субстанциональной природе человеческого духа. Через все рассуждения Лопатина – и в статьях, и в его книгах – проходит один тезис, выражающий его понимание действительности: его учение о понятиях субстанции и явлений. Лопатин везде и всегда подчеркивает «соотносительность явлений и субстанций»: «нет явлений вне субстанций, как нет субстанций вне их свойств, состояний и действий... Иначе сказать, субстанция не трансцендентна, а имманентна своим явлениям». Лопатин часто подчеркивает, что это положение не вызывает спора в отношении к физической природе, – но оно не менее верно и в отношении к психической области: «субстанция души не трансцендентна, а имманентна своим явлениям», – говорит Лопатин, – «субстанциальный элемент душевной жизни не лежит где-то за пределами ее непосредственно сознаваемого содержания, а выражается в ней самой». «Наш внутренний опыт, – говорит Лопатин в статье «Метод самонаблюдения в психологии», — есть единственная точка, в которой бесспорно подлинная действительность раскрыта для нашего прямого усмотрения». Приведем еще одно характерное место: «постоянным и единственным предметом нашего внутреннего опыта оказывается всегда субстанциальное тождество нашего сознания в его разнообразных выражениях». Все эти размышления, многократно повторяемые Лопатиным в разных его статьях, резюмируются им в положении: «мы имеем конкретную интуицию нашего духа» [50]. Перед нами концепция, которая ведет прямо к персонализму, – притом в формах, близких к построениям Фихте младшего. Кн. Е.Трубецкой в той главе своих воспоминаний, которая посвящена Лопатину, пишет о нем: «самоутверждающаяся индивидуальность человеческого духа превращалась у Лопатина в абсолютную душевную субстанцию; индивидуальность, в его понимании, становилась какой-то замкнутой, самодовлеющей монадой». Трубецкой, без сомнения, преувеличивает, когда характеризует позицию Лопатина, как учение о личности, как «замкнутой монаде»; более точны другие слова кн. Трубецкого там же, что «пафос Лопатинской монадологии – это чувство индивидуальности духа, стремление во что бы то ни стало отстоять ее». Уже у Козлова учение Лейбница о замкнутости монад заменено учением о взаимодействии субстанций, а Лопатин, прежде всего, категорически защищает мысль о «чужой одушевленности». В одной из ранних статей Лопатин ставил вопрос – признавать ли «всемирную психическую силу, разлитую везде, которая непрерывно творчески рождает внутреннюю жизнь индивидуальных духовных центров, или надо признать, что сами индивидуальные центры сознания обладают своим независимым творчеством» – и решает спор между пантеизмом и персонализмом в пользу персонализма. А в «Положительных задачах философии» он решительно защищает связь и общение отдельных сознаний. «Я утверждаю... не только связь совместных сознаний, но признаю взаимное отражение состояний в этих различных сознаниях» [50]. Таким образом, надо совершенно отвергнуть утверждение кн. Е.Трубецкого, что в монадологии Лопатина монады «замкнуты в себе». Лопатин в своей полемике против мотивов имперсонализма в последних статьях Соловьева (да и вообще в разных своих статьях), действительно утверждал «сверхвременную природу индивидуальности», но это учение о сверхвременности души вовсе не отвергает ее сотворенности или ее зависимости от Абсолюта. Лопатин не абсолютизирует индивидуальной души (как это было, например, у Фихте младшего), но утверждает субстанциальность ее, равно как и бессмертие души. Это есть персонализм, свободный от метафизического плюрализма, – и самое существенное, основное в этом персонализме Лопатина есть утверждение творческой активности духа. А эта творческая активность, начинающаяся, по Лопатину, уже в ощущении, достигает своего высшего выражения в моральной сфере. Антропология Лопатина может быть поэтому охарактеризована как этический персонализм, ибо независимость, сила и творчество духа ярче всего открываются, по Лопатину, в моральном сознании и в «возможности нравственного перелома». Но Лопатин очень много сделал и для персоналистической метафизики – его блестящие и глубокие статьи о «реальном единстве сознания», о «явлении и сущности в жизни сознания», блестящие страницы в «Положительных задачах философии» заключают в себе высокоценный материал для персоналистической метафизики. В статье «Понятие о душе по данным внутреннего опыта» Лопатин особенно отчетливо показывает субстанциональность души, способность ее к «сверхвременному созерцанию»; «сознание времени, – пишет он в итоге очень тонких анализов, – есть субстанциальная функция души». Но и больше: все темы метафизики решаются Лопатиным в свете его персонализма – особенно это относится к основным категориям познания — субстанциальности и причинности, «оригинал которых мы имеем в живом сознании пребывающего единства нашего деятельного «Я». Особенно существенно для Лопатина то преобразование понятия причинности, которое с исключительной глубиной он развивает во втором томе своей большой книги. Для Лопатина не только характерно учение о «творческой причинности», которое поистине есть его ценнейший вклад в русскую философию, но и то, что он показывает ее первичность в отношении к так называемой механической причинности [50]. В основе метафизики Лопатина лежит то же положение, которое выдвигал и Козлов, а именно, что «всякая деятельность предполагает деятеля»: «всякий акт предполагает деятеля, – говорит Лопатин, – всякая проявленная реальность подразумевает воплощающуюся в ней силу». Это, конечно, есть основоположение монадологии или плюралистического спиритуализма, и сейчас ясно, что замечания Козлова о том, что Лопатин «отождествляет понятие бытия с причинностью» (против чего и возражает Козлов, защищающий примат бытия), основаны на недоразумении. Для Лопатина существенна неотрываемость и неотделимость «деятеля» от деятельности, бытия от его проявлений, – но это не есть отождествление их [50]. Труднейший вопрос всякой метафизики – проблема материи и духа, – и здесь Лопатин, прежде всего, устанавливает онтологическую вторичность или производность всяких механических действий. «Всякая механическая связь, – пишет он, – подразумевает вещество, его законы и движения уже данными, т.е. вселенную уже существующей; всякое механическое действие есть только продолжение процесса, начатого раньше в каких-либо элементах», – поэтому «движение, элементарный состав тел, их протяженность – все это должно быть дано предшествующим творческим процессом. Исконная, первоначальная причинность есть творческая; всякая иная есть вторичная и производная». К этому Лопатин присоединяет очень тщательный анализ проблемы материи; уже в 1-м томе «Положительных задач философии» он превосходно показал, что материализм есть «учение метафизическое», основанное на вере в материю. После всестороннего анализа материализма (гл. II в I томе), в частности атомизма, Лопатин приходит к выводу о «всецелой условности механических определений вещества», подчеркивая, что «протяженность не первоначальное и основное, а производное и вторичное свойство вещи». К этому присоединяется и то соображение гносеологического характера, что «мы не знаем явлений материи непосредственно. На место наивной метафизики материализма мы должны выдвинуть спиритуализм, который видит последнюю основу бытия в духовных сущностях – и можно сказать, что «сверхчувственная основа существующего есть источник не только всеобщих свойств вещей, но и всего, что в них замечается индивидуального и частного». Это и есть принцип монадологии (без учения о замкнутости в себе монад) или, иначе выражаясь,– система конкретного спиритуализма; в одном месте Лопатин называет эту концепцию системой «конкретного динамизма» [50]. Плюрализм у Лопатина не имеет абсолютного характера; хотя он и склонен говорить о «вечной множественности» (смысл этого выражения нуждается в комментариях), но тут же добавляет: «вечное единое раскрывается в вечном многом – в этом непреходящая истина Платоновской идеологии». Однако единство и множество находятся у Лопатина в разных планах. «В Боге, – говорит Лопатин, – заключены все вещи, но в своем довременном, идеальном единстве. Бог созерцает в себе все существующее..., как мир вечных идей». Мир же «коренится в первичном порядке..., но он несоизмерим с ним..., это тот же самый мир первообразов – но в который вступило начало самости и исключительного самоутверждения – в котором поэтому все разделилось, распалось и раздвинулось». Как это, по существу, близко к построениям Владимира Соловьева или к будущим учениям Флоренского и Булгакова. Однако у Лопатина отсутствует идея Софии. Теизм у Лопатина имеет чисто рациональные корни, – он в одном месте (в главе «Теизм в пределах рациональной метафизики») так выразился: «или философия раз навсегда откажется от идеи об абсолютном, – что невозможно, – или она должна придти к теизму, как прочной и неизменной истине». Тут же Лопатин выражается еще сильнее: «в предположении творения мира из ничего содержится глубокая философская идея». Но как согласовать метафизический плюрализм (хотя и смягченный) с идеей творения мира, которую Лопатин ценит, – он нигде об этом не высказался, – в силу чего его монадология остается в этом пункте неясной и необоснованной. Сам же Лопатин однажды признал, что «нельзя удовлетворяться тем соображением, что абсолютное начало есть просто самый общий закон действительности»; «умозрительное обоснование этической жизни», о котором мы уже говорили, подсказывает Лопатину (в статье «Теоретические основы нравственной жизни»), гораздо более определенное и конкретное понимание соотношения Бога и мира. Здесь Лопатин приближается к Соловьеву снова в усвоении человеку «верховного, целеположного значения в природе», – но общая проблема о связи и соотношении начал единства и множественности (соотношения Бога и мира) остается неразработанной у Лопатина [50]. Гораздо больше внимания оказано Лопатиным проблемам космологии, – и здесь его философское вдохновение (во II томе «Положительных задач...») достигает нередко высшего расцвета. Центральное понятие космологии у Лопатина есть понятие творческой причинности. «Вещество, как всякая другая действительность, – читаем в одной из статей Лопатина,– имеет внутреннее или субъективное существование, и эта внутренняя сторона лежит в основе его внешних проявлений и свойств». При этом «спиритуализм не упраздняет физической природы – он только полагает, что сама в себе она не то, что обыкновенно о ней думают». Исходя из такой онтологии, Лопатин склоняется с особенной настойчивостью к признанию творческой, а не логической необходимости в жизни космоса. Отсюда готовность у Лопатина признать иррациональную сторону в бытии, – особенно в этом отношении любопытна статья его «Настоящее и будущее философии», где свои симпатии Лопатин обращает особенно к прагматизму. Его поражает «многообразие и неисчерпаемое богатство действительности», которую должно признать «до бесконечности пластичной». «Действительность, – говорит тут же Лопатин, – раскрывается знанием вовсе не в полноте своих законов и сил»; он иронизирует над «неудержимым нашим желанием придать вселенной более рациональную форму, чем та, в какой дает ее нам опыт. Возможность диалектического процесса, – в другом месте пишет Лопатин, – коренится в том иррациональном моменте, который заключает в себе бытие». «Слишком очевидно, что в существующем, кроме элемента рационального, присутствует элемент иррациональный, сверхлогический» [50]. У рационалиста Лопатина это внимание к иррациональной стороне бытия само внерационально – оно, несомненно, коренится у него в требованиях морального сознания. Не всегда у Лопатина ясна эта определяющая для метафизики роль «морального умозрения», – но это бесспорно. Лопатин не раз в разных работах возвращается к мысли Лейбница о нравственном основании бытия, как оно есть, и для Лопатина бесспорна внерациональная природа этого действия морального начала в мире [50]. Своеобразие творческих процессов в мире, по Лопатину, и не может быть уловлено в рациональной схеме. «Философия, – писал он в отделе, посвященном критике Гегеля, – не может питать даже отдаленной надежды построить систему абсолютную, т.е. такую..., которая вывела бы с логической очевидностью все частные законы существующего». Самое понятие «творческой» причинности влечет Лопатина к характеристике ее, как иррациональной, – хотя тут же он добавляет, что она «раскрывается не против законов разума и не вне их, а сообразно с ними» [50]. Надо, однако, признать, что это обращение к моменту иррациональности, боязнь «абсолютировать» ту или иную концепцию вводит в систему Лопатина момент релятивизма – не всегда замечаемый им. Особенно ясно это там, где он касается вопроса о монизме в метафизике. Для монадологии Лопатина столь же типичен плюрализм, как и монизм, – и если в одном порядке он соединяет их, связывая лишь с разными планами бытия, то в другом порядке он смягчает их противоположность признанием, что «единство» и множественность — понятия соотносительные. Любопытно тут же отметить, что Лопатин отказывается применять идею причинности к отношению Бога и мира – и в этом пункте к нему очень приближается в своих философских построениях Булгаков. «Между миром и силой, его произведшей, мыслимо лишь творческое отношение и никакое другое» – пишет в одном месте Лопатин; но разве именно он и не развил сам с такой полнотой и убедительностью идею «творческой причинности»? Думается, что предыдущая цитата, возвращающая нас к рациональному пониманию причинности, именно и означает, что Лопатин отказывается рационализировать идею творения. Но возможно, что здесь сказывается довольно типичная для Лопатина уклончивость от философствования там, где философия тесно соприкасается с богословием... И наоборот – всякий раз, как Лопатин может подчеркнуть реальность в бытии нравственного начала, он делает это сильно и настойчиво... [50] Обратимся к последней главе в системе Лопатина – к его гносеологии. В гносеологии Лопатин не дал ничего значительного. Его рационализму чуждо отрицание опыта и его чрезвычайного значения в познании мира, но чистый эмпиризм, признающий опыт единственным источником знания, находит у него основательную, можно сказать, – уничтожающую критику. «Эмпирическая философия, – пишет Лопатин, – верная своим началам, ни в каком смысле не дает действительного знания». О позитивизме он пишет: «позитивизм убил бы себя, если бы стал тем, чем хочет быть, т.е. сознательным и откровенным эмпиризмом». Так как на основе чистого эмпиризма невозможно принять существование материи (ибо состав опыта слагается для эмпиризма только из наших ощущений), то материализм есть бесспорно метафизика, – основанная, притом, на вере в материю. В гносеологии Лопатина «вера» вообще имеет свою особую функцию – она стоит у него между опытом и разумом. Собственно, вера не есть для Лопатина «особый источник познания» – она является «внутренним и совершенно неотделимым ингредиентом всех наших умственных актов». «Вера» характеризуется у Лопатина своей «темною безотчетностью», т.е. нуждается в рациональной обработке, чтобы войти в состав знания. Истинное знание может быть, по Лопатину, только рациональным. Лопатин готов допустить развитие и разума и веры «в полной независимости друг от друга», но «последняя задача, поставленная самим существом их, состоит в их гармоническом примирении». «Сфера философии, – тут же говорит Лопатин, – ...никогда места религии не занимает – но в своих границах она должна сама себе предписывать законы». Но «умозрение», которое лежит в основе философии, Лопатин хочет понимать не «односторонне-рационалистически», но «в смысле жизненном и конкретном», – хотя более подробного и ясного раскрытия, как может быть преодолен «односторонний рационализм», Лопатин не дал [50]. Что касается этики Лопатина, то о ней уже говорилось достаточно выше. Важно у него не только горячее исповедание свободы воли и апофеоз творческой активности, – важнее этого является то, что этическая установка имеет у Лопатина решающее значение в подходе к решению основных философских проблем. Мы видим высокую философскую ценность творчества Лопатина больше всего в его этическом персонализме, в его учении о человеке. Лейбницианство на русской почве именно у Лопатина раскрывается с своей этической стороны, – метафизическая же сторона определяется именно этическим персонализмом [50]. Л.М.Лопатин. Блестящий философ, блестящий ум. Он был на восемь лет младше Н.В.Бугаева, относился к его идеям с участием и глубоким уважением, кое-что перенял у него, и многое, наверняка вынес Н.В.Бугаев в спорах с ним. В своей речи на смерть Н.В.Бугаева он так последовательно изложил учение Н.В.Бугаева, как не смог бы сделать он сам. Но Лопатин – традиционный философ до мозга костей, со всей традиционной многословностью и некоторой намеренной запутанностью. Л.М.Лопатин, красиво пересказав основные взгляды Н.В.Бугаева, так и не смог понять главного в них, самые главные, высказанные, правда в чрезмерно поэтической и аллегорической форме, идеи, вызвали у него недоумение. Естественно, он не мог как-либо развить идеи Н.В.Бугаева или осуществить их синтез. Но не нужно преуменьшать и роль всесторонне эрудированного Лопатина как участливого и внимательного собеседника Н.В.Бугаева, как своеобразного советника и советчика в сложных философских вопросах. Именно переизданные речи Л.М.Лопатина, содержащие и речь на смерть Н.В.Бугаева, познакомили большинство наших современников с философским взглядами Николая Васильевича. Вывод: 20. Л.М.Лопатина можно считать и определенным идейным вдохновителем, и популяризатором взглядов Н.В.Бугаева, несомненна роль Л.М.Лопатина как внимательного собеседника и некоторой психологической опоры Н.В.Бугаева. 1.3.5 Оценка места и роли Московской философско-математической школы в истории русской мысли Оценка места и роли ММШ и лично Н.В.Бугаева прошла серьезную эволюцию. Поначалу восторженная оценка учения Бугаева его учениками и последователями сменилась сначала осторожной критикой, а после 1917 года – развенчиванием и клеймением, доходившими до наивысших градусов в 30-х годах [91]. Вот образец 1931 года: «Необходимость коренной перестройки математических наук приобретает исключительное значение, если рассматривать ее в историческом аспекте, если учесть особенности развития математики именно в России, прежде всего ведущей московской математической школы. Эта школа Цингера, Бугаева, Некрасова поставила математику на службу реакционнейшего «научно-философского миросозерцания», а именно: анализ с его непрерывными функциями как средство борьбы против революционных теорий; аритмологию, утверждающую торжество индивидуальности и кабалистики; теорию вероятностей как теорию беспричинных явлений и особенностей; а все в целом в блестящем соответствии с принципами черносотенной философии Лопатина – православием, самодержавием и народностью» [91]. Впоследствии имя Н.В.Бугаева периодически упоминается в книгах и статьях по истории математики [2, 136], но официальные словари и энциклопедии [28, 111] не содержат упоминания о Московской философско-математической школе, о Н.В.Бугаеве [111] и его учениках. В книгах по истории математики впредь до 70-х годов ХХ века отношение к Бугаеву было сдержанным и скептическим. Вот образец конца 60-х годов [136]. Свою оценку деятельности Бугаева крупнейшие русские математики того времени официально выразили дважды, сначала присудив ему на основании заключения Буняковского и Сомова почетный отзыв за магистерскую диссертацию по рядам (1864), а потом избрав его членомкорреспондентом Академии наук по представлению Маркова и Сонина (1898). Вместе с тем, с годами духовный облик Бугаева менялся. По-видимому, ему недоставало в более молодые годы авторитетного научного руководителя, а позднее конгениальной научной среды. Интересы Давидова, Летникова, Петерсона лежали в других сферах, собственные ученики, едва оперившись, уезжали работать в дальние университеты и там нередко обращались к другой тематике. У Н.В.Бугаева, несомненно, имелось чувство одиночества и обособленности; об этом свидетельствуют некоторые письма Е.И.Золотарева к А.Н.Коркину. И вот оригинальность Н.В.Бугаева переходила постепенно в оригинальничание, авторитетность в авторитарность, обида из-за непризнания тех или иных заслуг в их некритическую переоценку, и так выросла к старости лет фигура талантливого чудака – сын прозвал его «московским чудаком» [136]. (Стоит отметить, что данный эпитет довольно неудачно вырван из богатого контекста художественного слова Андрея Белого). С 80-х годов ХХ века отношение к философскому наследию Н.В.Бугаева начало меняться. В работе [133] рассматриваются идеи Московской философско-математической школы в основном в контексте их влияния на философию отца П.Флоренского. Автор этой работы В.А.Шапошников считает, что «взгляд Флоренского на математику как на единственно возможную основу для построения целостного мировоззрения, который он пронес через всю жизнь, сформировался под определяющим воздействием именно идей Бугаева. Более того, Флоренский во всей полноте усвоил аритмологический круг его идей». По мнению В.А.Шапошникова, московских математиков – членов Московского математического общества объединяла убежденность в существенной близости математических и философских изысканий, уверенность в полезности математики для философии; убежденность, что именно занятия математикой есть единственный способ научиться правильному мышлению, способному вести нас к открытию истины; представление о том, что мощь математических методов проистекает, в первую очередь, не от неукоснительного следования логическим правилам, а от непосредственной образной наглядности ее положений и рассуждений. В.А.Шапошников считает, что Бугаев существенно опирается в своих метафизических построениях на арифметические, алгебраические и механические представления; что для Бугаева математический дискурс оказывается по существу единственным способом овладения предметом, вне его для Бугаева нет понимания. Поэтому и метафизический предмет становится содержанием его мысли лишь после превращения его в предмет квазиматематический. В своих метафизических размышлениях Бугаев всегда стремится за внематематическим материалом открыть некую математическую конструкцию. Сам факт обнаружения этой конструкции служит для него последним обоснованием метафизического построения. Это для него единственный путь, ведущий к постижению глобального смысла всего существующего [89]. Нельзя не согласиться с В.А.Шапошниковым в том, что Бугаев оказал влияние на Флоренского. Но нельзя и полностью согласиться с тем, что математический дискурс – единственный способ овладения предметом для Бугаева. Сама его идея о взаимодействии, возникновении и распаде монад взята скорее из реальных жизненных наблюдений, из его опыта преподавания, супружеской жизни, взаимодействия в коллективе. Вся монадология сформулирована Бугаевым хотя и в виде внешне претендующих на строгость положений, но в виде, крайне далеком от возможности математической формализации. Здесь Н.В.Бугаев скорее похож на персоналиста Г.Тейхмюллера, он выглядит скорее как гротескный вариант последнего, возводя в ранг философских принципов весь свой не слишком уж богатый жизненный опыт. И его идея о прерывности в природе всего лишь интуитивная догадка, никак не формализованная математически, скорее даже горячее желание того, чтобы в человеческой жизни имела значение не одна слепая причинность, но и свобода и творчество. Слабая математическая формализованность основных идей Н.В.Бугаева как раз и явилась главным препятствием к правильному пониманию их сущности и к их плодотворному синтезу последующими поколениями. В.В.Мороз в своих работах [89, 90] также делает основной упор на творчестве отца П.Флоренского и самой возможности философско-математического синтеза. Но вместе с тем в этих работах достаточно подробно и взвешенно анализируются и философские работы Н.В.Бугаева. От В.В.Мороза (пожалуй, для первого из исследующих творчество Н.В.Бугаева) не укрылась четкая аритмологичность бугаевских монад, но интересы автора лежат в несколько другой плоскости: каким образом могут быть сняты накопившиеся как в математике, так и в философии противоречия, и могут ли здесь оказаться полезными идеи отца П.Флоренского и Н.В.Бугаева. Вместе с тем и В.В.Мороз далек от того, чтобы рассматривать как философию, так и математику в качестве обычных продуктов развития человеческой культуры со всеми исторически присущими им как способам познания недостатками, далек от мыслей об относительности, условности и ограниченности как математических, так и философских абстракций. Таким образом, в поле зрения исследователей философского творчества Н.В.Бугаева пока не попали высказанные им мысли (несмотря на его погруженность в сферу математических понятий и веру в «математичность» внешнего мира) об условности понятий материи и духа и просто «выпирающие» из всех его философских рассуждений, почти высказанные им соображения об условности математических абстракций, об условности познания вообще. Вывод: 21. Оценка места и роли Московской философско-математической школы в истории русской мысли прошла серьезную эволюцию от критики и полного неприятия до изучения некоторых аспектов творчества Н.В.Бугаева; однако подробный анализ философских идей школы пока не сделан. Глава 2. Научно-философский контекст идей Московской философско-математической школы 2.1 Критический персонализм в русской философии второй половины XIX – начала XX веков 2.1.1 Г.А.Тейхмюллер – родоначальник критического персонализма в России Густав Августович Тейхмюллер (19.11.1832 Брауншвейг – 22.05.1888 Дерпт, ныне Тарту), философ-идеалист. Ученик Ф.А.Тренделенбурга. Профессор в Геттингене (1867), Базеле (1868) и с 1871 в Дерпте (Тарту). Философские взгляды сложились под определяющим влиянием Г.Лейбница через посредство Р.Г.Лотце и И.Ф.Гербарта. В целом учение представляет собой своеобразный вариант христианского персонализма, противостоит как позитивизму и эволюционизму, так и традиционному платонизму. По Тейхмюллеру сущность бытия – личное «субстанциональное Я», открывающееся в самосознании, но действующее и бессознательно. С позиций идеалистической теологии выступал против дарвинизма, обвиняя его в абсолютизации случайности и непрерывности. Оказал влияние на Ф.Ницше, в России на А.А.Козлова, Е.А.Боброва [28]. Г.Тейхмюллер родился в Брауншвейге 19 ноября 1832 года в семье офицера. Он получил очень хорошее воспитание, проявлявшееся в светскости и изяществе его манер [25]. Учился в местной гимназии и еще гимназистом интересовался эстетикой, причем от Гегеля перешел к аристотелевой поэтике. Плодом его эстетических занятий впоследствии стали два тома «Aristotelische Studien». С 1852 года изучал философию в Берлинском университете под руководством знаменитого Тренделенбурга, где продолжил изучать Аристотеля и стал одним из лучших знатоков этого философа [23]. Тренделенбург занимал влиятельную Берлинскую философскую кафедру после самих Гегеля и Шеллинга и по иронии судьбы принадлежал к числу жестоких противников учения Гегеля. Он оказал большое влияние на Г.Тейхмюллера, в частности, тем, что направил внимание своего ученика на изучение филологии, естественных наук, анатомии, физиологии. В результате впоследствии лекции Г.Тейхмюллера изобиловали примерами из области естественных наук. Вплоть до самой смерти он усердно посещал некоторые лекции по естественным и медицинским наукам [25]. Лишившись по смерти отца средств к существованию, был вынужден найти место домашнего учителя. Одновременно он сдает экзамен на степень доктора философии и устраивается работать к генералу Вертеру. Последний в 1856 году был назначен в Петербург германским посланником, и Густав попадает в Россию. Через два года он уходит от Вертера и устраивается учителем греческого языка в Анненское училище. В женском отделении этого училища молодой доктор философии преподавал педагогику; и одна из учениц, плененная его красноречием и эрудицией, стала его женой [25]. В 1860 году покинул Россию и стал приват-доцентом в Геттингене, где познакомился со знаменитым философом Г.Р.Лотце [23]. Жизнь приват-доцентов при германских университетах, не получавших, кроме гонорара от слушателей, никакого пособия или жалованья, была не красна. Пошли дети, а начинающему ученому приходилось ютиться с семьей в одной комнате. Он сам рассказывал впоследствии, как за одним столом и за одной лампой его жена убаюкивала младенца, а он сидел с неизменной книгой. Затем его посетило тяжелое горе: умерла его нежно и горячо любимая молоденькая жена. Потрясенный этой смертью, Тейхмюллер предпринял большое путешествие на восток, которое длилось полтора года. По возвращении в Геттинген он возобновил педагогическую деятельность, пользовавшуюся большим успехом. Но только в 1867 году он добился звания экстраординарного профессора. На следующий год он получил приглашение на должность ординарного профессора в Базель, а в 1870 году последовало приглашение из Дерптского университета, где он становится профессором философии [25]. В Дерпте Тейхмюллер оставался уже до конца жизни, там же он написал лучшие свои сочинения. Интересно, что по свидетельству Е.А.Боброва Г.А.Тейхмюллер так и не освоил русский язык, он изъяснялся и публиковал свои труды на немецком [21, 25]. Он издал около 20 томов сочинений, не считая статей в различных изданиях [23]. Обладая в научном отношении крайней оригинальностью и независимостью мнения, Тейхмюллер жестоко обличал популярные тогда философские течения, такие как позитивизм и неокантианство. От его критики не ушли Лаас, Вундт, Ричль, Целлер, Зуземиль и др. Он разоблачил Дарвина и осмеял Канта. Этим он приобрел себе ожесточенных врагов и сильно повредил распространению своего учения. Так как многочисленные приверженцы названных авторитетов занимали большинство кафедр философии в университетах и в их руках были почти все печатные органы по этой науке, то Тейхмюллеру пришлось сильно поплатиться. Его подвергли самой тяжелой для ученого казни: намеренному замалчиванию [23]. Взгляды Г.Тейхмюллера были весьма необычны для его времени. Поразительна, например, для его времени попытка сформулировать понятие бытия на основе анализа языка, лексикографическим методом. К окончательной формулировке своего философского учения, называемого персонализмом, Тейхмюллер пришел лишь к концу своей жизни. Вот основные идеи и понятия персонализма, взятые из [23]. Мы проектируем наши представления и называем их внешним миром. Собственное бытие осознается непосредственно, о бытии других существ мы заключаем по аналогии. Вселенная состоит из неисчислимого множества отдельных бытий, монад, существ или я [23]. Наше тело относится также к внешнему миру и может быть рассматриваемо как комплекс отдельных существ, соединенных под властью одной монады, одного я (то есть нашей души). Домостроительная техника нашей души точно так же бессознательна, как механизм чтения, ходьбы. Душа приобретает себе эту технику постепенно в общении с другими существами [23]. Разум в тиши и сам того не зная уже обладает истиной, мы должны только припомнить ее; мы можем открыть истину, так как благодаря всему прочно определенному порядку мышления она самоуверенно и бессознательно ведет движение мысли к верной цели [23]. Познание реального бытия не может объяснить реальность, но может лишь намекать на реальность и давать нам лишь семиотическое знание, ибо мы всегда принуждены дополнять предмет намека из своего собственного сознания, а без такого сознания мы воспринимали бы только слова без смысла. Через это отношение получается категория, составляющая характеристику для реального бытия, а именно, категория причины и следствия. Так как ничего нельзя мыслить без координации, то всякая реальная функция должна быть поставлена в связь с другой реальной функцией, иначе придется отказаться иметь какое-либо знание [23]. Как пространство и время, так и порядок причины и действия не существует, как вещь в чувственном мире. Причина и следствие сначала перспективно проектируются нами, а потом уже расширяются на объективную систему знания. Познание причины и следствия семиотически представляет реальность, как она вообще может становиться идейным бытием. Как только эта категория применяется ко всем существам и к их функциям, то мы видим себя принужденными расположить все содержание сознания по понятиям времени, между тем как эти понятия совершенно абстрактны и бессодержательны и не означают собой ничего действительного. Понятие причины нужно искать в я, которое при данном представлении переживает известное чувство и производит такое-то движение [23]. Я непременно должно что-нибудь думать или желать чего-либо, прежде чем действовать. В сношениях с подобными нам существами мы по аналогии предполагаем мысли этих существ для объяснения их деяний и движений. Мы встречаем трудности лишь при переходе к прочим сферам природы, которые не подают признаков душевной жизни. Нам остается лишь с осторожностью наблюдать последовательность явлений. Но так как понятие временной последовательности уже таит в себе причинность, то соответственно нашему я мы должны принять существование и во всей природе индивидуальных существ, – атомов, монад, генад, – назовите как угодно, – в параллель нашему я, чтобы быть в состоянии разумно объяснить связь между явлениями [23]. Таким образом, Г.Тейхмюллер считает антропоцентризм внутренне присущим и органичным нашему сознанию, процесс познания не может строиться иначе, чем антропоцентрически. Мышление есть сравнивание. Представляя себе лишь одно а, мы в своем рассуждении ни на шаг не продвинемся вперед; привлекая же к соотнесению еще и b и сравнивая обе точки соотнесения а и b между собой, мы сразу и утверждаем каждую из обеих точек (принцип тождества) и противополагаем одну другой (принцип противоречия): ведь а не может быть равно а, если нет чего-либо, положенного вне и кроме ее, ибо свою определенность а получает через сравнение с чем-либо иным. Но отрицание противоположного есть вместе с тем утверждение данного, так что мышление в едином акте сразу признает и то, и другое. Добавляя в сферу сознания новое понятие, мы соотносим его с уже имеющимися в нем; так мы строим систему координат нашего знания. Каждая идея (или термин) имеет в этой системе координат определенное место и соотнесена с координирующими членами, равно как и последние с ней [23]. Мы изложили взгляды Г.Тейхмюллера в трактовке Е.А.Боброва, но это изложение нельзя считать вполне достаточным для понимания сущности наследия Г.Тейхмюллера, ибо Е.А.Бобров увидел в наследии Г.Тейхмюллера только то, что мог увидеть с позиций своего культурного развития. Почти все творения Г.Тейхмюллера изложены на немецком языке, и только два сочинения переведены на русский. Мы проанализируем одно из них, «Дарвинизм и философия» [116]; оно в наибольшей степени близко по своей тематике к кругу рассматриваемых в данной работе идей. По отзывам современников [4], Г.Тейхмюллер подверг в этой книге учение Дарвина уничтожающей критике. Возможно, так же думали впоследствии и советские идеологи [47, 48]; какие-либо упоминания о Тейхмюллере при их изложении теории Дарвина отсутствуют. Прежде всего об общем впечатлении об этой 100-страничной работе. Собственно теории Дарвина в этой работе отведена меньшая часть, Г.Тейхмюллер более озабочен доведением до читателя собственной системы взглядов на мироздание, и нельзя согласиться с Е.А.Бобровым, что она выглядит незаконченной или нецелостной. Г.Тейхмюллер широко пользуется математическими, особенно геометрическими аналогиями. Но из этого не следует, что в своем методе он в чем-то похож на Н.В.Бугаева, что он хоть в какойто мере считает, что математические понятия отражают сущность окружающего мира. Напротив, он мыслит человеческое восприятие окружающего мира как субъективное, частное, условное; но так как другого нам не дано, он использует геометрические понятия из-за сочетания в них наглядности и определенной недвусмысленности, независимости от вербального языка. При изучении этой работы Г.Тейхмюллера перед нами как бы заново разворачивается панорама окружающего мира, но под совершенно новым, необычным ракурсом. Мы с удивлением видим, что в голове у этого философа задолго до всех представителей естественных наук четко сформировались понятия о сложных самоорганизующихся системах, состояния которых квантуются, стратифицируются, о системах с конечным числом устойчивых состояний, переходы между которыми осуществляются скачками. Весь окружающий мир в его понимании не непрерывен, а стратифицирован, квантован; количество возможных видов и типов животных и растений для него определенно конечно. Г.Тейхмюллер подчеркивает, что скачкообразность возникает не в системах, составленных из элементов путем простого суммирования, а именно в сложных системах со множеством внутренних связей; он иллюстрирует эту мысль простейшими математическими примерами, и из этих примеров становится ясно, что он имел в виду; он имеет в виду именно системы, в которых в результате внутренних взаимодействий появляются свойство прерывности состояний. Как раз именно акцентирования прерывности возможных состояний равновесия сложных систем не хватило Н.В.Бугаеву для философского синтеза двух своих главных идей. Зато у Бугаева более четко, чем у Г.Тейхмюллера (но, к сожалению, тоже в неявном, образном виде) выражена идея подчиненности сложных систем другим законам поведения, чем законы поведения составляющих сложную систему элементов. Г.Тейхмюллер отвергает постулат Дарвина об образовании видов в результате закрепления в естественном отборе случайных изменений. Он вообще считает, что введение случайности представляет собой отказ от научного рассмотрения. Вместе с тем и причинно-следственная связь для Г.Тейхмюллера – это лишь абстракция ограниченного человеческого разума. Для него образование современных видов – это результат стратификации (хотя он, конечно, не использует этого термина) первоначальной родовой системы на различные видовые системы в различных климатических условиях. Вообще многие привычные понятия, по мнению Г.Тейхмюллера, лишь частично и приблизительно отражают абсолютную истину; он доказывает, что понятия времени и пространства, причины и следствия, прошлого и будущего имеют смысл только для конкретного человека и не свойственны окружающей реальности вне человека, безотносительно к нему. От резюме книги Г.Тейхмюллера в несколько осовремененных терминах обратимся к его конкретному тексту. Прежде всего, он вводит понятия существования, сущего и формы или функции. Форма всегда предполагает, что существует нечто, что имеет эту форму. Есть ли то, что существует, то же самое, что и форма, в которой оно существует? Очевидно, нет, ибо форма или функция может исчезнуть, а существующее остается и принимает другие формы. Человек может разгневаться (гнев – это форма), но затем успокаивается. Форма не есть нечто самобытное наряду с реальным, иначе она была бы сама чем-то сущим. Гнев реально не существует. Но реальное по себе и для себя не может быть без какой-либо формы. Реальное есть то, что может проявляться или существовать в той или другой форме (стр. 10) [116]. Кроме формы реальному нужно приписать также и множественность. Ибо если мы станем мыслить материю как единство, то ничего не останется вне такового, оно не могло бы ни делать что-либо, ни страдать от чего-либо. Так как опыт дает нам изменяющийся мир, мы должны мыслить материю как множество, дабы один элемент мог действовать на другой, как атомы. Но надо остерегаться при слове атомы мыслить представлением атомистов с их атомами как неизменными телами (стр. 11). Неизменное тело не может испытывать что-то; это так же несомненно, как и то, что оно ничего не может произвести из себя, не изменяясь само внутренне. Поэтому мы должны признать в этих атомах некоторую нутрь, испытывающую влияния и на них реагирующую, при этом она переходит к иной функции, иной форме, отличной от своей предыдущей (стр. 12). Но их разовую функцию нужно отличать от той нутри, которая в качестве материи содержит возможность других функций (форм). Ошибочно различать живую и мертвую материю (стр. 13). Совершенно безразлично, остаются ли атомы, образующие воду, долгое время в той же функции, которую мы называем водой, или же им выпадет случай в каком-нибудь животном или растении перейти к органическим функциям и соединениям; ведь не время может составлять различие между мертвым и живым. Поэтому грек Талес сказал справедливо, что все в мире одушевлено или оживлено. Мертвой материи нет. Но материя также не возникает и не исчезает, ибо все, что возникает, является только ее функцией, формой. Само бытие не может возникнуть (стр. 14) [116]. Прервем анализ текста, чтобы отметить схожесть позиции Н.В.Бугаева, у которого все монады живые, с позицией Г.Тейхмюллера. Однако у Бугаева психика материи скорее поэтическая, образная, а Тейхмюллер до предела серьезен. В отличие от Тейхмюллера, у Бугаева четко выражена мысль о том, что более сложные монады подчиняются совсем другим законам, чем простые. В сложных системах появляется новое качество. Это в принципе позволяет трактовать живое как новое качество, возникшее из объединения большого числа неживых элементов. Тейхмюллеру, при его трактовке материи и формы (чисто атомической), ничего не остается, как признать всю материю живой. Молекула любого белка содержит множество атомов углерода, вместе с тем белок как материя в корне отличен от углекислого газа как материи по своей сложности и качественно новым свойствам. Тейхмюллер не может принять идею, что при взаимодействии атомов может измениться не только внешняя форма, но и структура материи, само содержание. Для Тейхмюллера изменилась лишь внешняя форма, но не внутреннее содержание. Отрицая вульгарных атомистов за то, что атомы у них не взаимодействуют, Тейхмюллер сам почти скатывается к их позициям – как мы увидим, для того, чтобы в принципе отвергнуть концепцию какого-либо развития. Нам, имеющим значительно больше опытных данных о структуре материи, легче, чем Г.Тейхмюллеру. Мы знаем, что с помощью ядерных реакций в принципе можно из атомов водорода получить молекулу углерода, качественно новую сущность материи. И тем для нас важнее догадка Н.В.Бугаева о качественно других законах, управляющих поведением сложных монад по сравнению с более простыми. Но вернемся к анализу текста Г.Тейхмюллера. Чтобы как-то выйти из намечающегося противоречия, которое наверняка почувствовал и он сам, ему приходится ввести три группы законов. Первая группа содержит законы, которые без исключения осуществляются в явлениях природы (законы физики и химии). Вторая группа содержит законы, доступные нарушению (все органические формы) (стр. 16). И третья группа – это формы, которые называют случайными, в них не обнаруживается вовсе всеобщего правила или закона (единичные явления). Далее на протяжении нескольких страниц Г.Тейхмюллер пытается вырваться из созданного им заколдованного круга. Ему приходится выдвинуть тезис, что закон образования для каждого организма неделимо и солидарно пребывает в едином атоме (стр. 25) [116]. Нам невозможно удержаться от комментария. По-видимому, этот закон должен содержаться в каждом из миллионов атомов десятков элементов, составляющих организм, и этот закон должен быть один. Это уже в чистом виде предустановленная гармония Лейбница. Но Г.Тейхмюллер не признается в этом. Напротив. Он пишет: Если взять аналогию из области искусства, то таков архитектор, представляющий принцип для закона образования дома: им приводятся в движение как рабочие, так и строительный материал, и вся работа держится в целесообразном единстве (стр. 25). Тейхмюллер сам находит противоречие в последнем утверждении. Если органическая природа варьирует в своих способах воспроизведения, то в атомах не может быть руководящим один только закон (стр. 30) [116]. Еще пять страниц блуждания, и прорыв: система! Всегда необходимо будет сама собой образовываться система, если сделать только единственное предположение, а именно, что элементы вообще могут вступать друг с другом во взаимодействие (стр. 35). Взаимодействие всех элементов предполагает законы, возвышающиеся над существованием каждого отдельного элемента и приводящие все отдельное к единству (стр. 36) [116]. Блестящая догадка! Но сразу же почтенного философа «сносит»: А посему, кто вообще принимает законы природы, тот должен также признать и систему законов, и следовательно, отдельные законы отнести к последнему единству, или к последней цели. Поэтому каждый естествоиспытатель, поскольку он естествоиспытатель, то есть поскольку он ищет законов природы, неизбежно также и телеолог, то есть он предполагает последнюю цель, из коей, как из простейшего принципа, могут быть объяснены все законы (стр. 36) [116]. Дальше начинается самая сложная и противоречивая часть книги. Тейхмюллер приходит к отрицанию всякого развития. И становится непонятным, зачем ему вообще понадобилась телеологическая цель. Тейхмюллер пишет: Трудность заключается в понятии времени (стр. 44). Законы природы образуют единство системы, безвременное целое, и поэтому каждое отдельное явление определяется целым природы, то есть точно также будущими результатами, как и прежними явлениями (стр. 46). Время есть только сравнение, мера. Если не положить в основу никакой единицы, то нельзя будет определить продолжительности ни одного явления. Так как сравнение можно производить, начиная с любой единицы, то с переменой единицы как мерила каждое явление можно назвать то кратковременным, то долгим, бесконечно кратким или бесконечно длительным; а так как можно начинать с любого пункта явлений, то всякое время можно назвать и будущим, и настоящим, и прошедшим (стр. 47). Отсюда видно, что время подобно окружности круга. Последняя не имеет ни начальной, ни конечной точки, но любой пункт можно избрать началом. Иллюзия прямолинейности времени исходит только от незначительности нашего зрительного поля (стр. 48). Целое само по себе, то есть не рассматриваемое перспективно, не имеет ни начала, ни конца, но образует безвременное единство (стр. 49). Время есть рефлексионная форма. Время и пространство предполагают данную точку зрения; стоит ее отбросить, как очутишься повсюду в одинаковом времени и не можешь измерять расстояний, так что время и пространство исчезают. Поэтому время есть только перспективная форма воззрения мира для фантазии и рассудка (стр. 54). На всякий глаз деревья сходятся в конце аллеи. Время есть перспективное явление безвременного мирового порядка (стр. 56) [116]. Дальше Г.Тейхмюллер переходит к критике учения Дарвина. Мы не будем рассматривать здесь этот хоть и интересный, но не совсем близкий к нашей теме вопрос, тем более, как мы уже выяснили, мировоззрение Г.Тейхмюллера не свободно от противоречий. Приведем лишь несколько выдержек, имеющих отношение к теме данной работы. Непрерывные и неприметные переходы, каких требуют дарвинисты, возможны лишь там, где дело не касается систем. Дарвинизм был бы прав, если бы растения и животные были бы суммами (стр. 85). В природе мы имеем дело с системой законов, дозволяющих только ограниченное число синтезов и исключающих все прочие как невозможные (стр. 87) [116]. Следует еще отметить изложенное на стр. 83-84 и не приведенное здесь из-за значительного объема интересное рассуждение об относительности понятий прерывного и непрерывного, проиллюстрированное рядом математических примеров, из которого следует, что Г.Тейхмюллер понимал, что понятия прерывности и непрерывности есть лишь абстракции, имеющие ограниченную применимость; что прерывное в одном контексте становится непрерывным в другом. Вывод: 22. Г.Тейхмюллер в своем учении вплотную подошел к понятию самоорганизующейся системы с ограниченным числом устойчивых состояний; вместе с тем, его система заключает в себе ряд противоречий, ведущих к видимо сомнительным выводам. 2.1.2 Жизнь и деятельность А.А.Козлова Козлов Алексей Александрович (20.02.1831 – 12.03.1901). Незаконнорожденный сын помещика И.А.Пушкина (представителя рода, к которому принадлежал и А.С.Пушкин) и крепостной крестьянки [108]. И.А.Пушкин был сознательный и убежденный полигам и имел от нескольких женщин незаконных детей. По воспоминаниям самого Козлова, его отец не был развратником в обычном смысле этого слова, его связи имели характер ветхозаветного быта и по большей части были прочны. Его отец обеспечил судьбу матери Козлова, дав ей заемное письмо в 5000 рублей ассигнациями, что по тому времени составляло порядочную сумму [7]. Это заемное письмо и явилось одним из поводов к резкой перемене в судьбе матери и ребенка. За молодой неопытной крестьянкой стал ухаживать живший с ней в одном дворе мещанин Александр Парфенович Козлов, человек очень ловкий, способный и неглупый, служивший управляющим имениями и домами. Когда его стремления завязать легкую любовную связь получили отпор, он облек свои домогательства в форму серьезного намерения вступить в брак и усыновить чужого ребенка. По-видимому, расчет использовать заемное письмо играл в этом предложении немаловажную роль. В результате и мать, и ребенок оказались во власти грубого и жестокого эгоиста. По воспоминаниям А.А.Козлова, основным свойством нрава его отчима было полное отсутствие совести и каких-либо нравственных понятий и самый бесцеремонный эгоизм. Господствующими страстями А.П.Козлова были сварливость, которая выражалась в буйстве, ссоре, ругани и драке там, где он не мог встретить отпора, его хвастовство и желание пускать пыль в глаза, а также чувственная распущенность и страсть к игре. Из-за этого он часто терял места. Главным в детских страданиях А.А.Козлова была обида и страх за мать, переносившей наряду с нещадной бранью также и побои. По-видимому, жестокое обращение А.П.Козлова привело ее к столь ранней смерти. Когда она умерла, А.А.Козлову исполнилось только семь лет [7]. После этого ребенок большую часть времени находился либо у бабушки по отчиму, либо у тетки, сестры отчима. Последняя была женщина незаурядная и по душевному складу вовсе не похожая на брата. После матери ребенок нашел в ней наиболее близкое и заботливо относившееся к нему существо. Ей же он обязан решающим моментом всей своей дальнейшей судьбы – поступлением в гимназию. Благодаря ее настойчивости и материальной помощи мальчик на 13-м году был отдан в Первую московскую гимназию [7]. С раннего детства Алексей отличался большой любознательностью и до страсти любил чтение. Благодаря отличной памяти, он легко запоминал прочитанное [25]. Учился он хорошо. После тяжелой жизни раннего детства суровый гимназический режим того времени не был для него тягостным. Пансионеры в гимназии делились на два разряда – благородных и разночинцев. Главным отличием благородных были лучшая пища и одежда, спальни, пороли их реже и слабее. Во всем остальном (уроки, подготовка к ним) и те, и другие пансионеры шли вместе. Здесь он подвергся влиянию воззрений, господствовавших в той среде, а именно, узнал в качестве бесспорной истины, что настоящие люди только дворяне, а настоящая служба – это только государственная и военная [7]. После окончания гимназии поступил вольным слушателем на математический факультет МГУ, затем перешел на филологический факультет, а закончил университет как специалист в области политической экономии. Как сам Козлов признавался впоследствии, он не был особенно ревностным студентом и небрежно посещал лекции даже таких светил как Грановский. Большую часть времени он проводил в кружках, в беседах, в игре на бильярде в московских трактирах. Одновременно происходила полная эмансипация от усвоенных в детстве религиозных принципов [7]. Особенного интереса к философии он тогда не обнаруживал, что не мудрено: с 1850 г. были упразднены философские кафедры во всех русских университетах (кроме Дерптского). Козлов читал по своей охоте кое-какие философские книги, например, «Критику чистого разума» Канта, но это чтение не дало больших результатов [25]. На последних курсах и первые годы после окончания университета Козлов жил с некоторыми своими приятелями, занимая одну квартиру. Среди них были многие известные впоследствии люди, и эта компания молодых людей являлась своего рода умственным центром московской молодежи. Этой компанией заинтересовались славянофилы, А.С.Хомяков, братья Аксаковы и Самарин, бывшие тогда уже известными писателями. Особенно часто Хомяков посещал их квартиру и проводил за горячими спорами целые вечера [7]. После окончания университета Козлов стал преподавателем русской словесности в школе межевых топографов. Народнические его увлечения привели к тому, что он женился на крестьянке. Разница в интересах сказалась очень быстро, и примерно через год или два Козлов разошелся с женой. К тому времени Козлов увлекся социалистическими теориями, и его преподавание сводилось в основном к изложению социалистических доктрин. Начальство смотрело на это косо, и он был уволен в 1861 году [7]. К этому времени относится начало его литературной деятельности. Но он писал тогда не по философии, а по политической экономии. Он напечатал ряд статей в различных журналах [25]. После этого он занимался частными уроками, в которых у него не было недостатка. Давая уроки одной из дочерей помещика А.А.Челищева, он почувствовал к своей ученице глубокое влечение. Он обратил любимую им девушку в свою веру, которая состояла прежде всего в эмансипации от всех условностей дворянского быта. В результате М.А.Челищева ушла из родительского дома и навсегда соединила свою судьбу с Козловым [7]. Его социалистические увлечения вылились в знакомства со многими представителями общественного движения в России. Активным революционером и агитатором Козлов не был, но в 1866 году был арестован. Он был обвинен в организации особого революционного общества. В результате ареста он оставил М.А.Челищеву больной и с малолетним ребенком. Поэтому полугодовое тюремное заключение было для Козлова особенно мучительным. Под влиянием тяжелых размышлений он решил посвятить свою жизнь в случае освобождения семье и спокойному труду в области ученой и литературной деятельности [7]. Выйдя из тюрьмы, Козлов обратился к совершенно новой области, к сельскому хозяйству. Он стал заниматься сельским хозяйством в Калужской губернии, в имении своего тестя, который к тому времени примирился с судьбой своей дочери. За эти пять безмятежных лет Козлов обратился к изучению философии в возрасте более 40 лет [7]. Он с восторгом изучает Шопенгауэра. Долгое время он носился с мыслью перевести на русский язык главное сочинение Шопенгауэра «Мир как воля и представление», но это по цензурным условиям было невозможно. Тогда он удовольствовался обработкой сочинения Гартмана «Философия бессознательного», которое он частью перевел, частью изложил. Эта переработка была издана в 1873-1875 гг. в двух томах под заглавием «Сущность мирового процесса или философия бессознательного» [65]. Она нашла себе в публике огромное распространение и сразу сделала имя А.А.Козлова известным [25]. В 1876 году им была написана 1-я часть «Философских этюдов», и он стал преподавателем философии в Киевском университете. Одновременно он пишет еще ряд философских работ [6, 42]. В 1860 году защитил магистерскую диссертацию «Метод и направление философии Платона» (2-я часть «Философских этюдов») [67]. В 1884 году защитил в Петербургском университете докторскую диссертацию «Генезис теории пространства и времени Канта» [62], которая обеспечила ему место ординарного профессора Киевского университета. После инсульта, последовавшего в 1885 году, вышел в 1887 году в отставку и всю оставшуюся жизнь посвятил занятиям философией [7]. Только после болезни Козлов пришел к определенному философскому содержанию, которое и было выражено им главным образом в сборнике «Свое слово». Болезнь сильно изменила его моральный облик и развила в нем философскую религиозность [64]. Он сам, оглядывая свою жизнь в целом, видел в своей болезни божью кару, благодетельную для него по своим последствиям [7]. В 1891 году Козлов переезжает из Киева в Петербург, надеясь там завязать более живые личные и литературные отношения с людьми, интересующимися философией. Но эти надежды в основном не оправдались, за исключением того, что у него завязались сначала письменные, а потом и личные отношения с жившим в то время в Юрьеве (Дерпте) учеником и последователем Г.Тейхмюллера Е.А.Бобровым, впоследствии профессором Варшавского университета. В беседах с Е.А.Бобровым, приезжавшим нередко в Петербург, Козлов отводил свою душу, встречая в нем единственного единомышленника в сфере философии. Такую же духовную поддержку находил Козлов в последние годы в дружеском общении с более молодым кружком университетских товарищей своего сына, из которых двое, Н.О.Лосский и В.А.Юревич, прожили с ним под одной кровлей около трех лет [7]. В философии Козлова в качестве центрального элемента мира выступает Я как монада, включенная в систему иерархически организованных монад, творящих всю множественность частных проявлений бытия. Я является подлинной и неразложимой субстанцией, в которой и через которую существует весь реальный мир. Именно благодаря субстанциональному единству Я возможен систематизированный и оформленный опыт, элементы которого, взятые сами по себе, не способны к самоудержанию и связи друг с другом, к порождению ценности и смысла. Реальное единство сознания есть самоочевидный факт, обнаруживаемый во всех актах действующего субъекта. Козлов выступает против господствующего у Юма и позитивистов понимания Я как пучка восприятий, соединенных по законам ассоциации или другим механическим способом, выступает против механицизма и вульгарного биологизма, выводящих деятельность Я из взаимодействия атомов и клеточных элементов в головном мозге [108]. Вся внешняя действительность понимается Козловым в духе панпсихизма и предстает как иерархия духовных субстанций на разных ступенях их развития, в их взаимодействии и взаимообособлении [108]. Важнейшее положение философии Козлова – идеальность пространства и времени, понимаемая, однако, не в духе кантовского априоризма: мир как завершенное целое существует вне времени, но в этой своей завершенности он актуально наличествует лишь для бесконечного сознания Бога, Высочайшей из субстанций. Лишь для сознания ограниченных существ существует становление во времени. Время не имеет безлично-космического характера, оно возможно только как связанное с активностью субъектов и такими модусами их существования, как надежда, воля, желание. Время не имеет бытия вне ума и восприятия чувствующих и мыслящих существ. Бесконечная делимость времени противоречит его реальности, так как заставляет его мыслить как состоящую из действительных частей, на каждую из которых мы не можем указать как на действительную часть. Иллюзия бесконечного времени возможна лишь из-за неисчерпаемой актуальности человеческого мышления. В Боге идея времени исчезает со всеми своими подразделениями на настоящее, прошедшее и будущее. Другое ручательство в пользу идеальности времени – различия в субъективном восприятии длительности тех или иных отрезков времени. Все это не отменяет развиваемости мира, однако мир развивается не во времени, а в порядке степенной последовательности. Идея времени возникает в нас от взаимодействия нашей деятельности с деятельностью других духовных субстанций. Это индивидуальное время отлично от субъективированного времени, необходимость в котором возникает для взаимного понимания людей и их единообразной ориентировки во времени; объективированное время субстанциируется в виде пунктов и последовательностей, образующих общую для всех хронологию событий. Многие мыслители ошибочно рассматривают это субстанциированное время как подлинное время, как нечто в себе сущее [108]. В подходе к понятию времени А.А.Козлов продолжает и развивает философский подход Г.Тейхмюллера. Аналогично Козлов развивает идею пространства. Бесконечность и бесконечная делимость пространства мешают признать его реально сущим. Объективная реальность пространства требовала бы ответа на вопрос о месте его локализации, ответа, который не может быть получен. Таким образом, бесконечное пространство не может быть пространственно мыслимо. Объективируясь, пространство превращается в абстрактное или геометрическое пространство, с которым и имеют дело точные науки. Это геометрическое пространство наделяется свойствами бесконечности, непрерывности и бесконечной делимости; однако все эти свойства возможны лишь ввиду беспредельного количества актов нашей мысли, направленной на различение пространственных объектов; беспредельная актуальность нашей мысли является условием возможности бесконечного геометрического пространства. Пространство, время и движение выступают у Козлова как символы существующих действительностей и их отношений [108]. Козлов постулировал нераздельность гносеологии и онтологии. В гносеологии он различает сознание и знание. Первоначальное сознание есть нечто дорефлективное, со стороны своего содержания нечто индивидуальное, несказанное и невыразимое. Оно превращается в знание после соотнесения и сравнения с другими элементами сознания, что возможно только для субстанциально единого Я, распределяющего элементы сознания сообразно категориям. Козлов критикует кантовскую гносеологию [62]. По Козлову, суждение не вносит ничего нового в содержание сознания, а лишь обозревает его. С этой точки зрения все суждения должны быть признаны аналитическими [108]. Козлов также анализирует понятие движения, которое имеет троякий смысл: метафизический, как акты общения и взаимодействия субстанций; психологический, как смена в сознании ощущений и их ассоциаций с коррелятивными им чувствами и мыслями; и физический, как феномен перемены места материальными объектами в пространстве. Исследуя понятие материи, Козлов находит, что как первичные, так и вторичные качества существуют только в восприятии [108]. Душа для Козлова есть единая субстанция, а множественность относится лишь к ее различным состояниям, понимаемым как деятельности, или акты. Козлов признавал перевоплощение как способ бесконечной эволюции существ. Религиозное сознание он связывает с деятельностью духа в его целостности [63]. Все существующие элементы религиозных построений, переживаний, чаяний и упований рассматриваются им как моменты, подчиненные этой целостности. Церковь есть “особый институт, в котором организуется и объективируется религиозное сознание”. В конце жизни Козлов признавал родство своего панпсихизма с христианством. Бог осознается так же непосредственно, как собственное Я; идея Бога в той или иной форме необходимо присуща всем людям. Сознание Бога выражается не столько в идеях и мыслях, сколько в чувстве. Козлов отрицал те философские течения, которые заранее предрешают невозможность познания Бога [108]. В этике Козлов признавал зависимость последней от метафизики и отрицал естественную предрасположенность человека к нравственно-доброму. Нравственное есть “долженствующее быть, которое, строго говоря, никогда не бывает”. Здесь Козлов близок к Канту. В то же время в этике Козлова обнаруживаются и ницшеанские мотивы, когда он утверждает, что осуществление морального долга совпадает с возрастанием благополучия своего и чужого Я, с творчеством высших эстетических и идеальных ценностей. Отвращение, гнев и борьба суть необходимые корреляты или спутники любви к существам, без которых последняя вообще не может состояться. Основное этическое требование у Козлова – соотнесенность актов единичного существа с мировым целым и его телеологическим развитием. Персоналистическое учение Козлова оказало большое влияние на русскую философию. К числу последователей Козлова относится Н.О. Лосский [108]. Среди многочисленных философских трудов А.А.Козлова окончательным выражением его воззрений можно считать сборник «Свое слово». В помещенных там «Беседах с петербургским Сократом» Козлов излагает свои убеждения в систематическом виде, пользуясь формой диалога [21]. Диалоги эти являются не только подлинно философскими произведениями, но и смело могут быть причислены к художественным диалогам. Собеседники Сократа очерчены очень живо и представляют собой не манекенов, а подлинных живых людей, обладающих каждый своим особенным складом ума и темпераментом. Эстетическим достоинствами обладают как персонажи, заимствованные А.А.Козловым у Достоевского (Красоткин, Карамазов), так и лица, созданные собственной фантазией [21]. А.А.Козлов часто касается тех же проблем, что и Тейхмюллер, и решает их в том же духе, но изложение Козлова гораздо более доходчиво и доступно. Козлов излагает все проблемы обстоятельно, спокойно, медлительно, постоянно снабжает свое изложение историкофилософскими справками и объяснениями. Козлов и сам не скрывал глубокого влияния на свои идеи Г.Тейхмюллера [21]. А.А.Козлов исходит из различий сознания первоначального, или простого, и производного, или сложного. Простое сознание означает, что оно не произведено сложением каких-либо фактов или элементов сознания, например, сознание зрительных ощущений, красного или зеленого цвета. Сознание сложное возникает посредством сложения первоначальных элементов, идущих из разных областей. Таково сознание, например, о дереве, столе, лошади, которое слагается из отдельных ощущений зрительных (света, цвета), осязательных, пространственного созерцания [21]. О том, что кто-то думает или воображает, мы узнаем только из различных знаков, подаваемых им – слов, жестов, движений и т.п. Когда мы сами думаем или фантазируем о чем-либо, нам нет надобности в каких-либо знаках. О своем я мы получаем сознание не из чужих сообщений, для сознания о своем индивидуальном я не надо иного знания о чем-нибудь другом [21]. Мышлением именуется та деятельность нашего я, которая связывает изолированные элементы первоначального сознания и приводит их в соотношение. Мышление не механически объединяет их, а производит совершенно новые идейные продукты, подобно сложным химическим телам, получающимся из соединения тел простых [21]. Вся наша жизнь протекает только в том, что в сознании своем мы либо думаем, либо ощущаем, либо чувствуем, либо желаем то одного, то другого, то третьего: в нас происходит непрестанная смена мыслей и прочих наших внутренних состояний [21]. Одна сторона идеи бытия является понятием о бытии как о содержании, когда мы задаем вопрос «что»: что видишь, о чем думаешь, чего хочешь. Вторая сторона идеи бытия есть понятие о бытии как о деятельности. Содержание немыслимо без деятельности, равно как и деятельность немыслима без связи и отношения с содержанием. Содержание может быть оторвано в мышлении от деятельности [21]. Третья сторона понятия бытия есть я. Оно служит основанием к тому, что столь различные друг от друга элементы сознания как содержание и деятельность соединяются между собой [21]. Бытие как содержание есть совокупность всех действительных объектов, бытие как деятельность есть совокупность всех действительных актов. Бытие же как я (или субстанция), при посредстве которого все деятельности и содержания относятся друг к другу, обнимает все объекты и все деятельности; оно, значит, есть совокупность и единство объектов и деятельностей, то есть я во всем пребывает единым и неизменным [21]. А.А.Козлов большей частью разъясняет учение Г.Тейхмюллера. То же можно сказать и о Я.Ф.Озе и Е.А.Козлове. Картина примерно та же, как и у Н.В.Бугаева и его учеников. Поэтому чтобы исследовать взаимовлияние идей Московской математической школы и философских идей субъективизма, достаточно проанализировать взаимовлияние идей Н.В.Бугаева и Г.Тейхмюллера. Вывод: 23. А.А.Козлов предложил современному русскому читателю яркий и содержательный обзор основных философских учений, в последние годы он систематизировал, развил и фактически донес до широкой публики учение персонализма Г.Тейхмюллера. 2.1.3 Краткие сведения об Я.Ф.Озе Озе Яков Фридрихович (1860 – 1919). По окончании Гольдингенской гимназии в 1877 году поступает на богословский факультет Юрьевского университета, где становится учеником Тейхмюллера. С 1884 по 1888 г. – преподаватель гимназии в Феллине. В 1888 году получил в Юрьевском университете степень магистра философии за сочинение «Исследование о понятии субстанции у Лейбница». В этом же году умирающий Тейхмюллер рекомендовал его на свое место, и в 1889 году он был назначен экстраординарным профессором философии и педагогики в Юрьеве. В 1897 году, по представлении монографии «Персонализм и проективизм в метафизике Лотце» [99] был удостоен степени доктора философии в Московском университете. После эвакуации Юрьевского университета в Воронеж во время первой мировой войны он скончался там от сыпного тифа [108]. Только благодаря Я.Ф.Озе последние, наиболее важные положения Г.Тейхмюллера были систематизированы и опубликованы. В 1889 году он отредактировал и выпустил со своим предисловием посмертную работу Тейхмюллера «Neuen Grundlegung der Psychologie und logic». В своих работах в соответствии с концепциями Тейхмюллера о познании осуществил попытку рассмотреть философию как историю понятий, сравнивая понятия Аристотеля с понятиями Лейбница, а понятия Лотце с понятиями Тейхмюллера [98, 99]. 2.1.4 Е.А.Бобров и его взгляды Бобров Евгений Александрович (05.02.1867 – 12.03.1933). Окончил курс в Юрьевском университете. В 1895 году защитил диссертацию на степень магистра философии на тему «Отношение искусства к науке и нравственности», в которой высказывал идеи, выработанные под влиянием учения неолейбнианца Г.Тейхмюллера. Был профессором философии в Казанском университете, затем занимал ту же кафедру в Варшавском университете [108]. Бобров пишет [22, 23], что он имел счастье работать под личным руководством профессора Густава Тейхмюллера, главным образом над сочинениями Платона и Аристотеля. За это время он лично познакомился с его системой, пользуясь разъяснениями самого автора. “Высшей формой философского умозрения” Бобров называл учение “критического индивидуализма” или “панпсихизма” (то есть признания всеобщей одушевленности мира) [24, 100], имея в виду под этим понятием прежде всего учение Лейбница (“полная и строгая система критического индивидуализма”) [18, 20] и неолейбницианцев: Лотце, Тейхмюллера и А.А.Козлова [18]. Бобров утверждал, что “новая философия – со времен Декарта есть философия критического индивидуализма”, то есть вместо общих сущностей (“Я” как субстанция, вселенский разум) она стала рассматривать в качестве субстанции “единоличный мир сознания”. К важнейшим ее представителям Бобров относил, помимо Декарта, Лейбница и Канта. Философ доказывал необходимость создания (сверх логики Аристотеля) “новой логики” критического индивидуализма [108]. Индивидуальность – это монада Лейбница. Тейхмюллер пошел дальше Лейбница и ввел понятие “личности” как развившегося “Я”, “Я” с самопознанием. Философ пытался выработать основы для построения онтологии, то есть общего учения о бытии с точки зрения критического индивидуализма. Основное понятие для классификации философских направлений, а также основание онтологии – это понятие самосознания в психологии. Бобров дополняет три рода бытия Тейхмюллера: субстанциальное (непосредственное сознание “Я”), реальное (наши “акты жизни”) и идейное (содержание познавательной деятельности души) четвертым родом бытия – координальным. Бытие координальное – это само мышление, разъединяющее или соединяющее полноту живого бытия сознания или бытия индивидуального [17]. В истории философии, согласно Боброву, этой паре понятий соответствовали пары категорий единого и многого, индивидуального и общего. Бытие координальное и бытие индивидуальное гносеологически и онтологически описывают все сущее – все, что появляется в мысли и сознании, и все, что есть в реальном мире [108]. Бобров подчеркивал огромную важность для критических индивидуалистов изучения малоисследованной философии Лейбница, а также учений Лотце и Тейхмюллера. Заслугой последнего объявлялось отрицание идеи предустановленной гармонии Лейбница как гипотезы бесплодной. В более ранних работах высоко оценивалось признание Тейхмюллером взаимодействия субстанций, выделения трех родов бытия, а также признания познаваемости кантовской вещи-в-себе. Бобров призывал хорошенько понять Лейбница, а не искать у него противоречий: их, на самом деле, у него нет! [108] Бобров также занимался историей философии в России. Он анализировал жизнь и труды А.А.Козлова, Г.Тейхмюллера, И.Шада, Д.М.Велланского, А.Н.Радищева, философов при духовных академиях в XVIII веке и др. [19, 26]. Бобров в духе бесстрастного изучения истины рассматривал жизнь и творчество Толстого, Гоголя, Лейбница, Белинского и др. Наследие Боброва разнообразно и весьма обширно. Его сочинения имеют в основном просветительское значение и важны для понимания истории философии, истории литературы и культуры в Европе и России [108]. В процитированном источнике [108] не совсем ясно отражено отношение Е.А.Боброва к учению Г.Тейхмюллера. На самом деле, это отношение существенно менялось в разные периоды жизни Е.Н.Боброва. Если в молодости Бобров в восторге от учения Г.Тейхмюллера и с гордостью называет себя его единственным российским учеником [25], то уже через семь лет это отношение доходит уже до весьма яростной критики в адрес своего бывшего учителя по поводу его отношения к учению Лейбница [27]. Г.Тейхмюллер, как и Н.В.Бугаев, категорически не принимал у Лейбница по сути самого главного в его философии – предустановленной гармонии монад. Фактически предустановленная гармония является крайним выражением объективного идеализма, где все существа представляются полными марионетками, развивающими замысел Творца; более того, в силу безмерной мудрости Творца Он запланировал к созданию самый лучший из возможных миров, поэтому и Он сам не может ничего изменить в существовании даже единственной монады. Г.Тейхмюллер считал, что это полностью противоречит опыту. Е.Н.Бобров настолько въедливо и нелицеприятно критикует все критические аргументы Тейхмюллера, высказываемые им по адресу учения Лейбница [27] (весьма желчно пользуясь некоторой легковесностью и, пожалуй, чрезмерной для философа образностью, присущей стилю Тейхмюллера), что возникает ощущение на грани уверенности, что Е.Н.Бобров окончательно изменил персонализму Г.Тейхмюллера и предпочитает механический идеализм Лейбница. Интересно, что Е.Н.Бобров в своих многочисленных очерках по истории философии в России не упоминает об идеях Московской философско-математической школы и Н.В.Бугаева. Для него Н.В.Бугаев и его ученики не являлись философами, во всяком случае, достойными упоминания. 2.1.5 Философия критического персонализма: ее возникновение и развитие Персонализм как явление философской и культурной мысли возник, по-видимому, при попытке преодоления накапливающихся противоречий между позитивизмом, все больше скатывавшимся к механическому детерминизму, и объективным идеализмом, несущим в себе похожую мысль о фатальности, предрешенности человеческого бытия. Эти, казалось бы, два диаметрально противоположных учения сходились в одном – они лишали человеческую личность свободы и инициативы. Почувствовал это противоречие еще Лейбниц, родоначальник как детерминизма, так и теории предустановленной гармонии, полностью обесценивающей любые попытки человека к изменению внешнего мира. Г.Тейхмюллер и А.А.Козлов были одними из первых, кто попытался преодолеть этот кризис философской мысли. Но они не были просто гениальными одиночками. По-видимому, само ощущение необходимости разрешения этого кризиса буквально висело тогда в воздухе. В определенном смысле можно считать, что идею персонализма выразили еще народники. Об этом может свидетельствовать девиз В.Г.Белинского: «Человеческая личность выше истории, выше общества, выше человечества». Позже эту формулу развил идеолог крестьянского социализма Н.К.Михайловский: «Единицей меры при определении различных форм государственного общежития может быть только человеческая личность. Человеческая личность, ее судьбы, ее интересы, вот что должно быть поставлено во главу угла нашей теоретической мысли и нашей практической деятельности». По представлениям народников личность не могла занять достойное положение ни при капитализме, ни при царской диктатуре [55]. Н.В.Бугаев и его ученики фактически также могут быть причислены к стихийным персоналистам. Существуют мнения, что одним из первых персоналистов в литературе был Ф.М.Достоевский, пытавшийся разрешить в художественной форме целый ряд нравственно-психологических и религиозно-философских проблем, таких как свобода и ответственность личности, ее своеволие и право, кротость и насилие, власть и подчинение, страдание и сознание. Вслед за Достоевским концепцию персонализма развивали русские символисты – Вяч.Иванов, А.Белый, отчасти А.Блок, из философов – Н.Бердяев и Л.Шестов, Н.Лосский и С.Булгаков [71]. Из более поздних русских мыслителей близко соприкоснулся с персонализмом М.Бахтин, который, следуя за Вяч.Ивановым, развил идеи философского полифонизма и диалогизма в мире, апеллируя к идеям и образам Достоевского. К традиции русского персонализма по разному примыкают С.Л.Рубинштейн, Г.С.Батищев, Ю.Ф.Карякин, Н.Н.Трубников, М.Б.Туровский, В.С.Библер. На французский персонализм Э.Мунье и Г.Мадинье повлиял и русский персонализм (прежде всего Н.Бердяев) [71]. Возможно, социокультурные корни персонализма – это внутренний протест наиболее передовых мыслителей вначале против бездушной бюрократической машины российского самодержавия, а впоследствии против советской государственной системы. Концепция позитивистской причинности бесплодна: человек состоит из такого количества сложнейших элементов, что организм, а тем более психика практически не могут быть сведены к физико-химическому уровню. Концепции объективного идеализма и предустановленной гармонии также бесплодны в силу своей фаталистичности: человек догматически, по определению лишается всех рычагов воздействия на окружающий мир. Ценность персонализма в том, что он позволил отойти от бесплодной в практическом плане механистической концепции грубой причинности, с одной стороны, и от фаталистической предустановленной гармонии, с другой стороны, и, тем самым, подойти к изучению человека и культуры с конструктивных, плодотворных позиций. В чем же ценность основной идеи персонализма? Казалось бы, понятие личности знакомо всем и весьма тривиально. Однако, оно не является таким простым. Еще У.Джемс разделял составные элементы личности на три класса: физическую личность, социальную личность и духовную личность [49]. Пещерный человек вообще не имел понятия «я», понятия индивидуальности [109]. Письменность возникла всего несколько тысяч лет назад. Человек как современный вид – несколько миллионов лет назад. Человек имеет письменность всего одну тысячную времени своего существования. Как если бы кто-то пятьдесят лет вел жизнь пещерного человека и всего две недели назад научился письменности. 99.9 % времени своего существования человечество было абсолютно диким. А понятие своего «я» у человека полноценно сформировалось в последние 0.001 % времени его существования. В древности человек если и ощущал себя чем-то отдельным, то лишь песчинкой в массе других песчинок среди бушующих стихий природы. Религия, объективный идеализм не дали человеку даже частичного осознания своей персоны. Все в руках Божиих… Волоса единого не упадет… И тело, и душа человека принадлежат Богу. И вдруг существенный прорыв вперед. Если я нажимаю на свой закрытый глаз и вижу цветовые пятна, значит мои органы чувств могут обманывать меня. А что, если… Если весь мир только в моем воображении? Это субъективный идеализм. В нем тоже нет подлинного сознания личности. Личность была ничем, стала всем миром. Другая крайность. Сейчас это выглядит просто смешным для неискушенного человека. Надо же, вообразить себе такую чушь. А было время, когда эта проблема занимала лучшие умы человечества, например, Лейбница. Я – это весь мир. Но вот передо мной сидит Ганс. Он тоже считает, что он целый мир. А вот сидит Фриц. Он тоже считает, что весь мир – только его ощущения. – Как же так? – мучительно думал Лейбниц. – Как же примирить это противоречие? И он «примиряет» его принципом предустановленной гармонии. Все мы – игрушки в руках Бога, но не паяцы объективного идеализма, а автоматические игрушки, реализующие заложенные в них Богом программы. Это тоже своеобразный объективный идеализм, идеализм одного начального толчка, одномоментного творения. Снова от личности ничего не остается. Воистину понятие, ощущение личности рождалось в муках. Вполне возможно, что восхвалявшаяся славянофилами российская общинность и соборность была лишь этапом на пути осознания русским человеком собственной личности. Вот что пишет Н.А.Бердяев: «Русский народ слишком живет в национально-стихийном коллективизме, и в нем не окрепло еще сознание личности, ее достоинства и ее прав. В русской темной стихии есть вечные мистические реакции против всякой культуры, против личного начала, против прав и достоинства личности, против всяких ценностей. Совершенно неверно, когда говорят, что новый советский человек есть человек коллективный и живет в коллективе, а старый интеллигент был индивидуалистом. Старый интеллигент в преобладающей своей массе тоже жил в коллективе, и суждения его были коллективными. Прошлый человек гораздо более коллективистичен, чем индивидуалистичен. Всегда редки были люди индивидуальной мысли и индивидуальных суждений» [15]. В этой связи следует отметить, что мироощущение Н.В.Бугаева было весьма противоречивым. Несмотря на свою яркую индивидуальность, он был типичным представителем «профессорской» прослойки в русской интеллигенции, ему совсем не хотелось расставаться с материальными благами, которые он завоевал упорным трудом, и ему очень хотелось верить, что реформы, в которых он и сам активно участвовал, способны устранить противоречия российского самодержавия. И сейчас нельзя быть уверенным в том, что обычный средний человек имеет полноценное ощущение своей личности. Мой муж, моя жена, мои дети… Члены моей семьи – это словно части моего тела, словно еще одна моя рука: хочу – подниму вверх, хочу – опущу вниз. Эффект толпы, сталинизм в России, фашизм в Германии, – были бы они возможны при полноценном ощущении каждым человеком своей личности? Есть объективные причины того, что психологически человеку не так просто выделить себя из окружающей среды. Человек – существенно открытая система, которая необходимо должна взаимодействовать с окружающей средой, чтобы выжить. Человек должен принимать пищу и пить, то есть постоянно вводить внутрь своего тела инородные тела. Человек вдыхает воздух. Женщина рождает ребенка. И очевидно, что это – часть ее тела, часть ее «я». Человек не может парить в воздухе, он должен все время опираться на что-то. Человек почти все время должен находиться в одежде, это как бы часть его тела. Человек ощущает запахи, ощущает звуковые и световые волны. Возможно, определенная девиантность в ощущении, осознании собственной личности закреплена эволюционно. С одной стороны – необходимость спаривания для продолжения рода, с другой стороны – инстинкт самосохранения, стремление избежать контакта с опасностью. Психологически у человека есть ощущение некоего комфортного безопасного расстояния (причем интересно, что у разных народов это расстояние разное), и если другой человек приближается слишком близко, это вызывает чувство дискомфорта, опасности. Здесь человек как бы расширяет физические границы своей личности. Поездки в переполненном общественном транспорте для такого человека – это жестокое насилие над личностью, которое необходимо должно приводить к стрессам и неврозам. Но если несколько поколений ездят в переполненном транспорте, не приводит ли это к обратной девиации – когда человек уже не ощущает своего тела своим? Аскеты и сектанты всячески истязали свое тело как что-то чуждое их личности. И вообще, отношение к своему телу как к чему-то отчасти чуждому не является необычным [35]. Чем как не девиантностью в самосознании, в ощущении своей личности можно назвать факты, когда человек, зная, что курить опасно для здоровья, продолжает курить; зная, что пить много спиртного вредно, он продолжает пить; зная, что есть много вредно, продолжает есть. Возможно, кроме факторов наркотического привыкания здесь участвует и фактор некоторого ощущения чуждости своего тела, своей бренной оболочки. Это ощущение особенно отчетливо проявляется при попытках суицида. Прежде чем подняться до осознания человека внутри культуры, нужно было выделить человека как обособленную единицу. И это делают Н.В.Бугаев и Г.Тейхмюллер, Бугаев – с помощью понятия взаимодействующих друг с другом, но самотождественных единиц, монад. Прежде, чем осознать культуру в целом, нужно обособить мысленно различные культуры в историческом и географическом, государственном или языковом смысле, выделить различные цивилизации [74, 114, 122], различные течения внутри культуры. Вывод: 24. Персонализм пытался преодолеть противоречия между материализмом и идеализмом, поставив в центр рассмотрения человеческую личность. Возможно, социокультурные корни персонализма – это внутренний протест наиболее передовых мыслителей вначале против бездушной бюрократической машины российского самодержавия, а впоследствии против советской государственной системы. Процесс осознания человеком себя как личности явно не завершен; возможно, на этом пути имеется ряд объективных трудностей. 2.1.6 О взаимном влиянии Московской философско-математической школы и русских философских школ Если попытаться разобраться, как идеи персонализма, панпсихизма и разрывности взаимодействовали между собой, перед мысленным взором нашим встает поистине детективная история. Мы имеем два опорных момента – 1893 год, когда Н.В.Бугаев написал «Основные начала эволюционной монадологии», и 1898 год, работа «Математика и научно-философское миросозерцание». Без сомнения, на эволюционную монадологию Бугаева повлияла монадология Лейбница. Бугаев на протяжении многих лет упорно штудировал философские труды. Лейбниц до 1890 года не издавался в России по-русски, но Бугаев хорошо знал немецкий язык, слушал лекции в Германии на немецком языке. Но было ли время у него разбираться в туманных сложных философских трудах Лейбница? Он взял у Лейбница только сам термин монада, разумея под ним лишь определенное единство. Больше он у Лейбница не взял ничего, более того, потом яростно боролся против предустановленной гармонии монад Лейбница. Е.А.Бобров в 1890 году изложил монадологию Лейбница в русском переводе в трудах Московского психологического общества [87]. В Московском психологическом обществе активно работал Л.М.Лопатин, приятель Н.В.Бугаева. С очень большой вероятностью можно считать, что Н.В.Бугаев мог быть знаком с переводом Е.А.Боброва. Последний учился в Юрьевском университете в последние годы жизни Г.Тейхмюллера и страстно увлекся его учением. Он получил основные сведения об учении Г.Тейхмюллера в личных философских беседах с последним. Уже сам перевод Лейбница был сделан Бобровым в попытке разобраться в монадологии Тейхмюллера, и этот перевод был фактически сделан под ракурсом учения Тейхмюллера. Г.Тейхмюллер первым предложил концепцию взаимодействия монад. Он обосновал естественность антропоцентризма в человеческом мышлении. Но Г.Тейхмюллер умер в 1888 году, оставив многие свои идеи в неопубликованном виде, и только Я.Ф.Озе издал их в 1891 году на немецком языке. Н.В.Бугаев хорошо знал немецкий. Язык Г.Тейхмюллера очень сложен, но за три года Бугаев мог разобраться в нем. Кроме того, Озе предварил сочинение Г.Тейхмюллера большим предисловием, излагавшим учение великого философа в более доходчивой форме. Но идея взаимодействия монад у Г.Тейхмюллера не поставлена во главу угла. Тейхмюллер строил целую философскую систему, и идея взаимодействия монад у него спрятана весьма глубоко, во всяком случае, не лежит на поверхности. А.А.Козлов систематизировал и четко изложил учение Г.Тейхмюллера более простыми словами, но было это уже в 1894 году [61, 66], через год после опубликования эволюционной монадологии Бугаевым. В принципе, Н.В.Бугаев мог подхватить идею о взаимодействии монад у Г.Тейхмюллера. Но он не упоминает последнего в своей работе. Учитывая высокую порядочность и кристальную честность Н.В.Бугаева, по-видимому, возможен выбор только из двух вариантов: 1) Бугаев пришел к идее взаимодействия монад абсолютно независимо от Г.Тейхмюллера; 2) Бугаев использовал идею о взаимодействии монад Г.Тейхмюллера неосознанно, не зная, что это идея Г.Тейхмюллера, он мог подхватить ее, потому что она уже витала в воздухе, обсуждалась в философских спорах, но без упоминания имени Г.Тейхмюллера. Против второго варианта выступает факт, что никто из многочисленного собрания, слушавшего лекцию Н.В.Бугаева об эволюционной монадологии, не указал Бугаеву на то, что идею о взаимодействии монад уже высказывал Г.Тейхмюллер. Значит, никто об этом не знал. В общем-то, приходится склониться к выводу, что философская мысль, в частности учение персонализма Г.Тейхмюллера, подхваченное Я.Ф.Озе, А.А.Козловым и Е.А.Бобровым, существовала совершенно независимо и никак не повлияла на становление взглядов представителей Московской философско-математической школы. Уже после смерти Н.В.Бугаева П.А.Некрасов вскользь упоминает Г.Тейхмюллера в своей объемной работе [95]; более подробно рассматривает учение Г.Тейхмюллера В.Г.Алексеев [4], но тоже после смерти Н.В.Бугаева. Точно также следует сказать, что учение Н.В.Бугаева не имела сильной реакции в российской философской среде. Н.О.Лосский продолжал учение Тейхмюллера и Козлова. И только П.А.Флоренский напрямую продолжил и даже попытался развить идеи Н.В.Бугаева, но после окончания университета оставил эту попытку, увлекшись богословием. Скорее, идеи Н.В.Бугаева повлияли на будущую философскую мысль весьма хитрым, опосредованным образом. Эти идеи были переработаны математиками и механиками в понятия теории систем, теории устойчивости, теории особых точек, теории стратификации, теории бифуркаций и т.п. А затем эти идеи были ассимилированы философами и введены ими в философские системы. Учение Н.В.Бугаева долго клеймили как панпсихизм, не замечая символичности, образности и поэтичности его панпсихизма, которые он сам подчеркивал. Своим панпсихизмом Бугаев лишь хотел сказать, что руками и ногами человека командуют не приказы составляющих их клеток, а воля и сознание человека, его душа. Для понимания действий человека не нужно описывать состояние его клеток. Большой системой командует не миллион переменных, а несколько основных переменных, доминирующих параметров порядка. Н.В.Бугаев, конечно, был индивидуалист и не мог делать мощный акцент на мысли, что поведение человека не только не определяется поведением его клеток, но даже не полностью определяется его сознанием и волей, а большей частью определяется его социокультурными связями. Но он высказал эту мысль неоднократно, обсуждая свои сложные монады. Сложная монада «общество» у него имеет душу, это значит, что не взаимодействия миллионов клеточеклюдей управляют обществом, а лишь несколько главных переменных, несколько параметров порядка описывают «душу» общества, а уже это общество управляет человеком как песчинкой. Бугаев описывает сложные монады в виде коллективов, один и тот же человек у него может входить одновременно в несколько сложных монад. И каждая сложная монада имеет свою собственную душу. Это значит, что Н.В.Бугаев не проповедовал идею панпсихизма, монада у него лишь абстракция, он лишь хотел четко подчеркнуть, что поведение человека жестко определяется его социокультурным окружением и культурным воспитанием. И его страстные проповеди в защиту свободы воли от их повторения и варьирования не добавляют убедительности его понятию свободы, а все больше приближают его к понятию духовной необходимости, диктуемой извне, а свобода в этой необходимости – лишь страстный протест, мятеж рвущейся души, кратковременная попытка вырваться, не приводящая к успеху. Богатство Н.В.Бугаева как личности в эмоциональном, волевом и мыслительном аспекте привели к тому, что он синтезировал в себе и высказал в слегка завуалированной поэтической форме основную идею, концепцию, которая хоронила позитивизм как философское учение, идею о сверхвзаимодействии, о переходе большого количества составляющих элементов системы в новое качество, которое начинает управлять самой системой. В этом идея Н.В.Бугаева очень близка основной идее культурологии, которая пытается рассматривать человеческую культуру в ее целостности, как большую систему, пытаясь показать, что у культуры есть «душа», «сознание», и это сознание управляет «руками и ногами» человечества, управляет государствами и отдельными людьми, управляет социальными взаимодействиями, управляет искусством и художниками, управляет наукой и учеными, управляет техникой и инженерами, управляет философией и философами. Несколько основных переменных величин, взаимодействуя, определяют всё. Не нужно описывать все идеи каждого человека во всем их многообразии, чтобы предсказать его поведение. Параметры порядка подчиняют себе всё. Выводы: 25. Учение персонализма Г.Тейхмюллера оказало большое влияние на русскую и зарубежную философскую мысль; вместе с тем, с наибольшей вероятностью следует признать, что Н.В.Бугаев сформировал свое учение об эволюционной монадологии совершенно независимо от Г.Тейхмюллера. 26. Ученик Г.Тейхмюллера и А.А.Козлова – Е.А.Бобров был блестящим популяризатором; вместе с тем именно сделанный им в молодые годы перевод сочинений Лейбница мог стать тем катализатором, который привел Н.В.Бугаева к эволюционной монадологии. 27. Скрытый персонализм Н.В.Бугаева, скорее всего, никак не связан с философским учением персонализма Г.Тейхмюллера и А.А.Козлова; влияние идей Н.В.Бугаева на русскую и зарубежную философию, по-видимому, носит весьма опосредованный характер, где посредником выступают естественно-научные представления. 2.1.7 Биография и взгляды Н.О.Лосского Лосский Николай Онуфриевич (24.11/6.12.1870-24.01.1965) – один из крупнейших русских философов, представитель интуитивизма и персонализма. В юности увлекался революционнодемократическими и атеистическими идеями, за что был исключен из гимназии. После этого некоторое время учился в Берне. В 1891 году вернулся в Россию и поступил на естественное отделение физико-математического факультета, а затем на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. Был оставлен при университете для подготовки к профессуре, в это время посетил университеты Германии и Швейцарии, слушал лекции В.Виндельбанда, В.Вундта, Г.Мюллера. Степень магистра философии получил в 1903 году, доктора – в 1907 году, после чего становится доцентом, а в 1916 году – экстраординарным профессором Петербургского университета [1]. Наряду с университетской деятельностью участвовал в философской жизни России начала XX века. В 1921 году уволен из университета как «идеалист», в 1922 году выслан из России. По приглашению Т.Г.Масарика перебрался в Прагу, работал в Русском университете. В 1942 году был избран профессором философии Братиславского университета, где оставался до конца войны. В 1945 году переехал во Францию, в 1946 году – в США, преподавал в Русской духовной академии в Нью-Йорке [1]. Основные произведения – «Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма», «Обоснование интуитивизма», «Интуитивная философия Бергсона», «Материя в системе органического мировоззрения», «Мир как органическое целое», «Введение в философию», «Материя и жизнь», «Свобода воли», «Ценность и Бытие», «Типы мировоззрений», «Условия абсолютного добра» [83], «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция», «История русской философии», «Достоевский и его христианское миропонимание» [1]. Свое философское учение, в котором с достаточной систематической полнотой изложены проблемы гносеологии, онтологии, антропологии, аксиологии, этики, отчасти эстетики и некоторые направления истории философии, Лосский характеризовал как органическое идеалреалистическое мировоззрение, интуитивизм, иерархический персонализм, мистический эмпиризм. Из европейских мыслителей Лосскому наиболее близок был Лейбниц, из русской философии на него повлияли персонализм А.А.Козлова и метафизика всеединства В.С.Соловьева. С 20-х годов все большее значение для Лосского приобретают фундаментальные идеи православного богословия (его сын Владимир Лосский был одним из крупнейших русских богословов XX века). Главную задачу разрабатываемой им метафизики, одно из центральных мест в которой занимают вопросы гносеологии, Лосский определяет как положительное решение проблемы: «все имманентно всему». Согласно этому принципу, бытие внешнего мира дается познающему субъекту непосредственно, со всеми существующими в нем связями. В процессе познания объект трансцендентен в отношении к познающему Я, но имманентен самому процессу познания. Интуиция как непосредственное сознавание субъектом не только процессов его собственной внутренней жизни, но и жизни внешнего мира основывается Лосским на «гносеологической координации», на своеобразном, непричинном отношении субъекта ко всем отличным от него «сущностям» в мире. Однако само это отношение не есть еще собственно познание. Последнее начинается в том случае, когда субъект направляет на объект серию интенциональных актов: осознания, внимания, дифференциации и т.д., и осуществляется, согласно Лосскому, посредством трех типов интуиции: чувственной, интеллектуальной и мистической. Сам Лосский проводил грань между своим интуитивизмом и интуитивизмом Бергсона: последний признает иррациональность бытия, у первого рационально-систематическая структура полагается существенной стороной реальности, постигаемой путем интеллектуальной интуиции. Исходя из принципа тотальной имманентности, Лосский разрабатывает и свою онтологию, совмещая в ней принципы монадологии Лейбница, идею органической целостности сущего и некоторые положения апофатической теологии, в силу чего она принимает существенно антиномичный характер. С одной стороны, вводя понятие «субстанциальный деятель», весьма напоминающее «монады» Лейбница, Лосский утверждает множественность в бытии, с другой – учением об Абсолюте как Едином Сверхмировом и Сверхсистемном начале, стоящем в качестве основы над миром, то есть системой «субстанциальных деятелей» и их отношений между собой, нейтрализует радикальный плюрализм миробытия и утверждает его органическое, живое единство и целостность. Согласно учению Лосского, каждый «субстанциальный деятель», обладая активностью, творческой силой, самостоятельностью и свободой выбора, может развиваться, поднимаясь на более высокие ступени бытия и усваивая более сложные типы жизни, достигая в конце концов Царства Божия, членом которого он и становится. Наивысшей степенью развития «субстанциального деятеля» или их «союза» является человеческая личность. Возможен и другой путь развития «субстанциальных деятелей» – путь от Бога или вне Бога: такие деятели образуют «царство грешного бытия». Абсолютное Сверхмировое начало, которое является предметом не интеллектуальной, а мистической интуиции, Лосский, опираясь на идеи апофатического богословия, характеризует как невыразимое в понятиях «Божественное Ничто», которое, однако, не есть простая абстракция, но «высшая положительная конкретность», абсолютная полнота всякого «что»; ее непосредственное созерцание осуществляется в религиозном опыте. В систему онтологии он включает и концепцию перевоплощения (метаморфозиса), разработанную Лейбницем, но указывает на существенные пункты, которыми его учение о «субстанциальных деятелях» отличается от монадологии Лейбница и концепции личности В.Штерна: прежде всего это реалистическая, а не субъективистская интерпретация материальных процессов, признание «консубстанциальности» субстанциальных деятелей, а также отрицание психофизического параллелизма и утверждение зависимости материальных процессов от психических. Свое понятие «субстанциального деятеля» Лосский, кроме того, отличает от понятия гносеологического Я в системе Риккерта и от трансцендентального Я в философии Гуссерля. Фундаментальной предпосылкой аксиологии Лосского стало положение о том, что «само бытие, само еssе есть не только бытие, но и ценность». Бог и царство Божие являются высшей, абсолютно совершенной ценностью и основой всех относительных ценностей, поскольку конечной целью всякого существа служит абсолютная полнота бытия, которая актуально осуществлена в Боге и есть Бог, в силу чего Он становится предметом универсальной общетварной устремленности, основой и залогом совершенства всякого существа. В учении о ценностях Лосский использует восточнохристианскую мистическую идею «обожения»: так как реальное единство бытия и ценности существует только в Божественной жизни, а в человеческом мире оно возможно лишь в форме идеала, то для реализации абсолютных ценностей в мире должно произойти «конкретное единосущее» человеческого рода, которое понимается им как единение человека с Богом и в Боге со всем миром, совершающееся на основе любви, ибо только любовь есть совершенное приятие чужого бытия. В этике Лосского также находит свое отражение идея Абсолюта, «Божественного Ничто», которое открывается в религиозном опыте не только как абсолютная полнота бытия, но и как само Нравственное Добро, Любовь и Истина. Сферой абсолютно морального бытия является Царство Божие, которого стремится достичь всякий «субстанциальный деятель», имеющий в себе любовь и обладающий свободой воли. Исходя из концепции Царства Божия и описывая Бога не только как абсолютное Благо, но и как абсолютную Красоту, Лосский разрабатывает и эстететическую проблематику. Подобно идеальному благу, идеальная красота, которая есть «совершенная духовная жизнь, посвященная творению и ассимилированию абсолютных ценностей», также реализуется в Царстве Божием. Утверждением о существовании абсолютной красоты отвергается всякий релятивизм в эстетике [1]. В своих поздних работах и статьях Лосский более полно и осознанно обращается к идеям православного мировоззрения, стремясь органично ввести их в состав собственного учения. Он автор одного из наиболее полных исследований по истории русской философии. О своем творческом пути и долгой, насыщенной событиями жизни написал книгу «Воспоминания. Жизнь и философский путь» [1]. Вывод: 28. На мировоззрение Н.О.Лосского оказало определенное влияние учение персонализма Г.Тейхмюллера и А.А.Козлова; вместе с тем, нет никаких указаний на то, что он мог воспринять идеи Московской философско-математической школы. 2.2. Влияние идей Московской философско-математической школы на философию П.А.Флоренского Флоренский Павел Александрович (09.01.1882-08.12.1937) – священник, религиозный мыслитель, ученый. Родился близ местечка Евлах Елисафетпольской губернии, где его отец – в то время инженер путей сообщения – строил участок Закавказской железной дороги. А.И.Флоренский (1850-1908) – русский, сын врача, происходил из рода костромского духовенства. Он дослужился до помощника начальника Кавказского округа путей сообщения, до чина действительного статского советника (4-й класс), дающего право на потомственное дворянство (к 4-му классу принадлежали генерал-майор, контр-адмирал, обер-прокурор, камергер). Мать – Ольга Павловна (урожд. Сапарова, 1859-1951) – армянка, происходила из древнего и культурного рода карабахских беков, поселившегося в Грузии. В числе ее предков были и грузины [108]. Детство Флоренский провел в Тифлисе и Батуми, где отец строил военную БатумоАхалцихскую дорогу. Учился во 2-й Тифлисской классической гимназии вместе с Д.Бурлюком, А.Ельчаниновым, В.Эрном, Л.Б. Розенфельдом (Каменевым). Летом 1899 г. Флоренский пережил духовный кризис, когда ему открылась ограниченность физического знания. Результатом этого кризиса был приход к Богу и интерес к религии. В этом состоянии Флоренский воспринял также влияние нравственного учения Льва Толстого [108]. В 1900 году Флоренский поступил на физико-математический факультет Московского университета по отделению чистой математики. Большое влияние на него здесь оказал один из основателей Московской философско-математической школы Н.В.Бугаев, развивший оригинальное учение, названное им аритмологией (учением о прерывности). Флоренский тоже искал путей преодоления господствовавших типов миросозерцании, основанных на идее непрерывности. В аритмологию Бугаева Флоренский внес существенно новое: идеи теории множеств Георга Кантора. Работа Флоренского «О символах бесконечности» (1904) была первой печатной работой по теории множеств в России. Свое кандидатское сочинение «Об особенностях плоских кривых как местах нарушения ее непрерывности» Флоренский предполагал сделать частью большой работы философского характера «Прерывность как элемент миросозерцания». Синтез теории множеств Кантора и аритмологии Бугаева есть, как виделось Флоренскому, универсальный метод решения проблем не только математики, но и других областей знания («философско-математический синтез»). При этом точку и число он понимал как живую монаду, «умный первоорганизм» [108]. В эти же годы юности Флоренского у него выросло и утвердилось коренное убеждение, что все возможные закономерности бытия уже содержатся в чистой математике как первом конкретном, а потому доступном использованию, само-обнаружении принципов мышления – то, что можно было бы назвать математическим идеализмом; и в связи с этим убеждением явилась потребность построить себе философское миропонимание, опирающееся на углубленные основы математического познания [51]. Параллельно занятиям математикой Флоренский активно участвует в Студенческом историкофилологическом обществе, созданном по инициативе кн. С.Н.Трубецкого. Под руководством С.Н.Трубецкого Флоренский написал работу «Идея Бога в платоновском государстве». Под руководством Л.М.Лопатина – работу «Учение Дж.Ст.Милля об индуктивном происхождении геометрических понятий» [108]. В марте 1904 Флоренский познакомился с будущим своим духовником, епископом-старцем Антонием (Флоренсовым), который жил на покое в Донском монастыре. Епископ Антоний не благословил Флоренского принимать монашество, к которому тот стремился, но направил учиться в Московскую духовную академию (МДА). В годы своего второго студенчества (1904-1908) Флоренский стал близок со старцем Гефсиманского скита иеромонахом Исидором (умер в 1908 г.). Курс МДА Флоренский окончил первым. Кандидатское сочинение «О религиозной истине» легло в основу его магистерской диссертации. 23 сентября 1908 года после прочтения двух пробных лекций, Флоренский был утвержден исправляющим должность доцента МДА по кафедре истории философии. За время преподавания в МДА (1908-1919) Флоренский создал ряд оригинальных курсов по истории античной философии, философии культуры и культа, кантовской философии, лишь некоторые разделы которых были опубликованы [123, 125, 126]. Оценивая вклад Флоренского в изучение платонизма, А.Ф.Лосев писал: «Он дал концепцию платонизма, по глубине и тонкости превосходящую все, что когда-нибудь я читал о Платоне... Новое, что вносит Флоренский в понимание платонизма, это – учение о лике и магическом имени. Платоновская идея – выразительна, она имеет определенный живой лик» [128]. Живое существо – это наиболее наглядное проявление идеи. Идея есть монада-единица, но особого рода «бесконечная единица». Идеи Платона соответствуют имени: «То, что познается, – идея Платона – есть точное соответствие имени, внутреннюю силу которого постигает кудесник в своем волховании. И эти полновесные имена также относятся к обычным именам-кличкам, как идеи Платона – к пустым рассудочным понятиям» [82]. Таким образом, идея Платона единит в себе силу-субстанцию-слово, формирующее само бытие вещи [108]. 25 августа 1910 года Флоренский вступил в брак с Анной Михайловной (урожд. Гиацинтовой, 1889-1973). 23 апреля 1911 года Флоренский был рукоположен ректором МДА епископом Волоколамским Феодором (Поздеевским) в сан диакона, а на следующий день в сан священника к Благовещенской церкви села Благовещения в 2,5 км к северо-западу от Троице-Сергиевой Лавры. С 13(26) сент. 1912 года по 4(17) мая 1917 года Флоренский служил в Сергиево-Посадской церкви убежища (приюта) сестер милосердия Красного Креста [108]. 28 сентября 1912 года Флоренский был назначен редактором журнала МДА «Богословский вестник», который он возглавлял по 3 мая 1917 года. Сохраняя церковность и традиционную академичность, журнал в этот период публиковал многочисленные статьи философского, литературного и даже математического характера [108]. 19 мая 1914 года состоялась защита магистерской диссертации «О Духовной Истине. Опыт православной теодицеи» [124] и в августе 1914 года Флоренский был утвержден в ученой степени магистра богословия и в звании экстраординарного профессора МДА по кафедре истории философии. В том же году вышел самый известный труд Флоренского «Столп и утверждение Истины. Опыт православной Теодицеи» [108] . После Февральской революции 1917 года Флоренский был отстранен от редактирования «Богословского вестника», а вскоре после Октябрьской революции закрылась МДА [108]. 22 октября 1918 года Флоренский был приглашен в Комиссию по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры. Так началась его госслужба. Флоренский остался на родине и верно служил своему народу, а отнюдь не большевистской власти. В результате деятельности Комиссии было принято и научно описано огромное историко-художественное богатство Лавры и спасено национальное достояние неизмеримой духовной и материальной ценности. С мая 1920 года Флоренский участвовал в работе византийской секции Московского института историко-художественных изысканий и музееведения (МИХИМ) при Российской Академии истории материальной культуры Наркомпроса, а также в работах по организации Русского (ныне Государственного) Исторического музея [108]. В 1921 году Флоренский был избран профессором ВХУТЕМАСа по кафедре анализа пространственности в художественных произведениях на печатно-графическом факультете. В это время он сотрудничал с литературно-художественным объединением «Маковец», задачу которого он видел в том, чтобы стать средоточной возвышенностью русской культуры, культивировать сознание необходимости праведного отношения к жизни, желание и решение пробиваться к реальности. С 1920 года Флоренский начал работать на московском заводе «Карболит». Деятельность завода была связана с осуществлением плана ГОЭЛРО. После закрытия московского отделения завода Флоренский перешел на исследовательскую работу в Главэлектро ВСНХ РСФСР. 21 января 1921 года он поступил в Карболитную комиссию ВСНХ. В то же время он вел экспериментальные работы в Государственном экспериментальном электротехническом институте (ГЭЭИ), а затем стал заведующим лабораторией испытания материалов ГЭЭИ, которую он сам создал. С 1927 года Флоренский являлся одним из редакторов «Технической энциклопедии», опубликовав в ней около 150 статей [108]. Летом 1928 года Флоренский находился в ссылке в Нижнем Новгороде, где работал в радиолаборатории. Вернувшись из ссылки, он продолжал работать в ГЭЭИ, где стал заместителем К.А.Круга по научной части. Многочисленные изобретения и открытия Флоренского в различных областях науки и техники имели важное значение в развитии народного хозяйства [108]. 25 февраля 1933 года Флоренский был арестован и осужден по ложному обвинению. В городе Сковородино в Забайкалье он работал на мерзлотоведческой станции. 1 сентября 1934 года он был отправлен в Соловецкий лагерь, где в лаборатории занимался вопросами йода и агар-агара из водорослей. 8 декабря 1937 года Флоренский был расстрелян вероятно на Соловках [108]. У автора данной книги был соблазн продолжить и далее цитирование [108] в части, касающейся взглядов отца П.А.Флоренского, изложенных взвешенно и осторожно, но только до прочтения «Столпа…» [127] отца П.Флоренского. Пробраться сквозь богатейшие джунгли идей этой книги очень непросто, своим поистине вселенским охватом, богатством анализируемых источников и многообразием идей она просто ошеломляет читателя. Эта книга требует целых томов интерпретаций и анализа (которые, без сомнения, будут написаны), но здесь хотелось бы обратить внимание на ряд вопросов, которые могут показаться частными, но представляются важными в контексте данного исследования. В «Столпе» в нескольких местах упоминаются монады, но это уже не бугаевские монады, в них отсутствует тот смысл, который Н.В.Бугаев вкладывал в это понятие; это скорее монады в интерпретации Лопатина, так и не усвоившего внутренний смысл идей Н.В.Бугаева, монады как отвлеченные, весьма бледные и бесполезные абстракции. Во многих местах книги используется и понятие прерывности, но лишь в качестве иллюстрации богословских и догматических воззрений самого отца П.Флоренского. Казалось бы, у отца П.Флоренского не осталось от Бугаева ничего, забыто даже то, что было. Но это только первое впечатление. Флоренский выступает не только как последователь, а – как сверхпоследователь, но не в смысле конкретных идей, а в смысле общего направления – ниспровержения основ. Н.В.Бугаев почти ниспроверг современное ему позитивистское естествознание, но – почти. Его страстности хватило на формулировку двух важнейших для развития естествознания идей, но не хватило на их синтез; возможно, его удержала от этого присущая ему наряду с горячностью некоторая осторожность, академичность, «лояльность». Страстности отца П.Флоренского хватило не только на разгром естествознания, но и на разгром познания человечества в целом. Н.В.Бугаев вскрыл внутренние противоречия позитивистского метода в естествознании. Отец П.Флоренский вскрывает и до предела обостряет противоречия познания вообще. Отец П.Флоренский за 70 лет до постмодернистов подробно и всесторонне доказал, что человеческое сознание противоречиво, что может существовать множество противоречащих друг другу теорий, основанных на одних и тех же эмпирических фактах, что открываемые человеком «истины» условны и относительны. Абсолютная истина должна быть вечной и универсальной. Так как частные истины противоречат друг другу, и отец П.Флоренский много раз демонстрирует эти противоречия, то возможен лишь один вывод: абсолютная истина по природе своей антиномична, она должна заключать в себе внутреннее противоречие. Это противоречие нельзя разрешить в ущербном человеческом сознании, для этого надо подняться над плоским человеческим мышлением, выйти в другое измерение. И это другое измерение – вера. Отец П.Флоренский демонстрирует на большом количестве примеров, что все догматы веры внутренне антиномичны, и это лишь доказывает для него то, что они не были придуманы человеком, а даны нам непосредственно Богом. Таким образом, человеческое сознание антиномично, но антиномии в догматах веры – не от человека, а от Бога. Мощность мышления отца П.Флоренского просто поражает читателя, отец П.Флоренский строит сложнейшие многоэтажные абстракции и с поразительной легкостью оперирует ими, его мысль легко пронизывает широчайшие исторические пласты и настойчиво подводит читателя к смелым обобщениям. Блестящий математик по образованию, он не принимает ничего на веру, без доказательства, анализирует не только канонические церковные источники, но и громадное количество апокрифических. Знаток множества древних и современных языков, эрудированнейший лингвист, он подхватывает метод Г.Тейхмюллера и пытается выявить сущность множества философских и общечеловеческих понятий из сопоставительного анализа различных языков. Отец П.Флоренский в своей книге нигде не говорит о культуре, это понятие для него словно не существует, но в своем методе он фактически использует тщательный и глубокий анализ человеческой культуры в ее развитии. Такое богатство глубочайших и смелых мыслей, широчайших сопоставлений и обобщений, такая глубина анализа и разнообразие анализируемых ссылок вдруг приводит читателя этой книги к какому-то ощущению глубочайшего разрыва между тем, что пытается доказать сам отец П.Флоренский, и тем, к чему он приходит на самом деле. А приходит он фактически к потрясению основ не только католической и протестантской веры, которые он критикует, но и православной веры. Его тщательный семантический анализ канонических и апокрифических текстов поневоле приводит читателя к ощущению, что Христа не существовало вообще, что это всего лишь миф, созданный пламенными фанатиками, ранними христианами, и ревностно обогащаемый их последователями. Поистине отец П.Флоренский доказал, что математиков вообще нельзя пускать в богословие (как П.Фоменко доказал, что их нельзя пускать и в историю), и только чрезвычайная сложность текста «Столпа», через которую обычный человек может продраться ценой колоссальных усилий, спасло это сочинение от отнесения церковью к разряду еретических. И одновременно перед взором читателя словно проступает личность самого отца П.Флоренского – страстная, неистовая , полная противоречий, местами даже вызывающая какойто страх и требующая рассмотрения если не психиатра, то психоаналитика – уж точно. Богатейшая, с анализом многих языков, классификация видов любви и дружбы, дружба как источник потоков слез и даже кровавого смертного пота… Если абсолютная Истина существует, то она заключена в Абсолюте, в Боге, но не в боге отца П.Флоренского – ревностном, даже ревнивом друге. Отец П.Флоренский горячо обличает в своей книге всяческие ереси и сектантство, резко критикует даже Л.Н.Толстого, но сам, незаметно для себя, но ощутимо для читателя, впадает в явную ересь с точки зрения ортодоксального православия. Страстный скачок отца П.Флоренского от естествознания к Богу (попытка монашества) в «Столпе» выражается в прыжке от грешного, изъеденного трещинами человеческого познания к познанию истинному, путем веры и догматов. Но и христианские догматы начинают шататься под напором его ярких и глубоких мыслей. Сознание отца П.Флоренского, вместе с тем, довольно традиционно для начала ХХ века: отправным пунктом всех его размышлений была подсознательная вера в то, что математические истины даны мозгу человека еще до его рождения Богом, и отца П.Флоренского потрясают обнаруженные им противоречия в этих истинах, и он отвергает естественно-научное мышление в корне. Вместе с тем, его книга в разных местах содержит найденные им же простые, но гениальные способы снятия этих противоречий. Например, отец П.Флоренский демонстрирует, как изящным введением трансцендентных чисел снимаются многие внутренние и, казалось бы, непримиримые противоречия теории целых и рациональных чисел. Фактически он показывает, что попытка применения ограниченно применимой абстракции в некоторых случаях приводит к «неразрешимому» противоречию, но достаточно заменить эту абстракцию другой, как противоречие тут же снимается. Для блестящего ума отца П.Флоренского не составило труда выявить и даже образно обострить до крайности противоречия человеческого познания; уверен, что он способен был и снять многие из этих противоречий, если бы над его сознанием не довлела некая идея-фикс о том, что рациональное познание должно быть отброшено. Без сомнения, для него, четко видевшего условность и своеобразную зыбкость научных абстракций и координат познания, была по силам задача прояснить природу этой зыбкости и сформулировать пути последовательного и планомерного совершенствования процесса научного познания. Отбросив вместе с рациональным познанием и идею эмпирической проверки его результатов, и идею о значимости и постепенном совершенствовании человеческих знаний в человеческой культуре (в которое свято верил Н.В.Бугаев), отец П.Флоренский оказывается на зыбкой почве теософских рассуждений. Не удовлетворяясь современным ему состоянием христианской догматики, фанатично и страстно желая «помочь» родной Церкви, отец П.Флоренский фактически делает ей медвежью услугу, почти уничтожив ее в своих горячих объятиях. Резюмируя, можно сказать, что во время учебы в Московском университете Флоренский вплотную подошел к идее синтеза философских идей Н.В.Бугаева. В его философии он почти ухватил главное, и образность языка Н.В.Бугаева не стала для Флоренского помехой: понятие самоорганизующейся системы, скачкообразно меняющей свои состояния. Недаром он обратился к устойчивости особых точек дифференциальных уравнений, ведь именно эти особые точки стоят как бы на пересечении абстракций прерывного и непрерывного, на пересечении понятий живой монады и прерывности. Но увлекшись богословскими идеями, П.А.Флоренский не смог реализовать свою догадку; более того, идейно он далеко отошел от собственных студенческих взглядов. Об этом следует только пожалеть, так как из всех своих современников он ближе всего стоял к подлинному синтезу идей Н.В.Бугаева. Из трудов П.А.Флоренского можно видеть, что он органически впитал в себя философские идеи Н.В.Бугаева, но не в их синтетическом, обобщенном, а лишь в частном виде. Широчайший спектр его увлечений не позволил ему сосредоточиться на проблеме, которая казалась ему менее общей среди других, интересовавших его. Вывод: 29. П.А.Флоренский, скорее всего, ближе всех стоял к тому, чтобы уже в начале ХХ века осуществить подлинный синтез философских идей Н.В.Бугаева; увлечение богословскими идеями не позволило ему сделать это. Глава 3. Социокультурные корни идей Н.В.Бугаева 3.1. Теоретическая интерпретация представителями Московской философско-математической школы ситуации в России во второй половине XIX – начале ХХ веков 3.1.1 Социокультурная обстановка в России во второй половине XIX века На историю России, особенно XIX века, существует целый спектр весьма различных взглядов. Первый взгляд выражен Н.М.Карамзиным [56] и условно может быть назван патерналистским. Сущность его в следующем: крепостничество, конечно, не самый передовой вид общественных отношений, но народ не может быть раскрепощен в силу его отсталости; если «людишек» раскрепостить и освободить, то они начнут пьянствовать, разбойничать и чинить беспорядки, поэтому из двух зол следует выбирать меньшее. Второй взгляд выражен В.О.Ключевским [60]. Крепостничество безусловно должно быть отменено, но на пути его отмены стояло много исторически сложившихся препятствий. В зависимости от усилий, прилагавшихся к устранению крепостничества, каждый самодержец может считаться более или менее прогрессивным. Третий взгляд выражен в современных и не очень современных монографиях и учебных пособиях [53, 54, 120] и несет определенные черты, свойственные советской историографии. Крепостничество – страшный пережиток, от которого было необходимо избавляться как можно скорее, но самодержавие в России было настолько реакционным и махровым, что чинило препятствия стремлениям передовой части российского общества к либеральным реформам: при этом некоторые самодержцы были все же менее реакционны и их действия заслуживают определенного признания. Четвертый взгляд [55] носит отпечаток реакции на ограниченность историографии советского периода и связан с надеждами на возрождение монархической идеи. Избавлению от крепостничества препятствовал реакционный и отсталый помещичий слой; исторически сложилось, что самодержавию было очень непросто преодолеть его сопротивление. Но самодержцы были в целом достаточно прогрессивны и старались, каждый своим путем, реформировать Россию. История показала, что либеральные реформы противоречили историческому своеобразию России и вызывали только смуту; наиболее правы те самодержцы, которые стремились укрепить экономическое и политическое могущество России, и если бы Николай II продолжил бы и укрепил линию Александра III, то трагедии большевистского переворота на Руси не случилось бы. Возможно, каждый из этих взглядов в определенной степени отражает реальность, и нельзя сказать, что лишь один из них стоит считать безусловно истинным и универсальным. Россия была очень большим и разнородным государством. Мировая история XIX века была богата на разнообразные события, и геополитическая обстановка вокруг России все время менялась. В разные периоды XIX века и в разных разрезах рассмотрения тот или другой из изложенных взглядов может оказываться то более, то менее отражающим истинную историческую реальность. Данное предисловие не ставило целью расставить все по своим местам; скорее, это попытка объяснить причины некоторой противоречивости в изложенных ниже фактах и цифрах, которые следует трактовать с учетом источника, из которого эти факты и цифры были взяты. Государственное и общественное устройство Что представляла собой социокультурная обстановка в России в середине XIX века? О России этого периода написано множество книг; единственно возможным будет попытаться извлечь из всего изложенного главное и относящееся к данному исследованию. Государственное устройство России характеризовалось колоссальным неравенством. Два процента дворян и государство в лице императора владели крепостными крестьянами, составлявшими почти 80 % населения России [60]. Дворянство было высшим привилегированным сословием. Петровская Табель о рангах существенно расширила возможности приобретения дворянского достоинства путем выслуги на военной или гражданской службе. Дворянство приобреталось также и «монаршей милостью», а со времени Екатерины II и «пожалованием российского ордена». К 1825 году удельный вес получивших дворянство путем выслуги составлял 54 % российского дворянства. Привилегии дворян были закреплены в «Жалованной грамоте дворянству» (1785). Провозглашались «неприкосновенность дворянского достоинства», освобождение дворян от обязательной службы, от всех податей и повинностей, от телесных наказаний, преимущество при чинопроизводстве, при получении образования, право свободного выезда за границу [53]. Но главной привилегией дворянства было исключительное право владеть землей с поселенными на ней крепостными крестьянами. Эти привилегии потомственные дворяне могли передавать по наследству. Личные дворяне (эта категории была введена Петром I) не могли передавать дворянские привилегии по наследству и не имели права владеть крепостными крестьянами. В 1858 году в России, включая Польшу и Финляндию, численность дворянского сословия составляла 887 тысяч человек обоего пола, в том числе 610 тысяч потомственных и 277 тысяч личных дворян [54]. Неподатным сословие, пользовавшимся рядом льгот, было духовенство. Оно было освобождено от податей, рекрутской повинности и от телесных наказаний. В 1860 году насчитывалось 126.2 тысяч церковнослужителей и 32 тысячи монахов и готовившихся к монашескому званию. Купечество также освобождалось от подушной подати и телесных наказаний, а купцы 1-й и 2-й гильдий – и от рекрутчины. Численность купечества с 1811 оп 1851 год возросла со 125 тысяч до 180 тысяч человек мужского пола, из них ѕ являлись купцами 3-й гильдии [54]. Крестьяне состояли из трех основных разрядов: помещичьих, государственных и удельных. В 1858 году помещичьих крестьян насчитывалось 23.1 миллионов. В центральных областях, Литве, Белоруссии и на Украине помещичьи крестьяне составляли от 50 до 70 % к остальному населению. Крепостные крестьяне находились в полной зависимости от их владельцев, которые по своей воле назначали виды и размеры повинностей, могли отнять у крепостных все их имущество, а их самих целыми деревнями продать, заложить, завещать. Помещик мог сдавать в рекруты вне очереди неугодного ему крестьянина, сослать его без всякой вины в Сибирь, подвергать телесным наказаниям. Правительство практически не вмешивалось в отношения помещиков с их крепостными [53]. Сложившаяся на Руси система крепостного права вредно сказывалась на хозяйстве страны. Земледельческое население оставалось сгущенным на наименее плодородной почве; естественное географическое распределение земледельческого труда задерживалось. Крепостное право задерживало рост городских ремесел и промышленности. Помещик был мало заинтересован в повышении эффективности крестьянского земледелия. В результате правительство не могло собрать в казну достаточного для функционирования государственной власти количества подушной подати и компенсировало этот недостаток повышением доходов с питейных заведений и внутренними и внешними займами. Дворянские имения были неэффективными; к 1859 году больше двух третей дворянских имений с двумя третями крепостных крестьян было заложено в государственных кредитных учреждениях с общим долгом, числившимся на этих заложенных имениях свыше 450 миллионов рублей [60]. Еще до начала своего правления Александр I мечтал посвятить себя задаче даровать стране свободу и тем не допустить ее сделаться в будущем игрушкой в руках каких-либо безумцев; лучше, чтобы революция была произведена законной властью, а потом перестала бы существовать, как только конституция была бы закончена, и нация избрала бы своих представителей [55]. В начале своего правления Александр I созвал из друзей юности так называемый Негласный комитет, на заседаниях которого вынашивались планы либеральных реформ. Было проведено широкое помилование заключенных, в частности, политических. Двенадцать тысяч человек, уволенных со службы, вновь получили доступ к государственным должностям. Была уничтожена Тайная канцелярия, которая занималась делами, связанными с оскорблением царского величества и изменой государю и государству. Еще одним указом были уничтожены пытки. Многие судебные дела были пересмотрены, цензура смягчена [55]. Было издано несколько указов, направленных на ограничение помещичьего произвола и смягчения крепостного права. Но эти указы почти не изменили дела по существу. На более серьезные преобразования Александр I не решился. Николай I видел неприглядные стороны крепостного права и считал его социально опасным, но считал несвоевременным его отмену. «Нет сомнения, – заявил он в Государственном совете 20 марта 1842 года, – что крепостное право в нынешнем его положении есть зло, для всех ощутительное, но прикасаться к нему теперь было бы еще более гибельным, и всякий помысел о даровании свободы крепостным людям был бы преступным посягательством на свободу государства» [53]. Государственные функции реализовывались с помощью многочисленного и чрезвычайно неэффективного бюрократического аппарата. В начале своего царствования (1855) Александр II пришел в ужас, узнав, что только ведомством юстиции произведено два миллиона восемьсот тысяч дел. В 1842 году министр юстиции представил государю (Николаю I) отчет, в котором значилось, что во всех служебных местах империи не очищено еще 33 миллиона дел. Размноженные центральные учреждения ежегодно выбрасывали в канцелярии и палаты сотни тысяч бумаг, по которым эти палаты и канцелярии должны были чинить исполнение. Этот непрерывный бумажный поток, лившийся из центра в губернии, наводнял местные учреждения, отнимал у них всякую возможность обсуждать дела; все торопились очищать их; не исполнить дело, а «очистить» бумагу – вот что стало задачей местной администрации [60]. При Николае I была произведена кодификация законодательства; под постоянным контролем императора было издано «Полное Собрание законов Российской империи»: в 45 томах было собрано 30 тысяч законов, начиная с «Соборного Уложения» 1649 года [55]. По VIII ревизии 1836 года в России народонаселение составляло 52 миллиона человек (без Царства Польского и Финляндии), из этого числа крепостных крестьян 41 миллион человек. Все сельское население ведалось особой своей администрацией и землевладельцами. Общие правительственные учреждения ведали только высшим сословием – гильдейским гражданами, купцами и духовенством. Все государственные учреждения правили ничтожной кучкой народа – миллионом с небольшим душ [60], то есть менее чем тремя процентами населения. За первую половину XIX века население России возросло с 37 до 69 миллионов человек как за счет вновь присоединенных территорий, так и преимущественно за счет его естественного прироста – около 1 % в год. Средняя продолжительность жизни в России в первой половине XIX века составляла 27.3 года. Такой низкий показатель объяснялся высокой детской смертностью и периодическими эпидемиями. Для сравнения средняя продолжительность жизни во Франции в конце XVIII века составляла 28.8, а в Англии – 31.5 года [54]. В 1855 г. в разгар Крымской войны умер Николай I, а год спустя закончилась эта война, наглядно показавшая банкротство проводившейся императором политики, а также глубокую экономическую и техническую отсталость охранявшегося им крепостнического режима. Опасаясь революции, правительство Александра II пошло на ряд реформ, главной из которых явилась отмена в 1861 году крепостного права [120]. Александр II, выражая при жизни своего отца даже более правые взгляды, нашел в себе мужество признать необходимость освобождения крестьян. Опасаясь дворянско-помещичьей реакции, Александр II избрал весьма хитрую тактику, с немалым трудом, по описанию В.О.Ключевского, инициировав ряд записок и писем с предложениями о проведении реформы крепостного права, на которые он «нехотя» распорядился подготовить в губерниях проекты крестьянской реформы. За пять лет в различных инстанциях была проведена большая работа, и она растянулась бы еще на десять лет, если бы не постоянное подталкивание со стороны императора. Из-за сопротивления дворян-помещиков окончательная редакция указа реформах получилась весьма половинчатой, из-за чего окончательное, полное освобождение крестьян затянулось еще на десятки лет до следующего века. Недовольство крестьян грабительским по отношению к ним характером крестьянской реформы вылилось в череду протестов: весной-летом 1861 года произошло до 1860 крестьянских волнений. Восстания в селах Бездна и Кандеевка закончились расстрелами восставших: более сотни крестьян были убиты или ранены. Очевидно, что выступления безграмотных крестьян, легко усмирявшиеся войсками, были для Александра II намного менее опасны, чем возможные выступления профессиональных военных-дворян при попытке проведения более справедливой к крестьянству реформы. Затем были проведены земская, судебная, военная реформы; преобразования затронули и народное просвещение. Правительство разрабатывало их гласно и с учетом общественного мнения. Появились Петербургское педагогическое общество, комитет грамотности при Вольном экономическом обществе [68]. В соответствии с земской реформой сфера деятельности земств ограничивалась исключительно хозяйственными вопросами местного значения, однако даже такая постановка вопроса была весьма прогрессивной и заметно улучшала обустройство жизни на местах. В 1870 году было введено городское самоуправление на базе избираемых на основе несколько ограниченного избирательного права городских дум. Компетенция городского самоуправления , как и земского, была ограничена рамками чисто хозяйственных вопросов. Несмотря на ограниченность этой реформы, она явилась крупным шагом вперед, заменив сословнобюрократические органы управления новыми, основанными на буржуазном принципе имущественного ценза. Новые судебные уставы предусматривали бессословность суда и его независимость от административной власти, несменяемость судей и судебных следователей, равенство всех сословий перед законом, состязательность судебного процесса с участием в нем присяжных заседателей и адвокатов. Это явилось значительным шагом вперед по сравнению с прежним сословным судом, с его безгласностью и канцелярской тайной, отсутствием защиты и бюрократической волокитой [53]. В 60-70-е годы была проведена серия военных реформ, заменявшая отжившую систему рекрутского набора введением всесословной воинской повинности и проводившая ряд мер по перевооружению армии и улучшению ее боевой подготовки. К моменту воцарения Александра II, в середине 50-х годов, численность населения России составляла 70 миллионов человек, из которых лишь 10 % проживало в городах. Через 40 лет, к середине 90-х годов, численность населения империи возросла до 130 миллионов человек, из которых 17 миллионов (13 %) проживало в городах. По темпам прироста населения во второй половине XIX века Россия обгоняла все прочие европейские страны [55]. Общественная и политическая жизнь В 1804 году Александр I подписал указ о цензуре, который считается самым либеральным в России XIX века. Цензуру проводили цензурные комитеты при университетах из профессоров и магистров. Общее руководство цензурными комитетами осуществляло Министерство народного просвещения. Цензорам рекомендовалось руководствоваться «благоразумным снисхождением, удаляясь от всякого пристрастного толкования сочинений». Это способствовало расширению издательской деятельности. Появился ряд новых журналов, увеличилось издание переводной литературы [54]. После разгрома восстания декабристов общественная жизнь проходила в обстановке политической реакции. Поражение декабристов вызвало у части общества пессимизм и отчаяние. Отражением этих настроений явился цикл «Философических писем» П.Я.Чаадаева, написанных в 1829-1831 годах и выразивших мрачные взгляды автора на прошедшее, настоящее и будущее России. Впоследствии в рукописи «Апология сумасшедшего» (1837) Чаадаев признал односторонность и несправедливость своих суждений об отсутствии будущего у России [53]. Николай I преобразовал императорскую канцелярию, расширив ее состав и создав 3 апреля 1826 года III отделение этой канцелярии. Прерогативы этого отделения были поистине всеобъемлющи. Оно собирало информацию о настроениях различных слоев населения, осуществляло надзор за «неблагонадежными» лицами и за периодической печатью, ведало местами заключения и делами о «расколе», наблюдало за иностранными подданными в России, выявляло носителей «ложных слухов» и фальшивомонетчиков, занималось сбором статистических сведений и перлюстрацией частных писем [53]. III отделение стало прибегать к практике, неизвестной до того в России. Оно стало вербовать тайных сотрудников-осведомителей, внедрять доверенных людей в организации и кружки, которые могли представлять опасность для власти. В результате за все тридцать лет правления Николая I возник лишь один значительный заговор, который удалось быстро раскрыть – кружок «петрашевцев» [55]. 10 июня 1826 года был утвержден Устав о цензуре с такими жесткими правилами, что современники назвали его «чугунным». По донесениям III отделения, литераторы были в отчаянии, и в 1828 году был обнародован несколько смягченный устав [54]. При Николае I нелегкие времена переживала и журналистика. Каждый новый журнал мог быть основан только с личного разрешения императора после представления издателем подробной программы журнала. В случае публикации нежелательных статей следовал немедленный запрет издания. Так, в 1831 году было прекращено издание «Литературной газеты» А.А.Дельвига, в 1832 году – журнала «Европеец» П.В.Киреевского, а в 1836 году был запрещен «Телескоп» Н.И.Надеждина [53]. 30-40-е годы XIX века характерны увлечением философией, особенно классической немецкой, которую изучали представители разных направлений русской общественной мысли – от консервативной до радикальной. С.С.Уваров, впоследствии министр народного просвещения, в 1832 году сформулировал принципы теории «официальной народности» – «православие, самодержавие, народность». Эта теория объявляла крепостное право нормальным и естественным состоянием, одним из важнейших устоев России. К 1845 году как идейное направление оформилось славянофильство, считавшее, что Россия должна идти по своему особому, самобытному пути. Славянофилы осуждали реформы Петра I. Они не предлагали вернуться назад, в доисторические времена, но считали, что заимствуя у Запада полезное, можно было вполне обойтись без ненужной ломки коренных русских устоев, традиций и обычаев. Николаевскую политическую систему с ее «немецкой» бюрократией славянофилы рассматривали как логическое следствие отрицательных сторон петровских преобразований. Славянофилам идейно противостояли западники, возвеличивавшие реформы Петра I. Большой общественный резонанс имели читавшиеся Т.Н.Грановским в 1843-1851 годах публичные лекции по западноевропейской истории, в которых он доказывал общность закономерностей исторического процесса в России и западноевропейских странах. Споры западников и славянофилов были отдушиной в мертвящей обстановке николаевской России. III отделение было хорошо осведомлено о содержании этих споров [54]. Уникальность исторического пути России славянофилы видели в отсутствии здесь классовой борьбы, в наличии крепкого сословного строя, в существовании сельской общины, в православной религии. Они отрицали необходимость введения каких-либо парламентских учреждений народного образца и выдвинули лозунг: народу – мнение, царю – решение [55]. Начиная с зимы 1845 года на квартире М.В.Буташевича-Петрашевского каждую пятницу собирались учителя, литераторы, мелкие чиновники, студенты старших курсов. Поначалу это был литературный кружок, отводивший главную роль обмену мнениями о новинках художественной и научной литературы, о различных общественных, политических, экономических и философских системах. Под влиянием обсуждения идей французских социалистов Фурье и Сен-Симона характер кружков стал меняться; его участники перешли к обсуждению злободневных общественно-политических проблем и критике николаевского режима. Зимой 1848/1849 года на собраниях кружка уже стали обсуждать проблемы революции и будущего политического устройства России. Весной 1849 года петрашевцы приступили к созданию тайной организации и даже строили планы вооруженного восстания. На этом деятельность кружка была прервана: III отделение уже давно через своего агента имела подробные отчеты о каждой «пятнице» от засланного в кружок агента. Петрашевцев судил военный суд. Всего к следствию привлекли 123 человека, 21 участник кружка (в их числе был Ф.М.Достоевский) был приговорен к расстрелу, и только когда осужденным прочли смертный приговор, на их головы надели белые колпаки, забили барабаны, солдаты по команде взяли на прицел, подъехал флигель-адьютант с царским указом о замене смертной казни каторгой и арестантскими ротами [53, 55]. Революционные потрясения 1848-1849 годов в Западной Европе привели к ужесточению реакционного политического курса Николая I. Был ужесточен надзор за печатью и просвещением. Был образован секретный комитет для проведения ревизии цензурного ведомства. Наступила пора настоящего цензурного террора, когда подвергалась взысканиям даже такая благонамеренная газета, как «Северная пчела». М.Е.Салтыков-Щедрин был сослан в Вятку за повесть «Запутанное дело». За резкие и неосторожные высказывания в печати некоторые литераторы попадали под арест, прекратил существование ряд периодических изданий. Были ликвидированы остатки университетской автономии, резко сокращен прием студентов в университеты, повышена плата за обучение, усиливался надзор за студентами и профессорами [53]. Время царствования Николая I (1825-1855) совершенно справедливо считается эпохой реакции. Ничего не менять, непрерывно возобновляя существующее – такая ориентация государственной власти делала из нее силу, противодействующую развитию русской культуры. В русской культуре этого периода появляется фигура «лишнего человека». «Лишними людьми» были не только Онегин, но в значительной степени и Пушкин в последний период своего творчества, не только Печорин, но и Лермонтов, Рудин и Тургенев и т.д.. В лице «лишнего человека» дворянство поклонилось в ноги крестьянству и в нем, а не в себе признало русский народ. Народничество русской дворянской культуры отдавало капитулянством «высокой» культуры перед «низкой» [109]. В 1858 году правительство разрешило обсуждать в печати вопросы общественной жизни и связанной с ней правительственной деятельности. В рядах русской интеллигенции сразу же возросло число пишущих и читающих. В 1860 году количество периодических изданий достигло 230 наименований. Одновременно росли тиражи и число наименований книг. Только в 1860 году вышло 2085 книг. В 1890 году Россия становится третьей страной в мире (после Германии и Франции) по количеству издаваемой литературы [68]. В 1855 году был отменен учрежденный в 1848 году Николаем I комитет для ревизии цензурного ведомства. В 1865 году были введены Временные правила о печати, которые отменяли предварительную цензуру для оригинальных сочинений объемом не менее 10 печатных листов и для переводных не менее 20 печатных листов. Центральные периодические издания могли освобождаться от цензуры по усмотрению министра внутренних дел. На провинциальную печать и массовую литературу для народа цензура сохранялась в полной мере [54]. В эпоху правления Александра II тон в общественной жизни задают революционные демократы или разночинцы-нигилисты, не принимавшие существующий строй и весь уклад русской жизни. Недовольство, отчуждение и негодующее восприятие власти в 30-40 годы еще таились под спудом. Либеральное правление Александра II вывело их наружу. В самодержавии разночинцы видели одно только препятствие на пути прогресса и вовсе не замечали его устроительной деятельности. Разночинцы были прежде всего идеологами и пропагандистами. Их критических статей в журналах ждала как манны небесной и с восторгом их прочитывала образованная публика. В 60-70-е годы куда громче звучали имена Чернышевского, Добролюбова и Писарева, чем Тургенева, Достоевского и Толстого. Если с середины XIX века с появлением «лишнего человека» русская культура отчуждается от государственной жизни самодержавной России, то с 60-х годов господствующие идеологические течения просто враждебны государству; отчужденность свойственна теперь скорее отношениям между идеологией и культурой [109]. Половинчатый манифест об освобождении крестьян вызвал распространение серии нелегальных прокламаций, листовок и изданий. Осенью 1861 года прокатились студенческие волнения, поводом к которым послужили изданные правительством временные правила, усиливавшие надзор за студентами и ограничивавшими доступ в университеты разночинцев. Демонстрации студентов разгонялись полицией, проводились аресты, правительство временно закрыло университеты в Петербурге, Москве и Казани. Возникали революционные организации, направленные на подготовку крестьянского восстания («Земля и воля»). Составлялись адреса царю с призывом провести более справедливую крестьянскую реформу, вызывавшие резкое неудовольствие императора и карательные реакции со стороны властей. Член революционного кружка «ишутинцев» Каракозов совершил неудачное покушение на Александра II, был схвачен и казнен по приговору суда, остальные члены кружка были приговорены к разным срокам каторги и ссылки. Революционная группа Сергея Нечаева разработала программу политической революции, но в конечном итоге была разгромлена полицией, над членами группы был проведен показательный судебный процесс, материалы которого широко публиковались в правительственной прессе; нечаевское дело послужило сюжетом для романа Ф.М.Достоевского «Бесы» [54]. В конце 60-х годов стало складываться как общественное движение народничество, представлявшее собой целый спектр направлений от революционно-демократического до умеренно-либерального и даже консервативного. Первой крупной акцией революционного народничества 70-х годов стало массовое «хождение в народ» с целью подготовки крестьянских восстаний, не вызвавшее понимания со стороны народных масс. Затем последовало более обстоятельное «второе хождение в народ», когда молодые люди поселялись в деревне с целью постепенного пробуждения революционного духа крестьянства, также не принесшее больших успехов. Неудачи хождений в народ выразились в создании ряда революционных организаций, в том числе второй «Земли и воли», распавшейся в конце 70-х годов на две организации с различными программами – более умеренную «Черный передел» и радикальную «Народную волю». В августе 1979 года Исполнительный комитет «Народной воли» вынес «смертный приговор» Александру II. После серии неудачных покушений на императора и ряда арестов оставшаяся на воле группа террористов, возглавляемая Софьей Перовской, привела приговор в исполнение взрывами двух бомб, одна из которых смертельно ранила царя [53]. В 70-х годах был образован и ряд рабочих кружков, готовивших стачечное движение с требованиями экономического характера. Существовала также либеральная оппозиция в виде движения славянофилов, земского либерально-оппозиционного движения. 2 марта 1881 года на российский престол вступил второй сын Александра II, Александр III. Убийство отца явилось сильным потрясением для последнего. Опасаясь покушений, первые годы своего царствования он провел в Гатчине под усиленной охраной войск и полиции. В 80-е годы последовал ряд законодательных актов, которые характеризуются как «контрреформы», ибо они преследовали цель ограничить характер и действие реформ 60-70-х годов. Одновременно был предпринят ряд довольно успешных мер, направленных на укрепление финансов и развитие экономики страны. Была введена карательная цензура, закрыты все радикальные и многие либеральные периодические издания [53]. В 1881 году государственный долг превышал 1.5 миллиарда рублей (при государственном доходе в 653 миллиарда рублей), а ежегодные платежи по заграничным займам поглощали более 30 % государственных поступлений. В результате изменения налоговой и таможенной политики, стимулирования развития промышленности и экспорта уже в 1887 году дефицит бюджета снизился до 85.7 миллионов рублей (10 % расходной части бюджета), а в 1894 году бюджет был сведен с доходом в 92.2 миллиона рублей [55]. Развитие экономики страны приводило к увеличению численности и ухудшению положения пролетариата и к стачечному движению, первоначально с требованиями экономического, а впоследствии и политического характера. Усиление цензуры и полицейского надзора в результате реакции привели к радикализации революционного движения и образованию подпольных марксистских кружков, подготовивших почву для возникновения социал-демократических объединений и партий. К концу XIX века дневной тираж крупнейших газет и журналов исчислялся десятками тысяч. В 1894 году в России выходило 804 периодических издания. Если в 1864 году во всей империи имелась 181 типография и было издано 1836 наименований, то в 1894 году число типографий равнялось 1315, а количество наименований выпущенных книг достигло почти 11 тысяч [55]. Система образования Настроенный поначалу либерально Александр I в 1803-1804 годах провел реформу образования. В основу системы образования были положены принципы бессословности, бесплатности обучения на нижних его ступенях, преемственности учебных программ. Низшей первой ступенью являлось одноклассное приходское училище, второй – уездное трехклассное училище, третьей – шестиклассная гимназия в губернском городе, высшей ступенью был университет. Помимо основанного в 1755 году Московского университета в 1802-1805 годах было создано еще пять. Указ 1803 года предусматривал также меру, которая стимулировала бы получение образования: через пять лет не позволялось определяться к гражданской должности, не окончив учения в общественном или частном училище [53]. Значительно менее либеральный Николай I в 1835 году подписал новый университетский устав. Если до этого университеты были центрами учебных округов и тем самым оказывали влияние на постановку низшего и среднего образования в округе, то теперь они сами попали в полную зависимость от попечителя учебного округа. Этот устав существенно ограничил автономию университетов. Право выбора ректора и профессоров фактически сводилось на нет правом министра народного просвещения не утверждать избранных лиц, а назначать других из своих кандидатов. Ректор вступал в должность лишь после утверждения его императором. В новом уставе имелись и положительные стороны. Восстанавливалось упраздненное в 1821 году преподавание философии. Для выпускников, оставленных при университете для подготовки к профессорскому званию, предусматривались за казенный счет обязательные двухгодичные зарубежные командировки [54]. Гражданское и имущественное неравенство приводило к неравенству культурному. В середине XIX века единой и эффективной системы начального образования в Российской империи не существовало. В целом по стране грамотными были всего 5-6 % . В 1824 году в России было всего 49 гимназий, да и в них принимали по сословному принципу. Большинство дворянских детей обучались в частных пансионах или дома учителями и гувернерами из французов и немцев [72]. К тому же, и эта весьма жалкая система образования работала неэффективно. Воспитание осуществлялось розгами. Преподавание велось скучно, сухо и педантично, в качестве основного метода обучения применялась зубрежка. Сорок процентов времени в классических гимназиях отдавалось изучению иностранных языков, в основном древних. История родной страны преподавалась явно недостаточно. Бугаев, как преподаватель, видел уровень поступавших к нему студентов, этот уровень был весьма невысоким. В середине XIX века Россия вступила в период быстрого развития капитализма и в ней, как писал В. И. Ленин, «в несколько десятилетий совершились превращения, занявшие в некоторых старых странах Европы целые века». Промышленность и сельское хозяйство, строительство и транспорт, армия и государственный аппарат нуждались во все большем количестве квалифицированных специалистов. Под давлением необходимости, с одной стороны, и передовой общественности, с другой, правительство пошло на некоторое расширение сети учебных заведений и улучшение их организации и программ, как это имело уже место в начале XIX века. В 1864 году был введен новый устав для гимназий, расширявший права педагогических советов и отменявший сословные ограничения при поступлении; наряду с «классическими» гимназиями с одним или двумя древними языками учреждались «реальные» гимназии без древних языков и с несколько усиленными курсами математики и естественных наук [136]. В 1863 году был принят Университетский устав – самый либеральный из всех уставов в дореволюционной России. Он представлял университетам довольно широкую автономию. Совет университета получал право самостоятельно решать все научные, учебные и административнохозяйственные вопросы. Университеты свободно выписывали из-за рубежа книги, журналы и газеты, которые не подлежали проверке на таможне. Такое право имел и каждый профессор [53]. И так же, как в начале века, за реформами быстро последовала реакция. Всего лишь через 7-8 лет правительство, напуганное ростом революционных настроений среди молодежи, перешло в контрнаступление. Все гимназии вновь стали «классическими» с двумя древними языками, число часов на которые сильно увеличивалось, преподавание естественной истории прекращалось, курс математики несколько уменьшался. «Реальным» училищам сообщался резко выраженный профессиональный уклон, срок обязательного обучения в них урезался на год [136]. Вместе с тем, за 26 лет царствования Александра II число различного рода школ, гимназий и училищ увеличилось многократно. В 1880 году количество учебных заведений превышало 23 тысячи (учащихся около 1.5 миллионов человек), в то время как в 1861 году количество учебных заведений разного профиля не достигало и пяти тысяч [55]. В 80-е годы при Александре III и эти меры были признаны недостаточными. В дополнение к ним была повышена плата за обучение, директорам было предложено освободить подведомственные им гимназии «от поступления в них, – говоря словами официального распоряжения, – детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детей коих, за исключением разве одаренных необыкновенными способностями, вовсе не следует выводить из среды, к коей они принадлежат», а для евреев введена ограничительная норма приема. Все это повлекло за собой заметное сокращение общего числа гимназистов и повышение среди них процента дворян почти до 60. Впоследствии «классицизм» гимназических программ был снова несколько ослаблен: греческий язык стал необязательным, восстановлено в скромных размерах естествоведение. Улучшено было преподавание в реальных училищах, которые, однако, с начала и до конца их существования не давали права на поступление в университет: для этого требовалось сдать еще экзамен по латыни. Все же, несмотря на все препятствия, «разночинная» молодежь проникала в среднюю и высшую школу, и именно из ее среды выходило теперь большинство деятелей русской науки и просвещения. Для детей рабочих и крестьян гимназии были, за редкими исключениями, недоступны [136]. Как видно, власти боялись не только «кухаркиных детей» («циркуляром о кухаркиных детях» прозвали цитированное только что распоряжение 1887 г.), но и естествознания. Что математика, физика, химия, биологические науки необходимы государству, что без них не может успешно развиваться хозяйство страны, а особенно крупная промышленность и новые виды транспорта, понимали даже царские чиновники. Однако, с другой стороны, распространение естественнонаучных знаний в широких кругах населения содействовало росту влияния материализма и атеизма. Появление «нигилистов», провозглашавших, подобно тургеневскому Базарову, что природа не храм, а мастерская и человек в ней работник, и ниспровергавших принципы казенной морали и религии, а вместе с тем и слепую веру в традиционные авторитеты, внушало самые серьезные опасения сменявшим друг друга царским правительствам [136]. Деятельность университетов протекала в трудных общих условиях. Устав 1863 года позволил преподавателям и студентам недолгие годы работать и учиться в более свободной обстановке. Были расширены права университетских и факультетских советов, ослаблено постоянное мелочное вмешательство попечителей. Революционное движение среди студенчества, с тех пор никогда не угасавшее, а также попытки более демократически настроенной части профессуры противодействовать начальственной «опеке», привели в нескольких университетах к репрессиям, увольнению непокорных ученых и исключению неблагонадежных студентов. Власть попечителей была полностью восстановлена уставом 1884 года, действовавшим, с некоторыми послаблениями, до 1917 года. Все это задерживало, но не могло остановить прогресса науки и образования [136]. На физико-математических факультетах план обучения математике до 1850 года был примерно таков: высшая алгебра, аналитическая геометрия, общий курс математического анализа с геометрическими приложениями, интегрирование дифференциальных уравнений (обыкновенных и с частными производными), вариационное исчисление; около 1850 года добавляются начертательная геометрия, конечные разности, теория вероятностей, а в отдельных университетах и другие предметы. Со временем постепенно обогащается содержание обязательных курсов и вводятся некоторые новые. В 70-е годы организуются обязательные практические занятия с решением задач, в обычай входит чтение факультативных специальных дисциплин и возникают студенческие научные семинары и кружки. Обучение было четырехгодичным [136]. К концу XIX века число высших учебных заведений составляло 52 (около 26 тысяч студентов), число мужских гимназий – 196 (около 71 тысячи учеников), плюс 44 прогимназии (с укороченным сроком обучения, около 7 тысяч учеников), 117 реальных училищ и сотни различных других учебных заведений [55]. На протяжении второй половины XIX века уровень грамотности в России неуклонно повышался. По поводу достигнутого к концу века уровня грамотности в литературе существуют противоречия: по одним данным [72] количество грамотных составляло 21 % населения России, по другим данным [55] – до 40 %, причем неграмотными в основном оставались только люди среднего и старшего возраста; по этим же данным в 1898 году количество начальных школ и училищ измерялось десятками тысяч, и в них обучалось около 4 миллионов человек [55]. Философская мысль Меткую характеристику умственных веяний в России 60-х годов XIX века дает русский философ А.А.Козлов [63]. «Материализм вошел к нам вместе с Бюхнером, Фохтом, Мелешоттом и т.п., а главное с распространением естественных наук, относительно которых, благодаря жалкому состоянию у нас философского мышления, еще и теперь господствует предрассудок, будто их выгоды представляют безусловную истину, между тем, как они условны. Антропологизм, то явно и сознательно, то тихомолком и бессознательно делающий человека средоточием всего существующего, вошел к нам с разных сторон и в разных формах. Из Англии он пришел к нам в виде тамошнего сенсуализма и ассоцианизма и в доктрине относительности всякого знания (Льюис, Милль, Бэн, Спенсер и пр.); из Франции по преимуществу в виде различных философско-социальных и политических учений (сен-симонизма, фурьеризма Пьера Леру, Луи Блана, Огюста Конта и т.п.); из Германии в виде философии Фейербаха, поставившего человека in abstracto на место, прежде занимаемое Богом, или природой. Социализм пришел к нам со всех сторон; из Франции в виде вышеупомянутых и других не названных нами доктрин, из Англии в виде учения Р.Оуэна, из Германии в виде учений Маркса, Лассаля и т.п. Кроме общей подкладки антропологизма, по которой всяческое развитие и прогресс не могут иметь никакой другой цели, кроме счастья человека вообще, социалистические теории проповедовали исключительную заботу преимущественно о счастье низших классов народа, для осуществления которого не следует останавливаться ни перед какими то ни было жертвами (перед гибелью цивилизации, культуры, просвещения и т.п.). Во Франции из социализма возникло даже нечто вроде культа пролетариям и черни, в подражание которому и у нас появилось идолопоклонство перед мужиком; на него надеялись, как на нового мессию, который, выступивши на историческую сцену, принесет откровение, имеющее разрешить к всеобщему удовольствию и счастью все нравственные, правовые, общественные и экономические затруднения, с которыми не может до сих пор справиться ни религия, ни наука, ни общество. Эволюционизм пришел к нам с системой Спенсера и потом с дарвинизмом, и наконец позитивизм, отрицающий метафизику и возможность познания сущности и причины мира, мировых законов, цели и т.п. возник из нескольких источников. Из Англии он явился в общем духе английского эмпиризма, сенсуализма и скептицизма; из Франции он перенесен к нам в виде позитивизма Конта, поскольку он выражен только в его «Курсе положительной философии». Из Германии он пришел к нам в виде отголосков от «Критики чистого разума» Канта. Таковы были царившие тогда на Руси доктрины, почти не встретившие серьезного отпора. Сомневаться в их истинности считалось глупым, даже бесчестным и навлекало подозрение в шпионстве [63]. 3.1.2 «Реакционность» идей Московской философско-математической школы Можно подвести некоторый итог. Культура России в середине XIX века крайне разнородна, диссоциирована. 94 % населения безграмотны. Можно ли вообще в таких условиях говорить о какой-либо единой культуре страны в современном понимании этого слова? Конечно, у безграмотного народа и грамотной части общества были определенные общие культурные черты. В первую очередь это язык, сказки, легенды и сказания, песни, некоторые общие нравы и обычаи. В остальном же между культурным уровнем народа и уровнем интеллигенции был колоссальный разрыв (не отсюда ли горячее убеждение Бугаева в необходимости применения концепции прерывного к общественным наукам?). Фактически культура России распадается на две кардинально различные субкультуры. Интеллигенция усвоила идеи античности и христианства, идеи европейского возрождения, французского просвещения, немецкого романтизма и даже в части своей социалистические и марксистские идеи. Народ же в основной своей массе был темен и дремуч и, естественно, не способен к саморазвитию. Вероятно, отсюда происходит предлагаемый Бугаевым закон монадологической косности, гласящий, что монада не может без взаимодействия с другими монадами изменить своего внутреннего содержания. Но Бугаев предлагает и другой закон, закон монадологической солидарности: монада, только воздействуя на другую монаду, совершенствуется сама. Бугаев считает себя в долгу перед русским народом, верит в его великое будущее. На волне радужных настроений части русского общества в начале реформ Александра II он активно участвует в реформе образования. Без сомнения, он верит, что путем последовательных реформ можно поднять культурный уровень русского народа и добиться внутреннего единства российского общества. Отсюда у него, явно преждевременно, появляется единая и неделимая монада государства. Бугаев не мог не видеть, что разрыв в российском обществе существует не только в культуре, но и в системе государственного управления, когда армия чиновников управляет тремя процентами населения России, о восемьдесят процентов населения страны существуют в условиях помещичьего произвола. Его единая монада для российского государства явно представляет собой лишь горячее желание, мечту. На протяжении всего XIX века в России происходили изменения, и происходили они со все увеличивавшейся скоростью. Изменялись общественные отношения. Менялось сформировавшееся в XVII –XVIII веках и казавшееся дотоле незыблемым положение сословий. Дворянство все больше и больше разорялось, и это в полной мере ощутил на себе Н.В.Бугаев, дворянин, вынужденный с ранней юности зарабатывать на жизнь собственным трудом. Крестьяне нищали под нерациональным и бессмысленным гнетом помещиков. Этот процесс многократно ускорился после отмены крепостного права в 1861 году. Фактически ограбленные в результате этой реформы крестьяне разорялись и пополняли ряды батраков и городского пролетариата. Появился и приобретала все большее экономическое и политическое могущество прослойка кулаков на селе. Используя почти даровую рабочую силу разорившихся крестьян, все больше укреплялся и богател слой капиталистов-промышленников. Экономический и фактический распад традиционных сословий, древних традиций и устоев приводили к увеличению в обществе прослойки людей, не принадлежавших к определенному сословию – разночинцев, являвшихся благодатной почвой для созревания и развития передовых или по крайней мере радикальных взглядов. Именно в среде разночинцев вырастали как получившие мировую известность писатели, так и не в меньшей степени повлиявшие на мировое развитие революционеры. Н.В.Бугаев со своим острым восприятием и живым, эмоциональным миросозерцанием, без сомнения, не мог не замечать происходивших вокруг изменений. И его реакция на них была двойственной. С одной стороны он страстно приветствовал свежий ветер перемен и желал ускорения изменений. Несмотря на существовавшую при царизме жесткую цензуру во всех вопросах, касавшихся самодержавной власти, до нас дошли в виде намеков и косвенных замечаний сведения о том, что Н.В.Бугаев критически относился к самодержавию как системе, не любил примыкавшее к самодержавию и реакционное в то время по своей сути духовенство, мог весьма жестко критиковать бюрократическую систему и даже выступать с открытым общественным протестом. Вместе с тем, как отмечал его сын Андрей Белый, была в нем и боязнь потерять завоеванное столь нелегким двадцатилетним трудом положение в уютном и обеспеченном профессорском сословии. Он и протестовал против затхлой, гнилостной атмосферы этого мирка своими немыслимыми каламбурами и парадоксальными историями, но одновременно и боялся, что этот уютный мирок разрушится под натиском угрожающих перемен в окружающей действительности. С достаточной уверенность можно утверждать, что московское профессорское сословие в своей основной массе не было революционным; напротив, за редким исключением оно в силу своего положения было консервативно, а под страхом учащавшихся стачек, демонстраций и рабочих выступлений даже реакционно настроенным. Недаром П.А.Некрасов в своем наиболее объемном общественно-политическом сочинении временами почти оправдывает черносотенцев. Н.В.Бугаев в силу практического отсутствия какой-либо опеки и воспитательного давления в юности придерживался более прогрессивных идей необходимости либерального реформирования отсталой российской действительности. Из всех его выступлений можно явно сделать вывод о том, что по своим взглядам он во многом примыкал к умеренным народникам. Он верил в особенную венценосную роль России, верил в присущие только русскому народу благородные и великие черты. И чтобы эти черты проявились в великом историческом пути, нужно верой и правдой служить своему народу, просвещать и обучать его. Но ни в одной из речей и работ Н.В.Бугаева нет даже намека на то, что существующий общественный строй должен быть изменен не путем реформирования, а путем революции или насильственного свержения власти. Буквально выковавший своим неустанным трудом, неукротимой волей и собственным разумом свою судьбу, Н.В.Бугаев был явным сторонником того, что человеческий разум способен к положительному, прогрессивному преобразованию окружающей действительности. Вместе с тем, обладавший острым критическим и рациональным мышлением, Н.В.Бугаев не мог не видеть, что в идущей впереди Европе преобразования часто совершались путем кровавых революций и многочисленных человеческих жертв, что свидетельствовало о противоположном – о том, что человеческий разум не может предотвратить стихийные общественные катаклизмы, развивающиеся против разумной человеческой воли. Это противоречие все время толкало его к поиску и в конечном итоге привело к выводу, что всему виной ограниченность человеческого мыслительного подхода, ограниченность использующихся традиционным европейским мышлением категорий формальной аристотелевской логики и позитивистского аналитического подхода, основанного на непрерывности общественных процессов. В конце концов, Н.В.Бугаев пришел к убеждению, что нужно реформировать именно человеческое мышление, ввести в него осознание категорий прерывности и системности. Именно такой подход, верил Н.В.Бугаев, позволит предсказывать общественные катаклизмы и разумно избегать их. Без сомнения, его горячее желание намного опередило возможности существовавшего научного мышления. И причиной этого было то, что он не осознавал до конца тот факт, что человеческое мышление, сам способ этого мышления, определяется окружающей культурой, всем воспитанием самого мыслителя, и только декларированием необходимости изменения способа мышления невозможно изменить этот способ. Сама идея экстрааддитивности и разрывности устойчивых состояний сложной саморегулирующейся системы постепенно проникли в естественные и частично в общественные науки. Однако это не помогло предотвратить две страшные мировые войны, уничтожившие весьма существенную часть человечества. В то же время, охватившие в начале XX века всю Европу и Северную Америку стачки, забастовки и рабочие выступления постепенно сошли на нет. Это доказывает, что человечество, несмотря на ограниченность своего мышления, умудряется каким-то способом сглаживать общественные катаклизмы, и вряд ли за это нужно благодарить только идеи системности и прерывности. Никакие математические методы и мощные вычислительные машины не могут предотвратить периодически возникающие в мире экономические и финансовые кризисы. Но сам способ общественного мышления, без сомнения, изменился. Традиционная европейская мыслительная традиция, основанная на формальной аристотелевской логике, категориях цели, причины и следствия, необходимости и случайности, материального и идеального, постепенно обогащается традициями мышления, свойственными Востоку и трактующими действительность более непредвзято и многообразны. Именно восточной мысли исконно присущи черты системности не в смысле простой упорядоченности и организованности, а в смысле экстрааддитивности и прерывности сложных систем. При последовательно проводимом системном подходе теряет смысл противополагание причины и следствия, а понятие цели начинает выглядеть, с одной стороны, излишне тривиальным, а с другой стороны, беспрерывно меняющимся, неустойчивым, не подходящим в качестве рациональной мыслительной категории. Как раз восточной мыслительной традиции свойственно восприятие действительности как многообразной, меняющейся, текучей, наполненной постоянно возникающими и исчезающими мнимыми противоречиями. А именно так будет выглядеть сложная саморегулирующаяся система с большим количеством степеней свободы в проекциях на различные координатные плоскости в многомерном пространстве переменных системы. Течение постмодерна во многом отражает, хоть и не всегда последовательно, происходящие изменения направленности европейского мышления в сторону его обогащения. Современная психология все больше внимания уделяет особенностям мышления в различных культурах, и сравнение различных возможных типов и способов мышления не всегда однозначно свидетельствует в пользу классического европейского способа мышления. Н.В.Бугаев приходит к необходимости коренного преобразования и обогащения существовавших тогда мыслительных традиций, правда, только в аспектах системности и прерывности. Но уже сама постановка вопроса о том, что человеческое и, в частности, научное мышление, может быть не идеальным, обогатило сокровищницу человеческих знаний и раскрепостила усилия шедших за ним мыслителей. Учение Бугаева на заре советской власти называли реакционным. Фактически оно и было реакцией: реакцией на колоссальную разобщенность различных слоев российского общества в социальном и культурном плане, реакцией на отсталость и инертность, патриархальную безличностность российского народа, реакцией на бездушную механистичность колоссального бюрократического аппарата, на слабость и непоследовательность самодержавия, метавшегося между попытками проведения либеральных реформ и дремучей реакционностью. Его модель государства как целостной гармоничной во всех внутренних связях монадой была его страстной мечтой, он верил, что не революции и восстания, а свободная воля и усилия наиболее передовых людей российского общества способны провести либеральное реформирование российского общества. История показала, что надежды Н.В.Бугаева на реформирование российского самодержавия не оправдались. Получается, что теории блестящего математика и своеобразного философа не смогли правильно предсказать ход исторического процесса. Встает резонный вопрос: намного ли надежнее способны предсказывать будущее наши современные теории? Способен ли вообще человек предсказать тенденции в развитии человеческой культуры? Вывод: 30. Сложная социокультурная обстановка в России в середине XIX века способствовала формированию философских идей Н.В.Бугаева; неприятие разрыва между субкультурами интеллигенции и народа и в системе государственного управления выражается в идее единой государственной монады; надежда на исправление ситуации путем реформы образования приводит к формулировке законов монадологической косности и солидарности. 3.2. Деятельность членов Московской философско-математической школы в области образования В 1864 году (15/27 сентября) несколько молодых профессоров и преподавателей математического отделения Московского университета образовали кружок с целью знакомить друг друга с развитием различных отделов математики оригинальными рефератами и отчетами о новых работах других ученых. К этому кружку примкнули также лица, не принадлежавшие к числу университетских преподавателей. С 1867 года (28 января) он получил уже официальное утверждение как Московское математическое общество. Секретарем Общества с момента его основания стал известный впоследствии российский математик и философ Николай Васильевич Бугаев (отец поэта-символиста и писателя Андрея Белого), который с 16 сентября 1891 года становится президентом Общества, хотя фактически Н.В.Бугаев уже задолго до этого заведовал делами Общества. Московское математическое общество немало сделало для средней школы. Например, в начале XX века по предложению Московского математического общества при Московском университете было создано Педагогическое общество. В «Математическом сборнике» с 1867 по 1882 гг. публиковались статьи по вопросам элементарной математики, по истории математики, рецензии на учебники. Николай Васильевич живо интересовался вопросами воспитания и обучения; не ограничиваясь преподаванием в Университете, он принимал горячее участие в судьбе средней и начальной школы. Он писал учебники, участвовал в различных комиссиях, возникавших при округе и при министерстве, составлял для этих комиссий обширные записки, не щадя ни труда, ни времени [41, 80]. Вопросам обучения и воспитания была посвящена актовая речь Николая Васильевича: «Математика, как орудие научное и педагогическое», произнесенная им 12 января 1869 г [31]. Николай Васильевич напомнил в своей речи, что в древности математике придавали большое научное и педагогическое значение. Платон на дверях своей академии сделал надпись: «Никто, не знающий геометрии, сюда да не входит». В настоящее время тоже, несмотря на все разноречие систем воспитания и обучения, математике везде отводится почетное место, и правильная постановка ее находится в тесной связи с решением многих не только научных, но и педагогических, культурных и общественных задач. Но, к сожалению, замечает Николай Васильевич, объем и постановка математического образования в наших средних учебных заведениях далеко не соответствует высоким требованиям современной цивилизации, и по сему математика не оказывает полной воспитывающей силы: преподавание ее обрывается там, где только начинает определяться ее глубокое значение, уясняющее законы природы и мысли [5]. Для достижения полного действия воспитывающей силы преподавания математики необходимо иметь в виду: теорию, механизмы, вычисления и приложения теории к решению практических задач. Только пользование этими тремя сторонами преподавания математики, нераздельно, ведет к развитию ума, наиболее целесообразному и всестороннему [5]. Наиболее благоприятным условием для распространения математических знаний в стране Николай Васильевич считал правильно развитую педагогическую систему, опирающуюся на хорошо организованное сословие педагогов. Благодаря такой организации постепенно формируются нужные традиции педагогического дела; вырабатывается опытность в деле воспитания, и все это передается преданиями и литературой новым поколениям педагогов. В заключение своей речи Николай Васильевич вспомнил о своем учителе Н.Е.Зернове, бывшем профессоре чистой математики в Московском Университете, так много способствовавшем распространению математических знаний своим простым, светлым и вразумительным словом. Николай Васильевич обратил внимание своих слушателей на заветы, преподанные его учителем: стремиться к простоте и ясности в изложении математики, не увлекаться ложным глубокомыслием, измеряемым темнотою и запутанностью исследований, а помнить, что высшее глубокомыслие в математике есть очевидность и простота [5]. Государственная политика в деле народного образования преимущественно была направлена на сферу общего образования; управление народным просвещением было сосредоточено в Министерстве народного просвещения [3]. Николай Васильевич высказал свои взгляды на постановку отечественного воспитания и обучения по поводу предлагаемых реформ средней школы. Эти мнения философа-педагога содержат много оригинального, и можно усмотреть, что они в существенных чертах являются естественным следствием аритмо-монадологического мировоззрения Николая Васильевича. Эти мнения были изложены Николаем Васильевичем в докладах Высочайше учрежденной комиссии по вопросу об улучшениях средних учебных заведений [5]. Николай Васильевич является здесь горячим поборником того, чтобы школа занималась воспитанием и развитием органов внешних чувств, потому что ощущения дают реальное содержание и конкретную форму нашим представлениям, а следовательно, и нашим понятиям и суждениям. Для развития органов внешних чувств прежде всего требуется гигиенический уход за их отправлениями, а затем упражнение этих органов при помощи изучения таких предметов, где приходится прибегать к наблюдению действительности, природы, делать описания, сравнения, где имеются формы и краски. Даже общими мускульными упражнениями нельзя пренебрегать, так как они способствуют правильному развитию всего организма вообще и органов внешних чувств в частности. Следовательно, Николай Васильевич в этих взглядах дает лишь подробное развитие древней пословицы: в здоровом теле здоровый дух. Приведем дословно часть дальнейших суждений Николая Васильевича об этом злободневном вопросе, суждений, тем более интересных для нас, что в них Николай Васильевич, как это легко заметить, остается строго последовательным в своем аритмо-монадологическом мировоззрении с началами индивидуальности, гармонии внешнего с внутренним и с идеей активности, целесообразного творчества [5]. «Здоровье, внешние чувства и эмоции, правильно развитые воспитанием и наблюдением, это та черноземная почва, на которой покоятся и сами дарования и великие таланты. Только на почве правильно развитых внешних чувств может сформироваться и большой здравый смысл, элемент, столь необходимый для всякой личной и общественной жизни. Повторяю, плохо развитые внешние чувства ослабляют содержание и силу интеллектуальных проявлений человека. Мало того, они притупляют и развитие многих эмоций, и в особенности одной наиболее важной эмоции – эстетической. Недаром говорят некоторые художники, что искусство есть мышление в образах. Как же правильно развиться эстетическому чувству, если за мышлением или вовсе не стоит, или стоить бледный и бессодержательный образ? Правильное развитие эстетической эмоции нужно не одному писателю и художнику; оно необходимо и ученому. Умственные операции приобретают особую силу, когда они сопровождаются стройностью и художественностью изложения. Ученому необходимо не только доказывать, но и убеждать. Мы в значительной степени замечаем упадок эстетических эмоций и на литературном стиле теперешних писателей и на нашем неуважении к родному языку. Богатый русский язык загрязняется и обезличивается на наших глазах. Как далеко мы ушли в этом направлении от Пушкина и Лермонтова. Конечно, не вся вина в этом лежит на одном утилитарном направлении нашего общества. Значительная часть вины в этом падает на нашу школу, которая в погоне за формами разных языков позабыла то, что придает особенную силу, конкретность, гармонию и художественную красоту речи. Эстетические эмоции нужны для облагорожения человека и для внесения идеального элемента в наше общежитие. Они необходимы также для правильного проявления воли. Идеи целесообразности и активности лежат в тесной связи с эстетическими чувствами гармонии, соответствия и свободного художественного творчества. Наконец, конкретное содержание, даваемое внешними чувствами, и эстетические волнения необходимы для того, чтобы человек в своей активной деятельности знал меру и содержание своих действий. Не должно в школе все направляться так, чтобы в учащемся развивались только одни пассивные добродетели и таланты. Не одно пассивное знание имеет значение. Для человека необходимо, чтобы знание было деятельно, чтобы оно могло приспособляться к проявлению активной стороны человека. Знание должно служить на пользу окружающей среды, должно возбуждать волю к дальнейшему самостоятельному и самодеятельному развитию. Где нет активности, там нет и творчества. Творчество же играет великую роль в жизни каждого общества. Настоящая школа, воспитывая и отдавая предпочтение пассивной стороне духа над активной, как бы обнаруживает сочувствие буддистской нравственности. Наша христианская точка зрения требует, чтобы человек свободно, самодеятельно и самостоятельно стремился к совершенствованию себя и других. В словах Спасителя «Царствие Божие завоевывается силою» (усилием) мы должны находить основание для приучения наших молодых поколений к свободному и самодеятельному развитию. Из этих общих соображений само собою видно, в каком направлении мы должны идти, обдумывая улучшения теперешней школы. Во-первых, нужно обратить внимание на физическое воспитание и развитие внешних чувств, прибегая к тем средствам, которые дает современная наука, и вводя те предметы, которые развивают наблюдательность не в одной только области слова, но и в области природы и человеческого общества. Во-вторых, необходимо развить эстетическое чувство, поставить на правильную дорогу русскую словесность и русский язык. В-третьих, необходимо так поставить школу, чтобы учащемуся оставалось время для самодеятельного и самостоятельного развития. Этому развитию должны помогать не только изучение наук, но также изучение искусства, ремесел, если у учащегося есть к тому способности и силы» [93]. Эти идеи Николая Васильевича Бугаева не потеряли своей актуальности даже в настоящее время, и не только у нас в стране, но и за рубежом; правильная постановка художественного и эстетического воспитания в общеобразовательной школе до сих пор является не решенной задачей, привлекающей силы многих исследователей [39]. Последние годы, начиная с 1890 года, Николай Васильевич постоянно был назначаем председателем государственных испытательных комиссий в различных университетах. Таким образом, ему пришлось быть председателем испытательных комиссий три раза в Одессе, три раза в Харькове, три раза в Казани, два раза в Санкт-Петербурге, по одному разу в Шеве и Москве. Везде он оставил по себе добрую память и при отъезде получал выражение признательности как от сочленов испытательной комиссии, так и от экзаменовавшихся. За свою многостороннюю научную и педагогическую деятельность Николай Васильевич был избран почетным членом Университетов Казанского и Юрьевского, почетным членом Общества любителей естествознания, Казанского физико-математического общества, членом-корреспондентом Императорской Академии Наук, действительным членом Чешского Королевского Общества в Праге и многих русских ученых обществ. Он напечатал более 70 трудов, принимал деятельное участие в Русских съездах естествоиспытателей, произнося на них речи [80]. Одним из учеников Н.В.Бугаева был математик Павел Алексеевич Некрасов, с 1893 года – ректор Московского университета, с 1897 года – попечитель Московского учебного округа. В 1905 году он переехал в Санкт-Петербург на службу в Министерстве народного просвещения. Основной и наиболее объемной (249 страниц) работой П.А.Некрасова является «Московская философско-математическая школа и ее основатели» [95]. Это не историографическая работа, воспоминаниям и истории в ней отведено от силы процента три. Это работа теоретическая, философско-математическая, в ней Некрасов попытался проанализировать все, что сделал Н.В.Бугаев, и предложил свое собственное развитие этих идей в различных областях. К моменту написания этой работы П.А.Некрасов уже одиннадцать лет как чиновник, и это, вероятно, наложило свой оттенок на его философские воззрения. По свидетельству Андрея Белого, «отец про него говорил, что он некогда был недурным математиком; он позднее пошел в гору как ректор; в эту пору отец стал помалкивать; и «Павел Алексеевич» уже не произносилось им ласково». В упомянутой работе П.А.Некрасова проблемам образования в России уделено больше 50 страниц. Блестяще используя философскую терминологию Н.В.Бугаева, П.А.Некрасов фактически под прикрытием философии своего великого философа-учителя подробно излагает свое кредо как чиновника – попечителя Московского учебного округа. Фактически к моменту написания своей работы П.А.Некрасов убежденный монархист и православный верующий. П.А.Некрасов предлагает свою «четырехчленную» классификацию людей: 1) истинно мудрые люди; 2) рядовые культурные люди; 3) люди чистого природного неведения; 4) люди поверхностного взгляда, ложных настроений и ложных начал. К последнему классу людей Некрасов относит революционеров, многих публицистов и журналистов, а также преступников. П.А.Некрасов в несколько туманной, но вполне определенной форме оправдывает и поддерживает жесткие действия самодержавия по подавлению революционных выступлений. Впоследствии П.А.Некрасов попытался применить развитые им в своей работе принципы к реформе российского образования. В разделе 1.2 “Особенности взглядов П.А.Некрасова” уже рассказывалось о неудавшейся попытке включения в курс гимназии теории вероятностей, принципы которой самым ненаучным образом извращались в идеалистическом духе. Идеи Н.В.Бугаева остались во многом не реализованными, но они не потеряли актуальность и в наши дни. Отметим, что Бугаев в основном высказывался о средних учебных заведениях. В наше время его идеи применимы и к высшим учебным заведениям. Обратимся к актуальной для сегодняшнего дня проблеме культурологического образования (применительно к математическим факультетам университетов на примере механикоматематического факультета МГУ, который является непосредственным приемником физикоматематического факультета). Отметим, что Николай Васильевич Бугаев подчеркивал важность разностороннего развития для учащихся средних заведений; вопрос о студентах высших учебных заведений считался им решённым. К сожалению, в последние полторы декады уровень культурологического образования в упомянутом учебном заведении не только не вырос, а вообще устремился к нулю. Гуманитарным наукам на мехмате отводится последнее место [41]. Например, в середине 1990-х годов на механико-математическом факультете Московского государственного университета им. Ломоносова в пятилетний курс обучения входили: – курс истории отечества (2 семестра: 1 лекция + 1 семинар в неделю); – курс социологии (1 семестр: 1 лекция + 0.5 семинара в неделю); – курс философии (2 семестра: 1 лекция + 1 семинар в неделю). В данный перечень не включен курс языка, который заключался преимущественно в обучении студентов чтению специализированных математических текстов. Естественно, данная ситуация возникла в условиях острой борьбы кафедр за учебные часы, и не прослеживается тенденции к увеличению количества и систематичности преподавания гуманитарных дисциплин. Думаем, что и философия была бы «выдавлена» из учебного плана, если бы экзамен по философии не входил бы в обязательный список вступительных экзаменов в любую аспирантуру. К тому же, иногда во втором семестре изучения философии на мехмате МГУ вместо изучения истории философии преподается «авторский» курс философии математики. Следует также отметить, что история философии и основные проблемы философии объединены в один курс. В настоящее время на математические факультеты университетов поступают в основном выпускники школ с углублённым изучением математики. Только в немногих из них курс естественных наук «сбалансирован» интересным и неформальным курсом гуманитарных наук. Получается, что люди, изучавшие математику, могут «пройти мимо» гуманитарных наук или получить лишь поверхностное и обрывочное представление о них, в рамках естественных процессов социализации и инкультурации. Чёткий и систематизированный курс культурологии мог бы помочь в данной ситуации для достижения следующих целей: развития интереса к изучению гуманитарных наук; преодоления определенного «скепсиса» в отношении к гуманитарным наукам; систематизации гуманитарных знаний, полученных в средней школе; повышения общего культурного уровня студентов; увеличения количества междисциплинарных исследований. Следует отметить, что курс культурологии для математиков должен удовлетворять требованиям ясности и простоты схемы курса, четкости в определении понятий, непротиворечивости суждений. Подобные требования ни в коей мере не нарушают традиций преподавания культурологии и как гуманитарной дисциплины, и как знания, основным объектом изучения которого является сложнейший и многогранный объект – культура. Вывод: 31. Н.В.Бугаев много времени и сил посвящал реформированию российского образования; многие из его идей и предложений не потеряли актуальности и в настоящее время. Глава 4. Критический анализ идей Московской философско-математической школы 4.1 Анализ влияния идей Московской философско-математической школы на научную и философскую мысль 4.1.1 Развитие взглядов представителей Московской философскоматематической школы в дальнейшей истории отечественной науки Николаю Васильевичу Бугаеву и его ученикам и последователям оставалось сделать лишь несколько небольших шагов, чтобы попасть в неизведанное, в новую науку ХХ века. Они не успели сделать эти шаги. Но они предварили будущие открытия своими исследованиями. Без сомнения, российские ученые знали о работах Н.В.Бугаева, П.А.Некрасова и В.Г.Алексеева. Московское математическое общество встало преградой на путях материализма, детерминизма, эволюционизма и дарвинизма. Его критиковали, его ругали, его клеймили, называли реакционным. В принципе, оно и было реакционным по своей сути. Это была реакция на тупик, в который науку завел механицизм. Ленин клеймил сочувствующего идеям Московской философско-математической школы Лопатина [135], называя его «философским черносотенцем» в книге «Материализм и эмпириокритицизм», а вслед за ним и вся господствующая власть преследовала «реакционную» школу. Это был скандал, а скандал всегда вызывает больший интерес, чем рутина. Мимо рутины проходишь и не замечаешь, а скандальное зачастую вызывает желание по крайней мере разобраться самому, в чём же дело. Несомненно, именно благодаря этому многие ознакомились с идеями Бугаева и его последователей. Кроме того, ученые независимы. Они всегда полны скептицизма. Если им говорят «черное» или «белое», они не верят на слово и начинают рассматривать это в бинокли или в спектроскоп. Можно быть уверенным, что многие ознакомились с критикуемыми работами просто из чувства противоречия. Но именно по этим причинам эти идеи не получили должного развития и практически не оказали непосредственного влияния на учёных, принадлежащих последующим поколениям. Особенно легко было ознакомиться с идеями Бугаева, так как все они были изложены в компактной, сжатой форме. Идеи его трех статей, каждой в отдельности и особенно в соединении, были настолько парадоксальны, они казались настолько чудовищно дикими и отсталыми, что это пробуждало работу разума. Внутреннее противоречие между этими идеями было настолько явным, что подобно тезису и антитезису без особого усилия рождало следствие, вернее, несколько следствий. Бугаев почти что выразил их. Вот они. При объединении большого числа взаимодействующих элементов появляется новое свойство, «душа», которая объединяет эти элементы в новую сущность, до этого не существовавшую. И описывать эту сущность нужно новыми понятиями, эту сущность не опишешь в рамках, терминах и понятиях составляющих элементов. Душа может быть не только у человека, но и у организации, народа, государства, человечества. Душа народа – это его культура. Душа человечества – Божественная София, следуя В.Соловьёву. Сложную систему нерационально описывать в рамках традиционного анализа, потому что она может находиться не в бесконечно большом количестве плавно перетекающих друг в друга состояний, а лишь в некотором количестве устойчивых состояний; при потере устойчивости система переходит в другое состояние почти мгновенно, скачком. Состояния системы квантуются, стратифицируются, происходит диссоциация спектра, распад на уровни, бифуркация, ветвление. В сложных системах действует большое число факторов, которые невозможно все учесть, поэтому приходится вводить вероятностные и статистические величины. Настоящий прорыв в области анализа сложных систем осуществил Ляпунов, создавший теорию устойчивости механических систем. В 20-х годах XX века А.Богданов сформулировал принцип системности при разработке своей тектологии, в которой он обосновывает необходимость исследования любого объекта с «организационной точки зрения». С этой позиции законы организации системы могут носить всеобщий характер и проявляться в самых разнообразных конкретных системах [69]. В 1931 году А.А.Андронов построил качественную теорию дифференциальных уравнений и развил теорию бифуркаций Пуанкаре. Идеи структурной устойчивости, бифуркационные диаграммы, явная классификация бифуркаций общего положения и даже исследование складок и сборок гладких отображений поверхностей на плоскость явно присутствуют в работах А.А.Андронова и его школы [12]. В теории «теплового взрыва» Семенова (1929) и в работах его последователей по теории горения изучалась перестройки стационарных режимов при изменении параметров. В частности, в работе Я.Б.Зельдовича 1940 года проанализированы явления, происходящие при перестройке кривой равновесий на плоскости фазовой переменной и параметра [12]. В работе 1943 года о возникновении турбулентности Ландау анализирует уравнение бифуркации при анализе теряющего устойчивость колебания. Теория фазовых переходов второго рода Ландау сводится к анализу бифуркаций критических точек симметрических функций [12]. 4.1.2 Влияние идей Н.В.Бугаева на зарубежную науку Понятийная база синергетики была разработана Г.Хакеном на основе анализа лазера [40]. Лазер состоит из полости с параллельными зеркалами, между которыми расположены атомы, которые и будут потом излучать свет лазера. Атомы могут быть переведены из основного состояния в возбужденное состояние под действием фотонов, а затем переходят в основное состояние, излучая фотоны. Но если количество возбужденных атомных состояний переходит определенный предел, то происходит процесс, ведущий к динамическому фазовому переходу. Фотоны, двигающиеся взад и вперед между зеркалами, взаимодействуют с атомами, стимулируя их излучать фотоны. В итоге получается лавина, поток фотонов, лазерный луч. Тут уже атомы не ведут себя стохастически независимо. Происходит самоорганизация системы. Каждый атом становится рабом системы, подчиняется системе. Чтобы описать такую систему, не нужно описывать каждый из громадного количества атомов, потому что все они начинают вести себя как один. Достаточно описать систему в целом. Сделаем, однако, одно качественное замечание относительно предположений Хакена, которыми воспользовались потом некоторые его последователи (например, отец-вдохновитель социодинамики В.Вайдлих). При выводе факта, что сложная система (в частности, социальная) может быть описана ограниченным количеством ключевых параметров, они пользовались одним математическим свойством рассматриваемой системы, которое для каждой конкретной системы может как выполняться, так и нет. Возможно ли определить целый класс систем, для которое это свойство верно? Мы считаем, что эта задача невыполнима. Понятия, сходные с понятием бугаевских монад с их свойством неразложимости на элементарные составные части, было использовано в гештальтпсихологии. Гештальт – структура, которая упорядочивает многообразие отдельных явлений. С точки зрения гештальтпсихологии человек воспринимает и мыслит мир как совокупность образов, а каждый образ воспринимается как целостная структура – гештальт. Вертгеймер считал, что мыслительный процесс развивается как последовательная смена гештальтов – разных типов целостного видения проблемной ситуации, причем решение задачи означает совпадение структуры видения этой ситуации с ее объективной структурой. Инсайт – внезапное и невыводимое из прошлого опыта понимание структуры ситуации в целом. Это понимание решает проблему. Первоначально Вертгеймер объяснял инсайт как … «короткое замыкание» между зонами мозга [84]. Выводы: 32. Учение Н.В.Бугаева и его последователей стояло преградой на путях дарвинизма, эволюционизма и материализма, выглядело реакционным, отсталым и подвергалось нападкам; скандальная атмосфера вокруг этого учения вызывала у многих ученых желание разобраться в существе вопроса; все это способствовало увеличению влияния этого учения. 33. Идеи Н.В.Бугаева практически подготовили возникновение целого нового класса теорий: в математике и механике теории устойчивости, теории динамических систем, теории бифуркаций, теории катастроф; в физике теорий и понятий квантования энергетических уровней, диссоциации спектров, стратификации, аттракторов, лазерного излучения и т.п. 4.1.3 Продолжение идей Н.В.Бугаева в зарубежных философских школах Сейчас нам кажется очевидным, что реальность, включая живую и неживую природу, разделена на слои (стратифицирована) с различной степенью организованности. Высшие, более макроскопические слои являются составными, поэтому покоятся над низшими, микроскопическими слоями. Одним из первых философов, положивших в основу своего учения многослойную структуру мира, был Николай Хартман [40]. Интересно, что такой авторитет в области философии сознания, Как Х.Патнэм считает, что функционирование мозга лучше формулировать в терминах математики прерывности [101, с. 101]. Вывод: 34. Одним из примеров, когда философские взгляды догоняют естественно-научные представления, является постепенное проникновение в современную философию модифицированных и обобщенных естественной наукой идей Московской философскоматематической школы. 4.1.4 Сравнительный анализ идей Н.В.Бугаева и П.А.Некрасова о свободе воли Попробуем сравнить идеи Н.В.Бугаева и П.А.Некрасова о свободе воли с точки зрения влияния этих идей на их научно-философское миросозерцание. В данном контексте нас будет интересовать вопрос о свободе воли с позиции не психологической, а скорее философской парадигмы рассмотрения. Мы попытаемся увидеть в рассуждениях обоих авторов то общее и различное, что касается вопросов детерминированности и индетерминированности в мире в целом и в науке в частности. Возможны ли общие законы о природе мира в целом и о природе человека в частности? А может быть, о природе человеческого сознания в целом и о природе мира в частности? Для нас не так важно, на какой вопрос мы отвечаем – это зависит от частного мировоззрения познающего индивидуума; будь то позитивистская точка зрения на мир или солипсическая (или как метко было принято называть эту точку зрения раньше, эгоистическая). Сосредоточимся на вопросах: возможны ли общие законы и если да, то возможно ли в принципе их описать? Также оговоримся, что употребляя термин «воля», мы будем подразумевать конкретную человеческую волю. Н.В.Бугаев упоминает ещё метафизическую волю, которая в некоторых философских построениях стоит вне отношения к человеку и природе [32]. Будем говорить о том, что подлежит нашему наблюдению, доступно внешнему и внутреннему опыту. Обратимся сначала к точке зрения П.А.Некрасова. Несмотря на реакционные взгляды в плане социальных теорий, его точка зрения выглядит вполне обоснованной [96, 117]. Несмотря на то, что его определение свободы воли как «равнодействующей психических сил духовно разумного существа» является противоречивым (и, соответственно, вызвало наибольшие возражения в ходе его доклада на заседании Московского психологического общества), общий ход рассуждений при этом не меняется. Если термины «свобода» и «воля» присутствуют в языке, то множество знаков, обозначаемых ими, является конечным, так как конечно число людей. Русскоговорящие люди понимают, о чём они говорят, поэтому все нюансы, индивидуальные особенности и оттенки терминов являются с одной стороны, атрибутами каждой индивидуальности в отдельности, а с другой стороны, принадлежат культуре как артефакты. В целом же для большинства людей спектры понятий «свобода» и «воля» приблизительно совпадают. Эта относительная «устойчивость» в значении подтверждается ещё и тем, что для современного читателя тексты столетней давности (рассматриваемые в данной работе) даже более понятны, чем переводные современные сочинения. Исходя из этой предпосылки Вежбицкая приводит примеры из несовременной литературы (правда, с необходимыми оговорками). Итак, мы в целом понимаем, что такое свобода и что такое воля. Для конструирования логики «мерных некатегорических суждений» П.А.Некрасов использует «закон больших чисел» (теорему Чебышева), суть которой уже разбиралась нами. Здесь лишь напомним, что из теоремы следует, что в серии независимых испытаний при увеличении их числа среднее (арифметическое) значение результатов стремится к среднему значению средних. То есть, даже несмотря на случайную природу величин, их квинтэссенция или суперпозиция предсказуема. Теперь сделаем важную оговорку – это справедливо лишь при условии независимости испытаний. В жизни же независимости зачастую может и не быть. П.Тихомиров в рецензирующей работе [117] приводит пример, что событие возникновения пожара в доме А не есть независимое событие от события возникновения пожара в доме Б, ведь чем ближе расположены дома, тем более они зависимы. То же можно сказать и о ценах на хлеб, например. Люди в свою очередь влияют друг на друга, Тардом и Лебоном известен и описан факт возникновения единого коллективного бессознательного у толпы. Более того, можно сказать, что социум (как сложная система), согласно выдвинутой нами основной гипотезе более склонен к внутренней зависимости и образованию более сложных внутренних связей, которые, в свою очередь, все более усложняются и насыщаются, образуя направленные информационные потоки. Всё это ставит под сомнение правомерность использования факта независимости в социальной физике. Чуть ниже П.А.Некрасов приводит цитату из Лапласа о том, что согласно закону достаточного основания самая свободная воля не может без определяющего мотива породить действия, «так как если при всех совершенно одинаковых двух положениях она действовала бы в одном случае и удерживалась бы действовать в другом, то её выбор был бы следствием без причины». В данном утверждении смущающим является факт наличия двух «экспериментов». Невозможно представить себе двух абсолютно одинаковых событий. Выражаясь словами Парменида, «в одну и ту же реку нельзя войти дважды», поэтому в реальной временной последовательности не бывает двух совершенно одинаковых экспериментов. Наличие подобной детерминированности следует отнести к скорее к человеческому восприятию времени и последовательности событий во времени. Отсюда ещё не следует то, что эта детерминированность регламентируется каким-то общезначимым законом. В таком случае можно сказать, что вся культура по сути своей представляет и будет представлять собой «апостериорный» закон. Историю переписать нельзя, можно лишь извратить исторический факт, изменив или его содержание, или его интерпретацию. Религиозный человек заранее знает ответы на рассматриваемые нами вопросы. Для христианина, на наш взгляд, все спорные вопросы подобного характера уже в целом решены и допускают лишь вариации в интерпретациях. Судьбоносность принимаемых решений предусмотрена нашим единым Господом. В Боге, на наш взгляд (и также считал Тейхмюллер), нет понятия времени, и causa finalis является равнозначной по отношению и к causa formalis, и к causa sui. Очень точно написал про свободу воли Чаадаев в четвёртом философическом письме, cчитающий, что десница Господня руководит нами, но так как мы не ощущаем этого, то именно в этой мере мы и свободны. «Наконец, собственное действие человека исходит действительно от него лишь в том случае, когда оно соответствует закону (божественному, духовной природы). Всякий раз, как мы от него отступаем, действия наши определяются не нами, а тем, что нас окружает. Подчиняясь этим чуждым влияниям, выходя из пределов закона, мы себя уничтожаем. Но покоряясь божественно власти, мы никогда не имеем полного сознания это власти; поэтому она никогда не может попирать нашей свободы. Итак, наша свобода заключается лишь в том, что мы не ощущаем нашей зависимости: этого достаточно, чтобы почесть себя совершенно свободными и солидарными со всем, что мы делаем, со всем, что мы думаем». В ответе на один из дополнительных вопросов (заданный В.А.Гольцевым) П.А.Некрасов прямо отвечает насчёт своего индетерминизма: «упрёк в том, будто я претендую при помощи теории вероятностей познать непознаваемое, – совершенно несправедлив, потому что у меня речь идет не о том, что непознаваемо по существу, а лишь о том, чего полное и точное познание невыполнимо по сложности предмета и по недостатку всех необходимы для такого познания данных». В качестве примера он приводит случай описания замкнутой системы трех тел. Для их описания требуется 15 дифференциальных уравнений. Следовательно, П.А.Некрасов всё-таки считает мир познаваемым, вот только задача формального описания мира является чрезвычайно сложной. Но при таком подходе мир описывается конечным числом уравнений, которые можно решить. Здесь же П.А.Некрасов делает оговорку, что «сочетание детерминизма с индетерминизмом, рассматриваемое в теории вероятностей, можно назвать свободным детерминизмом. Этот детерминизм не имеет ничего общего с фатализмом материалистов и позитивистов, так как он не упраздняет творческих свободных сил, действующих в мировом процессе, и предоставляет собою вместе с классификацией бытия по родам и видам лишь методологический принцип, необходимый для ясного и связного понимания этого процесса». Очевидно, что индетерминизм П.А.Некрасова – это лишь индетерминизм непознаваемый с точки зрения прикладной науки. Но философия – в отличие от социологии – наука абстрактная, она больше похожа на математику, чем на физику. То есть индетерминизм П.А.Некрасова – это индетерминизм «количественный». И это не случайно. Будучи специалистом по теории вероятностей, П.А.Некрасов, на наш взгляд, понимал теорию Н.В.Бугаева, но не настолько хорошо, чтобы перейти от «количественного» индетерминизма к индетерминизму «качественному». Возможно, он был близок к этому переходу, но не смог его сделать, сдерживаемый теорией вероятностей – ведь теория вероятностей, закон больших чисел, применённые к массовым социальным явлениям, дают ровно тот необходимый запас свободы, который нужен для свободно мыслящего человека. Реакционность взглядов П.А.Некрасова, сторонника «бронированного кулака» и сильного государства, противоречила свободе «качественной», к которой шёл в своих изысканиях Н.В.Бугаев. В своей работе «О свободе воли» [32] Н.В.Бугаев гораздо менее категоричен в суждениях. Рассуждая о свободе воли, Н.В.Бугаев оригинально использует диалектический метод для трактовки понятия «свобода воли». С его точки зрения, свобода воли – это устойчивое словосочетание, сочетающее в себе обе стороны одной медали. Можно даже сказать, что «свобода воли» является понятием, образованное как бы в соответствии с диалектическим методом. Действительно, свобода воли, рассмотренная с точки зрения мотивов, целей – это воля. Свобода воли, рассмотренная с точки зрения отсутствия препятствий – это свобода. Но мы свободны не только соотносительно свободы воли. Миру присущ закон, вытекающий из основных идей Н.В.Бугаева – мир является «качественно свободным». Рассмотрим снова понятие индетерминизма в новом, «качественном» смысле. В данном случае соотношение детерминизма и индетерминизма следует понимать следующим образом. Механический детерминизм предполагает, что экстраполяция закона возможна на всю ось времени: зная значения на маленьком отрезке, мы знаем и значения на всём интервале, на котором функция, описывающая поведение любой системы, является гладкой. В случае индетерминизма Н.В.Бугаева закон достаточного основания работает «локально»: в каждый момент времени, в котором функция терпит разрыв первого рода (скачок), константа, измеряющая эту прерывность (константа прерывности), является зависящей от данного момента. То есть константы прерывности имеют «причину», но скорее причину Божественную, Целевую. Здесь как бы проявляется «индивидуальный» детерминизм, детерминизм локальный. Согласно Лейбницу, Бог создал лучший из миров. Значит, если бы он создавал его ещё раз, то он сделал бы это идентичным образом, то есть повторил все локальные константы, известные Богу, но неизвестные в совокупности человеку и человечеству. То есть эти константы прерывности гарантируют преодоление механического детерминизма. Мы принципиально не можем узнать, какой скачок совершит функция, описывающая какое-либо событие, через пять, десять, пятнадцать минут. В этом заключается «качественный» индетерминизм. В этом проявляется близость взглядов Н.В.Бугаева к взглядам критических персоналистов. Индивидуальность имеет шанс проявиться везде и всегда. Ведь скачки могут испытывать не только сами мировые линии, но и их производные, задающие изломы, искривления, изменения траекторий. П.А.Некрасов был во многом прав. Исходя из того, что мы не можем до конца познать мир, узнать все «константы прерывности», следует, что, например, любое мыслимое и немыслимое событие может случиться. Этого не происходит согласно многим моделям теории вероятностей (в качестве примера можем привести практическую невозможность выпадения миллиона решек из миллиона подбрасываний симметричной монетки). Мы считаем, что теория вероятностей здесь не причём. Если рассматривать эти скачки функций как слепую силу, как плод хаоса (основной тезис атеиста в защиту эволюционной теории), то мир давно бы уже разрушился. Но в мире присутствует гармония, наш мир – лучший из миров, поэтому серьёзные катаклизмы всё-таки происходят относительно редко. Существуют, однако, ситуации, в которых даже маленький скачок может существенно повлиять на ситуацию. Одним из примеров класса таких ситуаций можно считать точки ветвления решений дифференциальных уравнений. То есть достаточно «индивидуальной воли», чтобы изменить миропорядок. 4.1.5 Концепция культуры как системной памяти в работах Н.В.Бугаева Н.В.Бугаев дает вполне определенное решение важному вопросу: имеет ли право русский человек, особенно интеллигентный, служить развитию своего народа на началах исконно-русских, или же его долг и обязанность – стремиться оторвать этот народ от уклада его старины, стереть его индивидуальность и слить его в общее русло эволюции всего человечества Решение этого вопроса мы находим, в наиболее определенной форме, в некрологе С.А.Усову, который мы уже цитировали выше. Основная идея в том, что живя духом со всем человечеством, чувствуя себя членом космоса, необходимо относится к этому космосу не рабски, а самостоятельно. «Народ русский много страдал. Ему трудно было отстоять свою самобытную личность. Повсюду его окружали физические преграды, неумолимые враги. С большим трудом, проливая потоками свою кровь, он не только отбился от них, но и завоевал себе великое всемирноисторическое значение. Наше настоящее и наше будущее покоится на могучих плечах этого великого русского народа». Н.В.Бугаев был патриотом, переживающим за развитие собственного народа. Н.В.Бугаев, как и все образованные люди того времени, несомненно предчувствовал, что над Российским государством сгущаются тучи. Было очевидно, что революционный путь развития неизбежно приведёт к социальным потрясениям. Линейный путь развития «государственной монады», а по сути сложной саморегулирующейся системы, экстрааддитивной структуры «государства» отбрасывает развитие системы назад. Н.В.Бугаев понимал, что прогрессивным является другой путь, не путь отрицания прошлого (а ведь так во многом и случилось в последующие годы), а путь его накопления. Н.В.Бугаев в работе «Основы эволюционной монадологии» кратко формулирует тезисы о культуре как системной памяти: «Рядом с мировыми законами сохранения вещества и энергии имеет место закон сохранения времени, прошлого. Он может быть выражен формулой: прошлое не исчезает, а накапливается. Вместе с этим психическое содержание и потенциальная энергия постоянно увеличиваются. Психизм увеличивается. Это сказывается тем, что совершенство монад и комплексов (монад) увеличивается». «Совместной жизнью монад вырабатываются общие формы их социальной жизни. Эти формы получают название законов, инстинктов, привычек, обычаев, учреждений. Самые распространённые и самые простейшие из них получают название физических законов природы. Физические законы суть первоначальные обычаи или привычки монад, первоначальные формы их общежития. Они отличаются наибольшим постоянством, ибо сформировались раньше и вырабатывались дольше. Инстинкты и простейшие формы органической жизни следуют за так называемыми законами неорганической природы. Простейшие социальные формы жизни предшествуют социальным формам более сложным. В процессе социальной жизни монад идёт постоянное превращение обычаев в привычки, привычек в инстинкты. Мир не равен самому себе, а постоянно улучшается, хотя в нём и в монаде потенциально заключаются все данные для их бесконечного развития и блага. Хаос, в котором царят только вероятности и случайности, есть первоначальное состояние несовершенного мира. С развитием и совершенствованием эти случайности и вероятности мало-по-малу переходят в законность, оформленность и достоверность, как продукт самодеятельной активной работы монад и присущего им стремления к благу в форме внутренней гармонии и взаимного согласия. Случайности и вероятности, уменьшаясь в первоначальных отношениях монад, являются достоянием более сложных форм их социальной жизни. Сложные монады, постоянно изменяясь и преобразовываясь, также сохраняют свое потенциальное бытие в новых монадах. Действительный мир с антропологической точки зрения есть только проекция или тень, под которою является в данный момент мировой процесс для нашего сознания. В нашем обыкновенном понимании мы плохо наблюдаем только обрывки этого процесса. По своему существу настоящее мира связано с его прошлым и будущим (!) тою внутренней связью, которая лежит в самой сущности монад. С монадологической точки зрения мир не есть только одно закономерное, но историческое, этическое и социальное явление. Можно в общей картине только понять главное течение этого процесса, но нельзя предвидеть его полного хода в подробностях. Совершенство монад подвигается путём опыта и наблюдения. Индукция играет при этом весьма важную роль. С развитием монад для них всё более и более будут раскрываться разные формы монадологической жизни, но вместе с этим будет ставиться и бесконечное количество новых неразгаданных задач. Его (человека) конкретный и воплощённый образ при такой точке зрения не состоит из случайного собрания атомов, как бездушных камней, а есть проникнутое во всех своих частях жизнью и духом художественное здание». Естественным продолжением идей, высказанных Н.В.Бугаевым, являются следующие тезисы: 1. Монада – это самоорганизующаяся система, экстрааддитивная структура. 2. Единственная цель любой монады (системы) – стремиться стать целым миром (естественно, эта цель недостижима). 3. Единственное общее средство для достижения цели – это усложнение структуры системы. 4. Усложнение структуры системы может происходить следующими путями: – 1. изменение количественного состава системы (увеличение количества элементов); – 2. изменение количественного состава связей (увеличение количества связей); – 3. изменение качественного состава системы (совершенствование элементов); – 4. изменение качественного состава связей (совершенствование связей). 5. Пункт 4.4 представляется наиболее важным. Усложнение структуры этим способом увеличивает сплочённость системы, повышение скорости коммуникаций. 6. Г.А.Теймюллер писал о системе координат. Чем сильнее различаются системы координат у двух индивидов, тем сложнее им понимать друг друга. Для понимания культур, сравнения культур, необходима система отсчёта, некоторая система координат, бытие «координальное», о котором писал Бобров. Формирование идеи о том, что возможны иные культуры, отличные от европейской, а сама европейская культура не является единственной, происходило практически одновременно или чуть позже появления критического персонализма (индивидуализма). 7. От скорости и качества коммуникаций зависит разнородность систем координат. При интенсивных коммуникациях можно говорить о большей синхронизации и взаимовлиянии систем координат (культур). Вывод: 35. Важность идей Н.В.Бугаева о том, что основной целевой функцией сложной самоорганизующейся системы является усложнение ее структуры, а также о сопровождающем совершенствование мира постепенном переходе идей в привычки и обычаи, привычек в инстинкты, инстинктов – в гармоничные законы еще не до конца оценена мировым научным сообществом. 4.2 Критический анализ идей Московской философскоматематической школы с позиций современного естествознания 4.2.1 Критика терминологии Вклад Николая Васильевича Бугаева в современное естествознание и философию очень важен. Без сомнения, целью его было разработать подходящее (в первую очередь для себя) миросозерцание. Но цель эта была достигнута явно (а может быть, намеренно) не совсем удачными средствами. По крайней мере те труды, которые оставил Н.В.Бугаев, свидетельствуют о том, что важнейшие свои идеи и целостное мировоззрение существовали у него с сознании, но не были достаточно подробно изложены и описаны. Во-первых, явно неудачным был выбор монад Лейбница для описания той картины мира, какой ее представлял Бугаев. Термин Лейбница сильно перегружен значением, и совсем не тем, которое предполагал для него Бугаев. Сложные монады Бугаева явно не были моно-структурами, и единственно, что может извинить Бугаева, так это стремление донести ту мысль, что при объединении простых монад в сложную происходит настолько сильное взаимодействие, настолько сильный взаимный захват свойств, что появляется качественно новая моно-структура, поведение которой никак не сводимо к поведению составляющих сложную структуру элементов. Бугаев не доверяет только одному звучанию слова монада, он еще и наделяет монаду душой, чтобы ни у кого не возникло никакого сомнения, что поведение этой сложной объединенной структуры нельзя описать простым суммированием поведения составляющих ее элементов. Бугаев не только ученый, но и поэт, в своих теориях он обращался не только к разуму, но и к чувству, он не только доказывал, но и убеждал, увлекал. Наверно, он чувствовал, что неважно, каким путем проник в культуру какой-либо феномен – из научных статей или из сказок, важно лишь, чтобы он там закрепился. Хорошо бы попытаться уйти от термина «монада». И потому, что кроме монад Бугаева есть монады Лейбница, Лопатина, Козлова, Тейхмюллера – все разные. Поэтому назовем монады Бугаева, только очищенные от первобытного символизма и панпсихизма – экстрааддитивными структурами. Этим термином мы подчеркиваем, что эти структуры не описываются суммой входящих в них элементов, что от объединения большого числа этих элементов (а их обязательно должно быть большое число) возникает новое свойство, подобное сознанию или душе. Примером экстрааддитивной структуры является лазер. Миллиарды атомов внутри полости лазера не ведут себя хаотично, самоорганизовавшаяся система подчиняет себе все элементы, из которых она состоит, и все атомы ведут себя одинаково и синхронно [40]. Нельзя назвать удачным и слово аритмология. Напоминает аритмию, аритмичность. Аритмология – термин, который мог бы быть применён скорее П.Е.Астафьевым. В одной из своих трех работ [30] Николай Васильевич пишет: «Гаусс следующим образом выражается по этому вопросу: «Die Mathematik ist die Kёnigin der Wissenschaft, aber die Arithmetik ist die Kёnigin der Mathematik (Математика царица наук, но аритмология царица математики)». На самом деле, Гаусс сказал Arithmetik – арифметика – царица математики, а Бугаев перевел аритмология. Потому что слово арифметика было уже занято, арифметику учат первоклашки, можно было бы сказать арифмология, но тогда ассоциации с поэзией, с рифмами, стихами. Сказать арифметикология? Тоже как-то несуразно звучит. Вообще у нас на Руси всегда как-то тяжело было с образованием терминов, какие-то они ходульные получаются, если их образовывать по законам русского языка, может быть, язык слишком поэтический, символический, а не технический? Лучше всего у нас звучат в качестве терминов кальки с других языков, звучат строго специально, без всякой ненужной окраски. Есть, правда, и исключения. Например, монада. Но аритмологии как науке нет аналога в мире. Есть явления квантования, стратификации, аттракции, диссоциации уровней, бифуркации и ветвления решений и т. д. А науки, описывающей сразу все эти явления с одной позиции, нет пока. А раз нет науки, то и мы не будем придумывать ей название. Запомним лишь одно: состояния сложной системы квантуются, гранулируются в несколько устойчивых состояний, а все остальные ее состояния неустойчивые, быстро преходящие. Вывод: 36. Терминология Н.В.Бугаева, возможно, была не слишком удачной; в качестве альтернативы бугаевской монаде можно предложить понятие экстрааддитивной структуры. 4.2.2 Критика критики Н.В.Бугаевым позитивизма Из одного наличия прерывных функций Н.В.Бугаев делал вывод об отсутствии детерминированности явлений, фактически даже об отсутствии причинности. В доказательство этого Бугаев приводит закон Вебера (который в современной физиологии фигурирует как закон Вебера-Фехнера), который будто бы утверждает, что связь между раздражением и ощущением носит разрывный характер. На самом деле, закон Вебера-Фехнера гласит, что ощущение пропорционально логарифму раздражения [11], и имеет вполне непрерывный вид. По-видимому, Н.В.Бугаев имел неточные или устаревшие сведения, либо данные, полученные с помощью несовершенных приборов. Возможно ли математическое обоснование свободы воли без применения разрывных функций? Возможно, и к нему почти подошел В.Г.Алексеев: «Физические условия такого сложного механизма, как человек с его физиологическими и психическими процессами, заставляют этот организм совершать в некоторые промежутки времени вполне определенные движения, но в некоторые моменты, повторяющееся даже весьма часто, направление движения может быть неопределенно – или в одну сторону, или в другую, или в третью и т. д. без нарушения законов ограничивающих его физических условий; в таких критических точках направление избирается взвешиванием целей, т. е. работой чисто духовной и без затраты материальной энергии» [5]. Элементарным примером системы, в которой микроскопические изменения на входе выражаются в весьма существенных изменениях на выходе, является современный мощный лазерный проигрыватель, где изменения светового луча после взаимодействия с лазерным диском могут приводить к очень заметным изменениям звуковой волны на выходе. Но лазерный проигрыватель не может работать без затрат энергии. И вышеописанный эффект возникает благодаря мощному усилителю сигнала, который при своей работе потребляет электрическую энергию. Но человек тоже потребляет энергию. И тоже в некотором отношении похож на усилитель: проходящие по нейронам сигналы практически нулевой электрической мощности могут приводить к совершению довольно значительной мышечной работы. В большинстве случаев человек действует не произвольно. В быту принято считать, что человек действует под влиянием обстоятельств. На самом деле, человек действует под влиянием в первую очередь сложившихся социокультурных связей, интерпретируемых человеком в контексте приобретенных культурных понятий и стереотипов. Только очень значительные обстоятельства могут изменить почти механические, привычные комплексы действий, ежедневно выполняемых человеком. Гремит гром, идет дождь или снег, вокруг разбиваются машины, гибнут люди, а человек спешит на свою работу. Произвольно человек начинает действовать, только когда стоит перед равнозначным с его точки зрения выбором. Если выбор в первом приближении представляется равнозначным, человек начинает размышлять, взвешивать второстепенные обстоятельства, то есть совершать то, что принято обозначать словами «делать выбор». В большинстве же остальных случаев человек делает выбор быстро, автоматически, почти бессознательно. Он идет по улице и обходит лужи, препятствия, некоторые всегда уступают освободившееся место в транспорте, а некоторые опрометью бросаются его занять, – в зависимости от воспитания, но в любом случае практически не размышляя. В свете анализа сложных систем поведение человека при принятии решения эквивалентно особой точке неустойчивого равновесия в динамических системах. Представим себе большой металлический шар, на вершине которого находится маленький шарик. Этот шарик в конечном итоге скатится вниз, но в какую сторону он скатится, с позиций анализа механических уравнений совершенно неизвестно. Любые микроскопические влияния, часто не поддающиеся строгому учету, могут сместить маленький шарик в ту или другую сторону. С этой точки зрения можно считать, что маленький шарик имеет абсолютную свободу. Так и при принятии решения человеком в условиях равнозначного выбора человек может склониться к тому или иному решению, руководствуясь часто совершенно малозначимыми соображениями. Любая случайная мысль, никак не обусловленная влиянием социокультурного окружения, может склонить человека к принятию того или иного решения. В этом смысле можно говорить, что человек имеет абсолютную свободу выбора. Другое дело, что такие ситуации, когда выбор представляется человеку полностью равнозначным, чрезвычайно редки. Поэтому человек редко бывает свободным, в основном его поведение практически полностью детерминировано социальной средой и его воспитанием. Н.В.Бугаев приводит в качестве аргумента против позитивизма разрывные функции не только в контексте закона Вебера. Он призывает на помощь химию (периодическая система элементов Д.И.Менделеева), минералогию (строение кристаллов), эстетику (существование гармонических аккордов), биологию (клеточное строение тканей), психологию (фрагментарность, разрывность мыслительных процессов), общественные науки (наличие общественных кризисов). Если понимать разрывность в этом контексте, то это действительно серьезные выпады против позитивизма. Но прерывность здесь выступает как структурирование, квантование энергетических уровней, стратификация, самоорганизация (за исключением разве что мыслительных процессов, характер которых и до сих пор неизвестен; но уж явно мыслит человек причинно и весьма детерминировано, а не хаотично). Н.В.Бугаев в математическом плане занимался функциями целых чисел, и прерывность он органично понимает как квантование. Но в аналитической математике разрыв и во времена Н.В.Бугаева понимался иначе (в бытовом смысле его можно представить как резкий скачок, ступеньку). Фактически говоря о стратификации и квантовании, Н.В.Бугаев применяет термин прерывность, чем, по-видимому, запутывает даже своих коллег-математиков. Строго говоря, Н.В.Бугаев не успел осуществить синтез двух своих главных идей – монады как живой единицы и квантования уровней системы. В силу специфики своей математической области Бугаев не смог придти к идее применения ветвления, бифуркации решений дифференциальных уравнений, к идее устойчивости систем и перехода системы из одного устойчивого состояния в другое. Теорию устойчивости для частного случая механических систем уже позже создал Александр Михайлович Ляпунов, который был на двадцать лет моложе Н.В.Бугаева и работал в СанктПетербургском университете. А.М.Ляпунов и А.А.Андронов, анализируя поведение механических систем, вовсе не отвергали аналитический подход и понятие непрерывности. Более того, было доказано, что механические системы переходят из одного устойчивого состояния в другое не каким-то прерывным, а вполне непрерывным, плавным (хоть, возможно, и достаточно быстрым) способом путем переходного процесса. Но само то, что состояния равновесия сложной системы занимают не весь возможный спектр состояний, а могут существовать только в отдельных особых точках, вполне подтверждает блестящую, хоть и высказанную несколько туманно, догадку Н.В.Бугаева. Вывод: 37. В большинстве случаев деятельность человека детерминирована сложившимися вокруг него социокультурными связями, интерпретируемыми им в контексте приобретенных культурных понятий и стереотипов; в редких случаев выбора человеком одного из нескольких представляющихся ему равнозначными вариантов поведение человека можно уподобить поведению динамической системы в состоянии неустойчивого равновесия. 4.2.3 Математика в глазах математиков Н.В.Бугаев о математике Николай Васильевич Бугаев был очень высокого мнения о точных науках вообще и о математике в особенности. Это его убеждение пронизывает все его работы. Характерен в этом смысле следующий отрывок. «Научно-философское миросозерцание зависит от нашего понимания явлений природы. Этому пониманию главным образом помогает наука. Наука же стремится в своих выводах к точности и определенности. Она не ограничивается одними общими соображениями. Вслед за процессом первоначальных обобщений является в ней вопрос о мере и числе, способных обрисовать явление при всех обстоятельствах. Вопрос о числе и мере придает науке ту положительность, к которой она стремится в последнее время. Это требование числа и меры является злобой дня не одной современной науки, но и современного искусства и современных человеческих отношений. Найти меру в области мысли, воли и чувства – вот задача современного философа, политика и художника. Эта положительность требований нового человека не только не ослабляет, а усиливает идеальную сторону современной цивилизации. Из области неопределенных, безмерных инстинктов человек при помощи числа и меры стремится возвыситься до идеального состояния, которое давало бы ему полную власть над внешней и внутренней природой, вносило бы гармонию и эстетическое чувство в каждое проявление человеческого духа. Число и мера являются в современной науке самым могучим средством для оценки явлений природы. Эти требования современного знания ставят его в непосредственную связь с математикой, наукой о числе и мере, наукой, которую по всей справедливости называют матерью всех наук. Как скоро какая-нибудь конкретная величина способна быть математическим количеством, на сцену тотчас появляется математика. Вот почему математика в ее научном развитии, в приемах и методах ее разработки имеет существенное значение для современного человечества. Этим объясняется, почему наше время отличается таким развитием математических методов, почему многочисленный ряд ученых прилагает все силы для того, чтобы своими исследованиями расширить ее орудия и средства. В этих орудиях и средствах сказывается дедуктивная мощь человека. В них вместе с собиранием и классификацией фактов и усовершенствованием методов исследования заключается главное условие для успешного развития наших знаний о природе. Мы должны прежде всего в чистой математике искать ответов на некоторые вопросы о сущности и коренных основах современного научно-философского миросозерцания. Математика есть наука, изучающая сходства и различия в области явлений количественного изменения. Это самое общее ее определение. Все остальные ее определения вытекают из него, как его простые следствия. Идея количественного изменения и порядка, которому подчиняются эти изменения, суть основные идеи математики» [30]. Феликс Клейн о значении математики Феликс Христиан Клейн, знаменитый немецкий математик, в своих «Лекциях» [59] следующим образом высказывается о специфике математики как науки и о роли математики в процессах формирования культурного контекста в европейских обществах XIX в.: «При любых попытках так или иначе охватить духовную жизнь наших дней со всеми многочисленными её ответвлениями и дать о ней – или, по крайней мере, об основных её ответвлениях – законченное и обозримое представление у всякого интересующегося математикой возникает понимание того, что в подобного рода обзорах культурообразующих факторов современности наша наука отсутствовать не может; что, более того, следует попытаться отвести математике место, которое приличествует ей как одной из древнейших и благороднейших форм деятельности человеческого духа и как одной из сил, оказывающих решающее влияние на направление его развития. Математика – как никакая другая наука, представляет собой сооружение, возведенное на основе небольшого числа исходных принципов по законам, действие которых носит принудительный характер. Эта исключительность её строения, выделяющая математику из других наук и придающая ей прославленную «ясность», делает её вместе с тем и наименее доступной из всех наук, ибо каждый, кто пожелает глубоко вникнуть в неё, должен будет собственным трудом шаг за шагом повторить весь путь, по которому она развивалась, так как ни одним математическим понятием невозможно овладеть без всех предшествующих понятий и тех взаимосвязей, которые привели к его формированию». От себя добавим, что для плодотворной работы с этими понятиями необходимо их «чувствовать», то есть интуитивно «ловить» и фиксировать малейшие ростки понимания при чтении математического текста или в процессе построения доказательства, позволяющие познать глубокие внутренние взаимосвязи между сущностями. Известнейший математик Герман Вейль в своей речи «Феликс Клейн и его место в современной математике» [59] в 1929 году говорил: «Максимальное содействие нашей науке оказывают математики, выделяющиеся не столько строгостью доказательств, сколько интуицией. Суровая и непреклонная замкнутость математики делает её в весьма малой степени пригодной для удовлетворения интересов непосвящённого, направленных только на самые общие вопросы, ибо его цели не идут дальше того, чтобы в самых общих чертах и разве лишь приблизительным образом схватить суть чуждой ему области знания и получить кое-какое представление о её своеобразии и красоте» [59]. Клейн утверждает, что речь может идти только о представлениях о безграничной широте проблематики, особенностях исторического развития. Таким образом, непосвященный может понять лишь внешнюю форму, но не внутреннюю красоту великолепного по своей внутренней архитектуре здания математического знания. Наконец, точкой соприкосновения может служить акцент на воздействии, которое математика оказывает на смежные с ней области, а также живое изображение её взаимоотношений со всей культурной жизнью в целом. А вот что пишет Клейн о истоках зарождения интереса к математике в начале XIX века: «Наряду с многими новыми в идейном отношении направлениями на научную жизнь стали оказывать влияние крупные социальные сдвиги, вызванные французской революцией и историческими событиями, последовавшими за ней. Демократизация взглядов привела к распространению культуры, а внутри культуры – к строгой специализации отдельных научных направлений. В соответствии с требованиями времени важное значение стала приобретать преподавательская деятельность» [59]. Таким образом, для множества людей возникла новая цель – получение профессии преподавателя. Это послужило причиной перемещения центра тяжести научной жизни из академий в высшие учебные заведения. Возрастает количество квалифицированных математиковспециалистов. Вместо личного общения учёных растет объём научной литературы и повышается роль международных конгрессов. Подобное экстенсивное развитие имело и свои отрицательные стороны. Небольшая группа избранников математической науки в XVIII в. сочетала плодотворную личную переписку с гармоничным, идеальным развитием собственной личности. Одна из характерных черт математиков до XVIII столетия заключалась в том, что учёный обладал богатейшими познаниями за пределами своей специальности и «всегда ощущал живую связь с развитием науки, которую воспринимал как единое целое». Хорошо это, или плохо, но и сегодня прослеживается тенденция к ещё большей культурной деградации математиков. В 60-е годы XX в. были хотя бы «физикилирики», сейчас уходят и они. Математическая наука всё больше превращается в какой-то научный механизм разработки аппарата для вычислений. Уже в середине XX в. в физике допускалось непозволительное с точки зрения математики (вспомним функцию Дирака), которое было оправдано временем и уже много позже были разработаны соответствующие математические «подпорки». Сегодня математика уже не есть наука гениев, это наука хорошо организованных групп исследователей, вооружённых мощными компьютерами. Сложность доказываемых теорем настолько возросла, что сами проверки доказательств стали мучительно сложными. «Проблема четырёх красок» была редуцирована к переборной задаче, обработанной в итоге на машине. Математика потеряла ту сказочность и мифологичность, которой она обладала длительное время, начиная с античности. Математик перестал быть символом идеального учёного, гармонично развитого умственно, нравственно и физически; а ведь таковым его видели и греки, и сам Бугаев. Примечательно, что первоначальным толчком к «Лекциям» послужил план написания некоего более развернутого труда в рамках серии Современная культура» («Kultur der Gegenwart»), однако эти планы остались невоплощёнными из-за болезни Клейна. Герман Вейль о значении математики Всё, что воплощено в какой-либо форму, существует в постоянном напряжении: с одной стороны, оно заключает в себе нечто идеальное, объективное, отвечающее некоторой потребности, а потому необходимое как если бы нечто трансцендентное, желающее воплотиться в определённый форме, господствовало над человеком, превращая его в рупор откровения; с другой стороны, все воплощенное в форме несет на себе отпечаток истории духа, оно неотделимо от момента создания, от исторического процесса, не дает законсервировать себя как застывший результат. В математике особенно велика опасность переоценить первую, объективную сторону: математик склонен к абсолютизации. Важно быть свободным от подобного ослепления, видеть всё в исторической перспективе. Здание математики начинается в середине, и теряется в неизвестности не только вверху, но и внизу. Задача математики – рассеивать тьму в обоих направлениях, а абсолютный фундамент, этот огромный слон, несущий на своей богатырской спине крепость истины, – это скорее всего лишь сказка. Наряду со связыванием эмпирико-научной и технической сфер математика играет центральную роль в построении духовного мира. Занятие математикой, подобно мифотворчеству, языку и музыке, – первоначальных видов творческой деятельности людей, в которых проявляется их собственно человеческая натура, духовная организующая воля и которые приводят к выражению мировой гармонии. Клейна огорчало, что немецкому обществу отказано в «создании единого культурного настроения, которое элемент точного научного знания включало бы в себя в качестве характерной и само собой разумеющейся части» [59]. П.Я. Чаадаев о математике и естествознании Интересных воззрений на возможности математического моделирования придерживался П.Я.Чаадаев. В четвертом философическом письме он выражает свои воззрения насчёт границ применимости математического моделирования и их проблем настолько ясно и чётко, что даже не верится, что его работа относится к первой половине XIX века! «Действительные величины, т.е. абсолютные единицы, имеются лишь в нашем уме; во вселенной находятся лишь числовые видимости. Эти видимости, в форме которых материальность открывается нашим взорам, они-то и дают нам понятие о численности: вот основа математического восприятия. Итак, числовое выражение предметов не что иное, как мыслительный механизм, который мы создаём из данных природы. Сначала мы переводим эти данные в область абстракции, затем мы их воспринимаем как величины; и, наконец, поступаем с ними по своему усмотрению. Математическая достоверность, следовательно, имеет также свой предел; будем остерегаться упустить это из виду». Вот что пишет П.Я.Чаадаев о возможностях механистического познания глубин человеческой психики и человеческого духа. Цитата взята также из четвёртого философического письма. «В применении к явлениям природы наука чисел, без сомнения, вполне достаточна для эмпирического познания, а также и для удовлетворения материальных нужд человека; но никак нельзя сказать, чтобы она в той же мере соответствовала требуемой умом достоверности в абстрактном познании. Устойчивое, неподвижное, геометрическое рассуждение, каким его по большей части воспринимают геометры, есть нечто лишенное разума, безбожное. Если бы в математике заключалась совершенная достоверность, число было бы чем-то реальным. … Но мы видим ещё в природе кое-что кроме цифр, мы с полным сознанием верим в Бога, и когда мы осмеливаемся вкладывать в руку Создателя циркуль, то допускаем нелепость; мы забываем, что мера и предел одно и то же, что бесконечность есть первое из свойств божества, именно она, можно сказать, и составляет его божественность, так что, превращая Высшее Существо в геометра, мы лишаем его свойственной ему вечной природы и низводим его до нашего уровня. … Здесь мы видим настоящий антропоморфизм, в тысячу раз более вредный, нежели антропоморфизм простаков, не способных в своём пламенном устремлении приблизиться к Богу и представить себе духовное существо иным, чем то, которое доступно их пониманию, и поэтому низводящих божество до существа, подобного себе. Если она (философия) и говорила другое, в глубине своей мысли она никогда не сомневалась, что мир духовный можно познать так же, как и мир физический, изучая его с циркулем в руке, вычисляя, измеряя величины духовные, как и материальные, производя опыты над существом, одарённым разумом, как над существом неодушевлённым. Удивительно, как ленив человеческий разум! Чтобы избавиться от труда, которого требует ясное уразумение высшего мира, он искажает этот мир, он себя самого искажает и шествует затем своим путём, как ни в чём ни бывало» Вот мнение Чаадаева об атеизме в математике и в науке: «Не мудрено, что один выдающийся геометр сожалел, что нам неизвестны некоторые из формул, которыми Ньютон пользовался при своей работе; наука, конечно, много бы выиграла от находки этих талисманов гения. Но можно ли серьезно думать, что вся сверхъестественность гениальности Ньютона, вся его мощь, заключается в одних его математических приёмах? Разве мы не знаем, что в этом возвышенном уме было ещё что-то кроме способности к вычисления? Я вас спрашиваю, рождалась ли когда-либо мысли подобного масштаба в разуме безбожном? … Повторю ещё раз: видано ли, чтобы человек, не говорю уж атеист, но хотя бы только равнодушный к религии, раздвинул, как Ньютон, границы науки за пределы, ей, казалось, предназначенные?» 4.2.4 Критика взглядов Н.В.Бугаева на роль математики в познании окружающей действительности Критикуя аналитический метод за его односторонность, Н.В.Бугаев не ставит под сомнение высочайшую роль математики в деле познания мира, он лишь хочет еще больше увеличить эту роль, дополнив математику разделом, касающимся прерывных функций. Н.В.Бугаев фактически вообще не разделяет геометрию, механику и физику по их сущности. Для него математика – такая же наука о природе, как и физика. Он лишь изредка поднимается до того, чтобы осознать, что науки оперируют не с реальным миром, а с абстракциями [33], в душе он явно склоняется к мнению, что математические истины и законы управляют явлениями внешнего мира, а сами эти истины и законы даны нашему мозгу изначально, от Бога, и достаточно лишь хорошенько сосредоточиться, чтобы сформулировать их. Ведь ещё пифагорейцы считали, что именно число (натуральное число) есть первичная сущность, то есть число дано нам свыше. Со времен Николая Васильевича математика сильно ушла вперед. Но, как ни странно, все чаще стали появляться мнения, ставящие под сомнение роль математики как царицы наук. На чем же основаны эти мнения? Строго говоря, математика это всего лишь язык, но язык, постоянно заботящийся о своей непротиворечивости. Каждое предложение в этом языке строится по определенным правилам (теорема, лемма). Каждый новый термин требует определениями. В математике недопустимы произвольные, поэтические или шутливые высказывания. Каждое высказывание, прежде чем стать допустимым, должно быть доказано, проверено на непротиворечивость по отношению к остальной части математики. Только что сказанное следует, конечно, понимать в некотором идеальном плане. Непротиворечивость различных отделов математики – это цель, которой еще только предстоит достигнуть; ученые не оставляют попыток полностью снять все противоречия между различными разделами математики [102]. Но даже в весьма узких разделах математики остается ряд противоречий, требующих разрешения. На это указывал уже Г.Фреге [129]; внутренний смысл даже таких, казалось бы, простых понятий как функция уяснить совсем нелегко. И все же математика существует много веков, и за это время было не так уж много утверждений, что математика может ошибаться. Это осознавали уже в конце XIX века [117]. Конечно, возможны ошибки в доказательствах, но они быстро устраняются математическим сообществом. Правда, в последнее время появилась тенденция к чрезмерному усложнению доказательств. Проверке доказательств сейчас уже иногда посвящают диссертации. Для доказательства используются ЭВМ, зачастую проблема считается решённой путём предложения переборного решения, осуществлённого на компьютере. Но действительно ли математика описывает реальные явления? Если говорить строго, то нет. Математика оперирует абстрактными величинами, а действительность конкретна. Точка, прямая, плоскость, круг. В природе не существует таких предметов. Понятие вероятности также, строго говоря, не может быть реализовано в природе. Независимая выборка из бесконечной совокупности. Это абстракция, такого не может реально существовать. Ни бесконечной совокупности предметов, ни полностью независимой выборки существовать не может. Возьмём обычное число. Строго говоря, измеряя что-то, мы всегда получаем пару чисел: от чего-то и до чего-то. Четверть минимального деления шкалы прибора. Измеряя в быту, мы все время округляем «на глазок». А в науке мы измеряем интервал, в котором может находиться измеряемая величина. Если посмотреть на торец линейки в мощный бинокулярный микроскоп, мы увидим не ровную степь, а гористую и холмистую местность. Поэтому даже измерение с помощью хранящегося в Париже эталонного метра не даст какого-то одного числа, а даст диапазон, характеризуемый двумя числами. Непрерывные и разрывные функции. Это тоже абстракция. Возьмем у продавца мороженного кусок сухого льда в виде правильного куба и положим на стол. Мы можем построить график зависимости плотности от координаты. Казалось бы, вот вам типичный пример разрывной функции. Но будем увеличивать масштаб по оси х, по длине. Резкие границы, бывшие вертикальными, вдруг оказались наклонными. Потому что молекулы сухого льда находятся в движении, и время от времени некоторые из них отрываются и улетают. Этот процесс называется сублимацией, высыханием, сушкой. В результате на границах куска сухого льда все время присутствует облако из молекул, тем более разреженное, чем дальше мы удаляемся от куска льда. А если мы начнем увеличивать масштаб по оси y, по плотности? В конце концов вместо прямой линии мы увидим зигзагообразную. Это уже влияют отдельные молекулы. Но молекулы тоже «пусты» внутри. Ядро и электроны занимают в пространстве только небольшую часть объема молекулы. Но это если говорить житейским языком. На самом деле, невозможно доказать, что электрон – конкретная частица, находящаяся в конкретном месте. Электрон проявляет двойственные свойства, и волновые, и корпускулярные. Об электроне можно говорить как о частице, только когда он ударился во что-то и оставил след. Пока этого не произошло, электрон – размазанное по пространству электронное облако. Он просто может находиться в какой-то области с какой-то вероятностью. В этом контексте электрон обладает волновыми свойствами. Когда мы приближаемся к масштабам молекулы, число теряет свои функции. Нет конкретных координат, нет конкретного времени. Есть только интервал, элемент пространства, и вероятность нахождения внутри этого интервала. Есть только интервал скоростей и вероятность нахождения внутри него. Понятие и прерывной, и непрерывной функции – это абстракции, и в определенных условиях эти абстракции теряют не только точность, но и смысл. Нельзя построить график распределения вещества в пространстве. Приходится использовать вероятностные величины. Почему был взят для примера кусок сухого льда, а не кусок железа? Для простоты и наглядности. Из куска железа тоже вылетают молекулы. И мы сразу получили бы на краю вероятностную функцию. А точнее, тут встретилась бы еще большая сложность – отсутствие повторяемости. Оттого, что молекулы вылетают не так часто, наш график стал бы колеблющимся на краях, становясь то более пологим, то более крутым. Непрерывные функции и разрывные функции – это абстракции. Они могут хорошо описывать реальность обычных предметов, пока мы не углубились в микромир. Но и то не всегда. Достаточно взять нейрон, нервную клетку. Нейроны бывают длиной в десятки сантиметров. По нейрону проходят электрические импульсы. Казалось бы, удобно применять для их описания разрывные функции, однако это возможно далеко не всегда. Импульсы, проходящие по нейрону, совсем не похожи на строго разрывные функции, у них пологие края [134]. Поэтому для описания прохождения сигналов в нейроне применяют то прерывные, то непрерывные функции, в зависимости от конкретной задачи. Вероятность – одно из важнейших математических понятий – также является весьма условным. Ведь вероятность – это просто некоторая функция (правильнее говорить о плотности распределения вероятности), теория вероятностей – это лишь наглядная и относительно обособленно развивающаяся часть функционального анализа. Не случайно работы А.Н. Колмогорова изучаются (с разных сторон) как в курсе теории вероятностей, так и в курсе функционального анализа. Важно понимать, что вероятность или вероятностная мера – это лишь средство моделирования. Взаимодействие молекул в газе можно моделировать как статистиками Больцмана, так и статистиками Ферми или статистиками Бозе-Энштейна [79]. Эти вероятностные построения могут быть применены только при выполнении определенных условий. Моделирование вероятности как 0.5 всегда (дождь или пойдёт, или нет) – тоже один из возможных подходов, имеющий свою область применения. Все больше ученых приходят к тому, что большинство математических понятий – это упрощения и абстракции человеческой культуры, а не свойства реального мира. Процитируем Эйнштейна: «Теперь мы подходим к следующему вопросу: Что является априорно безусловно или необходимо в геометрии (в учении о пространстве) или в том, что является ее основой? Прежде мы думали – все, сегодня мы думаем – ничего. Уже само понятие расстояния логически произвольно; нет необходимости в таких вещах, которые бы ему соответствовали – хотя бы приблизительно; все математические понятия являются свободными изобретениями человеческого интеллекта» [118]. Вывод: 38. Используемые математикой понятия представляют собой приближения и абстракции, которые имеют ограниченную применимость: – В природе нет непрерывных и разрывных величин. Это математические абстракции, приближения, и пользуясь ими, мы всегда должны помнить о том, что это только приближения. – Нет случайных величин. Это тоже приближение. Вероятность предполагает множество взаимно независимых событий, которое в принципе невозможно. Все события так или иначе зависимы. Вероятность – это приближение, имеющее определенную точность, и применяя его, мы должны помнить о возможной ошибке. – В природе не существует точек, прямых, плоскостей. Это творения человеческой культуры, математической культуры. – Таким образом, в момент ввода информации «внутрь естественной науки» всегда возникает ошибка, большая или меньшая. Если об этом забыть, математика порой может приводить к бессмысленным, в корне неверным результатам. В чем слабость математики, о которой не слишком любят распространяться сами математики? Математика весьма «беззуба» в практическом плане. До чего удалось дойти в решении уравнений? В случае одного неизвестного явно решаются лишь уравнения первой, второй, третьей и четвёртой степени [113]. Для более высших степеней явно разрешимы только частные случаи. Конечно, многие вспомнят про ЭВМ. Но здесь возникают свои проблемы. Даже для весьма простых машинных моделей уже сложно «почувствовать» поведение системы. Об этом вскользь упоминает Вайдлих, сообщая, как одному из его коллег путем случайного перебора параметров удалось обнаружить интересный режим поведения модели [40]. Рассмотрим четыре интересных проблемы, относящиеся к численному моделированию с использованием машинных вычислений. Первая проблема связана с тем, что сам поиск решений некоторых задач занимает практически бесконечное время даже на современных высокопроизводительных вычислительных комплексах. При условии, что выполняется закон Мура (частота работы процессора удваивается за каждые 1.8 года), в ближайшие столетия некоторые задачи не могут быть решены в принципе. Вторая проблема, с которой сталкивается множество вычислителей – нехватка памяти для счёта. Нетрудно понять, что система из 500 000 уравнений требует для своего описания терабайты памяти, которое хоть и доступно на 64-х разрядной архитектуре ЭВМ, но где же взять такое количество памяти? Разве что только Пентагон может позволить себе подобную роскошь. Третья проблем состоит в том, что программный код «решателей» пишут люди, которые могут ошибаться. Вследствие этого стоимость программного кода резко возрастает, и для систем автоматического проектирования чипов, например, может составлять 1 000 000 долларов в год за одну копию. Требуются также хитроумные компиляторы и операционные системы. Известны случаи, когда операционная система (и hardware также) разрабатываются под конкретный аппарат. Подобное часто наблюдается в индустрии производства космических беспилотных модулей дальнего действия (при изучение планет в пределах солнечной системы и за её пределами). Наконец, четвертая (и самая главная) трудность заключается в том, что для нахождения решения нелинейной задачи в частных производных требуется подбор так называемой разностной схемы. Для каждой крупной задачи в результате приходится строить свою разностную схему, а сложность подобного построения исчисляется количеством диссертаций, посвященных разностной схеме. Построение разностной схемы является своего рода искусством. Регулярно в городе Сарове проводятся целые конференции, посвящённые математическому моделированию с использованием машин [44]. В математике разработано множество сложных машинных моделей и алгоритмов вычисления, но в результате специалист часто уже сам не знает, что он на самом деле изучает и исследует. Не только среди обычных людей, но даже и среди некоторых математиков бытует мнение, что математические модели способны открывать новое. На самом деле любая модель содержит только то, что было в нее заложено при разработке. Многие математики, сознательно или бессознательно, владеют искусством так составить модель, чтобы она обеспечила воспроизведение максимально эффектного результата. То есть модель заранее конструируется так, чтобы выглядеть эффектно, чтобы поразить, удивить, а не для того, чтобы описать реальность. Тот же Вайдлих, демонстрируя здоровую жадность увлеченного, раз за разом демонстрирует в своей книге, как с помощью весьма хитрой, но стандартной процедуры составлять модели, обнаруживающие наиболее эффектное поведение [40]. Фактически в результате математического моделирования мы занимаемся интерполяцией реальных процессов. Мы можем обеспечить приемлемую точность описания моделируемых явлений внутри диапазона введенных данных. Но получаемая при этом модель ни в коей мере не повторяет и не проясняет структуру изучаемого объекта. Мы можем, в принципе, добиться любой точности интерполяции, повышая порядок уравнений модели или добавляя в эти уравнения нелинейные члены. Но чем дальше мы будем удаляться от диапазона данных, использованных при построении и идентификации модели, тем хуже будет модель описывать реальные процессы. Как это ни смешно, чем точнее модель описывает интерполируемый диапазон данных, то есть чем более нелинейна модель, тем больше будет расхождение с реальностью при попытке экстраполяции. Таким образом, любая математическая модель – это всего лишь логарифмическая линейка большей или меньшей сложности. Раньше в школе учили пользоваться не только логарифмическими линейками, но и равноценными им математическими таблицами (четырехзначными, шестизначными и т.п.), которые позволяли определить значения общеупотребительных функций. В принципе, любая модель может быть заменена подобной таблицей. Во второй половине XX века стали появляться теории, ставящие под сомнение позитивную роль науки в накоплении объективного знания. Одним из первых ниспровергателей устоев был Т.Кун с его концепцией научных революций [78]. В развитии науки чередуются короткие, но бурные периоды научных революций, когда путем эпохальных исследований закладывается научные образцы, парадигмы, и длительные стабильные периоды, когда наука повторяет и воспроизводит образцы парадигмального исследования. Но постепенно накапливаются факты, не укладывающиеся в парадигму, и в науке зреет революционная ситуация. В конце концов начинается бурный период ломки авторитетов и научных школ, и формулируется новая парадигма, полностью отвергающая старую парадигму. Таким образом, Т.Кун отвергает поступательность движения науки и отрицает ее прогресс [52]. П.Фейерабенд сформулировал ряд концепций, еще больше ставящих под сомнение традиционное отношение к науке, например концепцию недетерминируемости теории эмпирическими данными. Эмпирические данные не определяют однозначно истинность или неистинность теории. На одних и тех же данных может базироваться несколько взаимоисключающих теорий. Другая концепция – это концепция нагруженности эмпирических данных. Суждения ученого формулируются в определенном теоретическом и культурном контексте, с использованием специфических инструментов и приборов, во многом предопределяющих результат измерения. В результате эмпирические данные перестают служить критерием истинности теорий. По мнению Фейерабенда, наука оказывается гораздо ближе к мифу, чем принято думать. Наука это новый, но очень агрессивный религиозный институт, и по аналогии с церковью наука должна быть отделена от государства [119]. Л.Флек, анализируя историю медицины, обнаружил, что анализируя одну и ту же болезнь, врачи и биологи на разных стадиях развития медицины видели совершенно различные факты. Видение действительности спутано, хаотично, и только в рамках какой-либо теории, какого-либо стиля мышления человек способен видеть факт, закономерность. Когда стиль мышления меняется, ученый видит в том же самом совершенно другое [120]. Интересно, что то же самое за десятки лет до этого говорил и Г.Тейхмюллер [115]. Ж.-Ф.Лиотар считает, что описание общества как целостности представляется все более неадекватным по причине утраты в современном мире доверия к метаповествованиям, всеобъемлющим развернутым теориям, предполагающим телеологию, идею смысла и цели, оправдывающей любое средство. Лиотар рассматривает науку как языковую игру со своими четкими правилами игры. Науке не нужно внешнего оправдания, ученому достаточно, чтобы его деятельность была признана лишь другими представителями научного сообщества [52]. Из изложенного можно сделать вывод о весьма существенной относительности научного знания и его зависимости от окружающей ученого культурной среды. Выводы: 39. Математические подходы имеют весьма ограниченную применимость в практическом плане: при повышении числа переменных математической модели экспоненциально возрастают трудности аналитического решения получающихся систем уравнений и анализа решений, получаемых численными методами. 40. Появившиеся во второй половине ХХ века теории частично ставят под сомнение роль точных наук в накоплении объективного знания; ставится под сомнение преемственность сменяющих друг друга научных теорий, проверяемость теорий эмпирическими данными; акцентируется закрытость научных сообществ, их «агрессивность» по отношению к обществу и их сходство с религиозными организациями. 4.2.5 Имеется ли у ума прирожденная способность к познанию истин логики и математики? Н.В.Бугаев и его единомышленники считали, что постигая математические законы, мы постигаем нечто гармоничное, высшее, божественное, существующее в мире, и что у человеческого ума имеется врожденная способность к постижению абстрактных математических истин, и именно эта способность в наибольшей степени свидетельствует о близости человека к божественному. Подобный взгляд не был чем-то новым, оригинальным; в то время, да и много позже его придерживались очень многие великие умы. Достаточно привести лишь некоторые высказывания Э.Эверетт (1931): «В чистой математике мы созерцаем абсолютные истины, которые существовали в божественном уме прежде, чем воссияли утренние звезды, и которые будут существовать и тогда, когда последняя из их сияющего сонма упадет с небес» [118]. Г.Х.Харди (1941): «Я полагаю, что математическая реальность находится вне нас и что наша цель состоит в том, чтобы открывать или наблюдать ее, и что те теоремы, которые мы доказываем и которые мы высокопарно называем нашими “творениями”, являются всего лишь выражениями наших наблюдений» [118]. П.У. Бриджмен: «Понятие о том, будто математика является творением человека, — это самый что ни на есть трюизм, который сразу же становится очевидным для непредвзятого наблюдения» [118]. «Тому, кто совершает открытия в этой сфере, – замечает Эйнштейн, – продукты его воображения представляются столь необходимыми и естественными, что он считает их (и хотел бы, чтобы таковыми их считали и другие) не творениями мысли, но данностями реальности» [118]. Генрих Герц: «Нельзя избавиться от ощущения, что эти математические формулы существуют независимо и обладают своим собственным умом, что они мудрее и нас, и даже тех, кто их открывает, что мы извлекаем из них больше, чем в них было заложено изначально» [118]. Гете: «Всякое творение высшего порядка, всякая значительная теория, всякое открытие, всякая великая мысль, приносящая плоды... – все они не подвластны никому, не подчиняются никакой земной власти. Подобные вещи следует рассматривать как нежданные дары свыше, как сугубо божественные творения» [118]. Анри Пуанкаре утверждает, что аксиомы геометрии – это просто «соглашения», т.е. обычаи: они «не являются ни синтезированными априорными суждениями, ни экспериментальными фактами. Они – соглашения» [118]. По мнению Л.Уайта, «Математические истины существуют в культурной традиции, в которую вступает при рождении индивид, и, таким образом, проникают в его сознание извне. Однако вне культурной традиции математические понятия не существуют и не имеют смысла, а культурная традиция, разумеется, не существует отдельно от человеческого рода. Таким образом, математические реальности существуют независимо от индивидуального сознания, но полностью зависят от сознания рода. Или, если выразить то же самое с помощью антропологических терминов, можно сказать, что математика в целом, ее «истины» и ее «реальности», являются частью человеческой культуры и более ничем. Каждый индивид рождается в той культуре, которая уже существовала и от него не зависит. Культурные черты существуют вне индивидуального сознания и независимо от него. Индивид овладевает своей культурой, воспринимая обычаи, верования, навыки своей группы. Однако сама культура не существует и не может существовать в отрыве от человеческого рода. Следовательно, математика, подобно языку, общественным установлениям, орудиям, искусствам и т.д., является совокупным продуктом многовековых усилий человеческого рода [118]. Разумеется, математика является частью культуры. Каждый народ от своих предшественников или от современных ему соседей наряду со способами приготовления пищи, обычаями брачного поведения, религиозного поклонения и т.д. наследует и способы счета, вычислений и все прочее, что подразумевает математика. Фактически математика является формой поведения – реакцией особого рода организма приматов на совокупность стимулов. Считают ли люди пятерками, десятками, дюжинами или двадцатками; отсутствуют ли у них слова для обозначения количественных числительных свыше пяти или они обладают самыми современными и высокого уровня математическими понятиями – в любом случае их математическое поведение определяется той математической культурой, которая ими владеет. Конечно, имеется «нечто вне нас самих», некая власть, некая сила, которая овладевает человеком и принуждает его делать то-то или то-то. Но в этом нет ничего таинственного или мистического. Это не что-то неземное или божественное, как полагал Гёте. Это просто великая традиция культуры; это она сжимает каждого из нас в своих мощных объятиях. Когда, словно в реке, нас охватывает быстрое течение либо стремнина культурных перемен, или нас уносит водоворот культурного синтеза, нам не остается ничего, кроме как полностью этому отдаться. Тогда мы действительно чувствуем в себе дух и силу, которые, как мы хорошо знаем, не являются нашими. Но мы знаем, откуда эта сила исходит и какова ее природа. Это – великий и совокупный поток человеческой культуры, который течет к нам от своих древних источников, несет нас в своем лоне, питает и поддерживает нас, используя нас (но скорее сохраняя, чем уничтожая) для будущей культуры и тех поколений, которые еще придут [118]. Вывод: 41. Естественно-научный и, в частности, математический подходы сформировались в рамках человеческой культуры, это такие же продукты человеческой культуры, как и любые другие, поэтому они не могут претендовать на абсолютную объективность, имеют как преимущества, так и существенные недостатки, и в этом смысле эти подходы ничуть не лучше и не выше, чем другие подходы к осознанию окружающего мира – подходы гуманитарных наук, искусства, философии, практики и т.п. 4.2.6 Кто победил с точки зрения современных естественно-научных воззрений – позитивисты с их детерминизмом или Н.В.Бугаев со своей аритмологией? Позитивисты считали, что в конце концов физика сможет описать математическим языком каждую клетку человеческого тела, каждый атом, и полностью предсказать поведение человека. Н.В.Бугаев протестовал против взгляда некоторых философов, утверждавших, что если бы у Канта, Ньютона, Коперника не было ни одной мысли в голове, – даже ни одного самого элементарного ощущения, – но физический состав их организмов был бы тот же, какой был в действительности, то они все-таки подарили бы миру те самые сочинения, какие они написали [81]. С той поры прошло уже более ста лет. Что же скажет об этом утверждении современная наука? Конечно, клетка математически не описана до конца, чем больше мы изучаем органические молекулы, тем больше вопросов возникает. Но нас интересует чисто принципиальный вопрос: может ли наука в принципе, когда-нибудь, через тысячу лет, полностью описать, полностью смоделировать, математически предсказать поведение человека? Н.В.Бугаев протестовал, что кроме механизма есть мысли, чувства. Но, вероятно, мысли и чувства – это всего лишь электрические импульсы в нейронах мозга. Что в этих импульсах такого чудодейственного, что не может быть описано точно, без привлечения теории вероятности? Даже если удастся описать все процессы в громадном количестве нейронов человека, этого окажется недостаточным, ибо поведение человека в большинстве случаев определяется его социокультурной средой. Значит, к модели человеческого мозга придется добавить модели всех людей из окружения данного человека. Но даже если бы удалось построить модель, описывающую сразу всех людей на земле, этого все равно окажется недостаточно. Изредка у каждого человека возникают ситуации, когда выбор из двух вариантов ему представляется полностью равнозначным. В этих условиях на решение человека может повлиять любая случайность, любое явление природы. Для описания таких моментов придется к модели всех людей добавить модель всех биосферных процессов. Но даже если бы удалось построить такую модель с какой-то степенью приближения, нельзя быть уверенным в том, что модель полностью опишет действительность, ибо вселенная бесконечна (как считают), следовательно, и количество явлений в ней бесконечно. Другими словами, какую большую модель мы бы не построили для описания мира, найдется явление, не описываемое этой моделью. Вывод: идеальная детерминированность, реальная индетерминированность. То есть именно то, что утверждал П.А.Некрасов. Получается, что идея механицизма, хоть и близкая человеческому рассудку, не достижима, потому что уходит в бесконечность. Человек – это не только совокупность клеток. При объединении миллиона клеток у организма появляется новое свойство, сознание, душа. Сознание это те же биотоки в нейронах, – ответит механицист. – Если мы опишем все клетки, все биотоки, значит мы описали сознание. Если построить на ЭВМ численную модель всех клеток великого Ньютона, затем задать в качестве начальных условий его мысли в какой-то момент, то можно запустить программу, и она нам выдаст все, что выдал бы великий Ньютон. Посмотрим, так ли это? Нервные клетки, нейроны, соединены между собой многочисленными специальными соединениями – синапсами. Когда электрический импульс проходит по синапсу, он вызывает изменение, похожее на процесс адаптации; меняется структура белков синапса [110]. Из-за этого изменения проводимость синапса увеличивается, и последующие импульсы проходят легче. При повторении импульсов проводимость увеличивается еще больше. На этом эффекте повторения часто строится процесс обучения. Но существует и обратный процесс, организм пытается залечивать повреждения, восстанавливает структуру белков синапса, как бы восстанавливает его первоначальное состояние. Этот процесс является причиной забывания информации. Если информация, как бы зафиксированная изменением структуры определенной цепочки синапсов, не востребуется, если импульсы по этой цепочке больше не проходят, эта информация постепенно забывается [46]. Чтобы смоделировать на ЭВМ личность Эйнштейна, нужно описать все его клетки. Нужно описать молекулярные структуры всех синапсов его мозга с учетом их изменения при обучении и забывании полученных знаний в процессе всей жизни индивида. Для этого не хватит всех ЭВМ мира. Механицист лишь улыбается в ответ. В будущем разработают более новые ЭВМ. Но чтобы идентифицировать модель, нужно измерить свойства всех молекул организма. Мы не сможем, принципиально не сможем измерить молекулярные свойства синапсов, потому что на уровне молекул измерение сталкивается с новыми, принципиально новыми сложностями. Любое измерение предполагает взаимодействие. Минимально возможный при измерении инструмент — это квант света. Но квант взаимодействует с электронными оболочками молекулы в процессе измерения, кардинально меняя ее свойства. Квантовая физика говорит, что мы не можем даже точно определить положение электрона и его импульс одновременно. Если мы точно определим положение электрона, когда он, например, ударится в фотопластинку и оставит на ней след, то мы не можем определить его скорость. И наоборот, если мы точно измерим его скорость, мы совершенно не можем определить его положение. Механицист снова улыбается в ответ. В будущем будут созданы новые способы измерения. Вместо квантов света будут использоваться частицы нейтрино или что-то еще во много раз меньшее. Хорошо, отвечаем мы, допустим, мы могли бы клонировать Эйнштейна. Но чтобы воссоздать Эйнштейна, способного создать теорию относительности, мы должны полностью воссоздать и повторить окружавшую его физическую и человеческую среду с момента его рождения до зрелого возраста. Нужно фактически воссоздать все человечество. Задача становится громадной. — Нет проблем, отвечает механицист. – Главное, что в принципе мы можем записать с точностью, которую обеспечивают наши органы чувств, всю прошедшую через органы чувств Эйнштейна информацию. Точность наших органов чувств конечна, значит необходимое количество информации конечно. Следовательно, мы можем воссоздать Эйнштейна. Но мы же не знаем заранее, кто станет Эйнштейном. Не можем же мы записать всю информацию о каждом человеке? — Ничего, – отвечает механицист. – Число людей конечно, значит, количество информации конечно. Значит, мы можем ее записать. Любой человек, говорим мы, может поступить, руководствуясь своей мыслью. В качестве мысли в его голове может появиться любая из его прошлого, любая из прошлого и настоящего опыта человечества. А также любая случайная комбинация этих мыслей. — Количество мыслей велико, – отвечает механицист, – но оно конечно. Количество комбинаций из конечного числа также конечно. Пытаясь спастись, мы выдвигаем принцип: при попытке точного описания любого наделенного сознанием объекта сложность задачи стремится к бесконечности. Чем точнее мы стремимся описать такой объект, тем больше требуется независимых переменных. При попытке устремить ошибку описания к нулю сложность задачи стремится к бесконечности. Процесс расходится. Механицист не сломлен. – Нам не нужна нулевая ошибка, – отвечает он. – Достаточно, чтобы ошибка была меньше точности наших приборов. Мы предпринимаем последнюю попытку. – Представьте себе такую картину, – говорим мы. Рассмотрим толпу, состоящую из десяти миллиардов человек. Это десять в десятой степени. У каждого за секунду может появиться любая мысль из комбинации очень большого числа мыслей. Произвольно примем общее возможное число мыслей как десять в сотой степени. Прошла одна минута. Каждый человек успел подумать одну мысль и высказать ее. Чтобы не потерять информацию, мы должны записать в каждую клеточку в нашей тетрадке из десяти миллиардов колонок номер мысли, которая пришла данному человеку. У нас получится десять миллиардов чисел, каждое число произвольное от единицы до десяти в сотой степени. Если мы будем последовательно заполнять наши колонки, то кажется, что мы всегда сможем записывать все мысли человечества. Но это не так. Существует еще одна большая колонка – общее сознание, общая сокровищница культуры. Слишком большие числа сбивают нас с толку, мы запутаемся. Оставим из всего человечества только два человека, а в активе человечества только три мысли. Количество возможных мыслей у двух человек будет равно количеству сочетаний из 3 по 2, оно равно 3*2=6. Значит, культура может пойти одним из шести путей. Это можно нарисовать как шесть отрезков, исходящих из одной точки. При этом количество мыслей в общей сокровищнице культуры увеличится на две и станет равным пяти. В следующую минуту количество возможных мыслей будет равно количеству сочетаний из 5 по 2, оно равно 5*4=20. Из конца каждого из шести отрезков будет выходить двадцать отрезков, всего путей 20*6=120. В следующую минуту количество возможных путей культуры будет равно 7*6=42. Из конца каждого из 120 отрезков будет выходить 42 отрезка. И так далее. То есть, будет реализовываться следующий ряд: 6 6+6*20=126 6+6*20+6*20*42=5’166 6+6*20+6*20*42+6*20*42*71=64’806 6+6*20+6*20*42+6*20*42*71+6*20*42*71*110=6’625’206 И это всего для двух человек и трех начальных мыслей. А для всего человечества это будет колоссально расходящийся ряд. Количество вариантов развития культуры возрастает в миллиарды раз круче экспоненты. – Ну и что, ответит механицист. – Ведь на каждом шаге количество вариантов хоть и очень велико, но конечно! – Хорошо, – торжествующе ответим мы. – Если каждую минуту мощность ваших вычислительных машин будет возрастать в два раза, отставание от возможного количества путей развития культуры, то есть от требуемой мощности ваших машин, будет на каждом шаге увеличиваться в миллиарды раз. Механицист нахмурился. – А если мы откроем способ, как увеличивать мощность наших машин в миллиарды раз в минуту? – робко спросил он. Тут уж мы рассердились. Мы правда рассердились. — Ваша механика утверждает, что мир бесконечен? — Да. — Значит, количество информации, поступающей на Землю, бесконечно? — Да. — Значит, количество возможных мыслей бесконечно? Механицист надолго задумался. Мы с облегчением растянулись в кресле, потирая руки. Но в душе оставалась тревога: Что-то он еще придумает? Вывод: 42. Гипотеза механистического детерминизма явлений, вызывающая сомнения в своей истинности у ряда современных ученых и философов, неприменима практически при количественном описании общественных, социальных и культурных явлений из-за чрезмерного количества подлежащих учету факторов. 4.2.7 Может ли оказаться так, что Бугаев был во всем прав? Мысль Бугаева о панпсихизме может оказаться не такой уж одиозной. Никем ведь не доказано, что живая клетка не обладает своеобразным аналогом психики. Клетка берет из окружающей среды необходимые ей элементы и строит из них нужные ей ферменты, белки и другие молекулы, Воистину, это целая громадная (и в то же время микроскопическая) химическая фабрика. Клетка делится, размножая заключенную в ней информацию. Явление репарации тканей просто загадочно. При повреждении даже большого количества клеток соседние клетки начинают делиться и застраивать образовавшийся проем. Там, где были клетки кожи, опять появятся клетки кожи; там, где были мышечные клетки, опять появятся мышечные клетки. Откуда клетки знают, как и куда им расти? Что управляет этим загадочным живым сообществом? Утерянный хвост отрастает у ящерицы целиком. А такое явление, как самоубийство клеток? В какой-то момент клетка «решает», что пора заканчивать свое существование, и начинает вырабатывать ферменты, которые растворяют ее изнутри. А раковые клетки? Чем не контркультура? По-видимому, только через панпсихизм можно было придти к идее согласованного ансамбля молекул, к идее лазера. Нужно было отказаться от механицизма, эмпиризма, перешагнуть через него. А как это сделать? Для этого Бугаев возвращается к первобытному мировоззрению, к одухотворению окружающего мира. Возвращается, чтобы сделать разбег. Правда, прыгнуть пришлось не ему. Прыгнули другие, ознакомившиеся с его теорией, переварившие ее, отвергнувшие ее и отправившие на свалку как никому не нужный хлам. Но использовавшие ее для прыжка, прыжка к самоорганизующимся системам, к синергетике, к стратификации, квантованию, диссоциации уровней, бифуркации систем, к анализу особых точек систем уравнений и их устойчивости, к анализу потери устойчивости и переходных процессов в другое устойчивое состояние. Посмотрим теперь на вопрос о произвольности функций, обратных к прерывным. Из одного наличия последних Н.В.Бугаев делал вывод об отсутствии детерминированности явлений, фактически даже об отсутствии причинности. Казалось бы, здесь налицо неправильное понимание сущности математических абстракций, налицо непонимание, что математические абстракции вырабатывались в процессе развития человеческой культуры, налицо антропоцентризм, приписывание природе существующих в мозгу человека конструкций. Н.В.Бугаев неверно трактует закон Вебера. На самом деле, закон Вебера гласит, что ощущение пропорционально логарифму раздражения [11]. Любой современный физиолог поднимет на смех утверждение Бугаева о внутренней свободе единичного нервного волокна или о непредсказуемости и недерминированности поведения единичного нейрона. Конечно, свободу человеческой воли нужно объяснять с помощью более сложных механизмов. Но есть все же одно «но», одно сомнение, которое мучает нас. Сформулировать его не просто, будем формулировать его с помощью цепочки шагов. Наши приборы не могут иметь бесконечной точности. В каждый конкретный момент наши приборы имеют конкретную конечную точность. Когда мы измеряем скорость какого-либо процесса, мы квантуем процесс во времени, измеряем какую-то характеристику через конкретные промежутки времени. Квантование времени в наших приборах конечно. В силу бесконечной неисчерпаемости природы всегда найдется процесс, который может произойти за более меньший промежуток времени, чем минимальный интервал между последовательными измерениями, который допускает наш прибор. С точки зрения нашего прибора такой процесс будет изменяться скачком, с бесконечной скоростью. На самом деле этот процесс меняется с очень большой, но конечной скоростью. Но наш прибор «абстрагирует» действительность, и с точки зрения нашего прибора процесс имеет так называемый разрыв первого рода. Когда мы измеряем изменение какого-то параметра в пространстве, наш прибор также имеет конечное разрешение. Если какая-то характеристика меняется в пространстве на интервале расстояния, меньшем, чем максимальное разрешение нашего прибора, то с точки зрения нашего прибора процесс меняется в пространстве скачком. Наш прибор «абстрагирует» действительность, для него процесс меняется в пространстве разрывно, это разрыв первого рода, производная по координате равна бесконечности. Точно так же, если процесс-причина произошел за промежуток времени, меньший разрешающей возможности нашего прибора, или в интервале пространства, меньшем разрешающей способности нашего прибора, то процесс-следствие будет меняться с точки зрения нашего прибора беспричинно, становится непредсказуемым, недетерминированным. По мере совершенствования наших приборов процессы, фиксируемые приборами как прерывные во времени и в пространстве, а также недетерминированные процессы станут выглядеть как меняющиеся во времени с конечной скоростью, меняющиеся в пространстве с конечной производной, причинными. Но всегда найдется бесконечное число процессов, которые останутся для нас прерывными и недерминированными. Значит, следует признать, что природные процессы всегда останутся для нас имеющими двойственную природу – и аналитическую, и разрывную. С этой точки зрения природа всегда останется для нас непрерывно-разрывной. Всегда найдутся процессы, которые будут выглядеть для нас недетерминированными, непредсказуемыми, беспричинными. И с этой точки зрения и в этом аспекте следует признать, что Н.В.Бугаев был абсолютно прав. Для обоснования этого своего вывода он использовал неверную аргументацию, но сам его вывод, сама его блестящая догадка не теряют от этого правильности и гениальности. Выводы: 43. Подобно тому, как понятия прерывного и непрерывного являются математическими абстракциями, одна и другая из которых применима в большей или меньшей степени в зависимости от анализируемого явления, разрешения приборов и конкретных условий, точно так же понятия детерминированности и индетерминированности являются только двумя научными абстракциями, каждая из которых может оказаться как применимой, так и неприменимой при анализе конкретного явления. 44. Понятие причинности явлений, ставящееся под сомнение рядом современных ученых, может оказаться всего лишь абстракцией человеческого мышления, имеющей ограниченное применение. Глава 5 Синтез и развитие идей Московской философско-математической школы и критического персонализма с позиций культурологии 5.1 Пути развития идей Н.В.Бугаева Вначале необходимо сказать, что понимается под синтезом и развитием идей Н.В.Бугаева. Это развитие мыслится в двух планах: общем и специальном. В общем плане. Н.В.Бугаев мечтал примирить позитивизм и идеализм. Он считал, что это осуществимо под «патронажем» математики путем дополнения аналитического рассмотрения, господствовавшего в позитивизме, математикой прерывных функций. Несколько раз в своих работах он и его ученики поднимались до осознания того, что как непрерывность, так и прерывность – это условности, абстракции, справедливые лишь при определенных допущениях, в определенном конкретном контексте. И здесь просто напрашивается индуктивное продолжение: противоречия между различными теориями имеет объективную основу, но не на уровне истинности или ложности конкретных утверждений, а на более глубинном уровне, на уровне процесса формулировки этих утверждений. Процесс формулировки любого утверждения представляет собой в сущности процесс обобщения, отбрасывания единичного с целью подчеркнуть особенное и общее, то есть представляет собой некоторое приближение, абстрагирование от частностей. В результате утверждение представляет собой абстракцию, как правило верную в конкретных условиях, сопутствовавших ее получению. В математике выработалась традиция: сначала перечисляются всевозможные ограничения, а затем уже делается утверждение. Возможно, благодаря этой традиции математика до сих пор не растеряла определенного уважения к себе. При отступлении от этой традиции и в математике возможны ошибки. Вот что пишет об этом известный математик-педагог Д.Д.Мордухай-Болтовской: «ошибки в математике весьма часты и трудно избегаемы, так как если бы математик всякий раз упоминал бы об ограничениях, которые должны подразумеваться, он сделался бы слишком скучным и, утруждая внимание отклонениями от основной темы, мог бы проиграть в ясности» [88]. По утверждению Б.Ф.Ломова, строго научный подход требует не только выявить объективный закон, но и очертить сферу его действия, а также условия, в которых он лишь и может действовать, его границы [132]. Если конкретные условия получения утверждения как абстракции не зафиксировать, то абстракция, оторванная от условий своей истинности, может попасть в условия, при которых она справедлива частично или несправедлива вообще. Поэтому при формулировке любого утверждения весьма желательно зафиксировать конкретные условия, при которых это утверждение было получено (если невозможно сразу выявить пределы применимости данной абстракции). Другими словами, если исследователь не изучил обстоятельно пределы применимости некоторого утверждения, он должен честно задокументировать условия, при которых он получил это утверждение (вплоть до аналогий, силлогизмов и чужих утверждений, которые помогли ему сформулировать данное). Автор данной работы старался следовать этому принципу, не пытаясь скрыть, каким путем пришла к нему та или другая идея. Вот под этим понимается развитие идей Н.В.Бугаева в общем плане. Кстати, В.С.Библер в применении к философии также утверждал, что подробное описание самого процесса, в ходе которого был получен результат, это не личное дело автора, это необходимо по самой сути философствования; нужно не только выдавать на-гора результаты раздумий, но и демонстрировать сам процесс мышления [16]. Собственно, это суждение было выдвинуто ещё Гегелем, который резко изменил представление об истине, трактуя её прежде всего как процесс. В гегелевском понимании бытие – наиболее абстрактное понятие. По закону триады оно должно быть наполнено конкретным содержанием в результате познания, «снято». Получается, что истина должна бытовать и в начале (базисные истины) и в конце (цель рассуждения). Следовательно, истинная система замкнута. Значит, истина бытует в самой системе, и следовательно, процесс достижения результата также важен. В специальном плане. Если взглянуть на бугаевские монады слегка под другим углом, то, с учетом последующего развития естественных наук, легко придти, во-первых, к идее сложной саморегулирующейся системы с конечным числом устойчивых состояний; при этом система переходит из одного устойчивого состояния в другое скачком. Во-вторых, поведение этой сложной саморегулирующейся системы из большого числа элементов нецелесообразно выводить, рассчитывать из свойств составляющих эту систему элементов; при объединении элементов в систему каждый элемент начинает занимать подчиненное положение, а у системы появляется некое абсолютно новое свойство, «душа сложной системы» (душа не в том смысле, что она похожа на душу человека, а в смысле аналогии, что душа человека несводима к сумме свойств клеток, составляющих человеческое тело), для описания которой нужны совершенно новые переменные. В применении к культурологии это означает, что для описания культуры в целом недостаточны, более того, не подходят в принципе величины и параметры, используемые в экономике, социологии, психологии, лингвистике и других науках о человеке и обществе. Ибо с помощью величин, подходящих для описания элементов, составляющих сложную систему, невозможно описать поведение сложной системы в целом; эти величины не опишут самых главных, экстрааддитивных свойств системы. Под только что изложенным понимается развитие идей Н.В.Бугаева в специальном плане. Вывод: 45. Развитие идей Н.В.Бугаева возможно в общем и специальном плане; в общем плане имеет смысл развить догадки Н.В.Бугаева и его учеников об ограниченной применимости применяемых в науке абстракций; в специальном плане целесообразно попытаться применить понятие сложной саморегулирующейся системы для описания культуры. 5.2 Категория «души культуры» Культура относится к столь многим граням жизни, но ее саму нельзя увидеть, пощупать, услышать или почувствовать на вкус. Мы видим манифестации культуры, но никогда не видим саму культуру. В этом смысле культура – понятие абстрактное [86]. Культура не может быть реальностью, это абстракция, она не имеет экзистенциального центра, она не может страдать и радоваться [15]. В биофизике существует понятие открытых систем. Оно означает, что растение или животное не может существовать без обмена с окружающей средой, без получения из окружающей среды кислорода, воды, света (для растений) и питательных веществ и без удаления в окружающую среду отработанных шлаков. Живой организм термодинамически не может быть описан изолированно, нужно включать в описываемую систему окружающую среду. Понятие открытой системы может быть обобщено и применено в культурологическом смысле. Действительно, поведение человека не может быть адекватно описано без учета окружающей человека социокультурной среды. Если представить человека в виде маленького кружочка, рядом нарисовать большой круг, культуру, то от культуры к человеку будет идти множество стрелоквлияний. Причем в отличие от термодинамического рассмотрения человеческая открытая система в культурологическом смысле принципиально неравновесна. Культура все время влияет на индивида, в результате чего индивид меняется, начиная с рождения и до самой смерти, и в результате такого изменения поведение индивида также существенно меняется. Кроме неравновесности процесс характеризуется также необратимостью. Человек не может повернуть назад, снять с себя накопленное воздействие социокультурного окружения. Человек словно виниловая граммофонная пластинка, на которой культура прорезывает канавку с информацией; эта пластинка не может быть переписана заново, остается лишь нанизывать на пластинку все новые спиральные витки. Но и каждый конкретный человек оказывает влияние на культуру, как правило микроскопическое, близкое к нулю, но иногда такое влияние становится весьма заметным. Интересно отметить, что известный практический антрополог Бронислав Малиновский на основании колоссального количества полевых исследований африканских племен пришел к важному выводу, что даже в практической антропологии нельзя заниматься изучением деталей без учета культуры в целом. Фактически он подверг сомнению правомерность существования антропологии как науки; антропологическими частностями можно заниматься только с позиции культуры как огромного управляющего и воспроизводящего аппарата; другими словами, антропология может существовать только как частный раздел культурологии (конечно, он не употребляет термин «культурология»). Малиновский выдвинул так называемый принцип функциональной концепции культуры: изучение деталей при отвлечении от их фона неизбежно должно свести на нет как теорию и полевую работу, так и решение практических задач. Современный антрополог должен упорядочивать все данные вокруг базового ядра культуры. Малиновский от эмпирики пришел не только к идее культуры как системы, но и к подсистемам культуры. Он вводит понятие института как некоторой упорядоченной, общей и устойчивой структуры. В качестве института он рассматривает семью, род, клан, общину, племя, нацию [85]. Как тут не вспомнить бугаевские монады? Уже само появление кросс-культурной психологии и признание ее родоначальников в том, что последние сто лет психология изучала психологию американского студента наводит на многие размышления. Появляется все больше фактов, что нет единой, универсальной психологии, что психология во многом определяется культурой. Удержимся от заключения, что психология должна признать себя частным разделом культурологии. Во всяком случае, учитывать социокультурные особенности среды каждого исследуемого психологии придется. При объединении громадного количества живых клеток появляется новая сущность, психика. Поведение животного становится сложным, часто оно не зависит уже от нужд даже большого количества отдельных клеток. Животное будет убегать от преследователя, напрягая все мышцы, даже если эти мышцы молят о пощаде и желают отказаться работать. Животное, попавшее в неволю, может отказаться принимать пищу и погибнет, хотя все клетки его тела молят о питательных веществах. Животное – это не сумма проявлений составляющих его клеток, это не сумма взаимодействий всех клеток. Каждый элемент, каждая клетка подчиняется целому, организму. Когда объединяется много людей-элементов, появляется родовое сознание. Поведение рода уже нельзя описать арифметической суммой поведения отдельных элементов-людей. Поведение каждого человека-элемента во многом подчиняется целому, роду. Члены рода подчиняются главе рода, глава рода тратит много сил и энергии не на поддержание собственного организма, а на поддержание рода. Более сильные члены рода отдают свои жизни при нападении врагов, защищая слабых членов рода. По мнению Э.Дюркгейма, сущность общества составляет система «коллективных представлений», которые вырабатываются в обществе и не могут быть сведены к индивидуальным представлениям отдельных людей о каких-то общественных явлениях. Коллективное сознание не есть сумма индивидуальных сознаний, и для понимания существа общественной жизни недостаточно исследовать лишь формы индивидуального познания [9]. Когда объединяется много родов-элементов, появляется общественное, государственное сознание. Поведение общества, государства нельзя описать простой суммой взаимодействий отдельных элементов-семей. Поведение каждого элемента-семьи подчиняется целому, обществу, государству. Поведение человека уже нельзя описать изолированно, в отрыве от общественных отношений. То, что человек может передвигаться изолированно, существовать изолировано, ничего не меняет. Работа его системы кровообращения зависит от общества. Он может получить инфаркт или инсульт, взаимодействуя с обществом. Работа его пищеварительной системы зависит от общества, и не только в смысле получения необходимых продуктов питания. Он может получить запор или язву, взаимодействуя с коллективом. Человек – экстрааддитивная структура, состоящая не только из объединения составляющих его живых клеток. В состав этой структуры необходимо должны быть включены такие элементы как семья, коллектив, а часто даже не один, а несколько коллективов, и культура, все нормы, правила, ценности, которые он усвоил при воспитании. Если при построении модели человека не включить какой-то из необходимых элементов, эта модель не сможет даже приблизительно предсказать поведение человека, эта модель будет работать в корне неправильно. Монады Бугаева – семьи, коллективы, государство, человечество, это такие же абстракции, как прерывность или непрерывность. В отдельных случаях или в отдельные периоды времени поведение человека может быть описано только анализом его поведения внутри его семьи и без учета коллектива или государства. Но даже в этом случае включение в качестве элемента его культуры безусловно необходимо. Поведение человека в трудовом коллективе в отдельные периоды времени может быть описано без учета влияния его семьи, но, опять же, с обязательным включением в качестве необходимого элемента культуры. Таким образом, монады Бугаева это абстракции, предназначенные для упрощенного описания сложной реальной действительности. Говоря математически, это проекции или сечения многомерного пространства переменных модели, описывающей поведение человека. В некоторых случаях такие проекции или сечения, вероятно, могут описывать поведение человека с приемлемой точностью. Задача описания человека как социокультурной системы чрезвычайно сложна. Чтобы хоть приближенно, в общих чертах начать ее решение, эту задачу нужно упростить, для чего нужно выработать новые абстракции (да, опять пресловутые абстракции). Здесь могут оказаться полезными некоторые открытые в естественных науках факты и принципы. К таким относится принцип подчиненности или захватывания, сформулированный в том числе Г.Хакеном, основателем синергетики [40]. Он основан на весьма универсальном факте, что в большинстве природных систем, даже в системах высочайшей сложности, существует всего лишь несколько параметров порядка на макроскопическом уровне, которые определяют динамику системы. Все другие параметры оказывают слабое влияние на свойства системы. При воздействии на систему большая часть переменных системы быстро релаксирует к состоянию равновесия, и только некоторые становятся нестабильными и медленно меняются. Это можно представить себе как захват быстрых переменных более медленными переменными. Быстрые переменные адаптируются к движению медленных переменных. Следовательно, быстрые переменные могут быть «адиабатически» исключены. Следует отметить, что все зависит от временного масштаба явлений, которые мы изучаем. Если нас интересуют процессы, разворачивающиеся на протяжении веков, то ясно, что процессы с характерным временем год или месяц можно считать адиабатически подчиненными и не рассматривать их. Однако последние выйдут на первый план при анализе процессов с характерным временем в несколько месяцев. Это похоже на рассматривание предмета в лупу. Мы увидим предмет отчетливо на расстоянии, близком к фокусному расстоянию лупы, а предметы, находящиеся ближе или дальше, будут расплывчатыми. Самая большая проблема культурологии в сложности ее объекта. Если мы будем пытаться описать всё, учесть всё, мы не добьемся ничего. Представим, что система описывается очень большим числом уравнений, и решение этой системы уравнений представляет собой гиперповерхность в многомерном пространстве. Как мы можем описать эту гиперповерхность? Можно описать численно, каждой точке сопоставить набор чисел. Но это не добавит нам ни грамма понимания закономерностей поведения системы. Есть другой подход. Он заключается в построении научных абстракций. Из всего многообразия переменных выделяется три-четыре самых важных, больше всего влияющих на поведение системы. Затем мы долго наблюдаем за системой, записывая, как одновременно меняются эти переменные. А потом, после долгого размышления, пытаемся сформулировать закон. Так был сформулирован второй закон Ньютона, на котором построено все громадное дерево механики. Была найдена связь между силой, массой и ускорением. Знание этого закона позволяет предсказывать поведение предметов и строить машины. Если проводить ассоциации с механикой, то культурология сейчас находится на стадии самых начал кинематики, когда только начинали формулировать понятие расстояния и скорости. Пока не открыто сколько-нибудь достоверно ни одного закона культурологии. Более того, практически не предложено методов количественного измерения хоть чего-то. Все крутится пока вокруг качественного описания понятий и мнений. Пока в культурологии не будет выявлено элементарных закономерностей, нет смысла говорить о построении даже простейшей модели, нет смысла говорить об исследовании ее особых точек, об исследовании их устойчивости, об исследовании поведения моделей. Социология проводит социологические опросы, она измеряет кое-какие переменные, она сформулировала даже некоторые закономерности. Экономическая наука изучает денежные потоки, потоки товаров и т.п. Она измеряет переменные и тоже сформулировала некоторые закономерности. Но культурология не может использовать социологические и экономические закономерности и переменные. Принцип культурологии в том, что культура – это большая система, которая включает в себя социологию и экономику. Культурой как системой управляют несколько параметров порядка, несколько существенных переменных, которые по иерархии выше, чем переменные социологии и экономики. Социология изучает руку, отсеченную от тела, к которой подведены электроды. К электродам подводятся импульсы, и рука дергается. Экономика изучает отсеченную ногу, к которой подводятся импульсы, и нога дергается. Нам нужно изучить сознание, под действием которого двигаются руки и ноги. Нам нужно изучать закономерности более высокого порядка, закономерности мировой культурной души. Для этого нам нужно выделить существенные переменные культуры и научиться количественно измерять их. Тогда мы могли бы на первом этапе начать измерять эти переменные и накапливать количественную информацию. Потом мы сможем анализировать эту информацию и пытаться выявлять новые закономерности. Одновременно мы могли бы хотя бы осуществлять мониторинг, смотреть, как, в каком направлении и с какой скоростью меняются основные переменные. Это позволит с какой-то вероятностью предсказать их дальнейшее поведение хотя бы на небольшой промежуток времени. Выводы: 46. Синтез философских идей Н.В.Бугаева осуществлен современной теорией систем, утверждающей, что поведение даже очень сложной системы подчиняется всего нескольким параметрам порядка; модель, включающая несколько наиболее существенных макроскопических переменных может с приемлемой точностью описать и предсказать поведение системы. 47. Если проводить аналогии с механикой, культурология сейчас находится на стадии самых начал кинематики, когда только начинали формулировать понятие расстояния и скорости; культурологии предстоит научиться измерять свои переменные, выявить из них существенные, найти закономерности, связывающие эти переменные между собой, и только после этого строить количественные модели. Термин «душа» по отношению к культуре не слишком удачен, так как традиционно употребляется только по отношению к человеку. В данном случае этот термин употребляется лишь в качестве антитезиса к пониманию явлений природы представителями позитивизма. По мнению Н.В.Бугаева [30], позитивисты усматривают « в явлениях природы и в законах, ими управляющих, следующие основные свойства: 1) непрерывность явлений, 2) постоянство и неизменность их законов, 3) возможность понять и оценить явление в его элементарных обнаружениях, 4) возможность складывать элементарные явления в одно целое и, наконец, 5) возможность точно и определенно обрисовать явление для всех прошлых и предсказать для всех будущих моментов времени» [30]. Аналитическое миросозерцание предполагает, что «…сложные явления природы образуются из явлений элементарных» [30]. Душа не складывается из элементарных «кирпичиков», она принципиально целостна, не образуется из элементарных частей, и применяя термин «душа» к культуре, мы прежде всего пытаемся подчеркнуть, что культура – сложнейшая многосвязная система, в которой количество взаимодействий и связей переросло в принципиально новое качество, не свойственное ни одному из элементов, частей, взаимодействий и связей. Душу можно описывать только «душевно», ее нельзя описывать метрами, килограммами, джоулями, киловаттами, амперами. У нее, безусловно, есть законы, но это законы особые, не укладывающиеся в законы поведения клеток или молекул. Точно так же и культуру нельзя разложить на поведение отдельных людей, социальных групп и даже государств. Для изучения ее законов нужен особый синтетический подход, особые интегральные переменные. Чтобы не вызывать путаницы и разночтений, назовем это существенное качество сложной системы, аналогичное человеческой душе, неразложимостью экстрааддитивной структуры. Таким образом, в нашем понимании неразложимость – это необходимая характеристика экстрааддитивной структуры, показывающая, что у этой экстрааддитивной структуры есть хотя бы одно свойство или качество, не свойственное составляющим эту структуру элементам, некоторое сверх-свойство, сверх-качество (экстра-свойство, экстра-качество). Неразложима душа человека. Неразложима психика животного. Даже в человеческой речи существуют простейшие экстрааддитивные структуры. «В любом языке существуют стойкие словосочетания, или фразеологизмы. Нельзя понять значение идиомы How do you do путем простого добавления друг к другу лексических компонентов; здесь целое не равно сумме частей» [121]. Неразложимость – это тоже некая абстракция, определенная условность. Автомобиль – бугаевская монада, экстрааддитивная структура, у него нельзя отнять ни одной детали, если под условием неразложимости, под его «душой» понимать способность ездить, перевозить грузы и пассажиров с той степенью безопасности и комфорта, которые мыслили себе его разработчики. При таком условии неразложимости каждая деталь автомобиля необходима, нельзя выбросить ни одной детали автомобиля, чтобы не нарушить этого многогранного, многообразного условия. Но если в качестве условия неразложимости назвать просто способность передвигаться без применения внешней силы (внешней силы достаточной величины, больше 30 КгС), то автомобиль уже не будет бугаевской монадой, он будет объединением монады с множеством безразличных, чуждых для этой монады предметов. В этом случае у автомобиля можно отнять более половины деталей, и он все равно сможет двигаться без посторонней силы (другое дело, насколько безопасным для него и окружающих будет это движение). Итак, свойство неразложимости всегда требует конкретизации в виде условия неразложимости. Психика животного – тоже экстрааддитивная структура, бугаевская монада, но и здесь кроме интуитивных представлений нужны некоторые условия неразложимости, кажущиеся излишними для обычного здравого смысла. Останется ли собака с ее весьма богатой психикой бугаевской монадой, самотождественной структурой, если мы отрежем у нее лапу? Если мы сделаем это под наркозом и на операционном столе, то в первые секунды после пробуждения собака даже не поймет, что у нее нет одной лапы, ее психика будет полностью идентичной ее же психике до операции. Но затем это будет уже другая собака, ее психика в корне изменится, это будет ущербная, хромая трехногая собака. Значит, это будет новая бугаевская монада, новая экстрааддитивная структура, так как по определению Бугаева, монада это самотождественная себе единица. Казалось бы, интуитивно все понятно. Но в какой степени монада должна быть самотождественна, чтобы оставаться монадой? Если мы не отрежем собаке ногу во время операции, но собака проснется и испугается, потому что она не будет понимать, что с ней произошло. Ее психика может измениться кардинально, эта собака уже никогда не будет прежней жизнерадостной жучкой. Собака станет новой бугаевской монадой? Чтобы ответить на этот вопрос, нужны условия самотождественности. Так как монада – это абстракция, условность, нужны условия применимости этой абстракции. В классе четырехногих собак трехногая собака будет новой экстрааддитивной структурой, новой бугаевской монадой. Но в объединенном классе четырехногих и трехногих собак эта будет обычная, все та же, самотождественная себе монада. В классе не подвергавшихся наркозу собак наша собака после наркоза будет качественно новой экстрааддитивной структурой. Но в объединенном классе подвергавшихся и не подвергавшихся наркозу собак она останется самой обычной собакой, той же бугаевской монадой, самотождественной себе единицей. Важна степень различения. Всё меняется, нет ничего неизменного. Если нас не интересуют мелкие детали, монада долго будет оставаться самотождественной. Но физиолог, который попробует проводить опыт на собаке, подвергшейся стрессу, обнаружит у нее гипертонию и отбракует эту собаку как негодную, ненормальную, как «другую» монаду. Строго говоря, условия неразложимости и самотождественности нужны всегда (как всегда нужны условия возможности применения прерывности или непрерывности). Тогда мы не попадем в собственную же ловушку, не запутаемся в собственных же абстракциях. Что значит «другая» культура? Что значит «культура изменилась» как самотождественная сущность? А значит это всего лишь следующее. Допустим, мы характеризуем культуру несколькими существенными переменными. Эти переменные мы должны иметь способность измерять количественно. Это существенно важно. Эти переменные мы можем измерять с некоторой точностью. Затем мы должны выбрать величины различения, предельные возможные величины изменения каждой из существенных переменных, некий многомерный вектор различимости. Если культура характеризуется нами с помощью пяти существенных переменных, это будет 5-мерный вектор различимости. Каждая из координат этого многомерного вектора различимости должна быть по крайней мере в несколько раз больше ошибки измерения соответствующей переменной, иначе наши рассуждения будут бессмысленными. Если одна культура хотя бы по одной существенной переменной отличается от другой культуры на величину, большую величины различимости, то эти культуры в рамках наших условий различения будут различными. Точно так же, если наша культура изменилась так, что отклонилась хотя бы одной существенной переменной на величину, большую величины различимости, то это будет уже другая культура, другая бугаевская монада. Мы сформулировали условие самотождественности, условие различимости. Условие неразложимости сложнее. Чтобы его сформулировать, мы должны сформулировать саму «душу» культуры. Но мы должны при этом понимать, что все в человеческом познании и восприятии – это абстракции, приближения, иначе нам даже не подступиться к этой масштабной задаче. Чтобы лучше понять это, вернемся к нашим собакам. Что значит, что психика собаки погибла, что собака как бугаевская монада исчезла? В самом простом варианте к этому приведет физическое уничтожение собаки, ее смерть. Еще мы можем высказать банальную истину, что психика собаки характеризуется некоторой цельностью восприятия. Если мы уничтожим часть мозга собаки, она сможет ходить, возможно, сможет принимать пищу, но она будет абсолютно беспомощна, она не сможет выжить самостоятельно. В этом случае мы тоже говорим, что психика собаки погибла, что бугаевская монада разрушилась. Допустим, мы сформулировали все основные признаки психики собаки и измерили их количественно. Когда мы можем сказать, что психика собаки погибла, что бугаевская монада «разложилась»? Для хозяйки собаки: пока собака шевелится, даже если она уже не принимает пищу, не может лаять и ходить, это все еще ее собака, все то же живое существо со все той же психикой. Если эта собака была собакой-поводырем для слепого, то это уже не будет собака-поводырь, собака-поводырь для слепого «закончилась», исчезла. Если полицейская собака, натасканная на наркотики, потеряет нюх, то для полицейского эта собака «закончилась», потеряла свои существенные психические свойства. Таким образом, в формулировке неразложимости экстрааддитивной структуры, бугаевской монады, в формулировке существенности характеристик собаки как монады имеется чисто прикладной произвол. Все зависит от цели, которой служила собака, от наших требований к ней. Как только собака перестала удовлетворять этим требованиям (для хозяйки – шевелиться, для слепого – водить, для полицейского – обнаруживать наркотики), эта собака для нас «закончилась», ее психика «потеряна» для нас, монада разложилась, исчезла. Абсолютно то же можно сказать о культуре. Все зависит от наших утилитарных требований к ней. Как только древне-римская культура перестала воспроизводить самоё себя в проявлениях, казавшихся большинству существенными, так для большинства она погибла. Но для лингвиста, изучающего латинские корни в современных языках, или для юриста, изучающего римское право, древнеримская культура не погибла до сих пор, она органично вплелась в другие культуры. Все зависит от нашего утилитарного произвола, от наших практических требований. Если мы говорим, что данная культура погибла, то мы должны тут же сказать – в каком смысле. Допустим, мы сформулировали некоторый критерий целостности культуры как неотъемлемой характеристики ее сущности. Например, мы скажем, что пока больше 50 % жителей какой-то страны говорит на определенном языке, то такая-то-язычная культура в этой стране жива. Тогда если во Франции больше 50 % жителей перестанут вообще говорить по-французски, мы с полным правом можем заключить, что французская культура во Франции погибла. Но последний вывод будет справедлив только при этом критерии. Другой человек, пользующийся в аналогичном критерии цифрой не 50, а 20, скажет, что эта культура не погибла. И он тоже будет совершенно прав – в соответствии со своим критерием. Таким образом, мы можем сформулировать с весьма высокой степенью произвола критерий неразложимости культуры. Чтобы мы не выглядели при этом полными идиотами, весьма желательно, чтобы нам удалось отыскать наиболее существенные переменные, характеризующие культуру. Потом мы должны сформулировать «физиологические пределы» изменения этих переменных, пределы существования культуры. Если хоть одна переменная выйдет за эти пределы, мы скажем, что культура «умерла», бугаевская монада разрушилась. Когда констатируют смерть живого существа, пользуются рядом общепринятых критериев, которые выработало человечество опытным путем. Если собака не шевелится, если у нее нет пульса, если она не дышит, если температура ее тела упала до 20 градусов Цельсия, если ее мышцы охватило трупное окоченение, каждый скажет, что собака мертва. Чтобы наше суждение о смерти культуры не оказалось глупым, категорически неверным, хорошо бы и нам сформулировать наши «физиологические пределы», опираясь хотя бы на некоторый опыт. Хорошо бы нам проникнуть на машине времени в прошлое, в культуру, которая почти умерла, и там на месте измерить величину переменных, которые мы выбрали в качестве существенных. После трех-четырех десятков таких путешествий мы (если бы вернулись живыми) смогли бы статистически достоверно сформулировать эти «физиологические пределы». К сожалению, такая мечта не реализуема. Есть и другой выход. Отказаться от попытки сформулировать эти «физиологические пределы». Считать априорно любую культуру удовлетворяющей признаку неразложимости и «констатировать смерть» лишь тогда, когда другие специалисты – историки, политологи, социологи, лингвисты – на основании своих диагностических признаков не выдадут заключение о смерти культуры. Нам скажут, что мы позорно сдались, сбежали. А как же неоднородности культур? А что делать при анализе субкультур? Как их выявлять? Как выявлять контркультуры? Тут мы и воспользуемся принципом прерывности, сформулированным Бугаевым. Существенным для бугаевской монады является то, что она неразложимая самотождественная живая единица; единица, то есть нечто, четко обособленное от окружающего мира. Если мы выявим границу, разрыв, значит мы, скорее всего, выявили новую монаду (или подмонаду), новый объект. Но и здесь нужно помнить, что разрыв – это абстракция. Наши измерения не идеальны, мы измеряем переменные с некоторой ошибкой. Если переменная меняется на величину, хотя бы в несколько раз превосходящую ошибку измерений, тогда можно говорить о разрыве. Конечно, само понятие эстрааддитивной структуры как системы, имеющей качественно новые свойства по сравнению со свойствами составляющих ее элементов, представляет собой некую абстракцию, имеющую ограниченную применимость. В то же время это понятие не является просто субъективной оценкой окружающей действительности. Х.Патнэм на простых примерах доказывает, что удовлетворительную теорию, способную действительно объяснить сущность какого-либо явления, можно создать только с учетом максимального уровня структуры. Поведение сложной системы с точки зрения его удовлетворительного объяснения принципиально не дедуцируемо из поведения составляющих эту систему элементов [101]. В отношении культурологии это означает, что удовлетворительное описание культуры как целостной системы невозможно осуществить в рамках понятий социологии, социальной психологии, экономики и других наук о человеке и обществе. Культурологии еще предстоит сформировать свою целостную систему понятий, которая позволила бы понять сущность культуры. Культурология, хочет она того или нет, уже своим названием декларирует системный подход к описанию всей человеческой культуры в ее развитии, а значит включает в себя и вопросы развития любой частной науки в контексте развития культуры. Если культура – это некая система координат, система решающих правил, система классификации накопленных и накопляемых фактов и если культура как система координат сама развивается, сама меняется, то это свидетельствует об отсутствии абсолютности и стопроцентной истинности любых, даже самых уважаемых теорий. Вывод: 48. При формулировке условий самотождественности и неразложимости культуры как многосвязной системы, как экстрааддитивной структуры существует прикладной произвол; сформулировать эти условия можно только при наличии возможности количественного измерения наиболее существенных переменных системы. 5.3 Возможности математического моделирования культуры Параметры порядка и поведение ложных систем Приступая к столь сложной теме, сделаем несколько замечаний относительно начальных позиций. Мы выяснили, что культурология изучает культуру в целом. Нельзя сказать, что антропология, психология, социология и экономика входят в культурологию как составные части. Просто они изучают человеческую культуру на другом уровне, в другом срезе, в другой, не такой общей системе координат. Закономерности, полученные перечисленными науками, очень важны, и мы не будем пытаться умалить их значение. Культура – это прежде всего система, система норм, ценностей, образцов, которые регулируют, определяют направленность любой формы человеческой деятельности, лежат в основе ее о-смысления и оценки [36]. Но мы пришли к предположению, что поведением даже очень сложной системы управляет несколько параметров порядка, несколько переменных, которые в основном определяют поведение системы. Последнее означает, что эти переменные вносят наибольший вклад; отсекая рассмотрение остальных переменных, мы понимаем, что все наши дальнейшие выводы будут иметь вероятностный характер, что точность нашего рассмотрения будет весьма ограничена, но в первом приближении достаточна для нас. Мы не можем использовать для описания системы априорно социологические, экономические, психологические и другие переменные и закономерности. Мы должны попытаться найти свои существенные переменные. Человеческое общество, человеческая культура – это сложные устойчивые саморегулирующиеся системы, иначе они не могли бы существовать сколько-нибудь протяженный период времени. В устойчивой системе устойчивость поддерживается за счет отрицательных обратных связей, то есть факторов, которые возвращают систему в положение устойчивого равновесия, если внешние влияния стремятся эту систему вывести из положения равновесия. В такой системе понятия причины и следствия, аргумента и функции становятся во многом условными (вспомним Тейхмюллера), теряют свою очевидность. Пока система не потеряла устойчивость, каждая из существенных переменных может быть выбрана в качестве «причины», в качестве аргумента. Устойчивую саморегулирующуюся систему методологически верно будет представить в виде неявной функции вида F(x, y, z,….t) = 0. При попытке подойти к сложной системе конкретно с практической задачей построения математической модели возникает целый ряд методологических трудностей. Для того, чтобы выявить существенные переменные, которые будут составлять основу модели, необходимо составить список переменных, которые в принципе могут описывать поведение системы, а потом выбрать из них существенные. Но чтобы составить список переменных, необходимо знать структуру системы, то есть знать, из каких элементов она состоит, и законы, описывающие взаимодействие между этими элементами. Следует признать, что на данном этапе изученности культуры как системы отсутствует сколько-нибудь строгая информация о составляющих элементах и законах их взаимодействия. Поэтому постановка задачи разработки какой-либо математической модели культуры по типу механической представляется по меньшей мере преждевременной. Программирование и численное моделирование Современные проблемы научно-исследовательского характера требуют для своего эффективного (по затраченному времени) решения мощной поддержки со стороны вычислительных комплексов. Использование вычислительных машин возможно только при условии наличия программных продуктов (далее – программ), удовлетворяющих следующим требованиям: – программа должна эффективно использовать возможности, предоставляемые оборудованиям; – программа должна быть интуитивно понятной и легкой в использовании; – программа должна иметь в своём составе минимальное число компонент, нужных для решений поставленной задачи; – программа должна иметь приемлемую стоимость разработки и сопровождения; – программы должны быть изменяемыми за приемлемое время, чтобы оставаться конкурентоспособными. Программы могут быть любого уровня, начиная от операционных систем низкого уровня и заканчивая высокоуровневыми средствами графического отображения. Программы по типу взаимодействия с пользователем могут быть текстовыми или графическими (причём тот факт, что программа имеет тривиальный текстовый интерфейс, не несёт в себе негативной оценки). Вышеизложенное относится в основном к внешнему виду программы, то есть того, как она выглядит с точки зрения пользователя и маркетинговых требований. На тему того, как выглядят программы и какие преобразования в современном мире, вовлечённом в необратимый процесс глобализации, они совершают, написано немало книг. Нас будет интересовать обратная сторона задачи: а как же выглядит программа с точки зрения разработчика. В основном мы будем касаться результатов работы высококлассных программистов, работы которых по праву можно признать шедеврами в своей области. Круг рассматриваемых программ мы сузим и будем рассматривать программы автоматического проектирования компьютерных чипов, то есть средства EDA (Electronic Design Automation), так как автору хорошо известна внутренняя напряженность процесса разработки подобных программ. Более того, эти программы, для того чтобы стать успешными, как раз должны удовлетворять всем поставленным выше требованиям. Программирование и проектирование – две близкие дисциплины, имеющие родственную проблематику, но разные задачи. Проектирование – составление проекта программы – область, характеризующая процесс построения архитектуры программы, план её развития. Проектирование определяет, из каких блоков будет создана программа, как они будут взаимодействовать между собой в статических и динамических режимах. Программирование – непосредственный процесс написания программы, более низкий уровень абстракции, на котором программист реализует описывающие поведение системы алгоритму на искусственном языке. Мы опускаем непосредственное моделирование задач, так как оно является специфическим для каждой предметной области, а также зачастую несёт на себе ограничения и странности, сложившиеся в отрасли, и вбирает в себя проблемы маркетингового характера. Конечно, высокоуровневое проектирование также соприкасается с маркетингом, однако нас будет интересовать процесс детального проектирования (язык программирования уже определен, модель выбрана, правила игры известны). Процесс проектирования уже хорошо описан в литературе, но нас не будут интересовать традиционные вопросы и проблемы. Мы ставим другую задачу – описать взаимодействие программы и программиста как произведения и автора. Основанием для этого является то, что программы пишутся языке, пусть и искусственном. Любой искусственный язык кардинально отличается от естественного языка средствами выражения, а также набором культурных артефактов, исторических «наслоений» и тому подобное [68]. Языки программирования не имеют подобных артефактов, предстоит ещё выяснить соотношение языков программирования и естественных языков. Автору представляется, что с искусственными языками не всё так просто, как кажется на первый взгляд (например, прослеживается тенденция отчасти мыслить на искусственном языке). К тому же, всё взаимодействие человека с машиной, а значит и с искусственным интеллектом, производится посредством языков программирования (а отнюдь не с помощью работы в обычной графической операционной системой). Можно провести подобную аналогию: можно читать Канта в оригинале на старонемецком (?) языке, можно читать Канта на современном немецком, читать Канта в русском переводе, читать конспект Канта, пересказ Канта, учебник по философии, наконец, просто слышать, что Кант существовал. Это – разные уровни знания, и все эти уровни знания относятся к одному Канту. Также и здесь – все уровни знания относятся к компьютеру и взаимодействию с ним, но уровень «абстракции», а самое главное, процесс осознания выполненного, влияние произведения на автора здесь выражены наиболее ярко, поскольку на машину повлиять нельзя. Можно ли посредством программы общаться, вести диалог с пользователем – ещё предстоит выяснить. Рассмотрим сначала процесс написание исходного текста программы. А.И.Голуб [45] пишет, что гораздо более качественные, искусные программы были написаны специалистами, имеющие базовое лингвистическое, гуманитарное образование. Образуется парадокс. Несмотря на то, что гуманитария значительно труднее обучить высшей математике, гуманитарии пишут лучшие программы? Но если детально присмотреться к предыдущему вопросу, то обнаруживается, что никакого парадокса и нет: высшая математика (в традиционном понимании её ядра как смеси анализа, геометрии и алгебры) находится на некотором отдалении от дискретной математики, и ещё дальше – от так называемой computer science (этот предмет не имеет у нас точного аналога, так как информатика – скорее учебный предмет). Computer science – близкая математике область, но она скорее пользуется результатами pure mathematics в своих целях. Несомненно, чистому гуманитарию будет трудно программировать, но отмечается скорее склонность к гуманитарному мышлению. Автору также известны примеры подобной зависимости. Теперь самое главное. Мы утверждаем, что программирование (как исследовательский процесс) сочетает в себе применение двух исследовательских парадигм – естественнонаучной и гуманитарной. Естественнонаучная парадигма применяется при построении модели и описании алгоритма. Гуманитарный подход применятся при декомпозиции задачи на подзадачи и написании текста программы. В последних двух проблемах не бывает однозначных решений, причём даже в условиях, когда, казалось бы, правила зафиксированы – язык формально определён практически на 100 процентов. Однако современные языки программирования настолько богаты красивыми средствами выражения, что сложность принятия правильного решения сравнима по сложности с анализом написанием произведения и зачастую является просто авторской. Сколько программ – столько и авторов. Вторым средством выражения для программиста является написание исходного текста программы. Если программист не ограничен стандартами на форматирование исходного текста программы и выбор имён, то он приобретает дополнительные средства выражения: отступы, имена, пробелы. Иногда сам внешний вид текста программы является как бы произведением искусства, и нёсет на себе неповторимую печать автора. Автор сам выбирает, как ему располагать знаки на странице, и, тем самым, меняет и сам знак «текст программы». Таким образом, содержание программы – естественнонаучное, форма программы – гуманитарная. Здесь энтелехия «форма – материя» находит свою новую интерпретацию в виде взаимодействия двух парадигм, в которой одна помогает другой, и при этом область этого взаимодействия не является искусственной, что представляется автору уникальным явлением в современной жизни. Возможности количественного изучения культуры Вышеизложенное не означает невозможности количественного изучения культуры как системы. На первом этапе изучения любого объекта сначала должны быть накоплены многочисленные количественные данные, выявлены закономерности и функциональные связи, и лишь после этого можно приступать к разработке математической модели. Строго говоря, на этом этапе нельзя даже говорить о существенных переменных, потому что это негласно предполагает определенную степень количественной изученности объекта. Наверно, правильнее будет назвать величины, которые планируется измерять, показателями. Это будут некоторые величины, призванные отражать, являть, показывать состояние системы. Показатель мы будем отличать от переменной в том смысле, что он не претендует на то, чтобы отражать сущность происходящих в системе процессов. Это просто некий количественный признак, характеризующий систему. 5.4 Специфика системного подхода 5.4.1 Конструктивная критика позитивизма Х.Патнэм [101] вводит понятия удовлетворительного и неудовлетворительного объяснения. Попытка описать мыслительную деятельность человека из физико-химических свойств его мозга представляет собой пример неудовлетворительного объяснения, неверного в методологическом отношении. Ибо даже если мы опишем мысли человека механистически, это все равно ничего не объясняет, не помогает лучшему пониманию закономерностей функционирования мозга. В.Я.Цингер приводит красивый довод в пользу того, что не все в окружающей действительности может быть описано с помощью механических воззрений, разложено на элементарные кирпичики, что человеческая культура представляет собой качественно новую сущность, не сводимую к сущностям составляющих ее элементов. Он подчеркивает, что основной догмат эмпиризма заключается в отрицании духовной сущности сознания и духовного сознания вообще. Последователь эмпиризма уподобляется человеку, который стал бы отрицать всякий смысл написанного или напечатанного на бумаге на том бесспорном основании, что этого смысла нельзя открыть никакими микроскопическими и химическими исследованиями бумаги и чернил [130]. Современная наука вообще близка к тому, чтобы отказаться не только от понятия детерминированности, но и причинности. Шредингер, нобелевский лауреат по физике, писал: «Откуда возникает широко распространенное представление о том, что поведение молекул детерминировано абсолютной причинностью, откуда возникает убеждение в том, что противоположное немыслимо? Просто из тысячелетиями передающейся по наследству привычки мыслить причинно, а это приводит к тому, что представление о недетерминированных событиях, об абсолютной, первичной беспричинности кажется полной бессмыслицей, логическим абсурдом» [118]. За много лет до Шредингера это уже сказал Г.Тейхмюллер [115]. Не отказываясь полностью от категории причинности, современная наука уже не подходит к этой теме упрощенно. «По мнению Пирса, говорить, что будущее не влияет на настоящее, это неверное положение. Пирс различает два типа причинности: действенная причина – это такой вид причинности, при котором части называют целое; конечная причина – это такой вид причинности, при которой целое называет части. Конечная причина беспомощна без действенной. Однако действенная причина без причины конечной – это еще хуже, чем беспомощность, это чистое ничто» [121]. Казалось бы, само понятие сложной системы, то, что сложная система не может быть описана с помощью переменных, которыми описывается поведение составляющих сложную систему элементов, полностью выбивает почву из-под позитивизма. Однако это не так. То, что система при ее образовании из большого числа взаимодействующих элементов самоорганизовывается, в результате чего ее поведение описывается с помощью нескольких параметров порядка, вовсе не означает, что эти параметры порядка имеют какой-то мистический смысл и не могут быть описаны математически. Все дело не в какой-то принципиальной дефектности позитивизма. Все дело в элементарной целесообразности, конструктивности, скажем больше, в эффективной организации труда. При описании сложных систем позиция позитивизма неконструктивна, неэффективна, нецелесообразна. При описании не слишком сложных механических систем был продемонстрирован такой эффект как вырождение решений системы дифференциальных уравнений. При описании механического взаимодействия многих элементов получается много дифференциальных уравнений. Например, если элементов тридцать, а каждый элемент описывался одним дифференциальным уравнением, то система должна описываться системой из тридцати дифференциальных уравнений. Так вот, при строгом математическом исследовании оказывается, что для достаточно точного описания поведения системы нужно значительно меньше уравнений, чем можно было бы представить. Например, тридцать дифференциальных уравнений вырождаются в три. Здесь нет мистики. Только голая механика и голая математика. Кинетическая теория газов была создана поначалу эмпирическим путем. Но потом, путем символического усреднения миллионов одинаковых механических уравнений для каждой молекулы было показано, что для описания поведения газа как системы достаточно всего нескольких уравнений. Внутри лазера миллионы молекул газа. Было математически доказано, что для описания поведения лазера не нужно миллионов уравнений, достаточно всего нескольких. В механических системах известны уравнения для каждого из механических элементов в отдельности, известны также законы взаимодействий между элементами. В общественных науках каждый отдельный человек не описан формулами. Взаимодействие между людьми не описано строгими законами. Позитивист предложил бы сначала открыть нужные законы, описать отдельно каждого человека, а потом сложить все уравнения. Но такой подход был бы неконструктивным, неэффективным, нецелесообразным. Зачем вновь и вновь повторять одно и то же доказательство, один и тот же путь? Не проще ли использовать индукцию и предположить, что и в случае общества поведение всей системы может быть описано значительно меньшим количеством уравнений, чем количество составляющих общество людей; а в случае культуры поведение всей системы может быть описано значительно меньшим количеством элементов, чем количество «фактов культуры» и действующих в конкретном культурном пространстве людей. Вывод: 49. Конструктивная критика позитивистского подхода использует понятие удовлетворительного объяснения и понятия системы, ее самоорганизации, вырождения решений описывающих ее уравнений. 5.4.2 Системность и проблемы философии Современное понятие культуры как сложной саморегулирующейся системы не могло сформироваться в конце XIX века из-за недостатка накопленных фактических данных. И Бугаев, и Тейхмюллер оперируют понятиями личность, коллектив, общество, государство, воспитание, обучение, даже понятием культурный человек, но они не могли подняться до понимания самовоспроизводящейся системы накопления, переработки и передачи через поколения человеческого практического и теоретического, идейного опыта. Это современное понятие культуры частично заменялось всемогущим Богом, пекущемся о благополучии истинно верующих православных, частично «свободой воли» и тягой к самосовершенствованию и развитию как от природы свойственных человеку. Становление системного подхода в качестве общенаучного метода осуществлялось в сфере нефилософского знания, главным образом в рамках современной логики и методологии науки. Понятие организованной системы появилось как диалектический итог многовековой борьбы меризма или редукционизма и холизма. Система и образующие ее элементы напоминают по их определению понятия части и целого. Однако характерное для системы понятие структуры, организации системы, то есть совокупности законов, выражающих связь элементов в системе, является новым, диалектическим понятием. В философском смысле системный подход позволяет нам рассматривать бытие тоже как особого рода систему. Это означает, что мы можем выделять в нем различные уровни и подуровни, выявлять самые разнообразные системы связей, то есть разные структуры, рассматривая эти структурные связи как особого рода закономерности, которые можно познавать. Причем оказывается, что на таком предельном уровне исследования бытия грани, разделяющие, например, идеализм и материализм, стираются и явления предстают как различные интерпретации одной проблемы [69]. Философия начиналась как единственная наука об окружающем мире; по мере появления и развития частных наук они отбирали у философии часть территории, но прерогативу рассмотрения наиболее общих вопросов мироздания и мышления ни одна наука до сих пор не дерзнула отнять у философии. Культурология напала на философию снизу, выбив почву из под ног. Если язык меняется, если меняются принципы мышления, координаты мышления, рушатся и перестраиваются коренные принципы систематизации человеческих знаний, то о каком рассмотрении общих вопросов мироздания может идти речь? Философия превращается чуть ли не в схоластику, историю развития которой изучать любопытно, и не более. В.С.Библер наверняка чувствовал это, когда, подытоживая рассмотрение «спора логических начал» в философии XVII века, отметил, что «…необходимо внимательное и сосредоточенное сопряжение идей собственно логических и – идей культурологических, целостной философии культуры. В нашей реконструкции «спора логических начал» мы все же оставались в пределах (в границах) наукоучения; контекст культуры (в ее онтологических предположениях) учитывался все еще слабо, маргинально» [1]. В.С.Библер говорит уже не о философии культуры, а о философских культурах (фактически – о культуре философии), о диалоге, полифонии философских миров, философских культур. Восприятие философского учения зависит от контекстной культурной матрицы в уме воспринимающего, и невозможно понять философское учение, не перестроив матрицу, то есть систему координат [16]. С другой стороны, все меняется и развивается постепенно. Основное ядро человеческих понятий и представлений, сама система мышления остаются почти неизменными или меняются весьма медленно. Поэтому и философия, хоть она и испытывает определенный кризис, остается и останется актуальной, тем более что ни одна из наук не взяла на себя рассмотрение наиболее общих проблем мироздания. Познание бесконечно, и несмотря на все большее развитие частных наук, у философии всегда останется поле для деятельности. Вывод: 50. В философском смысле системный подход позволяет рассматривать бытие тоже как особого рода систему; на таком предельном уровне исследования бытия грани, разделяющие, например, идеализм и материализм, стираются и явления предстают как различные интерпретации одной проблемы. 5.5 Системный подход к изучению культуры Утверждение, что основной причиной возникновения культурологии был структурный кризис системы высшей школы в условиях бурных общественных перемен, «необходимость заполнить лакуну, появившуюся в результате смены идеологической парадигмы» [75], было бы слишком однобоким. Истинной причиной ее возникновения скорее явилась, с одной стороны, неудовлетворенность общим современным состоянием философии культуры и, с другой стороны, переход количества накопившихся исторических, антропологических, социологических, психологических и семиотических данных о развитии человеческой культуры в некое новое качество. Философия – наука о наиболее общих, универсальных мировых закономерностях, выражаемых в понятиях вербального языка. Накапливающиеся факты о развитии культуры все больше свидетельствовали о непостоянстве, текучести, изменении структуры философских понятий как системы координат. Из-под философии выбивались, скорее даже вымывались краеугольные камни истинности, постоянства и универсальности. Получалось, что в каком-то смысле философия находится внутри непрерывно меняющейся культуры и почти не имеет шансов выбраться на некую устойчивую, объективную позицию. В.С.Библер вслед за М.М.Бахтиным говорит уже не о философии культуры, а о философских культурах (фактически – о культуре философии), о диалоге, полифонии философских миров, философских культур [16]. В то же время и антропология, социология, психолингвистика не торопились выбираться каждая из своей области и интегрировать воедино свои достижения с достижением смежных областей. Возникла необходимость в создании некоей над-науки о культуре, рассматривающей всю человеческую культуру в едином системном аспекте. Рост культурологического самосознания и стремления к самоопределению был продуцирован такими факторами, как существование все более ощутимых «ножниц» между накоплением знаний культурологического характера и уровнем их систематизированности, обобщенности; между умножением числа научных дисциплин, ориентированных на изучение тех или иных аспектов культуры, и отсутствием необходимой сопряженности их между собой, рефлективности в процессе взаимодействия и взаимодополнения; наконец, общим повышением интереса к феномену культуры как особому объекту социального познания при отсутствии специального научного направления, разработанных оснований и методологии для изучения данного феномена в целом [37]. Значимость культурологии возрастает в условиях начавшегося в начале 90-х годов XX века и еще не преодоленного кризиса российской культуры [106]. Культурология, претендуя на исследование нового, необычного объекта, должна вырабатывать новые, специфические методы и подходы, формировать свои особые понятия и термины. И ей грозит опасность повторить тернистый путь математики, естественных наук и философии, который привел их к кризису, если она не извлечет урок из истории человеческого познания. Не претендуя на философскую глубину, даже в какой-то мере отвергая своим содержанием ее возможность, данное исследование, как хочется надеяться, поможет новой науке сформировать свою идейную и методическую базу более эффективно. Взгляд на культуру с позиций императивной общности, на которую претендует культурология, в сочетании с предложенным в этой работе принципом «шевеления (потрясания?) основ» и проведенным анализом ошибок математиков и позитивистов в их попытках описания мира, можно резюмировать в следующих почти очевидных заключениях: 1. Любая теория применима (за исключением одиозных), то есть имеет практическую значимость, но любая теория ограниченно применима, то есть имеет ограниченную практическую значимость. Ибо человек в своих теориях не может претендовать на абсолютную истину. 2. Следовательно, любой подход к проблеме, любая классификация, любая теория – это абстракция, приближение; подход, классификация, теория описывают особенное, вынуждены отбрасывать единичное и часто не могут охватить общее. 3. Приблизительность теорий и абстракций теряет роковую драматичность, если попытаться сразу понять и сформулировать границы применимости каждой теории и абстракции. Нет неверных теорий или абстракций. Есть теории и абстракции, которые пытаются применить в условиях, на которые они не рассчитаны. 4. Человечество тянет за собой груз устаревших систем координат и груз устаревших теорий с уменьшающимися или исчезнувшими сферами применения. Теория Канта стала неактуальной для Ленина, теория Ленина стала неактуальной для нас (пожалуй, за исключением утверждения о том, что практика – критерий истины). 5. Большинство теорий культуры представляют собой приближения, абстракции, пределы применимости которых не выявлены и не исследованы. 6. Поэтому есть смысл оставить хотя бы на время все координаты и связи, сформулированные ранее, но уже переставшие или почти переставшие работать, и попытаться найти более актуальные координаты и связи. Желательно при этом не пропустить народившееся новое, чтобы не повторить участи большинства теорий, описывающих то, что было, и бессильных предсказать то, что будет. 7. Единственное сколько-нибудь значимое мерило степени значимости теории это степень применимости ее на практике, то есть возможность теории предсказать ход развития событий в большей части случаев. 8. Составить сколько-нибудь удовлетворительную математическую модель культуры на сегодняшний день не представляется возможным, так как пока не выявлены какие-либо количественные закономерности, характеризующие поведение культуры как единой системы. 9. Главное свойство любой культуры – коммуникативность с использованием в большинстве случаев вербальных языков. 10. Существенной характеристикой культуры может оказаться частота циркуляции понятий по сетям коммуникации. 11. Развивающаяся техника дает новые возможности оценки частоты циркуляции понятий. 12. Имеет смысл проанализировать список понятий, циркулирующих по сетям коммуникации с наибольшей частотностью. В другой работе автора данной книги предпринята попытка такого анализа с применением поисковых машин интернета [43]. БИБЛИОГРАФИЯ: 1. XXVII век, или спор логических начал. – М.: ИФАН, 1991. – 152 с. 2. Александров П.С. Московское математическое общество // Успехи математических наук, 1946, т. 1, вып. 1. 3. Александрова Е.Я. Формирование системы подготовки кадров для сферы искусства: отечественный опыт / Образование в пространстве культуры: Сборник научных статей. Вып. 1 – М., 2004. – 302 с. 4. Алексеев В.Г. Математика как основание критики научно-философского мировоззрения: По исследованиям Г.Тейхмюллера, Ал.Ф.Эттингена, Н.В.Бугаева и П.А.Некрасова в связи с исследованиями автора по формальной химии. – Юрьев, 1903. 5. Алексеев В.Г. Н.В.Бугаев и проблема идеализма Московской математической школы. – Юрьев, 1905. 6. Алексеев В.Г. О совпадении методов формальной химии и символической теории инвариантов. – СПБ. 1901. 7. Алексеев С.А. А.А.Козлов. – М., 1912. 8. Андреев К. Василий Яковлевич Цингер. – М., 1908. 9. Андреева Г.М. Психология социального познания: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 288 с. 10. Антисери Д, Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней. Античность и Средневековье / В переводе и под редакцией С.А.Мальцевой. – СПб.: Пневма, 2001. – 604 с. 11. Антисери Д, Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней. От романтизма до наших дней / В переводе и под редакцией С.А.Мальцевой. – СПб.: Пневма, 2003. – 880 с. 12. Арнольд В.И. Теория катастроф. – М.: Наука, 1998. – 128 с. 13. Арнольд В.И., Варченко А.Н., Гусейн-Заде С.М. Особенности дифференцируемых отображений. – М.: Изд-во МЦНМО, 2004. – 672 с. 14. Белый Андрей. На рубеже двух столетий. – М., 1931. 15. Бердяев Н.А. Судьба России. – М.: Советский писатель, 1990. – 346 с. 16. Библер В.С. Кант – Галилей – Кант (Разум Нового времени в парадоксах самообоснования). – М.: Мысль, 1991. – 320 с. 17. Бобров Е.А. Бытие индивидуальное и бытие координальное. – Юрьев, 1900. 18. Бобров Е.А. Из истории критического индивидуализма. – Казань, 1892. 19. Бобров Е.А. История новой философии. – Варшава, 1915. 20. Бобров Е.А. Новая реконструкция монадологии Лейбница. – Юрьев, 1896. 21. Бобров Е.А. О понятии бытия. Учение Г.Тейхмюллера и А.А.Козлова. – Казань, 1898. 22. Бобров Е.А. О понятии искусства. – Юрьев, 1894. 23. Бобров Е.А. Отношение искусства к науке и нравственности. – Юрьев, 1895. 24. Бобров Е.А. Судьбы индивидуализма в метафизике // Свое слово, V выпуск. 25. Бобров Е.А. Философия в России. – Казань, 1899-1902, вып. 1-6. 26. Бобров Е.А. Философские этюды, I-IV. – Варшава, 1911. 27. Бобров Е.А. Этюды по метафизике Лейбница. – Варшава, 1905. 28. Большая советская энциклопедия. – М.: БСЭ, 1974. 29. Брунер Дж. Психология познания: За пределами непосредственной информации / Пер. с англ., под ред. А.Р.Лурия. – М.: Прогресс, 1977. – 412 с. 30. Бугаев Н.В. Математика и научно-философское миросозерцание // Вопросы философии и психологии, 1898, № 45. 31. Бугаев Н.В. Математика как орудие научное и педагогическое. – М.: МГУ, 1863. 32. Бугаев Н.В. О свободе воли. – М., 1889. 33. Бугаев Н.В. Основные начала эволюционной монадологии // Вопросы философии и психологии, 1893, кн. 2(17). 34. Бугаев Н.В. Числовые тождества, находящиеся в связи со свойством символа Е. – М.: МГУ, 1866. 35. Быховская И.М. «Homo somatikos»: аксиология человеческого тела. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 208 с. 36. Быховская И.М. «Свое» и «чужое»: от логики теоретических интерпретаций к практикам культурных объективизаций / Культура «своя» и «чужая». Материалы междунар. интернет-конф. – М.: Фонд независимого радиовещания, 2003. – 256 с. 37. Быховская И.М. Знание о культуре: культурософия – культурология – культуроведение / Культурология и культуроведение: Концептуальные подходы, образовательная практика: Материалы научно-практического семинара. – М., 1998. – 249 с. 38. Быховская И.М. Культурологическое образование: логика развития в трех «системах координат» / Культурологическое образование: состояние, проблемы, перспективы. Материалы региональной теоретико-методологической конференции. – Краснодар, 2000. – 242 с. 39. Быховская И.М. Образовательная среда и художественное воспитание: идеи и практика в современном мире / Образование в пространстве культуры: Сборник научных статей. Вып. 1 – М., 2004. – 302 с. 40. Вайдлих В. Социодинамика: системный подход к математическому моделированию в социальных науках: Пер. с англ. / Под ред. Ю.С.Попкова, А.Е.Семечкина. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 480 с. 41. Годин А.Е. Взгляды членов Московского математического общества на проблемы образования в России во второй половине XIX – начале XX века / Труды Международной научно-практической конференции “Образование в пространстве культуры”. – М., 2004. 42. Годин А.Е. Культурологическая реконструкция идей Московской философско-математической школы / Труды ежегодной конференции-семинара молодых ученых “Науки о культуре – шаг в XXI век. – М., 2004. 43. Годин А.Е. Начала количественной культурологии. – М.: Изд-во «Красный свет», 2006. 44. Годин А.Е. Обобщенная задача о назначениях / Тезисы международного семинара «Супервычисления и математическое моделирование”. – Саров, 2002. 45. Голуб А.И. Веревка достаточной длины, чтобы выстрелить себе в ногу. Правила программирования на Си и Си ++ / Пер. с англ. – М., 2001. 46. Данилова Н.И. Физиология высшей нервной деятельности. – М.: Феникс, 2002. – 480 с. 47. Дарвинизм и марксизм. – Киев, 1925. 48. Дарвинизм, классовая борьба и религия. – М., 1932. 49. Джемс У. Личность / Психология самосознания. Хрестоматия. – Самара: Издательский дом «БАХРАХ-М», 2003. – 672 с. 50. Зеньковский В.В. История русской философии. – Л., 1991. 51. Иеродиакон Андроник (Трубачев). К 100-летию со дня рожд. священника Павла Флоренского (1882-1982) // Богосл. тр., 1982. Сб. 23, с. 266. 52. Ионин Л.Г. Философия и методология эмпирической социологии: Учебное пособие. – М.: ИД ГУ ВШЭ, 2004. – 367 с. 53. История России XIX – начала XX в.: Учебник / В.А.Георгиев, Н.Д.Ерофеев и др. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 544 с. 54. История России XIX – начала XX века: Учебник / Под ред. В.А.Федорова. – М.: Изд. Моск. унив., Изд. центр «Академия», 2004. – 864 с. 55. История России: в 2 т. Т. 2: С начала XIX в. До начала XXI в. / А.Н.Сахаров, Л.Е.Морозова, М.А.Рахматуллин и др. – М., 2005. – 862 с. 56. Карамзин Н.М. История Государства Российского. В 3-х книгах, 12 томах. – М.: Олма-Пресс, 2004. 57. Кармин А.С. Культурология. – СПб.: Лань, 2003. 58. Кармин А.С., Новикова Е.С. Культурология. – СПб.: Питер, 2004. – 464 с. 59. Клейн Ф. Лекции о развитии математики в XIX столетии: В 2-х томах. – М.: Наука, 1989. – 912 с. 60. Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций: В 2-х кн.. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. – 2112 с. 61. Козлов А. Г.Тейхмюллер // Вопросы философии и психологии, 1894, кн. 24-25. 62. Козлов А.А. Генезис теории пространства и времени Канта. – Киев, 1884. 63. Козлов А.А. Религия гр. Л.Н.Толстого, его учение о жизни и любви. – СПб., 1895. 64. Козлов А.А. Сознание Бога и знание о Боге // Вопросы философии и психологии, 1895, №№ 4, 5. 65. Козлов А.А. Сущность мирового процесса, или Философия бессознательного Э. фон Гартмана. – М., 1873-1875, вып. 1-2. 66. Козлов А.А. Теория искусства с точки зрения Тейхмюллера // Вопросы философии и психологии, 1895, № 2. 67. Козлов А.А. Философские этюды. – СПб. – Киев, 1876-1880, вып. 1-2. 68. Кравченко А.И. Культурология: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект; Трикста, 2003. – 496с. 69. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Миронов В.В., Момджян К.Х. Философия: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 519 с. 70. Культурология в вопросах и ответах / Под ред. проф. Г.В.Драча. – М.: Гардарики, 2002. – 336 с. 71. Культурология. XX век. Энциклопедия (в 2-х томах). – СПб.: Университетская книга, 1998. – 894 с. 72. Культурология. История мировой культуры: Учебник для вузов / Под ред. Н.О.Воскресенской. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Единство. 2003. – 759 с. 73. Культурология. Пособие для подготовки к экзаменам. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 352 с. 74. Культурология. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 1998. – 576 с. 75. Культурология: Учеб. для студ. техн. Вузов / Под ред. Н.Г.Багдасарьян. – М.: Высш.шк., 2004. – 709 с. 76. Культурология: Учеб. Пособие / Под ред. В.А.Фортунатовой и Л.Е.Шапошникова. – М.: Высш. шк.., 2003. – 303с. 77. Культурология: Учебное пособие / Под ред. проф. Г.В.Драча. – М.: Альфа-М, 2003. – 432 с. 78. Кун Т. Структура научных революций. – М.: Прогресс, 1975. 79. Ландау Л.Д., Лившиц Е.М. Статистическая физика. Часть 1 (серия “Теоретическая физика”, том V). – М., 1976. – 584 с. 80. Лахтин Л.К. Николай Васильевич Бугаев. – М.: Унив. тип., 1904. 81. Лопатин Л.М. Философские характеристики и речи. М., 1911. 82. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. – М., 1930. 83. Лосский Н.О. Условия абсолютного добра. – М.: Изд-во полит.лит., 1991. – 368 с. 84. Малашкина М.М. Популярная история психологии. – М.: Вече, 2002. – 480 с. 85. Малиновский Б. Избранное: Динамика культуры / Пер. с англ. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – 959 с. 86. Мацумото Д. Психология и культура. – СПб: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – 416 с. 87. «Монадология» Лейбница. Перевод Евгения Боброва // Труды Московского психологического общества, т. 4, 1890, сс. 338-363. 88. Мордухай-Болтовской Д.Д. Философия. Психология. Математика. – М.: Серебряные нити, 1998. – 560 с. 89. Мороз В.В. Идея философско-математического синтеза в русской философии конца 19 – начала 20 веков. – М., 1996 (дисс.). 90. Мороз В.В. Идея философско-математического синтеза: историко-философский очерк. – Курск.: Изд-во КГПУ, 2000. – 124 с. 91. На борьбу за материалистическую диалектику в математике. Сборник статей. – М.-Л.: Гос. научно-техн. Изд-во, 1931. – 342 с. 92. Некрасов П.А. Вера, знания и опыт. Основной метод общественных и естественных наук: Гносеологический и номографический очерк. – СПб., 1912. 93. Некрасов П.А. и др. Николай Васильевич Бугаев. – М., 1904. 94. Некрасов П.А. Логика мудрых людей и мораль (ответ В.А.Гольцеву) // Вопросы философии и психологии, 1903, № 5. 95. Некрасов П.А. Московская философско-математическая школа и ее основатели. – М., 1904. 96. Некрасов П.А. Философия и логика науки о массовых проявлениях человеческой деятельности. – Сергиев Посад, 1903. 97. Огнев А.И. Л.М.Лопатин. – П., 1922. 98. Озе Я.Ф. Густав Тейхмюллер. – Юрьев, 1918. 99. Озе Я.Ф. Персонализм и проективизм в метафизике Лотце. – Юрьев, 1896. 100. Очерк персонализма Боброва Е.А. // Вопросы философии и психологии, 1891, кн. 9, с. 79-88. 101. Патнэм Х. Философия сознания. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. – 240 с. 102. Перминов В.Я. Философия и основания математики. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 320 с. 103. Половинкин С.М. Значение точных наук для обоснования философского знания. – М., МГУ, 1974. 104. Половинкин С.М. Московская философско-математическая школа // Общественные науки в СССР. Сер. 3. Философия, 1991, № 2. 105. Половинкин С.М. Павел Александрович Флоренский: Логос против хаоса. – М., 1989. 106. Разлогов К.Э. Российское общество и культура на пороге третьего тысячелетия / Культурология и культуроведение: Концептуальные подходы, образовательная практика: Материалы научно-практического семинара. – М., 1998. – 249 с. 107. Розин В.М. Культурология: Учебник. – М.: Гардарики, 2004. – 462.с. 108. Русская философия. Малый энциклопедический словарь. – М.: Наука, 1995. – 624 с. 109. Сапронов П.А. Культурология: Курс лекций по теории и истории культуры. – СПб.: Издательство «Союз», 2003. – 560 с. 110. Смирнов В.М., Яковлев В.Н. Физиология центральной нервной системы. – М.: Академия. – 352 с. 111. Советский энциклопедический словарь. – М.: Сов.энц., 1990 – 80000 статей. 112. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. – М.: 1992. 113. Справочник по математике (для научных работников и инженеров). Г.Корн, Т.Корн. – М.: Изд-во “Наука”, 1977. – 832 с. 114. Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов вузов / Сост., ред. и вступ. ст. Б.С.Ерасов. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 556 с. 115. Тейхмюллер Г. Бессмертие души. – Юрьев, 1895. 116. Тейхмюллер Г. Дарвинизм и философия. – Юрьев, 1894. 117. Тихомиров П. Математический проект реформы социологии на началах философского идеализма / Богословский вестник, № 2, 1903. 118. Уайт Л. Избранное: Наука о культуре / Пер. с англ.– М.: РОССПЭН, 2004. – 960 с. 119. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. – М.: Прогресс, 1986. 120. Флек Л. Возникновение и развитие научного факта. – М.: ДИК, 1999. 121. Флиер А.Я. Культурология в системе образования // Высшее образование в России, 1996, № 4, с. 39-46. 122. Флиер Ф.Я. Культурология для культурологов. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 492 с. 123. Флоренский П.А Пределы гносеологии // Богосл. вест., 1913, Т. 1, № 1. 124. Флоренский П.А. О Духовной Истине. Опыт православной теодицеи. (вып. 1-2). – М., 1913. 125. Флоренский П.А. Первые шаги в философии. – Сергиев Посад, 1917. 126. Флоренский П.А. Смысл идеализма. – Сергиев Посад, 1915. 127. Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. – М.: Изд-во «Правда», 1990. 128. Флоренский П.А. Общечеловеческие корни идеализма // Символ, 1984, № 11. 129. Фреге Г. Избранные работы. – М.: Дом интеллектуальной книги, Русское феноменологическое общество, 1997. – 160 с. 130. Цингер В.Я. Недоразумения во взглядах на основания геометрии. – М., 1884. 131. Цингер В.Я. Точные науки и позитивизм. – М., 1874. 132. Черемошкина Л.В. Психология памяти: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 368 с. 133. Шапошников В.А. Математические понятия и образы в философском мышлении на примере философии П.А.Флоренского и философских идей представителей Московской математической школы. – М., 1996 (дисс.). 134. Шульговский В.В. Физиология высшей нервной деятельности с основами нейробиологии. – М.: Академия. – 464 с. 135. Энциклопедический словарь. – М.: ГНИ Больш.сов.энц., 1954. – 40000 статей. 136. Юшкевич А.П. История математики в России до 1917 года. – М., 1968. 137. Якобсон Р. Язык и бессознательное / Пер. с англ., фр. – М.: Гнозис, 1996. – 248 с. 138. Ettingen A. Moralstatistik. 3. Aufl. Erlangen, 1882.