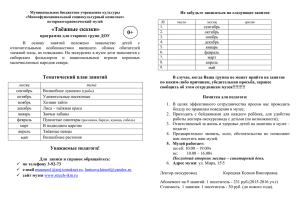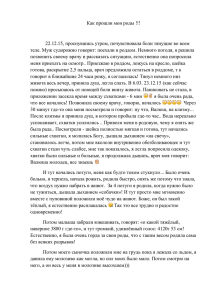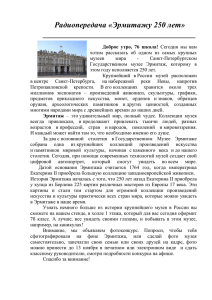Художник Т - bearstory.ru
advertisement
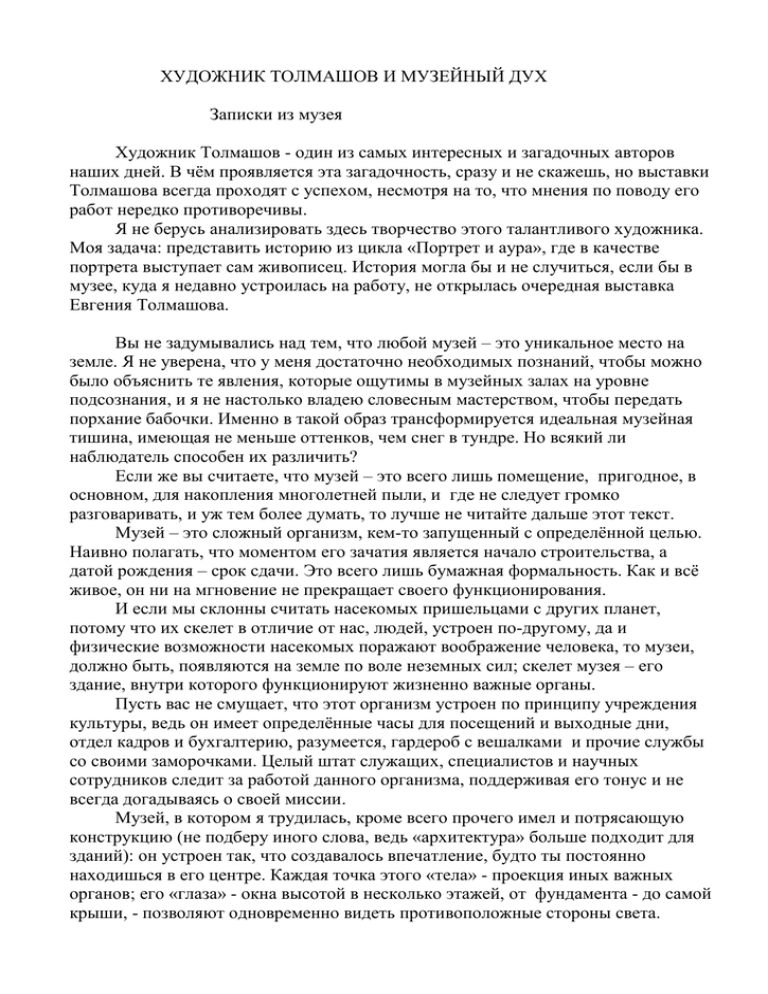
ХУДОЖНИК ТОЛМАШОВ И МУЗЕЙНЫЙ ДУХ
Записки из музея
Художник Толмашов - один из самых интересных и загадочных авторов
наших дней. В чём проявляется эта загадочность, сразу и не скажешь, но выставки
Толмашова всегда проходят с успехом, несмотря на то, что мнения по поводу его
работ нередко противоречивы.
Я не берусь анализировать здесь творчество этого талантливого художника.
Моя задача: представить историю из цикла «Портрет и аура», где в качестве
портрета выступает сам живописец. История могла бы и не случиться, если бы в
музее, куда я недавно устроилась на работу, не открылась очередная выставка
Евгения Толмашова.
Вы не задумывались над тем, что любой музей – это уникальное место на
земле. Я не уверена, что у меня достаточно необходимых познаний, чтобы можно
было объяснить те явления, которые ощутимы в музейных залах на уровне
подсознания, и я не настолько владею словесным мастерством, чтобы передать
порхание бабочки. Именно в такой образ трансформируется идеальная музейная
тишина, имеющая не меньше оттенков, чем снег в тундре. Но всякий ли
наблюдатель способен их различить?
Если же вы считаете, что музей – это всего лишь помещение, пригодное, в
основном, для накопления многолетней пыли, и где не следует громко
разговаривать, и уж тем более думать, то лучше не читайте дальше этот текст.
Музей – это сложный организм, кем-то запущенный с определённой целью.
Наивно полагать, что моментом его зачатия является начало строительства, а
датой рождения – срок сдачи. Это всего лишь бумажная формальность. Как и всё
живое, он ни на мгновение не прекращает своего функционирования.
И если мы склонны считать насекомых пришельцами с других планет,
потому что их скелет в отличие от нас, людей, устроен по-другому, да и
физические возможности насекомых поражают воображение человека, то музеи,
должно быть, появляются на земле по воле неземных сил; скелет музея – его
здание, внутри которого функционируют жизненно важные органы.
Пусть вас не смущает, что этот организм устроен по принципу учреждения
культуры, ведь он имеет определённые часы для посещений и выходные дни,
отдел кадров и бухгалтерию, разумеется, гардероб с вешалками и прочие службы
со своими заморочками. Целый штат служащих, специалистов и научных
сотрудников следит за работой данного организма, поддерживая его тонус и не
всегда догадываясь о своей миссии.
Музей, в котором я трудилась, кроме всего прочего имел и потрясающую
конструкцию (не подберу иного слова, ведь «архитектура» больше подходит для
зданий): он устроен так, что создавалось впечатление, будто ты постоянно
находишься в его центре. Каждая точка этого «тела» - проекция иных важных
органов; его «глаза» - окна высотой в несколько этажей, от фундамента - до самой
крыши, - позволяют одновременно видеть противоположные стороны света.
Небольшой неопознанный летающий объект, способный преодолевать любую
материю, проникнув в одно из таких окон, спокойно пролетит под потолком и
вылетит в другое, никем не замеченный.
Все музейные лестницы и особенно лифты ведут «вниз» и «вверх»,
подозреваю, что этажи эти безграничны. Даже под самой крышей имеется
железная лестница с площадкой, которая демонстративно оканчивается запертой
дверью; всё это напоминает театральную декорацию, волнующую воображение:
ведь если подобная дверь имеется, значит, кто-то её должен когда-нибудь
открыть? А когда я думаю о подземелье, которое находится ниже уровня
разветвлённых музейных подвалов, у меня учащённо стучит сердце. Разве не туда
ведут разинувшие свои пасти широкие трубы, притаившиеся в углах
таинственных коридоров и непонятно для каких целей предназначенные?
Жизнь музея подчиняется своим законам (тут я, конечно, не имею в виду
определённые правила для посетителей и сотрудников учреждения – это само
собой разумеющееся). В любое время суток она насыщена событиями, независимо
от того, желаем мы (то есть посетители и сотрудники) этого или нет.
Заметьте, я ещё и не упоминала о выставках, то есть о том, ради чего люди и
приходят сюда, в музей современного искусства. Если вы заглядывали в подобные
центры досуга с их неожиданными и эпатирующими инсталляциями,
знакомящими нас, в своей массе глубоких провинциалов, с новыми видами
творчества, которое вполне способно шокировать узко мыслящих,
неподготовленных технарей, а махровых домохозяек твёрдо убедить в том, как
низко пали нынешние нравы, то вы понимаете, о чём я говорю. ( Я едва
справилась с предложением, но вы так же должны понять, что искусство требует
особого языка, и владеть им не каждому по силам.)
Но редко кто готов объявить себя филистером, даже если такового в себе и
обнаружит. Напротив, он рассматривает новое искусство как железную лестницу
под крышей, ведущую непонятно куда. Конечно, в этом есть что-то сомнительное,
неоднозначное, но эта неоднозначность и притягательна, она как бы приобщает
пытающегося постигнуть непривычный вид творчества к клану тех, кто уже
постиг.
Новое искусство утверждает самоценность автора, его уникальность. Автор
уже не прячется где-то в тени, а отважно выходит на первый план. Он
предполагает, скорее, даже уверен, что способен сам по себе стать уникальным
явлением. Для этого ему надо лишь приблизиться к зрителю, чтобы тот мог до
него дотянуться. Творец должен предстать перед народом в качестве
произведения, и лучше всего обнажённым. Он открыт перед ними. Он
многогранен. Сегодня такой, а завтра может быть другим. Он не только создатель,
он сам – творение, заполненный лист или холст, и всё это в бесчисленных
вариантах, смотря как взглянуть.
Отбросьте всё лишнее, что мешает войти в образ. Правила заданы, вступайте
в игру! Ведь мы проживаем множество разных жизней, а не одну-единственную, и
кто разберётся, какую из них мы считаем своей «подлинной»? Те, кто регулярно
посещает подобные выставки, имеют возможность достаточно продвинуться в
своём художественном развитии.
Но вернёмся, наконец, к нашему художнику. Толмашову не надо было
обнажаться, чтобы зрители обратили на автора своё благосклонное внимание и
постарались понять его. Он вообще мог перед ними даже не появляться. Его
работы сами говорили за него всё, что он хотел сказать, и даже больше. Художник
экспериментировал с формой, а форма взывала к содержанию.
Приветствуя новое искусство, мы всё ещё подспудно традиционно тяготеем
к сюжету, и даже в портретах надеемся расслышать голос души: почему так,
каким образом, когда? А в случае русской души ожидаешь услышать и плач, или
даже вопль. И Толмашов это ожидание оправдывает, хотя он, на мой взгляд,
художник далеко – не традиционный.
Понять его – стать соучастником творчества, способным проникать в
глубины каждого холста и раздвигать слои материи с чудесной лёгкостью, чтобы в
живом, подсвеченном мраке предчувствуемых миров скорее угадать, чем
нащупать точку отсчёта. Она и могла бы быть началом сюжета холста,
бесконечного свитка истории, если бы таковую (точку) удалось отыскать. Как
было бы просто, листая образы, наслаивающиеся друг на друга, – эти фазы
развития сюжета, - приблизиться к обозримому настоящему и с помощью
нащупанных корней объяснить его содержание. Разве цель искусства – не истина,
скрытая в полу - или даже полной тьме?
Вот такие мысли переполняли меня, когда я смотрела работы Толмашова.
Но сюжет лишь поманил и исчез, оставив в памяти робкие зацепки. Человек
ещё не научился использовать скрытые возможности своего мозга. А эти линии,
эти мазки, этот цвет, ослепляющий и удушающий, – всё взывало к чувствам, и
чувства отозвались. Однако как сопрячь это с фразами, приспособившимися к
сюжету? Мысли крутились, но верные слова всё ещё покоились на дне памяти.
Оказалось, что язык – весьма архаичное средство анализа предмета. И зауми в
этом предмете нет, и простота не так проста, как кажется, и способна вызвать как
восхищение, так и раздражение. Но где слова?
Вот уже и сам автор работ тихо появился на выставке. Его представили, и он
мягко вписался в мир своих картин. Собственно говоря, он и был посланцем этого
мира. Конечно, он не мог не заметить, что я им переполнена, и ожидал от меня
слов. Я и сама их ожидала, но они все не приходили, и тогда я стала искать
оправдание своей немоте.
В произведениях реалистических искали боль. Реализм признали методом
скучным и не способным быть объективным зеркалом действительности.
Концептуальное произведение может обойтись без боли, оно другое,
многоплановое. Не надо в нём выискивать правду. Её не требуется.
Действительность поменялась.
Наша действительность такова, что думать стало тяжело. Мысль становится
ленивой и постепенно отмирает. Не думать – вот задача каждого бросающего свой
взгляд на предмет искусства! Прими всё, как есть. Тем более, что слова ещё не
найдены и, может быть, совсем не найдутся.
Но чувства по-прежнему жили во мне, и, кажется, даже и не думали угасать.
В них обнаружилась таинственная связь с писателем Сологубом. Я смотрела на
картины Толмашова и ощущала, что мир прекрасен и понятен. Всё вокруг так
стройно, и мы в нём – эльфы. Так было, может быть, когда-то. Но стоило
появиться откуда-то паутине, и эта жалкая сеточка поколебала мировую
гармонию. Поползла ржавчина и разъела гладкую красивую поверхность мира.
Откуда взялись эти уроды? Неужели эльфы так безобразны? Я закрыла глаза,
чтобы не видеть глядящее прямо на меня моё отражение. Почему подобное
произошло?
- Ваши работы прожигают, - выдавила я, - что-то вроде излучения…
Художник, казалось, был удовлетворен моим мнением, он сам не отличался
многословием. И как-то так вышло, что с помощью междометий мы условились с
ним поговорить позднее на эту тему более подробно. Хотя несколько минут назад
я склонялась к тому, что не надо тратить свои силы на поиски нужных слов.
Это сейчас я так подробно расписываю все ощущения, касающиеся
творчества Толмашова, но тогда всё это приняло жутко хаотичную форму и
пронеслось в моей голове, казалось бы, бесследно. Что я скажу автору, когда он
придет ко мне? Вернувшись в свой зал, на место работы, я огляделась. Все на
месте. Никакого хаоса. Передо мной находилась библиотека, на полках стояли
крепкие тома классиков марксизма-ленинизма. На них пластами лежала тишина. И
это успокоило. Я отыскала обрывки старой афиши и принялась царапать на них
карандашом слова-сигналы. За каждой закорючкой таилась волна чувств, волны
эти смешивались, но разбираться было некогда, Грубыми стежками я укрепляла
свою память о выставке. Но тут мне помешали, и я сунула записки в последний
ленинский том. Пятьдесят пятый.
Зал, где должен был появиться Толмашов, представлял собой
законсервированный осколок времени, что было неудивительно для музея, и в
тоже время являлось диссонансом по отношению к современному искусству.
Здесь было чисто и просторно, а освещение зависело от времени года.
Проникающий сквозь огромные внешние и внутренние окна дневной свет,
добравшись до стен зала, тут же ими поглощался и послушно стекал под их
пунцовую обивку. Целые тюки сжатого света тоскливо лежали у подножия
гранитных стен, взывая к мощным, но быстро перегорающим электролампам.
Множество сияющих стёкол множество раз воспроизводили однажды
пойманное отражение, которое они перекидывали друг другу, как мяч, и было
странно заметить в каком-нибудь углу яркое пятно от предмета, который сам в это
время находился в недоступном глазу месте, иногда даже в другом зале.
Вентилятор, разгоняющий воздух, тщательно фиксировал утекающие мгновения
жизни. Но почему-то здесь она ассоциировалась с вечностью, и было не так
обидно слушать, как они перетекают из одного измерения в другое.
Бронзовый Ильич пристально смотрел на красный плакат, ратующий за
электрификацию всей России, и одобрительно отмечал, что красный плакат
победно повторяется в каждой грани стеклянной галереи. За ним, как ведомые
полки, плотной стеной стояли полки с томами его сочинений, подавляющие
нынешних школьников именно своим количеством. Розоватый отсвет падал на
каждый предмет экспозиции, придавая ему символическое значение. В одной из
этих книг хранились мои записки на обрывках старой афиши. Не было времени их
обработать, подумать над текстом. «Потом», - легковесно решила я.
Но, когда художник Толмашов неожиданно пришёл сюда, неторопливо
следуя за своей тенью, бегущей в стёклах, воспользоваться записками я не смогла,
потому что пятьдесят пятый том, буквально пять минут назад находящийся в поле
моего зрения, без всяких видимых причин исчез.
Я была слегка смущена этой деталью и смотрела на подошедшего
художника, как на фокусника, ожидая, что он вот-вот вытащит из своих полочнокарманных глубин исчезнувшую книгу. Лёгкость, возникшая в момент нашего
знакомства, уже улетучилась. Необходимо было разрядить обстановку, сделать её
более непринуждённой. Я уже собиралась скупо пожаловаться художнику, что всё
нужное в этом мире куда-то девается. Вот даже и листки с записями пропали. Но
тот хранил на лице непроницаемую загадочность, несколько даже
снисходительную, и мне показалось, что он связан с этим пространством, где
исчезают книги, более тесно, чем можно было ожидать. Все ничтожные
треволнения нашей суетной жизни разбивались где-то на уровне полового
покрытия, по которому мы с ним теперь шагали. Создавалось впечатление, что,
хотя Толмашов и идёт со мной рядом, он тем временем кого-то внимательно
слушает.
Наконец, он спросил, давно ли я здесь работаю?
Я обрадовалась возможности внести в предстоящую беседу лёгкость и
непринуждённость.
- Нет, недавно. Знаете, от слов устаёшь. Слов стало слишком много. Ужасно
то, что они почти ничего не значат, и…
Неожиданно мне пришло в голову, что именно мною слов было произнесено
уже немало. Но какое отношение всё вышесказанное имеет к моей работе? И чем я
должна пользоваться, чтобы выразить своё мнение о творчестве Толмашова, как
не словами? И я замолчала, не закончив фразы.
Тем не менее, Толмашов одобрительно кивнул, как бы подбадривая меня:
валяй дальше.
Но в этот момент кто-то произнёс несколько ворчливо, хотя и довольно
монотонно, так, словно пересчитывал подлежащие хранению музейные
экспонаты:
- Кого сюда присылают? А? Никто не может видеть поверх себя. Не с кем
побеседовать и некому руку пожать. Этим я хочу сказать: всякий усматривает в
другом лишь то, что содержится и в нём самом.
Впоследствии я восстанавливала первое впечатление от этого голоса. А
тогда я несколько секунд озирала пустынный (не считая нас с Толмашовым) зал
испуганными глазами. Может быть, кто-то туда прошёл, а я и не заметила?
Художник молчал. Его молчание вновь приняло оттенок некоторой
насмешливости.
Мы опустились с ним на два рядом стоящих пуфа. И это нас несколько
сблизило.
- Я тут пыталась написать.., - сказал мой голос, заметно утративший
прежнюю энергию.
И в надежде прояснить ситуацию я взглянула на динамик, находившийся
над нашими головами, под потолком. По нему обычно передавали информацию из
радиоузла музея.
Динамик тотчас же подтвердил мои подозрения и отозвался:
- ( Шелест бумаги) Вершки и корешки. Хаос и гармония. Прекрас и
безобраз. Мёртвые слова. Чудное тел и изъеденное жизнью лиц. Как у Варвар, жив
с Передон. Не застыв, а спор. Тьфу! Это что за писанинщик писал? Ибо он может
постичь и понимать его лишь в меру своего собственного интеллекта.
Я сидела на пуфике и чувствовала, что чувство раздавленности затеняет все
другие мои чувства. В этом странном словесном потоке я уловила свои
собственные слова-сигналы, доверенные мной лишь старой афише. Но сейчас они
представились мне довольно не выразительными по форме и донельзя жалкими по
содержанию. И всё это стало достоянием гласности в размере музея?
Тут я снова огляделась, ища признаки жестокого эксперимента в отношении
сотрудников, нарушивших корпоративную этику. Голос из динамика показался
мне в чём-то сомнительным.
Толмашов сидел, не двигаясь; выражение его лица было снисходительноотрешённое, то есть загадочное. Однако я поняла, что он слушал очень
внимательно.
- Интересно, - сказал он, обращаясь ко мне. – Может быть, и так.
«Может быть» оказалось единственным словосочетанием, за которое мне
хотелось уцепиться. Может быть, он имел в виду нечто совсем другое, а не жалкий
лепет по поводу его творчества? Может быть, я зря села на пуф рядом с автором
выставленных работ? И не стоит беседовать с ним на отвлечённые темы? Теперь
всё вокруг меня приобрело оттенок сомнительности.
- Я искала сюжет.., - начала я, отваживаясь на очередную попытку.
- Архиважно, - произнёс прежний сомнительный голос. – Отметая тысячи
лирических прикрас и изящных оборотов, которые беспрерывно осаждали мой
мозг, я поставил себе ни на йоту не отступать от сюжета. Нам остаётся последний
шаг: распространение нашего образа воззрения и на все те силы, которые
действуют в природе по общим, неизменным законам, согласно коим происходит
движение всех тех тел, кои, будучи совершенно без органов, для раздражения не
имеют восприимчивости, а для мотива познания.
Снова прошелестели страницы книги.
- Так-то, - удовлетворённо завершил свою речь невидимый собеседник.
Я заметила, что воздух в одном месте зала посветлел. Потом это
потеплевшее, словно подогретое изнутри разреженное «пятно» двинулось по
потолку, по стене и, заострив траекторию, внезапно оказалось в самом дальнем,
самом тёмном углу помещения, почти у пола.
Вскоре художник ушёл, мало прояснив ситуацию, а пятьдесят пятый том
вернулся на место. На полку.
Таким образом, я узнала об Ыыныче.
Именно узнала. Видеть его я ещё долго не могла. Конечно, подозрения о
том, что нечто подобное, скажем так, обитает в музее, в меня закрадывалось, и не
однажды. Но теперь это может утверждать всякий, кто прочитает мои заметки.
Кстати, об имени. Ыыныч ведь не представлялся именно так: «Ыыныч». Это
уже моя русифицированная версия. Сам себя он упоминал, но скороговоркой и
совершенно неразборчиво. Выходило так: эх ты, ы-ы-ын! И дальше - смягчённый
звук вроде слабого прицокивания. Вот и разберись: кто такой?
Хотя Ыыныч первое время и обнаруживал-то себя только с приходом
Толмашова, а я для него как бы и не существовала, моя жизнь несколько
осложнилась. Я уже догадалась, что он поглощает чужие мысли, превращая их в
кашу. Как уж он разбирается в этой каше – ещё предстояло выяснить. Во всяком
случае, находясь на работе, я опасалась, что Ыыныч в любую минуту может
высмеять меня за очередные «вершки-корешки». По этой причине я пренебрегала
пуфами, а равно и стульями, особенно в зоне динамика. И вообще старалась
держаться на чеку. То, что он увлекается философами и поэтами, ничуть меня не
удивило, ведь зал, где я про него впервые узнала и который он, скорее всего,
предпочитает другим, требовал серьёзного осмысления жизни. К тому же я
собственными глазами убедилась, что им был востребован пятьдесят пятый том.
Может быть, остальные тома он уже прочитал и теперь с помощью других
мыслителей намеревался полемизировать с вождём мирового пролетариата?
Поневоле я начала просматривать подходящую литературу и обнаружила,
что Ыыныч нередко цитирует Шопенгауэра. Но с помощью этого философа
разобраться в природе Ыыныча не так-то просто. Мыслитель Артур отрицал
объективное существование материи. Выходило, что всё природное и телесное не более чем мираж. Само тело человека вместе с мозгом – всего лишь
собственное представление человека. Но он же (Ш.!) допускал, что сознание – это
продукт деятельности человеческого мозга.
Плохо то, что разбираться во всём этом мне предстояло в одиночку. Я могла
только смутно догадываться, какие отношения связывают Толмашова и Ыыныча.
А разговорить Толмашова на эту тему мне представлялось совершенно
невозможным. Если бы Ыынычу вздумалось обратиться к художнику такой
фразой: «Друг мой Евгений, об одном тебя прошу: не говори красиво», то её
можно было бы расценить как насмешку. Евгений до того скуп на слова, что,
казалось, их надо было у него выпрашивать, впрочем, без особой надежды.
Между тем, становилось понятно, что от основного вопроса не уйти. Кто ты,
Ыыныч?
Чтобы окончательно не запутаться в столь сложной проблеме, я решила
обратиться за помощью к русскому поэту. Когда Толмашов в очередной раз
пришел к нам в зал (подразумевалось, что невидимый Ыыныч уже присутствовал),
я зачитала, как бы невзначай, одно место из книги в слабой надежде вызвать
дискуссию:
«Представить себе можно только то, что есть в нас или вне нас. Ни о чём
другом не может возникнуть даже самое смутное подозрение. Стихийных духов в
природе нет, следовательно, они часть нас самих или, вернее, наши истинные
образы, какими они являются умеющему смотреть. Это наши собственные души,
которые то вместе с воздухом обтекают мир, невинно прикасаясь ко всему, то
зыбко волнуются, всегда устремляясь вверх, подобно огню, то, как гномы, ищут
красное золото в самых чёрных глубинах мысли».
Эта встреча оказалась самой короткой из всех состоявшихся. Из моих
собеседников никто не возразил. Толмашов и без того не особенно разговорчив, а
тут просто ушёл, сославшись на неотложные дела. Ыыныч же затаился так, что я
его совсем не ощущала. Я подозревала, конечно, что он обитает где-то здесь,
рядом, но он молчал, презирая меня, а уж голос тем более не подавал.
«Обиделся», - удручённо размышляла я, не представляя, как исправить
положение. Правда, книга поэта, которую я легкомысленно отложила в сторону,
тоже вскоре исчезла, как и пятьдесят пятый том, который то обнаруживал себя на
полке, то снова пропадал. Я поняла, что Ыыныч очень плотно работает с
литературой, и зауважала его. Благодаря моему, в некотором роде, знакомству с
Шопенгауэром, я позаимствовала у философа некоторые ценные мысли. Одна из
них: вызвать у кого-либо любовь и уважение одновременно трудно. Приходится
выбирать. Но уважение приносит больше удовлетворения: оно объективно, тогда
как любовь субъективна.
Настроение у меня после этого повысилось. Может быть, Ыыныч проникнет
в мои мысли, узнает, что я его уважаю, и несколько смягчится? Некоторое время
тот по-прежнему держался от меня на расстоянии, а когда произносил свои
монологи, заставлявшие трепетать, то я понимала, что адресованы они не мне, а
художнику Толмашову.
Но тут произошли события локального характера, важные только для моей
истории.
У меня появились две версии настоящего имени Ыыныча и, следовательно,
его идентификации. Его могли звать Эль Ынанчы, что означает представитель
государства, или же Айыы – добрый дух, помогающий людям. Возможно, какимто образом, он мог носить сразу два этих имени, одно он присвоил себе сам
(догадайтесь, какое!), а другое ему дали люди из Среднего мира. Таким образом,
Ыыныч – один из духов, в которых верили древние сибирские тюрки?
Тем временем художественная выставка Толмашова, прошедшая с большим
успехом, закрылась. Книга отзывов могла поднять на ноги и заставить поверить в
себя даже самого сомневающегося художника, каковым Толмашов, на мой взгляд,
вовсе не являлся. И если Евгений во время работы выставки приходил к нам
довольно часто, то по её завершении он стал это делать реже. А потом и совсем
пропал на некоторый период. По слухам, готовился к проведению следующей
выставки в другом месте. Всё это свидетельствовало, что он - художник
востребованный. И у него дел невпроворот. А вести бесполезные разговоры он
вообще не расположен.
По этой причине Ыыныч (я так и продолжала его про себя называть) решил
быть снисходительнее и несколько изменить своё отношение ко мне. Ведь ему
некому было излить свои накопившиеся за долгое время переживания, то, что у
людей зовётся душевными муками. А я казалась ему, хотя и бестолковой
(присылают же таких!), но, в общем-то, безвредной. Подозреваю, что и с именами
я не пролетела, о чём Ыыныч, несомненно, узнал.
Словосочетание «долгое время» выбрано не зря. Я не могу знать, в каких
единицах измерять это время. Вряд ли десятками лет? Может быть, сотнями, а,
может быть… Впрочем, не стоит гадать. Главное, мы с ним несколько сблизились
(хотя и не сидели рядом на пуфиках), если подобный глагол применим к духу,
каковым я, теперь уже обоснованно, его и считала. После того, как
материалистическая платформа заколебалась под нашими ногами, впрочем, как и
вся наша жизнь, многие люди поверили в духов.
И тут случилось главное: я его увидела! Первая мысль, какую вызвало это
событие, подрывала моё самомнение: «Неужели я настолько не оригинальна?» Не
знаю, каким виделся Ыыныч Толмашову с его глазами художника и ярким
образным мышлением? Наверное, всё-таки не таким, как мне. А я различила лишь
несколько бесцветных волосков на голове и эскизно крохотную фигурку ростом с
ребёнка - младшего школьника, состоявшую из пятен и точек, хотя, в целом,
облик по некоторым признакам должен был принадлежать незлобному старичку.
Ыыныч даже доверительно сообщил мне, что память в последнее время (в
какие-то полста лет или больше?) стала подводить его, и он начал забывать
правильное произношение собственного имени, тем более, что мало кто
обращается к нему по имени. Всё это – следствие уединённой жизни. Но о своём
происхождении Ыыныч ничего конкретного сообщить не мог. Скорее всего, в
социальном плане он – сирота. Я чувствовала это.
Последние двадцать лет Ыыныч живет здесь, в музее. Он очень
коммуникабельный, никому не вредит, не мешает, на глаза не лезет, распорядок
трудового дня соблюдает, то есть не исчезает из музея неизвестно куда и в то же
время никого не шокирует. Бывают некоторые нарушения в его деятельности,
скажем так, отклонения от нормы. Но у кого их не бывает? Компьютеры и те
ошибаются. А Ыыныч – хороший сотрудник и старожил, несмотря на то, что он
иногда может позволить себе « ночные оргии». Он даже запечатлён на давнем
снимке, среди строителей этого уникального здания, чем очень гордится.
- Ну, видишь? Вот же я. Смотри-смотри, моложе был: сразу и не узнаешь.
Позже я неоднократно вместе с Толмашовым просматривала эти снимки,
выискивая светлые пятна и тёмные точки, чтобы оттолкнуться от них и
восстановить образ Ыыныча. Но, увы… Может быть, фотографии выцвели?
Кстати, они не хранятся где-то в шкафу для внутреннего пользования, а
размещены в специальном альбоме для посетителей. Можете полистать, вдруг
кто-то из вас обнаружит там Ыыныча.
Когда я узнала о его сокровенном желании, которое являлось одновременно
и мечтой, и конкретной целью, которую нужно было достичь уже в ближайшие
годы, мне многое стало ясно. То есть объясняло его поведение.
Ыыныч хотел выйти на пенсию.
- Да зачем это вам? – неожиданно вырвалось у меня, о чём я жалела. – Вы и
так будете здесь спокойно су… жить.
Ыыныч, похоже, обиделся. Он внезапно пропал, погасил воздух, стёр свои
точки и волосинки, а потом засвистел, как закипающий чайник, запыхтел и
вознёсся. То есть просеменил где-то у меня над головой. По-моему, он даже
перевернулся в воздухе: я на мгновение увидела колебание его волосинок,
промелькнули стремительной волной чёрно-белые пятнышки. Угол гобелена на
стене ни с того, ни с сего приподнялся. Ну, это уж форменное хулиганство!
Раньше такое Ыыныч себе не позволял. А если бы увидели посторонние?
Выпустив пар, он успокоился и принялся терпеливо наставлять меня.
- Пенсия-то ещё никому не помешала. А я ведь ветеран. Как никак с первых
дней тут. Сколько уж народу помёрло за это время! А я вот живу. И мало того: всё
при деле. Что же я, как бомж какой, втихаря обитаю? Мне документ нужон!..
Последнее предложение Ыыныч просто прокричал, повысив голос. Я была
потрясена его базарным языком и не нашлась, что ответить. И это произнёс дух,
читающий мыслителей, обращающийся к труднейшим философским книгам,
самые сложные пассажи которых он способен запросто выдохнуть! Но,
поразмыслив, я поняла, что в умных книгах ничего не говориться о том, что
Ыыныча особенно волнует – о пенсии. Вот он и отыскал где-то самостоятельно
потенциального пенсионера, вложившего в своё чаяние всю страсть
бесхитростной души. Жаль, что в зале отсутствует российское радио. Иначе бы
Ыыныч уже сделал рекламу чиновникам, вещавшим о повышении пенсии, а
заодно и изобретателям средства от запоров.
Ради достижения своей цели Ыыныч взял на себя хлопоты ходить по
инстанциям. Когда я появилась в музее, эти неустанные хлопоты уже принесли
ему некоторые результаты: из инстанций поступило указание самоопределиться.
То есть разобраться с вопросом, кто он есть на самом деле. Дух так дух. В таком
случае, какие обязанности исполнял? Тогда и бумагу нужную выпишут.
(Я поняла, что наши с Ыынычем интересы совпали. Во всяком случае, я не
навредила ему своим любопытством, и если он и отторгал меня, то из гордости.)
Ыыныч, конечно, обрадовался и ещё неистовее принялся за дело. А дело
предстояло немалое. Он собирался заложить научный фундамент, который мог бы
стать твёрдой опорой для официального признания его, Ыыныча, существования.
Он и раньше от скуки изучал все книги, которые попадались ему, но сейчас налёг
на труды философов, в первую очередь тех, чьи произведения находились тут же,
в зале. Для этого никуда и исчезать не надо. Очень ему нравились «Тезисы о
Фейербахе» Карла Маркса и Фридриха Энгельса, в них он находил столь
любимое слово «дух».
Одно место из этой работы я даже выучила наизусть, так как Ыыныч
постоянно его цитировал:
- « На «духе» с самого начала лежит проклятие быть отягощенным
материей, кот выступает здесь в виде движущихся слоёв воздуха, звуков – словом,
в виде языка»
Меня смущало слово «кот». Я просила Ыыныча уточнить у «кота»
окончание: «орый» или «орая». Но тот сердился и заверял, что окончание у «кота»
вымарано. Тем более, что кот, обычный, усатый и хвостатый, тоже обитал в музее
и присутствовал во время его «ночных оргий», то ли в виде материи, то ли в
качестве родственного духа.
- Сплошной вздор – какое-то окончание, - объявлял Ыыныч. – Главное!
Верно по мысли! Я отягощён материей. Я же не могу появляться голым в столь
культурном учреждении. А у меня нет даже ватного пальто. И это в наших
широтах! Сложный рельеф определяет пестроту местных климатов и их
чрезвычайную контрастность.
Когда появился Толмашов после некоторого перерыва, я гордо поведала о
своих последних открытиях из жизни духов, и мы с ним принялись обсуждать, как
помочь Ыынычу в ускорении его дела. Это обсуждение резко сократило всё ещё
имевшее место расстояние между нами: ведь, по сути, мы располагали друг о
друге только скупыми сведениями, которыми обменялись. С учётом информации
из других источников мы владели мифами.
Я предлагала систематизировать некоторые, имеющиеся в нашем
распоряжении, труды, касающиеся материалистических и идеалистических
воззрений, и, опираясь на это, ходатайствовать о назначении Ыынычу пенсии. Но
Толмашов засомневался в правильности такого пути.
- Перед кем ходатайствовать? – уточнил он.
На этот вопрос мы оба не могли ответить, а Ыыныч не спешил приоткрывать
карты. Правда, он намекнул, что ведёт секретные переговоры с отделом кадров
музея. Есть у него и консультанты, обитавшие где-то в районе моста и, - что ещё
более удивительно! - островов. (Кто же там живёт? Или работает?) Но более
значительные фигуранты в этом деле должны оставаться за пределами нашего
воображения. Во всяком случае, он с шумом отъезжал на лифте вниз, в какие-то
таинственные глубины подвала, к неким силам, ещё более таинственным, чтобы
проконсультироваться у них насчёт своих дальнейших действий по делу о пенсии.
- Что за чёрт? – справедливо недоумевал недавно поступивший на работу
электрик. – Нигде такого не увидишь. Только в этом музее лифт сам по себе
движется. Сломался что ли?
Ыыныч мог бы и не привлекать внимания. Он прекрасно обходится
доступными ему средствами передвижения. Быстрее лифта получается.
( Передвижение на лифте Ыыныч называет словосочетанием «на малой
скорости».) Но надо соблюдать марку. Так солиднее. Что он, бомж бесприютный,
или юнец, чтобы вверх ногами летать? Дело-то к пенсии движется. Пора и о
возрасте задуматься.
День за днём, соприкасаясь с миром музея, - и той стороной, что была
повёрнута ко всем нам своей открытой ясной поверхностью, и той, что окутана
плотными сумерками сомнения, я всё больше узнавала Ыыныча, этого обитателя
якобы «тихой обители». Он водил экскурсии учащихся, присоединяясь к ним с
другого конца. Когда экскурсовод уже заканчивала что-то объяснять первой части
группы, вторая часть (самая нелюбопытная) только подтягивалась. И тут в дело
вступал Ыыныч.
- Конечно, знаете вы, дети, Не знать того вам был бы грех, Что много
чудных стран на свете, Но Индия чудесней всех.
Конечно, все оживлялись и крутили головами в разные стороны. Иногда ктонибудь ненароком появлялся, привлечённый шумом, какой-нибудь сотрудник, и
уже открывал рот, чтобы правильно разрулить ситуацию.
Но Ыыныч, ловко воспользовавшись паузой, объявлял:
- Первая задача, предстоящая опыту, заключается в том, чтобы освободить
нас от химер и ложных понятий, которые укоренились в юности. К студентам
строг И враг беспочвенных утопий, Я, господа, египтолог, Известнейший во всей
Европе.
Успех у подростков он имел несомненный, жаль только, что всё это время
он оставался в тени.
Также Ыыныч следил, чтобы цветы в горшках, украшавшие лестничные
марши, были вовремя политы. Как ему удавалось справляться с такой задачей –
для меня загадка. Он посещал также разные технические службы, чтобы дать им
анонимный совет в том или ином деле. Но вот к кому Ыыныч относился
настороженно, даже несколько враждебно, – так это к уборщикам всех мастей.
Дело в том, что он панически боялся всяческих перемен, реконструкций,
перепрофилирований, генеральных уборок и не генеральных тоже. Можно сказать,
он был типичным консерватором. В мире, где он обитал, должны были появиться
только два новшества: пенсия и пальто.
У Ыыныча имелась и своя «кладовка», о которой я вначале не подозревала.
В самом дальнем углу технического коридора хранились разные предметы, когдато заботливо подобранные им и ревностно сберегаемые. Разномастные, большей
частью блестящие, пуговицы, пластмассовая расчёска без нескольких зубов,
клубки бечёвки, применяемой при оформлении экспозиции, стеклянные бусинки,
баночка с поржавевшими гвоздями-кнопками, изолированный от туфли,
надломленный каблук, сломанный мобильник, свиток мятой-перемятой карты, и
даже несколько перегоревших лампочек. Там же имелась книга на неизвестном
языке без конца и начала, с загнутыми ветхими страницами в пятнах. Всё это
напоминало бы добычу хозяйки сорочьего гнезда, если бы самым ценным в этом
хламе не был внушительный слой пыльной паутины.
И этот хлам, даже не подозревая об его ценности, мы однажды безжалостно
удалили, руководствуясь добрыми побуждениями, во время стихийного
субботника. Каждый, кто принимал участие в уборке, ощущал себя добровольцем,
вступившим в зону риска. А зачем? Всё, что находилось в этом длинном
извилистом помещении, было надёжно скрыто от глаз посторонних. Пылившиеся
там картонки, фигуры, макеты, фантастические конструкции, - словом детали
былых выставок, частицы прожитой жизни, стояли как солдаты, преграждавшие
путь к богатствам Ыыныча, но никому не мешали. ( Может, кому-то и мешали, но
нам об этом неизвестно.)
И всё это за какие-то часы было решительно передвинуто, переставлено,
углы обметены, пол помыт. Сожалея, что не удалось включить пылесос из-за
удалённости элементов питания, я собрала нежно-пыльную паутину в мешок с
прочим мусором, удивляясь её необычности. (Она казалась пышной и была
длинной, как чулок.) Из всех участников уборки я проявила самое большое
рвение, ведь втайне я надеялась, что Ыынычу будет приятно прогуливаться по
прибранному помещению. Уж чистота-то никому не может помешать, так же, как
и пенсия. И меня удивляло, что он где-то странно примолк и даже не пытался
оценить нашу работу.
И вот, когда все разошлись по своим основным рабочим местам, объявился
Ыыныч. Тщательно, но быстро обследовал зал со всеми его закутками – и пропал.
Потом снова появился, проскакал вокруг меня светящимся пятном, замигал по
стенам, и вновь исчез. Я ждала, уже предчувствуя недоброе. Даже не обращаясь к
Шопенгауэру, я знала, что именно мостят благими намерениями. Наконец, лифт
поднялся на наш этаж и раскрыл свои двери. Но из них никто не вышел. То есть
вышел, но совершенно незаметно. Я догадалась, что это Ыыныч прибыл на малой
скорости.
- Вот ведь канальи! – бесстрастно сообщил он в своей обычной манере. Но я
уже угадывала в монотонности его речи проскальзывающие интонации. Сейчас
это прозвучало деловито, хотя и беззлобно. – Пока я посещал присутственные
места, куда-то дели два тюка моих воспоминаний. Что за контора?! Ни на кого
нельзя положиться. Когда гармония соблюдена и поэтическое произведение не
слишком материально и не слишком бесплотно, оно может представлять собой
ценность.
Остаток дня Ыыныч провёл в непонятных мне хлопотах. Уходя домой, я
обеспокоено вглядывалась в пустоту зала. Напрасно: дух всё ещё разбирался с
таинственной конторой.
Но через несколько дней он был вполне весел и по-прежнему деятелен.
Причину этого я узнала, случайно заглянув в наш недавно вычищенный коридор.
Под самым потолком, на выступах стен и труб, которые на данный момент лишь
выполняли функцию декорации, я узрела знакомые предметы. Стеклянная баночка
с кнопками, пожухший свиток карты, профиль надломленного каблука, клубки
бечёвки. Позже я обнаружила и книгу без начала и конца, угадала блеск знакомых
пуговиц и сверкание бусинок. Но самое главное – там покоилась выметенная
мной, а ныне свёрнутая в рулон пыльная паутина. Она-то и была вместилищем
воспоминаний, как я поняла позднее, что-то вроде флэшки: в каждом квадратном
миллиметре этой материи хранилась куча информации.
Но тогда всё это меня крайне озадачило, ведь я имела возможность
непосредственно убедиться, что мешок с мусором, который неожиданно оказался
большой ценностью, был спущен сотрудником музея на лифте вниз. И я
пребывала в полной уверенности, что его доставят к мусорным бакам. Что же за
контора ведала передвижением и сохранностью такого сомнительного богатства?
Ведь Ыыныч, как я поняла, был недоволен вовсе не моей, а её работой.
Впоследствии перед каждой запланированной уборкой Ыыныч прилагал
немалые усилия, чтобы перепрятать свои ценности в другой укромный уголок. Он
переправлял их куда-то в подвал, а после того, как опасность миновала, снова
возвращал в свой коридор.
Но многое для нас с Толмашовым ещё оставалось загадкой, и мы следили за
всеми передвижениями духа с живым любопытством, к которому примешивалось
некое корыстное чувство. Если у Ыыныча всё получится, может быть, и нам пойти
по этому же пути и чего-нибудь попросить для себя?
Как вскоре выяснилось, музейный дух бывал не только в инстанциях и
присутственных местах. Его сковывал одеревеневший язык библиотек, которым
он пользовался; в целях обогащения этого языка живыми интонациями и
обрастания классических мыслей зелёными побегами актуальнейших проблем, он
исчезал из культурного учреждения и «ходил в массы».
Надо признать, со временем (продолжительность которого не установлена)
Ыыныч всё больше приобретал некоторые людские привычки, например, он стал
ценить маленькие житейские радости. Может быть, в этом «повинны» поэты,
книги которых попадались на его пути? А узнала я об этом так.
Однажды пришёл Толмашов и по известным ему одному причинам понял,
что Ыыныча на месте нет.
- Купается? – невозмутимо уточнил он.
Я вытаращила глаза, даже не подозревая об этом пристрастии духа.
Вскоре явился, в полном значении этого слова, Ыыныч. То есть вокруг
ничего не произошло, просто воздух в одном месте посветлел, словно смелый луч
раздвинул сумерки, обыкновенно обитающие в нашем зале во второй половине
дня. Потом этот луч продвинулся дальше. Пахнуло дождём, повеяло сыростью.
Я напрягла зрение и с удовлетворением отметила мелькание точек в разных
углах помещения: за стёклами и стендами, вдоль стен, причём, на разной высоте.
Ыыныч в этот раз уподоблялся полтергейсту, то есть шумел как никогда. Стёкла в
рамах слегка позванивали, что-то потрескивало в сложной системе проводов. За
тонкой стеной в техкоридорах завыли трубы. Самая яркая лампочка, неожиданно
вспыхнув, тревожно замигала. От неожиданного дуновения нежно вспархивали
предметы экспозиции – бумажные листы.
Наконец, Ыыныч решил «официально» заявить о себе.
- Как странно! Где я? Что за бред? Ага! Я ставлю три червонца, Что наконец
я вижу свет Земного ласкового солнца. Бедность в старости – большое несчастье.
Перехожу к моей особе. Из чего я состою? - спросил он голосом динамика.
Вопрос застал нас врасплох.
- Из эктоплазмы, - после некоторого замешательства неуверенно
предположила я. Во всяком случае, как я предполагала, из неё состоят
привидения.
- Чудовищная глупость! – объявил динамик. – Я состою из счастья. У меня
инфлюэнца. Всего рассказывать не буду, Скажу: там ангелы парят, Там бродят
демоны повсюду И по-людскому говорят.
Тут неожиданно для этого часа суток появился с обходом начальник по
хозяйственной части. Он подозрительно оглядел зал, всегда такой торжественночистый, с блестящими стёклами и светящимися экспозициями, и сказал
полувопросительно:
- А я думал – у вас экскурсия. Что-то шумно…
- Это ветер, - поспешила заверить я, всем своим видом стараясь показать,
что у нас всё в порядке.
- Ветер, - задумчиво согласился начальник, чем-то смущённый. – Надо же,
какой сквозняк гуляет!
Потом посмотрел на пол:
- Ковролан совершенно мокрый. Даже сыростью пахнет.
- Так дождь же, - простодушно объяснила я. – У посетителей обувь сырая.
Когда начальник ушёл, Толмашов сказал осуждающе:
- Не стоит так рисковать.
- Кто не рискует – не пьёт шампанское, - отозвался Ыыныч на сей раз
громким шёпотом. – Вода – удивительное создание природы. Длина Енисея –
четыре тысячи километров. На его берегах и притоках проживают два миллиона
человек. Промок изрядно. Пожалуй, я должен обсохнуть.
Потом он рассказал нам, в каких «массах» успел сегодня побывать. Может
быть, вас удивит, но в течение всего одного дня он сходил на школьный утренник,
участвовал в открытии частной картинной галереи, стоял в пикете у здания
администрации, посетил две презентации, навестил своего знакомого вахтёра в
офисном здании, отметился на любимом пароходе, наведался к мосту и - в
завершение насыщенной программы - искупался в Енисее. Теперь ему предстояло
закусить подогретой сосиской у комелька.
Я удивилась, как можно за это время так много успеть?
- Жить стало чертовски трудно. Сижу мало, а бегаю много. Поживите с моё,
- удовлетворённо ответил дух. – Следовательно. Необходимо смывать водой свои
жизненные впечатления.
Я выразила опасение, что подобные отлучки и их последствия, то есть
нарушения трудовой дисциплины, отрицательно скажутся на результате его
хлопот в деле получения пенсии.
Ыыныч испугался, он даже на некоторое время примолк, а потом по-детски
неуверенно произнёс:
- А никто не узнает…
Как оказалось, в этот раз «хождение в массы» оказалось особенно
плодотворным: Ыынычу удалось добыть для своего научного фундамента
особенно редкий камень, можно сказать, экзотический – частушку. Только он не
решил ещё, приобщить ли её к философским работам, как образец народного
труда, или сохранить в естественном варианте, то есть спеть вживую.
Мне никогда не доводилось слышать частушек о духах, поэтому я с
большим желанием ознакомилась с народным творчеством. Не знаю, что ожидал
Толмашов, но куплет оказался таким:
- Ой, спасибо Горбачёву,
Ой, спасибо Ельцину.
Кто ленился, кто трудился –
Всем сравняли пенсию.
Я заметила вслух, что о духе здесь даже и не упоминается, и частушка не
первой свежести. Толмашов сказал, что все философские труды для научного
фундамента – совсем уж не свежие, и ничего. Но оба мы воспротивились, чтобы
Ыыныч исполнил её в отделе кадров из-за опасения, что некоторая её
двусмысленность может только навредить делу о пенсии.
Тут только я вспомнила про комелёк и хотела уточнить, что Ыыныч имел в
виду. Но он опять исчез. Увидеть его позже – не получалось: музей закрывался.
Но я всё-таки приоткрою вам тайну. В некоторых вопросах Ыыныч был
удручающе старомодным. Например, свои впечатления он смывал исключительно
в одеждах. Что это были за одежды – мне так и не довелось увидеть. Но они были.
Ведь Ыынычу требовалось их просушивать. Так как с батареями в нашем музее
обстояло неважно – либо их совсем не было, либо они имелись, но не грели, либо
они имелись и грели, но в достаточно многолюдных местах, приходилось
пользоваться электрообогревателем.
Если купание завершалось после рабочего дня, то есть, когда музейные залы
для посетителей, а также для всех остальных, оказывались уже закрытыми, а
электричество вырубленным, Ыыныч отыскивал обогреватель внизу, в какомнибудь кабинете или подсобном помещении. Потом он ходил в кафе за сосиской –
неважно, что оно уже закрылось – и подогревал её разными способами, чтобы
поглотить за чтением пятьдесят пятого тома. Если сосиски не удавалось
раздобыть, то он обходился одним, но большим, пельменем, который и нёс,
наколов на вилку, к обогревателю. Это и был «комелёк».
Но случалось, что смыть впечатления требовалось в разгар рабочего дня.
Тогда Ыыныч сушился прямо в зале.
Все начинали бегать, водили носами:
- Пахнет жжёным. Где-то что-то горит.
А электрики, чертыхаясь, делали лишнюю работу, осматривая
оборудование.
Но не обнаруживали ничего чрезвычайного. К тому времени невидимая
одежда на Ыыныче подсыхала и тревожный запах исчезал. То есть он
превращался в запах ароматизированных свечей, которые на самом деле зажигали
в музее. Сам Ыыныч отрывался от обогревателя, у которого, даже не сидел, а
возлежал, так как волосёнки и точки периодически появлялись на уровне пола, и
шёл по своим делам. В разные присутственные места и инстанции. Его-то работу
за него никто не сделает.
Может быть, у читателей создастся впечатление, что всё это время музей
пустовал. Отнюдь. Народу в нём хватает. Даже если совсем нет посетителей, что
бывает чрезвычайно редко, сотрудники снуют туда-сюда. Такая уж у них работа.
И никто никогда не заикнулся об Ыыныче. Да и он впросак не попадает.
Ситуацию сечёт на ходу. Висит себе где-нибудь под потолком, да помалкивает.
Если и проронит невзначай слово, спишут на кого-то другого. Ну, хоть на
электрика, меняющего лампочки на высоте. В благодарность за услугу Ыыныч
придержит падающую лампочку, инструмент на лету поймает и обратно в карман
электрику засунет.
Словом, за самого музейного духа я не опасалась. Куда больше волновало
меня периодическое отсутствие пятьдесят пятого тома. «Тезисы о Фейербахе» и
Шопенгауэра Ыыныч читал для дела, а семейную переписку Ильича,
составлявшую последний том его сочинений, - для «души», подразумевая таковую
у духа. Если книги на полке не оказывалось, значит, она у Ыыныча. Но что мне
делать, когда книги хватятся?
Тем временем Толмашов был занят устройством своей очередной выставки,
и мы с Ыынычем давали ему разные советы. Но время поджимало, и Евгению
требовалась конкретная помощь.
- Я не могу. Я всё это время работаю, - с сожалением сказала я.
- Так всегда. Где интеллигенция – там вакханалия. Говорят одно, а делают
другое, - выдал Ыыныч. – А у меня по-прежнему нет ватного пальто. Зимой
бывает инверсия температур, когда в горах теплее, чем в межгорных котловинах.
Ыыныч нередко ругал интеллигенцию, что, впрочем, неудивительно, зная
отношение к последней вождя мирового пролетариата.
Я приняла твёрдое решение разбиться в лепёшку, но раздобыть для него
пальто. (Для Ыыныча, естественно.) Разбиваться даже и не требовалось. Вся
добыча состояла в том, что я просто вытащила в одном доме из стопки почти
новых носильных вещей, которым не находилось применения, всего одну.
Чудесное детское пальтишко. Я встряхнула этот предмет одежды с лёгким
сердцем. По размеру он как раз подходил музейному духу. И я принесла это яркое
и лёгкое пальтишко Ыынычу. Мне казалось, что оно ему должно понравиться.
- Недурно, - одобрил тот, витая вокруг меня. Я видела его волосинки и
точки, но не могла определить по ним его настроения. – А оно на вате?
- Оно на синтипоне…
- Страшная дрянь, - немедленно отверг пальто Ыыныч, потеряв к этой теме
всяческий интерес. Он, видите ли, хотел, непременно, посконно-ватное.
Мне стало обидно за свою беспомощность в этом мире и даже
определённую жалкость своего положения. Ни на одно, даже самое
незначительное, событие я не могла повлиять настолько, чтобы изменить его или
сдвинуть в какую-то сторону.
Хотя я пообещала поспрашивать пальто ещё у кое-кого, но голос мой звучал
почти безжизненно. ( Я даже и представить не могла, где можно найти требуемую
одежду, лишённую даже намёков на оригинальность и кокетство, столь жалкого
размера?) Но тут и Ыыныч сжалился. Нет, он вовсе не был бездушным злодеем.
- Третьего дня, - небрежно сообщил он, помогая мне выбраться из
неприятной ситуации, - я тут устроил небольшую ночную оргию.
- Да вы что?!– искренне ужаснулась я, в тот же миг забыв про неудачу с
пальто. В моём представлении оргия олицетворялась с кутежом, шабашем и даже
ещё кое с чем покруче. – А как же пенсия? Вас же засекут за этим делом?
- Ха! – ответил этот поистине волшебный дух.
И принялся рассказывать, как всё это происходило. Вырисовывалась такая
картина.
Ночью, когда внутри музея хоть глаз выколи и только луна чуть-чуть
подсвечивает в окна, слегка желтоватая; все двери заперты, и никто не зайдёт
сюда до утра, если не произойдёт ничего чрезвычайного, он позволил себе
порезвиться. Он пробрался (на самом деле взлетел и проник, как луч света) в
запертую кабинку под самой крышей. Ему не стоило труда выбраться и на крышу.
И даже подняться ещё выше, к самым высоким инстанциям, которые находятся
далеко за пределами музея, но путь к которым проходит через секретную кабинку,
оттого и запертую. Ыыныч однако – из тех, кто не ищет лучшего, когда ему и так
хорошо. Это рискованно. Можно потерять и то, что имеешь.
Из этой кабинки, так же просочившись, он кинулся вниз, в оглушающую
пустоту и темноту. Из мрака ему навстречу величаво выступали колонны,
предметы интерьера, лукаво подсвеченные луной. Как скала, темнела
скульптурная группа. Восковая фигура протягивала руку, словно хотела ухватить
его и удержать, или же сама унестись за ним следом.
- Э-э!!! - с возгласом и свистом Ыыныч рассёк пространство. Так ему
показалось. На самом деле он проплыл, как лист, раскачиваясь от одной стены до
другой. И чуть выше пола завис, подрагивая, как в гамаке. Ничего чрезвычайного
не произошло. Охрана ничего не заметила, ничего не услышала. Да и что
слышать–то?
Только кошка негромко мяукнула, хитроумно пробравшись сюда из подвала
сложными путями в поисках мыши. Но испугалась собственного голоса и
спряталась внутри подиума. Мышь, однако, расслышала этот кровожадный вопль
и, дрожа от ужаса, кинулась к секретной норке в стене, где она жила, и тут же
забаррикадировалась.
Ыыныч ещё немного полетал, создавая вокруг «кошмарный бардак». Потом
приземлился и решил побродить среди экспозиций. Представьте, что будет на
утро, когда обнаружится, что все провода перепутаны, что-то передвинуто, что-то
совсем задвинуто, и явно всё не так, как было вчера вечером. Ужас! Ужас! Свет
луны просто зловещий. Если бы кто заглянул ночью в окно с улицы, то сразу бы
понял, что в музее что-то нечисто. Кто-то там бродит. Но никто не заглянул, и
хорошо, а то сразу бы упал с высоты от разрыва сердца. Ыыныч такого развития
событий совершенно не желает. Он не злодей. Хотя сам напуган изрядно.
Вот он пробирается тёмными лестницами и перед ним предстают вроде бы
давно изученные, но сейчас совершенно незнакомые лабиринты стен. Хорошо, что
электричество отключено, а то непременно бы что-то ожило, защёлкало,
зажужжало, засветилось, и Ыыныч не преминул бы угодить в расставленную для
него ловушку. Он даже фигуры обходит с опаской; несмотря на их многолетнее
знакомство и взаимное дружелюбие, лучше не рисковать.
Когда Ыыныч попадает, наконец, в свой укромный уголок, где его никто не
потревожит, он совершенно лишён энергии, растраченной им за одну только ночь
на разные безумства и треволнения. И в то же время он бесконечно счастлив.
«Оргия удалась на славу», - думает Ыыныч, погружаясь в паутину впечатлений,
чтобы поднакопить в себе сил, то есть соснуть.
Теперь представьте утреннюю сцену. Если вы думаете, что люди, придя на
работу и увидев, что провода перепутаны, срочно поднимут тревогу и, сбиваясь с
ног, примутся за поиски музейного духа, то вы неисправимый романтик. Одно из
двух. Либо они вообще не придадут этому значение: перепутаны, ну и ладно.
Либо, действительно, поднимут тревогу и тогда уж многим не поздоровиться,
потому что тревога выльется в форму объяснительных, докладных,
предупреждений, приказов и прочей бумажной суеты, к которой Ыыныч пока не
имеет никакого отношения. Ведь ему до сих пор не выдали никакой бумаги. Он
вне закона.
В общем, Ыынычу от своего хулиганства никакого удовольствия. Поэтому
ему и неинтересно заставлять дрожать ещё кого-то, кроме себя. Да и разве смог бы
музейный дух продержаться двадцать лет никем не замеченным, если бы он
позволял себе оставлять следы?
Приближалось ещё одно мероприятие, которое вселяло в меня тревогу.
Называлось оно «музейная ночь», и Ыыныч к нему деятельно готовился.
Собственно, из-за духа я и волновалась. Он собирался «обкатать» на аудитории
свою речь, фрагменты из которой нам удалось услышать уже в ближайшие дни. К
музейной ночи готовился не один Ыыныч. Весь музей напоминал в эту пору
растревоженный муравейник. Люди по нескольку раз пробегали свою стометровку
с неожиданной для них самих скоростью. Всюду, куда не посмотришь, можно
было наткнуться на группы студентов, напоминавших волшебников с их
палочкой, потому что буквально на пустом месте они пытались создать нечто
интригующее.
Самые разнообразные звуки - от лязганья железок до деловой перебранки
сотрудников - прорезали пространство музея. Гроздья воздушных шаров
чудесным образом расцветали в самых неожиданных местах, когда там
появлялись представители спонсоров. Человек из ресторана выискивал место для
холодильника, который должны были подвезти позднее.
Я ощущала, что Ыыныч в этой ситуации чем-то напоминает нахохлившегося
воробья. Он – в ударе, он активен, но, с другой стороны, в его размеренную жизнь
ворвалась суета, выбивавшая его из колеи. Поэтому он ведёт себя довольно
рискованно, болтается под потолком, почти над головами суетившихся людей, и,
едва те отходят в сторону, начинает вещать, как динамик.
- Производство идей, представлений, сознания первоначально
непосредственно вплетено в материальную деятельность и в материальное
общение людей, в язык реальной жизни. Но это не постмодернистская или
декадентская постановка с блужданием вокруг форм. Теоретически – невероятно
слабо; повторение чужих мыслей. Практически – оппортунизм. Основанием
такого радикального жеста стал интерес к базовым философским принципам
искусства, его зависимость не только от содержания и формы, но и от контекста…
Я понимаю, что это каша из «научного фундамента», который Ыынычу
вздумалось именно сейчас обкатывать. И слышу это не только я, но и другие.
Правда, на Ыыныча, кажется, совсем не обращают внимания – не до него. Но надо
что-то предпринять, чтобы исправить тревожную ситуацию. Я не могу придумать
ничего лучшего, кроме отправки тревожного sms-сообщения Толмашову.
Сообщение доставлено, но Толмашов не отвечает.
Ыыныч же и не думает умолкать:
- Мировоззренческое основание литературного текста – идеализм. Главная
задача на ближайший период – постижение сущности бытия. Обнаружена
своеобразная физическая сущность, которая называется отрицательной энергией.
Её можно математически описать как энергию, меньшую даже чем энергия
вакуума. Но, Боже мой, что было бы с нами в противном случае, если бы Мечту
настолько растлили и принизили, где искали бы мы спасения, мы, несчастные,
кому прах внушает отвращение и у кого одно прибежище – Мечта?
Раздался звук переворачиваемой страницы – и ровный бесстрастный голос,
словно бы пересчитывающий овец, продолжил:
- Отсюда вообще тяжесть физической жизни, необходимость сна и самой
смерти, так как под конец, при благоприятствующих обстоятельствах, покорённые
силы природы отнимают вновь у утомлённого постоянной победой организма
вырванную из-под власти их материю.
Студенты, в творческих поисках бродящие по залам, всё-таки обратили
внимание на звучащий текст и отреагировали по-своему: почему-то засмеялись.
Молодости вообще свойственно бездумное веселье: чтобы ни творилось рядом и
тем более ни говорилось – всё клёво. Но тут появился их творческий
руководитель. Вернее, появилась. Она критически отнеслась к постороннему
звуку, расценивая его как помеху творчеству юных.
- Прямо бедлам какой-то, - пожаловалась мне руководитель, - голова от
шума раскалывается. Ещё этот мегафон!
Я в это время судорожно набирала второе sms-сообщение Толмашову и
ничего не ответила. Толмашов тоже ничего не отвечал.
Ыыныч же размеренно продолжал:
- Всё содержание разнообразных моральных требований гедонизм сводит к
общей цели – получению наслаждения и избежания страданий. Свобода
прекрасного оплачена свободой безобразного. Свобода не демократична, а
аристократична. Свобода не интересна и не нужна восставшим массам, они не
могут вынести бремени свободы. Отказ от свободы духа во имя хлеба. А также
сосиски. В чём же мы видим эстетические и этические идеалы? Мыкаться по
разным присутственным местам – дело сугубо неприятное. Остаётся оставаться на
задворках культуры. Большое merci!
Наконец-то, он завершил своё выступление и тут же пропал. Наверное,
осознал, у какой опасной черты стоял, и предпочёл на время исчезнуть, ринулся «в
массы». И тут появился Толмашов с полученными от меня двумя эсмээсками. Он
не был встревожен, а лишь слегка удивлён, но это удивление не лишало
Толмашова его невозмутимой загадочности.
- Что вы хотели? – спросил художник.
- Ыыныч не в меру разболтался. Чтобы замолчал.
- А от меня? – уточнил Толмашов.
Я задумалась.
- Посоветоваться, - осторожно нащупала я нужную формулировку.
Евгений Толмашов кивнул. Он готов.
- Он всё время импровизирует, - сказала я. - Тут и философы, и теория
искусства, и поэты. Фрагменты. И вообще не поймёшь что. Театр абсурда. Ещё и
выдаст что-нибудь неожиданное.
- И что?
Я не ожидала такого вопроса и даже растерялась:
- Так, белиберда же. Каша.
- Да?!
Было видно, что сейчас Толмашов удивлён куда больше, чем когда получил
от меня два сообщения. Тем не менее, он сомневался, что белиберда представляет
для Ыыныча большую опасность, чем логически безупречный текст. Моя твёрдая
уверенность в этом была поколеблена. Но всё-таки я опасалась болтовни,
способной привлечь к себе внимание. Мы же не знаем, какие перлы вынес дух из
общения с массами. Все эти неожиданности таили в себе такую же массу
«крючков», на которые он мог попасться. Но помешать Ыынычу с выступлением
было не в наших силах. Мы ведь не в состоянии изолировать духа.
В этом Толмашов со мной согласился. А Ыыныча до сих пор не было. По
нашему залу уже бродили телевизионщики. Они пытались вытянуть у
сотрудников какие-нибудь байки о том необычном, что может быть в музее. Но
рассчитывать на успех им не приходилось.
Даже не поворачивая головы, я могла видеть движущуюся тень или
отражение противопожарного устройства, находящегося довольно далеко, у
невидимой отсюда двери. Система стёкол функционировала безотказно: их
зеркальная поверхность не давала ни одного шанса их пленнику уйти не
зафиксированным. Кроме того, она ловила огни. А ещё имела место глубина
изображений, таящая в себе бездну. Зазеваешься – затянет в …- ный мир без
названия. Но тут спасительную роль играли звуки. Они были многообразны,
неясны. Со скрытым источником. Но прорывались к нам вовремя, нарушая
опасную тишину…
Впрочем, в этот раз подобное не грозило. Мы попрощались с Евгением, и
он ушёл, сопровождаемый целой гирляндой сияющих шаров.
Мимо меня в который раз прошли работники, везя свою гремучую
нагруженную тележку. После них осталась приоткрытая дверь в коридор. Самое
интересное: возможный предмет интереса телевизионщиков, Ыыныч, стоял в
тёмном коридоре у этой двери. По времени, он уже успел смыть свои впечатления,
но из-за суматохи в зале не успел досушиться у обогревателя. Конечно, «стоял» он
условно, с сосиской или пельменем на вилке, ощущая дискомфорт. Мимо него
сновали люди, гремели тележки, их разгружали и нагружали. Но Ыыныч
совершенно никому не мешал. Его просто не видели. Я даже не знаю, вычленял
ли кто из темноты более светлое пятно, различал ли подвижные мерцающие
точки? Что если – да?
Мои опасения оказались не беспочвенны. Музейная ночь гораздо опаснее
всяких «ночных оргий», так как именно в это время убеждаешься, что имеешь
дело с уникальным организмом.
Спустя час после начала мероприятия я догадалась, что мы медленно
поднимаемся ввысь, несмотря на то, что билетная касса исправно работала и
входной дверью активно пользовались. Залитый светом музей плыл в звёздной
ночи, как маяк, балансируя между отрогами гор, межгорной долиной и зеркалом
вод в этой долине. Хотя, может быть, всё это плыло как частицы космоса, и
каждая частица несла в себе свой уникальный код.
Между тем, внутри музея-учреждения всё шло в соответствии с заданной
программой, распечатанной на твёрдой лощёной бумаге. Жизнь бурлила в каждой
клетке этого организма-корабля; на каждой площадке каждого этажа что-то
происходило. Гремела музыка, горели лампы, голоса сливались в один невнятный
гул. Пластиковые стаканчики, первоначально с безалкогольными напитками, по
мере опустошения с накрытых столиков неукротимо перемещались в мусорные
корзины. Каждый участник этой многочисленной тусовки отдавал своё тепло в
виде дыхания - и от этого в ещё недавно холодном зале вдруг стало очень жарко,
температура сразу подпрыгнула на несколько градусов..
Масса людей перемещались по сложной траектории в разных направлениях.
Это была стихия карнавала, который, как известно, имеет свою культуру. Хотя, в
силу должностных обязанностей, я находилась на одном месте, через некоторые
промежутки времени передо мной появлялись определённые лица, которых я уже
видела раньше. Отличить одних людей от других можно было лишь по их одежде;
в этой карнавальной ситуации люди уподоблялись бабочкам, ведь именно их
одежда – яркая окраска крыльев – привлекала внимание, выделяла из подвижной,
шевелящейся толпы, а вовсе не лица с индивидуальными, неповторимыми
чертами.
Я уже поняла, что в эту ночь, кроме обычных происшествий - краж,
потасовок, щекотливых ситуаций, когда можно упасть, получив ушибы, или
запачкаться в краске, - неприятных, но, тем не менее, объяснимых, можно
ожидать и нечто такое, что раньше никогда бы не пришло и на ум; а именно: я
опасалась, что музейные экспонаты могут зажить своей, обособленной от нашей,
жизнью.
Неяркие гобелены неожиданно могут зацвести, то есть не покрыться
плесенью, а дать живые бутоны, или на стене появятся большие мигающие цифры
неизвестного мобильника. И, конечно, я предполагала, что кто-нибудь из этого
кишащего по образу муравейника «бабочника» случайно попадёт не в ту дверь,
очутится в лабиринте подвалов, имя которым – вечность. Чем могли закончиться
такие блуждания, - видимо, оставалось тревожным вопросом не только для меня;
именно по этой причине музейные лифты и отключали. Но неисповедимы пути,
которыми мы идём. Однажды кто-нибудь поднимется на площадку с загадочной
дверью. Что он может увидеть там, открыв её?
Кроме всего этого, меня тревожило долгое отсутствие Ыыныча. Он
находился в недоступных мне местах музея, и я терялась в догадках, что там
происходит. И даже Толмашов не появлялся, чтобы прояснить ситуацию.
Но ни в этот раз, ни во все последующие ночи, проходившие на моей
памяти, не произошло ничего необычного. Никто не попал во временную
ловушку, то есть об этом известно не было. Насчёт экспонатов тоже не следовало
волноваться: свидетелей предостаточно, что ничего необычного в залах не
произошло, если не считать того, что сработал огнетушитель.
Глубокой ночью, когда все тусовщики переместились на цокольный этаж,
чтобы продолжить веселье до утра, и температура в опустевших залах снова упала
до привычной нормы, я столкнулась с Ыынычем. Мне пришлось вернуться за
забытой сумкой, свет ещё горел, и Ыыныч, невидимый, но очень хорошо
ощутимый, носился в пространстве и бормотал:
- Какой успех! Когда мы молоды, нам кажется, будто важные и
знаменательные в нашей жизни события и лица будут появляться при звуках труб
и литавр. То же самое относится к духовному производству, как оно проявляется в
языке политики, законов, морали, религии, метафизики и т. д. того или иного
народа. Да здравствует миф!
Очевидно, опьянённый этим успехом, он забыл об осторожности и
полностью отдался своему чувству восхищения собой. Я поняла, что всё прошло
хорошо. Может быть, даже очень хорошо. Я была неправа, а Евгений Толмашов
прав. Кто же станет во время столь шумного мероприятия углубляться в такие
дебри, как болтовня на отвлечённые темы, особенно в области философии и
искусства? Да и Шопенгауэр отмечал: у кого своего ума нет, тот и в другом его не
увидит. Я уверена, речь Ыыныча была встречена одобрительным гулом,
независимо от того, постиг ли кто ёё смысл или нет? Но кто знает, может быть, и
она когда-нибудь станет предметом будущих диссертаций.
Вот так Ыыныч потихоньку врастал в культурную жизнь музея и незаметно
перебирался с её задворок ближе к центру. Недавно у него появилось и пальто. Он
принёс его с мусорки. Теперь я вспоминаю, что определённо там болталось
несколько дней что-то похожее на этот вид одежды. Известно, что приличную
одежду редко заталкивают в мусорный бак, чаще выкладывают отдельно, но
рядом. Иногда даже заботливо вешают на плечико. Будущее ыынычево пальто из
каких-то соображений тоже лежало отдельно, хотя и прикидывалось чем-то иным.
Оно имело традиционный серый цвет, весьма почтенный возраст, и из него даже
проглядывали кое-где куски ваты. Но! Оно было просто пре-огромное!
Тем не менее, Ыыныч остался доволен. Его пальто по-прежнему никто не
видел, но оно было. А в этом пальто никакие студёные зимы, а также осени и
вёсны, даже в холодных музейных залах, уже не страшны.
Материально отягощённый, но и обогащённый своим пальто, он часто
выступал на различных музейных тусовках, оставаясь ярким анонимом, и, что
меня по сей день удивляет, никакой помехой ни для кого это не стало. Напротив,
его читательское любопытство, не говоря уже о «хождении в массы», обогатили
язык его текстов, что оценивалось слушателями, несомненно, положительно.
- Сознание {das BewuStsein} никогда не может быть чем-либо иным, как
осознанным бытиём [das bewuSte Sein], а бытиё людей есть реальный процесс их
жизни; в старости, однако, взгляд на прошлое показывает, что все они пробрались
без всякого шума, через заднее крыльцо и почти незаметно, - утверждал Ыыныч,
смешивая разные продукты для своего варева, но, как ни странно, оказывался
прав.
У меня даже закралась дерзкая мысль, что, доведись Ыынычу попасть на
какой-нибудь философский семинар, где произносятся жутко умные речи, он бы и
там оказался не из самых последних. Одно смущает. Все современные философы,
несмотря на свой откат с рельсов ярого материализма, очень любят подпитывать
свой мозг водкой и колбасой, что и говорить, продуктами малодуховными. А
Ыыныч, хоть и предпочитает из всех колбасных сосиску, всё-таки насчёт водки –
ни-ни…