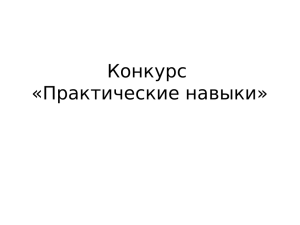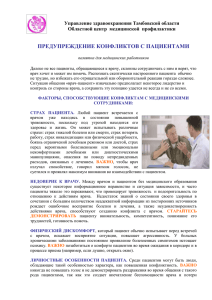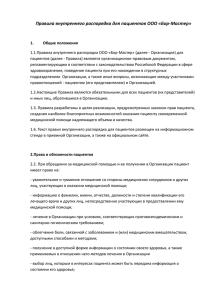Субъективность, объективность и триангулярное пространство
advertisement
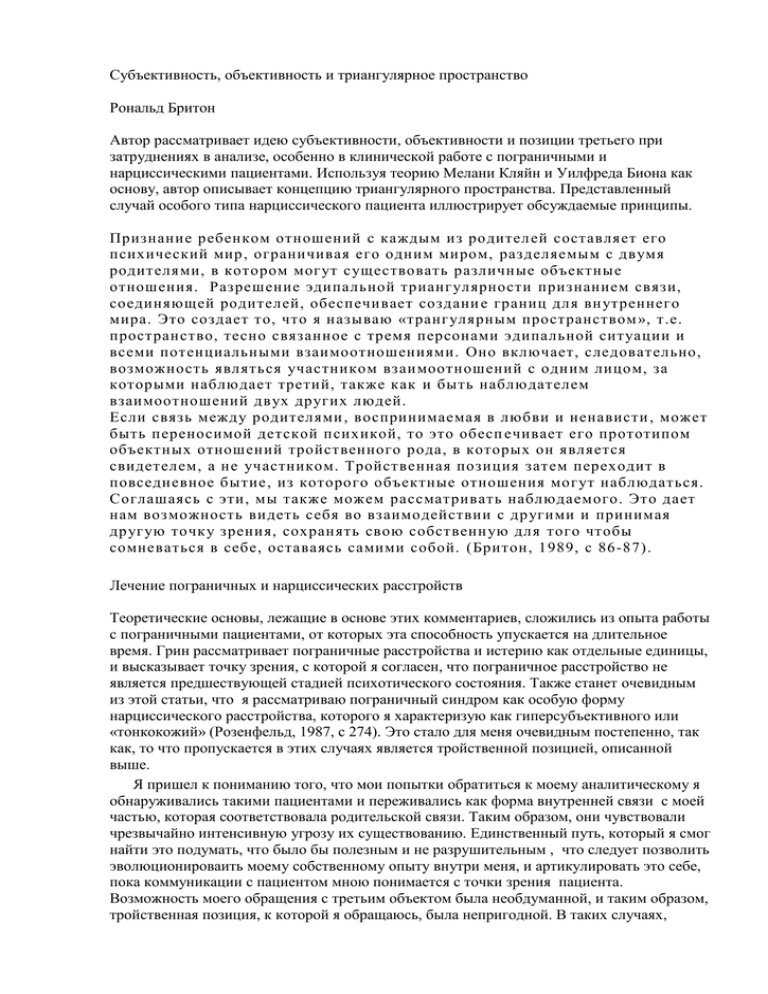
Субъективность, объективность и триангулярное пространство Рональд Бритон Автор рассматривает идею субъективности, объективности и позиции третьего при затруднениях в анализе, особенно в клинической работе с пограничными и нарциссическими пациентами. Используя теорию Мелани Кляйн и Уилфреда Биона как основу, автор описывает концепцию триангулярного пространства. Представленный случай особого типа нарциссического пациента иллюстрирует обсуждаемые принципы. Признание ребенком отношений с каждым из родител ей составляет его психический мир , ограничивая его одним миром, разделяемым с двумя родителями, в котором могут существовать различные объектные отношения. Разрешение эдипальной триангулярности признанием связи, соединяющей родителей, обеспечивает создани е границ для вн утреннего мира. Это создает то, что я называю «т рангулярным пространством », т.е. пространство, тесно связанное с тремя персонами эдипальной сит уации и всеми потенциальными взаимоотношениями. Оно включает, следовательно, возможность являться участником взаимоотношений с одним лицом, за которыми наблюдает третий, также как и быть наблюдателем взаимоотношений двух других людей. Если связь между родителями , воспринимаемая в любви и ненависти , может быть переносимой детской психикой, то это обесп ечивает его прототипом объектных отношений тройственного рода, в которых он является свидетелем, а не участником. Тройственная позиция затем переходит в повседневное бытие , из которого объектные отношения могут наблюдаться. Соглашаясь с эти, мы также можем рассматривать наблюдаемого. Это дает нам возможность видеть себя во взаимодействии с другими и принимая другую точк у зрения, сохранять свою собственн ую для того чтобы сомневаться в себе, оставаясь самими собой. (Бритон , 1989, с 86-87). Лечение пограничных и нарциссических расстройств Теоретические основы, лежащие в основе этих комментариев, сложились из опыта работы с пограничными пациентами, от которых эта способность упускается на длительное время. Грин рассматривает пограничные расстройства и истерию как отдельные единицы, и высказывает точку зрения, с которой я согласен, что пограничное расстройство не является предшествующей стадией психотического состояния. Также станет очевидным из этой статьи, что я рассматриваю пограничный синдром как особую форму нарциссического расстройства, которого я характеризую как гиперсубъективного или «тонкокожий» (Розенфельд, 1987, с 274). Это стало для меня очевидным постепенно, так как, то что пропускается в этих случаях является тройственной позицией, описанной выше. Я пришел к пониманию того, что мои попытки обратиться к моему аналитическому я обнаруживались такими пациентами и переживались как форма внутренней связи с моей частью, которая соответствовала родительской связи. Таким образом, они чувствовали чрезвычайно интенсивную угрозу их существованию. Единственный путь, который я смог найти это подумать, что было бы полезным и не разрушительным , что следует позволить эволюционироваить моему собственному опыту внутри меня, и артикулировать это себе, пока коммуникации с пациентом мною понимается с точки зрения пациента. Возможность моего обращения с третьим объектом была необдуманной, и таким образом, тройственная позиция, к которой я обращаюсь, была непригодной. В таких случаях, третий объект мог бы мои теории, связи с коллегами или наследием предшествующего аналитического опыта. Как следствие, кажется невозможным достаточно впутать себя из взаимодействий, чтобы узнать, что последует далее. Любое движение вперед к объективности не могло бы переноситься. 1. Это отрывок из доклада на конференции «Эдипов комплекс сегодня» в университетском колледже в Лондоне в сентябре 1987. Аналитику и пациенту следовало двигаться вдоль одной линии и встретиться в одной точке, где не должно быть латерального движения. Чувство пространства могло быть достигнуто увеличением расстояния между нами, процесс, который такие пациенты находят невозможным преодолеть пока не они инициируют его. В такой ситуации, что я чувствовал, я нуждалось отчаянно в пространстве в моем уме, в которое я мог бы войти боком, из которого я мог бы выглядывать, смотря на вещи. Если Я старался форсировать себя в такое положение, отстаивая описания пациента в своих собственных терминах, следовало бы насилие, воспринимаемое – всегда психически, а иногда также физически. Триангулярное пространство Решающее значение трех персон для психической триангулярности была подчеркнута психоаналитиками различных школ и в разных странах, особенно во Франции, особенно Мак Дугал, Чассегейт- Смргл и Грин. В Америке также существует обращение некоторых авторов по интерсубъективности к этой теме. Эти идеи, возникшие из психоаналитической практики, базирующейся на теоретическом основании британской кляйниской школы могли бы привести к аналогичной озабоченности и освещенности, также и от Французской школы и Соединенных Штатов Америки, побудили меня думать, что мы могли бы обратиться к клинической реальности, которая траннациональная, транскультуральная и теоретически выстроена. Влияние первичных отношений Я лично пришел к идее триангулярного пространства и третьей персоне от особенностей клиническсго опыта и мое теоретизирование базировалось преимущественно на концепции Кляйн о ранней эдипальной ситуации и теории контейнирования Биона, описавшей последствия провала в материнском контейнировании для некоторых индивидууиов как причину развития деструктивности, завистливого суперэго, что препятствует научению или придерживаться благоприятных отношений с любым объектом. Он прояснил, неспособность матери принять детские проекции переживается ребенком как деструктивная атака ею на детские связи и коммуникации с ней как с хорошим объектом. Я полагаю, что идея хорошего метеринского объекта может затем может возвратиться только расщеплением воспринятой материнской враждебности сцепленности и приписыванием ее враждебным силам. Такие силы представлены в различных религиях античного мира «хаотичными монстрами»: в древнем Египте это был Апофис, который был «воплощением первобытного хаоса». Он не имел органов чувств, он не мог ни видеть ни слышать, он мог только издавать вопли. И он всегда действовал в темноте». Апофис непрерывно угрожал ma'at, женской персонификации мирового порядка. Мать как источник хорошести, напоминающий ma'at,, является сейчас опасной, ненадежной и зависит от детских ограничений его или ее знаний расширения знаний матери как следствие развития и детской любознательности, ощущается на опасность этих решающих отношений. Любознательность обнаруживает существование эдипальной ситуации. Враждебная сила, которая мыслится как атакующая детскую связь с материю является сейчас уравненной с эдипальным отцом и связь между родителями ощущается разрушающей ее как источник хорошести и порядка. Я предполагаю поэтому, что проблема имеет свое происхождение в отношениях к первичному материнскому объекту в случаях, когда имеется провал в установлении недвусмысленного хорошего опыта младенчесо-материнского взаимодействия в противоположность с плохим опытом пребывания в депривации. Вместо естественного, примитивное расщепление предепрессивного развития имеет путаницу. Для остановки путаницы произвольного расщепления в ментальной жизни необходимо обладать способностью сохранять хорошее представление, чтобы локализовать и отделить плохое. Исходная структура эдипальной предоставляет себя для расщепления такого рода.. Это может сбить с толку появление классического позитивного эдипального комплекса, базирующегося на соперничестве с матерью за любовь к отцу. Перенос представляет другую тему. Хорошо известно, что расщепляющая природа позитивной эдипальной конфигурации – обычно используемый для разделения любви и ненависти – обеспечивает структура отделения страстного желания для субъективного понимания и любовь от желания для объективного знания и разделения интеллектуальной идентичности. Я пришел к мнению, что все это относится к характеристикам нарциссических и пограничных расстройств. Субъкутивность и объективность Здесь я использую субъективность в значении взгляда на нее со стороны первой персоны и объективность как точка зрения третьей персоны. Философ John R. Searle (1995) выделяет объективность, используя ее, как определение третьей персоны, которую он называет онтологической объективностью, и, применяя ее по отношению обозначения словесной беспристрастной оценки, которую он называет эпистолической объективностью. В известном смысле, существует интеграция онтологической субъективности с онтологической объективностью, которая для некоторых пациентов провоцирует катастрофическую тревогу. Рей (1989) описал нарциссический синдром как «определенный вид личностного расстройства, которое не поддается классификации, чтобы отнести его к неврозу или психозу. Мы знаем его как пограничную, нарциссическую или шизоидную личностную организацию» (с 203). Что позволяет найти в этих различных синдромах общего, это, по меньшей мере, функционирование в анализе на примитивном уровне, потому что они не могут формировать обычный перенос. Некоторые сохраняют надменность и отчужденность, другие сцепленность, настойчиво привлекают внимание, и конкретны в их трансферентной привязанности. Но ни кто из них не переживает аналитика как отдельного и значимого. Абрахам, который обнаружил, что некоторые индивидуумы, не являясь психотиками или манифестно несотрудничащими, были чрезвычайно трудно поддающиеся анализу, потому что они не делали или не могли использовать метод свободных ассоциаций, они не могли проявить свой субъективный опыт. Розенфельд (1987) описал таких пациентов как «толстокожих нарциссических» личностей в противоположность «тонкокожих нарциссических» индивидуалов. В книге, опубликованной вскоре после его смерти, он пишет, что существуют такие пациенты чья нарциссическая структура обеспечивает им такую «толстую кожу», что они становятся не чувствительны к глубоким чувствам. Во избежание безысходного положения эти пациенты вынуждены с трудом лечиться анализом. .. Когда интерпретации непосредственно затрагивают их, то это снимает напряжение, даже если это болезненно для них. .. Напротив… тонкокожие пациенты являются гиперсенситивными и легко травмируемыми в повседневной жизни и анализе. Более того, когда нарциссически сенситивный пациент в анализе такой же, как толстокожий пациент, он будет тяжело травматизируемый. (с 274). То, что я предложил (Бритон, 1998) является этими двумя клиническими состояниями, происходящими от двух различных отношений субъективного селф к третьему объекту внутренней эдипальной триангуляции. В обоих состояниях, третий объект является чуждым субъективному, сенситивному селф. У гиперсенситивного, селф стремится избежать объективно третьего объекта и цепляется к субъективному. Гиперсенситивный пациент идентифицируется с третьим объектом и адаптируется к образу жизни объективности, избегая субъективности. То, что быстро обнаруживается в обоих случаев – это то, что анализ наиболешей проблемы является трудным делом и для пациента и для аналитика. Находиться в анализе – т.е. быть в той же комнате, в том же психическом пространстве. Вместо наличия двух связанных, независимых разумов, имеется или два отдельных человека, неспособных устанавливать связь или два человека с единственным разумом. Эти две ситуации не имеют огромной разницы друг от друга в анализе. То, что пациенты в обоих ситуациях имеют общего, так это неспособность функционировать обычным способом и страх интеграции отдельных разумов. В первой группе, другой трактуется как не имеющий значение, во второй группе пациент не может общаться без создания значимого другого, являющегося продолжением его или ее. В первой ситуации аналитик не может найти место внутри психической реальности пациента, тогда как во второй, аналитик не может найти место вне ее. Первые являются гиперобъективными с нарциссической отчужденностью, вторые – гиперсубъективными с нарциссической сцепленностью. Гиперобъективность и нарциссическая сцепленность: толстокожие пациенты Представленный далее случай, в котором аналитик был за пределами психического мира пациента, не являлся объектом влечения, субъективного взаимодействия с ним, а идентифицировался с внешним наблюдающим объектом. Пациент, М-р В, был успешным писателем, искавшего помощи в психоанализе после семейной терапии, по рекомендации семейного терапевта и настоянию жены. После сообщения мне об этом, он добавил с обескураживающей искренностью, что его проблема была интимной. «Я не очень хорош в интимных отношениях, моя жена говорит мне, и я уверен, что она права». Он также дал мне знать на консультации, что он страдает от депрессии, проявляющейся в том, что просыпается больным с чувством ужаса, отчаяния, безысходности от своей собственной бесполезности и жизни в целом. Когда М-р В был юным и религиозным, он поверил, что проклят, и нет надежды на исправление ситуации, и что обычные религиозные меры для этого в виде, покаяния, исповеди не сработали. Когда я предположил, что он, может быть, воспринимает анализ подобным образом, как средство избавления от проклятия. Он быстро согласился, что не мог бы представить ее помощь или возможность его изменения, и добавил с пренебрежением – «но я вынужден стараться, если Вы готовы это делать». Проблема распределения аналитического пространства заявила о себе быстро, когда М-р В прибыл на первую сессию. Мы договорились о времени, и он принял аналитическое соглашение, как он сказал об этом, лежать на кушетке в течение пятидесяти минут. Но он сообщил, что смог бы сотрудничать с таким же желанием, если бы я предложил стоять на голове те же пятьдесят минут «стойко выдерживая испытание». Я заметил: «существует что-то, Вы знаете, что можно делать, не прилагая усилий над собой». Он согласился с этим, предлагая несколько убедительных примеров из своего детства его силы духа в защите от навязываемых ему существующим режимом изменений. Однажды в результате проработки проблема была подкопана. Хотя я смог понимать его без больших затруднений, но не мог найти способа участия в ментальном пространстве М-ра В, достижения контакта с ним. Я был посторонним в анализе. Пациент предъявлял требования, что он не должен реально вовлекаться в анализ, он симпатизировал мне за мое терпение такого неблагодарного пациента, когда возможно, мне бы хотелось быть в его мыслях значительным и чтобы мои идеи были оценены. Мои потребности, за это, были удостоены его вниманием, но он мог ничего не делать относительно них. Печально было то, что он предлагал мне роль пожилого дряхлого мужчины, которого он однажды описал как «Западный червяк, презренная личность». Я не был для него пустым местом, оставаясь вне сферы его внимания. У м-ра В был подарок за взаимодействие со мной, те трудности, с которыми он сталкивался и тревоги, которые беспокоили его, его реальные страдания, были живо осознаны мной. Если я привлекал внимание к ним, он вежливо подсмеивался надо мной за то, что воспринимаю его серьезно. Затем он завершит сессию, едва слышимо произнеся: «Убирайся прочь, тупая забота», и с колебанием скажет: «Увидимся завтра». Я был оставлен, другими словами, удерживая ребенка. Это относилось к памяти пациента, к его воспоминаниям безжалостных переживаний, раскрытию его болезненных унижений и существенной депривации. Он подвергал обработке мое мнение о том, что он страдал от несчастливого детства как эксцентрик. Если я затем напоминал ему о его воспоминаниях, которые он обнаружил на предыдущей сессии, он быстро говорил, что у него плохая память и что он все забыл. Таким образом, я был единственным, кто знал сейчас о существовании страдающего ребенка. Мой пациент совершал пропуски сессий. Когда я предположил, что м-р В опорожнил свое эмпирическое селф в меня и затем оставил двух из нас позади, он ответил описанием истории, которую он написал. Хотя она имела другое название, он сказал, что это «могло быть названо «История отсутствующей персоны». В истории, один человек обследовал резиденцию и не мог установить, жил ли кто-нибудь там или нет. Очертания жизни отсутствующего человека и сопутствующие детали были видны как оставленные следы, но он не присутствовал. Суть истории заключалась в том, что пустота создавалась отсутствием, образом отсутствующего человека. В анализе, как и в его браке, отсутствие появлялось для решения проблемы присутствия м-ра В. Тем не менее, это требовало места, в котором надо отсутствовать. Для того, чтобы быть отсутствующим мужем, требовалась жена, чтобы быть отсутствующим пациентом нужен аналитик, чтобы быть беглецом, нужен дом, из которого можно убежать. И чтобы иметь пропущенные сессии, требовалось иметь их в распоряжении. В основном через использование моего контрпереноса как источника информации о моем отсутствующем пациенте, нам удалось получить несколько идей относительно проблем, которые привели психический регресс м-ра В к периферии его жизни. Я обнаружил, что хотя сохранял мою обычную аналитическую позицию восприимчивости и исследования, я не мог достичь привычного чувства смысла. Я подвергался искушению вставить себя в поле психического видения пациента, принимая роль, предназначенную мне, часто которой был коуч или дружелюбный критик. Цена, которую надо было платить в контрпереносе, чтобы остаться в своем собственном психическом пространстве, было чувство никчемности и одиночества. Не трудно было заметить, что это были переживания моего пациента в прошлом и его настоящем, где он чувствовал себя на обочине мира. Как ребенок, м-р В. Нашел убежище, где он мог быть неизвестным своей семье. Его фантазии сделали ясным, насколько значимым было его секретное пространство, это становилось предвестником другого личного пространства, кульминацией которого явилось создание области познания, где он работал. Здесь он создавал в своих произведениях свою собственную версию себя и размещая копии в различных контекстах по своему собственному выбору, которые аккуратно отражали его внутренний мир. А бесцветное, незащищенное, пустынное и одинокое место, которое я обнаружил, познавая изнутри заброшенную территорию, отводилось мне, куда он меня поместил в анализе. Мы встречались здесь, в конце концов, в разделенном, похожим на поросшую вереском местность психическом ландшафте, который воспринимался мной напоминающим место, где Wordsworth (1904) встретил собирателя пиявок, будучи доведенным до отчаяния одой Колериджа «Ода Унынию». У меня сложилось впечатление, что пациент получает выгоду от анализа, и определенно он прогрессировал, мне бы хотелось думать, что наши неожиданные встречи могут дать терапевтический эффект, похожий на тот, который Wordsworth приписал собирателю пиявок: «..найти в том дряхлом человеке такой твердый, крепкий разум» (с.157). Я размышлял над тем, что мы изучали в анализе, что было причиной самоисключения м-ра В. Это защищало его от того, чтобы не быть неправильно воспринятым, или, в терминах Биона, от того, чтобы быть контейнированным, что сделает ясным его контейнируемое селф. Раздраженный пациент мог определить себя как отстраненного, неприспособленного человека. Ценой такой идентичности было исключение. Паспортом к включению должен определяться предпосылками и предубеждениями других, цена за вход в разум другого должно быть неправильное восприятие. Причиненный убыток за обеспечение безопасного места внутри, должен быть заключен в пределах ограниченных рамок понимания другого . Гиперсенситивность и нарциссическая сцепленность То, что характеризует эту группу случаев это их трудности. Эти пациенты находят жизнь с другими трудной, они толерантны к своим трудностям, им трудно находиться в анализе и, в некотором отношении, характерно, что и аналитики находят трудным анализ с ними. Когда аналитики приносят такие случаи для консультации, они почти всегда начинают словами, «Я хочу рассказать о моем трудном пациенте», или «Мне кажется, что имеются исключительные трудности в этом случае». Это часто сопровождается чувством стыда у аналитика, который чувствует, что он или она позволяют пациенту принижать, или становятся втянутыми в аналитический сговор способом, в котором трудно признаться перед коллегами. Конечно, многие пациенты создают значительные технические и контрпереносные проблемы, но характер проблемы ведет к трудности особого рода, который связан с использованием аналитиками слова. Аналитический метод сам по себе воспринимается пациентом как угроза, из-за границ и того, что на самом деле является достоинством его структуры. Вследствие этого аналитик начинает чувствовать неспособность должным образом установить сеттинг. Этот тупик использовался некоторыми аналитиками для продвижения альтернативной стратегии как наивысшего аналитического метода, который в реальности диктовался пациентом в качестве необходимого условия. Это, я думаю, соответствует вере пациента, секретной или нет, что его или ее атипичный метод взросления был более аутентичным способом и что те, кто были обычными детьми (и кто стал более аналитически трактабельным пациентом) являются или жертвами подавления или сотрудничества. Хотя работая эмпатически с пациентом и обосновывая такой подход его или ее субъективным опытом, который пациент в известном смысле, находит полезным, аналитик может начать чувствовать себя подобно матери, которая реально не существует с ее собственным правом. Пациент становится уверенным, что эта функция и аналитик являются его собственностью, как он это воспринимает, но аналитик боится потерять его или ее собственную аналитическую идентичность. Если, тем не менее, аналитик отстаивает себя и сделает объективно обоснованные интерпретации, пациент почувствует тревогу преследования, ведущую или к нарциссическому полуотсутствию или эмоциональному взрыву. Пациент будет затем, одним или другим способом, обесценивать то, что сказал аналитик или уничтожать эти элементы различия, несоответствующие его восприятию. Пациент может чувствовать потребность отвести свой разум от присутствия аналитика путем психического отвода, и некоторые пациенты даже находят необходимым отодвинуться физически, чтобы отдалиться душевно, прекращая таким образом анализ. Такие индивидуумы склонны покинуть одного аналитика и оставаться в тупиковой ситуации или бесконечном анализе с другим. Субъективные и объективные реальности кажутся более, чем просто несовместимыми – фактически, взаимно деструктивными. Объективность возникает в связи с визуальным взглядом. Существует страх быть увиденным, точно также существует страх быть обозначенным. Дети с такими проблемами в психоаналитической терапии служат хорошим примером из-за направленности коммуникативного обмена с психотерапевтом. В одном случае, который я супервизировал, семилетняя девочка совершенно очевидно была подвержена персекуторному страху только от того, что находилась в комнате психотерапевта, прикрываясь каждый раз старанием говорить. Со временем, с помощью терапевта, она смогла прояснить, что если она действует вслепую, безрассудно, обманывая его тем самым, чтобы он не мог бы ее видеть или говорить, а мог только слушать, тогда она бы разговаривала с ним. Когда он смог сказать ей, что она думает, что его слова испортят и испачкают ее мысли, она взорвалась, «Они велят, они велят! Замолчи!». Такие ситуации в их взрослых версиях могут вызывать экзистенциальную тревогу у аналитика из-за эмпатической идентификации с пациентом, кажущейся несовместимой с аналитическим объективным клиническим взглядом на ситуацию и убеждением, что это необходимо. Поэтому аналитик чувствует себя отрезанным от теорий, связывающими его с коллегами и дающими профессиональную идентичность. Эта проблема также манифестирует в аналитической трудности при использовании общепринятого опыта или общепринятых идей, с этого момента такое использование становится посягающим на своеобразие неожиданной встречи с этой особенностью пациента и уникальность его психологии. Особенность кажется находящейся в состоянии войны с всеобщностью, таким же образом, как объективность с субъективностью. В терминах фигуры эдипальной триангуляции, можно сказать, что, когда аналитик способен следовать и усиливать внезапно всплывающие мысли пациента, он или она идентифицируются как понимающий материнский объект, но, когда вводятся ее или его собственные мысли, происходящие от общепринятого опыта и аналитических теорий, аналитик идентифицируется как отец, который или вторгается во внутренний селф пациента или отрывает пациента от уникальности, субъективного психического контекста в аналитический. Таким образом, мы имеем защитную организованную эдипальную ситуацию с фантазией о тотально эмпатическом, пассивно понимающим материнским объектом, накладывающемся на агрессивную отцовскую фигуру, которая является объективно персонифицированной, стремящейся навязать свой смысл. Пока эта защитная организация эдипальной триангуляции поддерживается, это гарантирует, что реинтеграция между пониманием объекта и его непониманием никогда не будет иметь места, результатом чего станет аннигиляция понимания. В этом гиперсубъективном виде, позитивный перенос выражает его силу не пенетрацией а экстраполяцией. Его интенсивность выражается распространенностью. Он заключает в себя объект и инвестирует все, чтобы оградить защитить его с преувеличенным значением. Физической персоне аналитика – и, путем расширения контекстуальным деталям анализа - придается большая важность, включая мельчайшие детали сессии, аналитический офис и его содержание, и д.т. Пациент может собирать и помнить физические остатки анализа, такие как счет или салфетку, которые служат функции похожей на религиозные сувениры. Негативный перенос приравнивается к пенетрации третьего объекта, пока чувство понимания относится к первичному объекту. И позитивный и негативный переносы являются своеобразной игрой: один со страстным желанием и стремлением сменяется опасением, боязнью и избеганием. Вожделенный перенос глубоко закрыт и обернут. Его эпистомологической формой является эмпатия, ее физическим выражением прикосновение и ее эмоциональными качествами являются эротика и эстетика. Наибольшее опасение вызывает соединение включающего в себя объект переноса с пенетрирующим переносом – это по существу объединение субъективности с объективностью. Злокачественное непонимание и потребность в соглашении В главе 4 Убеждение и фантазия (Бритон 1998), я исследовал ментальную катастрофу, которая ожидается вследствие интеграции двух различных точек зрения. Из переноса создается впечатление, что основной страх возникает из-за злокачественного непонимания. Под этим я имею ввиду, что переживание своего существования фундаментальным и могущественным способом настолько не понимается, что собственное восприятие себя исключается и соответственно способность к самоидентификации будет аннигилированной. Это представляет, я думаю, страх возвращения к первобытному хаосу, который соответствует понятию по Биону (1959, 1962) безымянный ужас, который возникает вследствие провала контейнирования. Бион две оценки возникновении безымянного ужаса, происходящего из-за неудачи материнского контейнирования в младенчестве. В обоих случаях непонятное становится непостижимым. Можно сказать, что существует страх неизвестности всего. Если эта неудача понимания переживается в раннем младенчестве как атака, а не дефицит, насилие воспринимается формой существования, разрушая понимание и уничтожая смысл. Видимо это повторяется в переносе, когда имеется неудача аналитика в точном понимании пациента, тогда он воспринимается пациентом не просто как отсутствующий, а как атакующий психическую целостность пациента. Когда сильное желание понимания соединяется с ужасом непонимания, имеется также настойчивая, отчаянная потребность в соглашении в анализе и отклонение разногласий. Я пришел к пониманию того, что общее правило происходит вследствие тревоги от непонимания, которая возникает в любом анализе: потребность в соглашении является обратно пропорциональной ожидаемому пониманию. Когда ожидание понимания велико, различие мнений переносимо, когда ожидание понимания довольно высоко, различие мнений довольно велико и когда не существует ожиданий понимания, необходимость соглашения абсолютна. Заключение Психическая атопия Я задал себе вопросы: существует что-нибудь в темпераменте некоторых пациентов, что являлось бы предиспозицией особенностей развития или ответа на травму? Существует ли что-нибудь в окружении этих персон, что могло бы способствовать их вере в то, что независимо существующий объект будет деструктивно не понимать его? Существует ли врожденный фактор у младенца, который увеличивает риск неудачи материнского контейнирования, и если так, что это может быть? В ответ на эти вопросы, я предполагаю, что может быть аллергия на продукты других разумов, аналогичная телесной иммунной системе – форма психической атопии. Иммунная система является центральной в нашей физиологической целостности и функционировании, мы не можем выжить без нее, хотя она часто является и источником патологии. Правомерно ли это по отношению к психическому функционированию? Это определенно возникает в нашем социальном функционировании, где аннигиляция воспринимаемого как чужеродное является привычной. Узнавание не-Я или непохожего на меня и ответ на это может выполнять психическую функцию схожую с такой же в соматической сфере. И также как в иммунной системе иногда может быть конфликт между матерью и ребенком из-за несоответствия резус фактора, также, возможно, наличие некоторых трения в психическом иммунном ответе. Существует ли психическая аллергия и имеется ли одна из ее разновидностей – аутоиммунная? In the realm of ideas and understanding, we do seem to behave as though we have a psychic immune system. We are fearful about our ability to maintain the integrity of our existing belief systems, and whenever we encounter foreign psychic material, a xenocidal impulse is stimulated. Psychoanalysis made possible by the establishment of a shared mental space both exposes these difficulties and provides an opportunity to explore them. В области идей и понимания, мы ведем себя подобно тому, как будто имеет психическую иммунную систему. Мы беспокоимся относительно нашей способности сохранять интегрированность существующих систем верования и никогда не сталкиваемся с иностранным психическим материалом, стимулируя ксеноцидальный импульс. Психоанализ сделал возможным путем установления ментального пространства, разделяемого двумя, обнажить эти трудности и обеспечить возможность исследовать их.