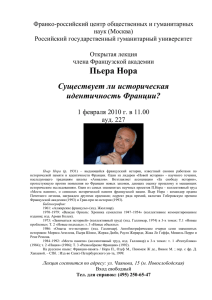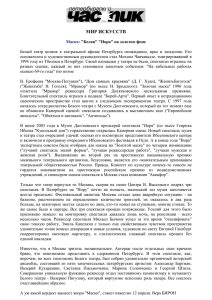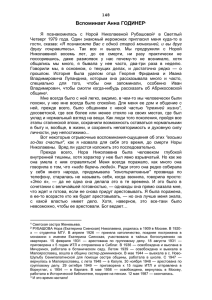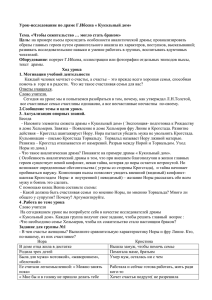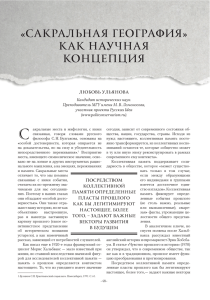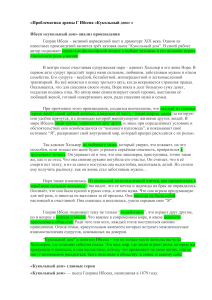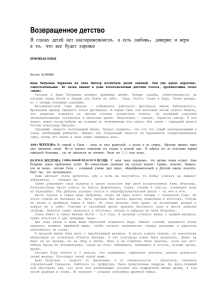Петербургский театральный журнал
advertisement
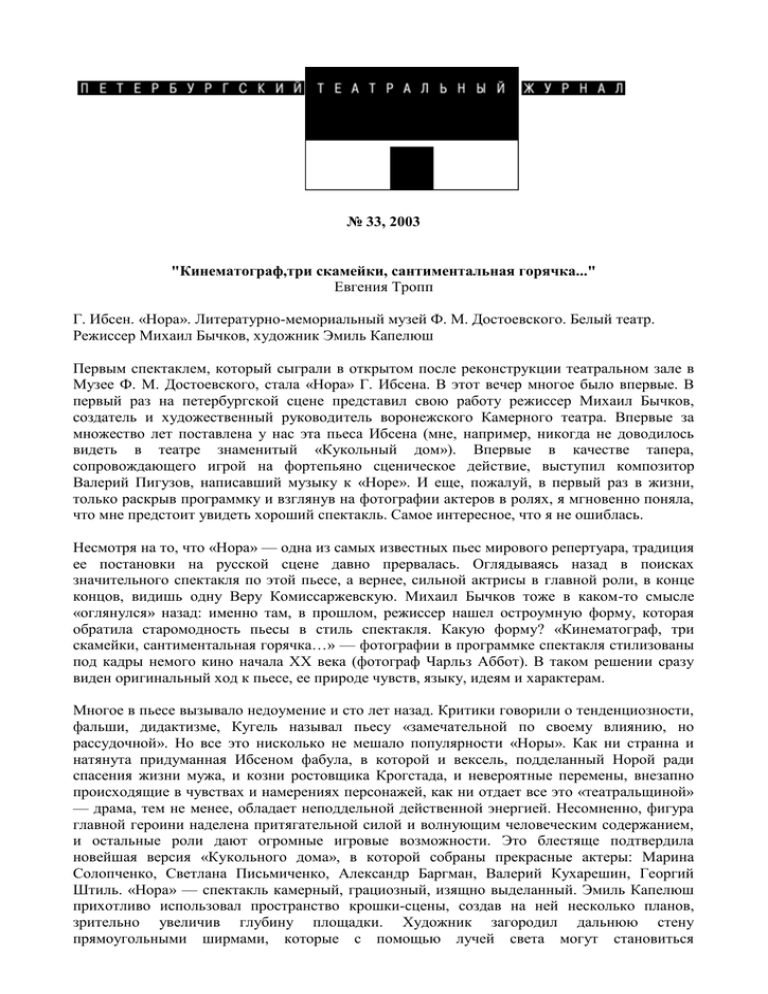
№ 33, 2003 "Кинематограф,три скамейки, сантиментальная горячка..." Евгения Тропп Г. Ибсен. «Нора». Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского. Белый театр. Режиссер Михаил Бычков, художник Эмиль Капелюш Первым спектаклем, который сыграли в открытом после реконструкции театральном зале в Музее Ф. М. Достоевского, стала «Нора» Г. Ибсена. В этот вечер многое было впервые. В первый раз на петербургской сцене представил свою работу режиссер Михаил Бычков, создатель и художественный руководитель воронежского Камерного театра. Впервые за множество лет поставлена у нас эта пьеса Ибсена (мне, например, никогда не доводилось видеть в театре знаменитый «Кукольный дом»). Впервые в качестве тапера, сопровождающего игрой на фортепьяно сценическое действие, выступил композитор Валерий Пигузов, написавший музыку к «Норе». И еще, пожалуй, в первый раз в жизни, только раскрыв программку и взглянув на фотографии актеров в ролях, я мгновенно поняла, что мне предстоит увидеть хороший спектакль. Самое интересное, что я не ошиблась. Несмотря на то, что «Нора» — одна из самых известных пьес мирового репертуара, традиция ее постановки на русской сцене давно прервалась. Оглядываясь назад в поисках значительного спектакля по этой пьесе, а вернее, сильной актрисы в главной роли, в конце концов, видишь одну Веру Комиссаржевскую. Михаил Бычков тоже в каком-то смысле «оглянулся» назад: именно там, в прошлом, режиссер нашел остроумную форму, которая обратила старомодность пьесы в стиль спектакля. Какую форму? «Кинематограф, три скамейки, сантиментальная горячка…» — фотографии в программке спектакля стилизованы под кадры немого кино начала ХХ века (фотограф Чарльз Аббот). В таком решении сразу виден оригинальный ход к пьесе, ее природе чувств, языку, идеям и характерам. Многое в пьесе вызывало недоумение и сто лет назад. Критики говорили о тенденциозности, фальши, дидактизме, Кугель называл пьесу «замечательной по своему влиянию, но рассудочной». Но все это нисколько не мешало популярности «Норы». Как ни странна и натянута придуманная Ибсеном фабула, в которой и вексель, подделанный Норой ради спасения жизни мужа, и козни ростовщика Крогстада, и невероятные перемены, внезапно происходящие в чувствах и намерениях персонажей, как ни отдает все это «театральщиной» — драма, тем не менее, обладает неподдельной действенной энергией. Несомненно, фигура главной героини наделена притягательной силой и волнующим человеческим содержанием, и остальные роли дают огромные игровые возможности. Это блестяще подтвердила новейшая версия «Кукольного дома», в которой собраны прекрасные актеры: Марина Солопченко, Светлана Письмиченко, Александр Баргман, Валерий Кухарешин, Георгий Штиль. «Нора» — спектакль камерный, грациозный, изящно выделанный. Эмиль Капелюш прихотливо использовал пространство крошки-сцены, создав на ней несколько планов, зрительно увеличив глубину площадки. Художник загородил дальнюю стену прямоугольными ширмами, которые с помощью лучей света могут становиться 2 полупрозрачными (в определенные моменты сквозь них смутно просвечивают застывшие в стоп-кадре лица героев — то зловещий Крогстад, то слащавый Хельмер). За одной из ширм слева спрятано пианино, позади тапера установлено зеркало, и кажется, что он сидит к нам спиной в темной глубине. Таким образом, пространство теряет четкость границ, хотя в линиях подчеркнута строгая геометричность. Если в «ЖенитьбеГоголя», когда-то оформленной Капелюшем в том же Белом театре, главной формообразующей фигурой был круг, то здесь это, кажется, прямоугольник. Эта форма обыгрывается постоянно. Кроме задника из ширм, мы видим квадратное возвышение в центре сцены, покрытое ворсистым сине-фиолетовым ковром, коробки с рождественскими подарками, которые Нора на санках ввозит в комнату, позже возникают папки с банковскими бумагами, большая плоская коробка с маскарадным костюмом… В левой части площадки выстроено странное сооружение, что-то вроде беседки или домика: прямоугольные каркасы от ширм (между рейками нет ткани) выгораживают прозрачную кабинку. Внутри нее стоят низенькие табуретки, а сверху на нитках, как игрушки на елке, подвешены фотографии детей Норы и ее мужа, а также два прямоугольных листа мятой фольги. Один из этих листков в ловких руках Норы превратится в высокий бокал на длинной ножке, а из другого она в самом финале спектакля сделает человечка. Конверты, письма, чеки, визитные карточки, банкноты, портфель и кошелек Хельмера, чемодан Кристины — можно и дальше играть в эту игру и до бесконечности называть прямоугольники, собранные в «Норе». Один из них не «нарисован», но подразумевается: это прямоугольник киноэкрана. Когда между персонажами происходят неправдоподобно экзальтированные объяснения, когда речь их становится выспренно патетичной, а манера изъясняться теряет всякую связь с обыденным языком, свет начинает мерцать, картинка «дрожит», как изображение на старой черно-белой пленке, нервически-оживленная музыка почти заглушает голоса (ведь кино немое, значит, текст может быть не слышен!). Изломанные движения, конвульсивная пластика, мельканье жестов, сменяющие друг друга картинно выразительные позы, нарочитая мимическая игра — надо сказать, что стилизация разработана режиссером М. Бычковым вместе с балетмейстером С. Грицаем и воплощена актерами почти филигранно. Для персонажей пьесы Ибсена Бычков подобрал типичные экранные амплуа. Нора — хрупкая, чувствительная, нервная героиня, переходящая от возбужденного веселья к нестерпимым душевным страданиям, несчастная жертва. Хельмер — лощеный франт с прилизанными, блестящими от бриолина черными волосами, с кокетливой мушкой на полной щеке, преисполненный самодовольства. Крогстад — мелодраматический злодей, ястребиный профиль и пронзительный взгляд которого повергают в ужас трепещущую Нору. Вдова Кристина - женщина-труженица, всячески подчеркивающая тяжесть своей жизненной ноши, непрерывно совершающая подвиг самоотречения. Доктор Ранк — добродушный пожилой джентльмен, скромно влюбленный в Нору. Чтобы не погрешить против правды, надо отметить, что «синематографическая подсветка» образа Ранка менее очевидна; Г. Штиль играет Доктора в мягкой, задушевной, жизнеподобной манере. Строго говоря, каждому из персонажей досталась своя мера иронии, и только Ранк решен вполне серьезно. С иронией и чувством стиля играют своих персонажей Валерий Кухарешин и Светлана Письмиченко. Во втором действии спектакля развязку истории Норы и Хельмера (их объяснение и разрыв) предваряет «момент истины» в отношениях Крогстада и Кристины. Для того чтобы разыграть любовную сцену, актерам не пришлось сбрасывать маски, переходить к реалистически-серьезной манере игры — здесь все утрированно, комично и при этом трогательно. Персонажи выясняют отношения «громким шепотом» (боясь, что их услышат), но Крогстад топает ногой так, что ему делается больно. Кристина то устремляется к нему, то, борясь с собой, прижимает руки к груди и отворачивается. Порывистая жестикуляция и выразительная мимика демонстрируют, какие сильные и противоречивые чувства обуревают присяжного поверенного. Поцелую неоднократно мешают очки, которые Крогстад то снимает с носа Кристины, то нерешительно снова возвращает на место. Самые 3 обычные фразы герои произносят патетично, откидывая голову и поднимая глаза к небу. Стремясь покинуть комнату поскорее, они убегают, но, споткнувшись, вместе падают на покрытое ковром возвышение… Нельзя без улыбки слушать их излияния, невозможно не умилиться тому, что «двое потерпевших крушение подали друг другу руки». Крогстад, встав на стезю добродетели, готов потребовать назад свое письмо Хельмеру и, тем самым, спасти Нору, но Кристина, однако, решает, что ее подруга должна во всем признаться мужу и, наконец, избавиться от тайн и лжи. Торвальд Хельмер, когда-то вырванный Норой из когтей смертельной болезни, а ныне пышущий здоровьем и благополучием красивый мужчина, исполнен А. Баргманом в сугубо пародийной манере. Кажется, у авторов спектакля нет ни капли сочувствия этому персонажу. Самолюбование, эгоизм, бестактность, мелочность — все это проявляется в каждом жесте, в походке, выражении лица. Когда Хельмер произносит очередную проповедь морали и нравственности, видно, как ему ласкают слух звуки собственного голоса. Новоиспеченному господину директору так нравится собственноручная роспись, что он готов часами ставить автографы на чеках. А с каким хищным видом он раскладывает на полу папки, в которых заключены дела его подчиненных, и, полностью погружаясь в это глубокомысленное занятие, переступает от папки к папке, как по шахмат ной доске, видимо, мысленно манипулируя своими служащими, переставляя их так и этак… Что из себя представляет Торвальд Хельмер, зрителям вполне ясно. Непонятно другое: как может Нора ждать от такого супруга «чуда»? Как она может надеяться на понимание со стороны этого демагога?. Баргман безжалостен к своему герою и в развязке истории. Мы наблюдаем визгливую истерику и жалкий страх Хельмера после получения «рокового» письма, его грубость и бессильную злобу по отношению к жене, сменяющуюся отвратительной радостью, когда опасность миновала. Но в тот момент, когда Торвальд понимает, что он сплоховал — оступился и с грохотом рухнул с того пьедестала, на котором смотрелся так славно и выигрышно, — актер меняет манеру игры. Впервые Хельмер перестает красоваться, говорит просто, без ложного пафоса, сидит смирно, покорно выслушивает упреки жены. Конечно, внезапно покинутого несчастного Торвальда становится очень жалко, тем более что вина его не так уж велика: он ведь только и делал что демонстрировал свою натуру, вольно ж Норе было закрывать глаза на его истинную сущность. Нора видела в своем муже то, что хотела видеть (так кинозрительницы видят в экранной «звезде» воплощенный идеал). Кино, таким образом, не только подсказало стилистику спектакля, здесь содержательная ассоциация. «Мираж синема» — призрачный, иллюзорный мир, покоряющий воображение, становящийся реальнее действительности. В таком мире фантазий жила Нора, она создала искусственный, приукрашенный, «загримированный» образ, безусловно поверила в его реальное существование и ждала от него присущих Герою и Кумиру действий. Фантазии Норы касаются не только Хельмера. Ее воображение рисует удивительные картины чудесного избавления. С горящими глазами она рассказывает Кристине о богатом старике, неожиданно оставляющем ей по завещанию все свои капиталы. Прозаическая фру Линне, не привыкшая витать в облаках и предаваться мечтам, даже не сразу понимает, что Нора все это выдумала — так ярок и подробен рассказ. Кажется, Нора где-то не раз видела подобную сцену. Другие, более мрачные, но все равно красивые фантазии — мысли о самоубийстве — тоже воспроизводят поведенческую модель героини романа или жестокой «фильмы». Когда же эти шаблоны оказываются не применимы, Нора надевает тяжелое черное пальто и уходит. Киносеанс окончен, стрекочущая лента оборвалась, тапер умолк. «Темно, чрезвычайно темно». …Марина Солопченко играет Нору свободно, глубоко, многопланово. В начале спектакля, до возникновения угрозы в лице Крогстада, белочка-Нора наслаждается счастьем. Она даже как-то не очень мила в своей, действительно, «беличьей», «зверьковой» радости из-за директорской должности, которую получил Хельмер, из-за ДЕНЕГ, которыми муж буквально осыпает ее. Нора-лакомка, Нора-лгунья, Нора-актриса. О, как она ластится и льнет 4 к Торвальду, как щебечет и лепечет, какие томные позы принимает, как стреляет глазами! Бренчит фортепьяно, мелькает свет… Шантаж Крогстада, страх перед разоблачением ее тайны — конечно, это суровое испытание для малютки-Норы. Томительное ожидание катастрофы и вера в приближающееся «чудо» доводят героиню почти до экстаза, но именно страдания делают Нору прекрасной. Когда Крогстад буквально — физически — пытается повергнуть ее в прах, то есть хватает за руку и бросает на пол, она падает легко и плавно, как шелковый платок, будто в ее теле вовсе нет костей. Конечно, картинность этого движения подчеркнута и вызывает улыбку, как и весь поединок с комически-демоническим злодеем. В. Кухарешин-Крогстад взмахивает черными крыльями — рукавами плаща, нападает на дрожащую жертву, нависает над ней в угрожающих позах. Нора то вздымает руки в немой мольбе, то простирает их к небу, то бессильно опускает. Однако чем дальше, тем меньше в трепетанье Норы оказывается искусственного и манерного. В голосе становятся более слышны низкие грудные ноты. Лицо, в начале очень подвижное, с постоянно меняющимся выражением, озаряется каким-то внутренним светом — тревожным, но стойким. Легендарная тарантелла — последний всплеск нервической энергии. Солопченко-Нора не пляшет, она мечется, как раненая птица. (И в этой сцене режиссер не удержался от иронии по поводу Хельмера: пыжась от гордости и собственного превосходства, он с комическим усердием вытанцовывает фигуры тарантеллы.) Больше такой Норы мы не увидим. Она станет тихой, мягкой, серьезной. Вот она, покорившаяся судьбе, ждет, пока Торвальд прочтет письмо с разоблачением. Нора входит в ту самую не имеющую названия выгородку, в прозрачную кабинку, где развешены милые ее сердцу фотографии. Она молится. Яркий свет сверху льется на нее, пульсируют аккорды. Но хрупкий домик не может защитить. Хельмер резко рвет с нее шаль, потом обрывает с нитей фотокарточки, бросает все это на пол — нитки болтаются, «елка обобрана и обтрепана» (ремарка Ибсена), маленький мир разрушен. Нора все стоит и молчит, глядя куда-то вверх, это бесконечное безмолвие длится слишком долго, лицо мертвеет, застывает. А потом фру Хельмер в черном пальто, застегнутом наглухо (в этой одежде Нора становится похожа на Кристину), садится на табуретку, приглашает и Хельмера в свой разоренный домик. Они сидят как в исповедальне, положив руки на колени, не глядя друг на друга. Печально и сосредоточенно Нора делает из фольги фигурку человечка и говорит о том, что она никогда не была счастлива, что и отец, и Хельмер только забавлялись ею, как куклой, что она прежде всего человек, а уж потом жена и мать… Но, в сущности, какая разница, что именно говорят люди, когда хотят сказать только одно: «Я не люблю тебя больше». Прощальные слова, объясняющие Торвальду, в чем именно она обманулась, Нора произносит, поднявшись на маленький балкончик над сценой. Луч света медленно гаснет на ее лице, оно меркнет, пропадает, скрывается во тьме. Покинутый Хельмер садится на поставленные друг на друга табуретки, поджав ноги, как большая одинокая птица в опустевшей клетке. Простой, подлинно серьезный, ясный финал. Кончилась прелестная игра с вечным весельем и переодеваньями, «люди, которые играли в игры», расстались, потеряв хрупкую иллюзию счастья. Остается только суровая правда жизни, которая обступает нас со всех сторон, как темнота холодной ночи за стенами кинозала. Июнь 2003 г. Евгения Тропп театральный критик, преподаватель СПГАТИ, редактор «Петербургского театрального журнала». Печаталась в журналах «Театр», «Театральная жизнь», «Искусство Ленинграда», «Московский наблюдатель», «Петербургский театральный журнал», петербургских и центральных газетах. Живет в Петербурге.