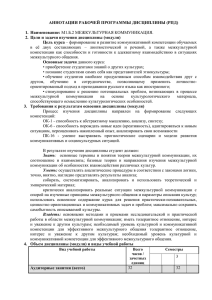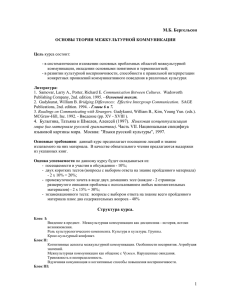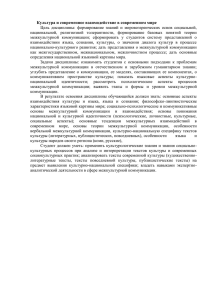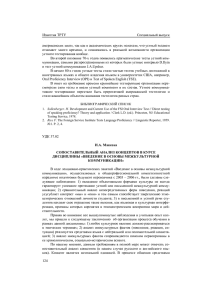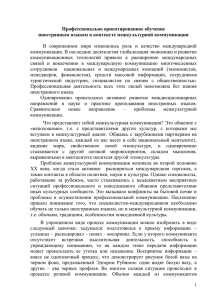Кашкин В.Б. Маркеры своего и чужого в межкультурном диалоге
advertisement
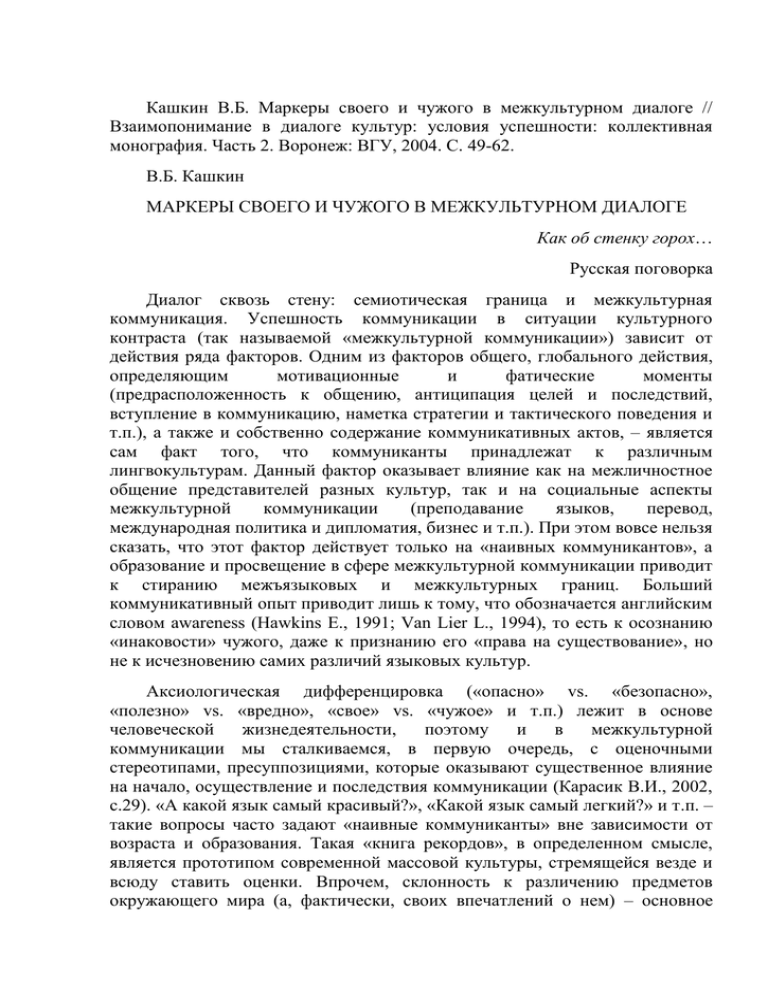
Кашкин В.Б. Маркеры своего и чужого в межкультурном диалоге // Взаимопонимание в диалоге культур: условия успешности: коллективная монография. Часть 2. Воронеж: ВГУ, 2004. С. 49-62. В.Б. Кашкин МАРКЕРЫ СВОЕГО И ЧУЖОГО В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ДИАЛОГЕ Как об стенку горох… Русская поговорка Диалог сквозь стену: семиотическая граница и межкультурная коммуникация. Успешность коммуникации в ситуации культурного контраста (так называемой «межкультурной коммуникации») зависит от действия ряда факторов. Одним из факторов общего, глобального действия, определяющим мотивационные и фатические моменты (предрасположенность к общению, антиципация целей и последствий, вступление в коммуникацию, наметка стратегии и тактического поведения и т.п.), а также и собственно содержание коммуникативных актов, – является сам факт того, что коммуниканты принадлежат к различным лингвокультурам. Данный фактор оказывает влияние как на межличностное общение представителей разных культур, так и на социальные аспекты межкультурной коммуникации (преподавание языков, перевод, международная политика и дипломатия, бизнес и т.п.). При этом вовсе нельзя сказать, что этот фактор действует только на «наивных коммуникантов», а образование и просвещение в сфере межкультурной коммуникации приводит к стиранию межъязыковых и межкультурных границ. Больший коммуникативный опыт приводит лишь к тому, что обозначается английским словом awareness (Hawkins E., 1991; Van Lier L., 1994), то есть к осознанию «инаковости» чужого, даже к признанию его «права на существование», но не к исчезновению самих различий языковых культур. Аксиологическая дифференцировка («опасно» vs. «безопасно», «полезно» vs. «вредно», «свое» vs. «чужое» и т.п.) лежит в основе человеческой жизнедеятельности, поэтому и в межкультурной коммуникации мы сталкиваемся, в первую очередь, с оценочными стереотипами, пресуппозициями, которые оказывают существенное влияние на начало, осуществление и последствия коммуникации (Карасик В.И., 2002, с.29). «А какой язык самый красивый?», «Какой язык самый легкий?» и т.п. – такие вопросы часто задают «наивные коммуниканты» вне зависимости от возраста и образования. Такая «книга рекордов», в определенном смысле, является прототипом современной массовой культуры, стремящейся везде и всюду ставить оценки. Впрочем, склонность к различению предметов окружающего мира (а, фактически, своих впечатлений о нем) – основное свойство человека, помогающее ему преодолеть страх перед континуальностью вселенной, ведь «ничто так не ободряет, как классификация» (Барт Р., 2003, с.450). Как указывает Ю.М.Лотман, «…одним из основных механизмов семиотической индивидуальности является граница... Это пространство определяется как ‘наше’, ‘свое’, ‘культурное’, ‘безопасное’, ‘гармонически организованное’ и т.д. Ему противостоит ‘ихпространство’, ‘чужое’, ‘враждебное’, ‘опасное’, ‘хаотическое’» (Лотман Ю.М., 1996, с.175). А насколько реальны границы между своим и чужим миром? Ведь даже географическая карта в смысле межгосударственных границ никак не соотносится с природной реальностью, хотя и стремится представить культурную условность как природную неизбежность. Как пишет Ю.С.Степанов, «…эта сфера, «Свои» – «Чужие», как раз такая, где само противопоставление создается не только объективными данными, но и их субъективным отражением в сознании» (Степанов Ю.С., 2001, с.127). Пусть границы классификационной сетки эфемерны, но именно они создают мир, в котором живет человеческий индивид и этническая группа. Для примера эфемерности межкультурных границ стоит вспомнить мифологизацию границы СССР (Над границей тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят). Весьма поучителен пример с межгерманскими границами в новейшей истории. Вначале политическая семиотика создает физическую реальность Берлинской стены. Уничтожение же физической границы вовсе не привело в конце ХХ столетия к уничтожению границы семиотической, т.е. поведенческой. Поменялись знаки: если «при социализме» ФРГ считалось оплотом всех сил зла, то теперь территория бывшей ГДР, а точнее, ее жители, проживающие ныне не только на прежней географической территории получили прозвище Dunkeldeutschland (темная Германия) и т.п. (Bashaikin N., 2000, c.20-26). Подобных примеров более чем достаточно в политической семиологии. Они лишний раз подтверждают, что в природе границ нет, границы проводятся человеком, они семиотичны, культурны, идеологичны, существенны для выживания группы индивидов с определенным стереотипом поведения. Можно добавить еще одно соображение. Как есть внутренняя цензура (так же не имеющая никакой «объективной» опоры), так же существуют и внутренние границы, которые для современной Германии являются, в первую очередь, границами, барьерами межкультурного понимания (Bashaikin N., 2000, c.23-24). Фактор культурной (языковой, семиотической) границы является фундаментальным для межкультурной коммуникации. Само ее начало предполагает, что коммуниканты определяют себя и собеседника в терминах «свой» vs. «чужой» (независимо от качественной оценки). «Своя» и «чужая» речь воспринимается не просто как turntaking (смена ролей) в диалоге, она маркируется как речь (язык, культура и т.п.) представителя, находящегося «за стеной», «за границей» собственного языка и культуры. При этом не важно, ведется ли речь на одном из двух языков, на третьем языкепосреднике, либо с помощью посредника-переводчика. Во всех случаях коммуниканты учитывают и маркируют свою принадлежность к разным культурам. Подобная маркированность не означает непременно противостояния, агрессивной коммуникации – достаточно часто коммуниканты ищут общее поле взаимного понимания, сближая детерминированные лингвокультурой мировосприятия для достижения успешности коммуникации. Коммуникативный баланс поддерживается двумя конкурирующими принципами: симпатии и антипатии, взаимодействия и воз-действия. Вне зависимости от предпочтения того или иного принципа в конкретном коммуникативном акте либо событии, взаимное признание наличия семиотической границы является константным для межкультурной коммуникации. Успокоительная эфемерность стереотипизации. Многие исследователи наивных взглядов на язык отмечают, что он «…получил в обыденном сознании больше отрицательных, чем положительных коннотаций» (Арутюнова Н.Д., 2000, с.12). «Иностранный язык» в этом плане преуспел в наибольшей степени (если таковой вообще существует, ведь употребляя выражение «иностранный язык» или даже «ин-яз» мы не имеем в виду никакого конкретного языка, а скорее систему представлений, фобий и страхов о предыдущем опыте общения с иностранцами либо с иностранными текстами). Возможно прав Д.Мацумото, утверждая, что «эффект иностранного языка» связан с временным снижением мыслительных способностей людей, когда они используют иностранный язык (Мацумото Д., 2002, с.273-274). Принижение собственных сил вызывает у человека вполне естественную защитную реакцию в виде стереотипов, представлений и предрассудков, комплексов дискурсивных действий и т.п. Стереотип создает идентичные впечатления о любом представителе некоторой социальной группы, по всей видимости, необходимые для определения нашего отношения к ней, нашего способа поведения в отношении к ней, нашего способа приспособления к социальной среде, состоящей из отдельных индивидов. Стереотип этнокультурной и лингвокультурной группы стирает границы между индивидами, но проводит, закрепляет и поддерживает границы между самими группами. В целом, стереотипизация реакций человека, его поведения экономит усилия, снижает неопределенность существования, позволяет человеческому существу адаптироваться к окружающей социальной среде (Lippman W., 1922, с.81, 95). Стереотип, как правило, аксиологически и эмоционально маркирован. Внешняя, «чужая» социальная группа часто оценивается как нижестоящая. В то же время, этноцентризм, как тенденция «оценивать (курсив наш – В.Б.К.) мир с помощью собственных культурных фильтров» сам по себе ни плох, ни хорош, это «нормальное следствие социализации и приобщения к культуре» (Мацумото Д., 2002, с.74-75). Можно, таким образом, вести речь о гибком, либо негибком этноцентризме (Там же, с. 77). Подготовка специалиста в сфере межкультурной коммуникации предполагает развитие определенной степени гибкости (связанной с проницаемостью, но не с полной стираемостью границ). Исходная позиция «непросвещенного» пользователя менее гибка, иногда неприятие чужого переносится и на межкультурного посредника: Они нас бомбят, а Вы их язык учите! (сказано с укором, из фильма о войне). В лучшем случае преподаватель иностранного языка воспринимается как отчасти не-свой: Нерусская она какая-то, сразу видно – «англичанка» (из разговора о школьной учительнице). «Понять другого» непросто. Человек понимает только то, что уже сумел понять, узнавание легче, «комфортнее», нежели познание нового – ср. идею «дискурсивной реальности комфорта» у А.А.Филинского (Филинский А.А., 2002, с.56-57, 85 и др.). Ведь, как уже говорилось выше, язык и другие коммуникативные системы, в определенном смысле, произошли из страха перед непознанной нерасчлененностью окружающего мира. Познанный, расчлененный и обозначенный мир воспроизводится в повседневном дискурсе как «свой», «безопасный», комфортный, не-агрессивный. Стереотипы своей и чужой культуры успокаивают, создают и поддерживают эфемерное чувство безопасности. Дискурсивный комфорт, который индивид создает и старается поддерживать в стабильном виде, является реакцией самосохранения, которая проявляется в стремлении сохранять привычные, комфортные дискурсивные практики, обеспечивающие дискурсивную идентичность или выживание. Даже манипуляция, то есть создание новой реальной реальности при сохранении реальности дискурсивной, опирается на существующие комфортные практики: традиции, предрассудки, мифологемы и т.п. (Филинский А.А., 2002, с. 59). Любой дискурс направлен не на передачу информации; основной функцией дискурсивной деятельности является делимитация, отграничение коммуникативного и жизненного пространства. Коммуникативное поведение направлено на идентификацию со ‘своей’ аудиторией и дистанцирование от ‘чужой’. Межкультурный дискурс связан с объединением масс и групп индивидов («ориентирующая функция», по А.А.Филинскому) и отграничением их от других групп индивидов по параметру интерпретации социальной реальности («дискурсивное конструирование социальной реальности»). Идентификация и дистанцирование являются взаимодополнительными процессами, двумя сторонами одной семиотической границы. А.А.Филинский, вслед за М.Л.Макаровым, разграничивает дискурс идентичности и дискурс отчуждения в сфере политики (Там же). Вероятно, подобный подход применим и в сфере межкультурной коммуникации. В наивных взглядах, приписывающих оценки той или иной культуре, знакам той или иной культуры, нарушается принцип системной конгруэнтности (соответствия системе, совместимости с ней): знаки, принадлежащие иной семиотической системе, иному культурному коду, иному языку интерпретируются через посредство своей собственной системы, своего языка, своей культуры (Кашкин В.Б., 2003, с.89-90). Но любая семиотическая система есть система условностей, ведь как писал В. фон Гумбольдт: «Каждая нация имеет свое понятие о естестве». Межкультурный дискурс (в особенности в стремлении успокоить, обеспечить выживание, защитить свое культурное пространство от чужого) представляет условно-культурное как естественную, природную или псевдоприродную необходимость (ср. Барт Р., 2003, с.66, 426). Маркирование семиотической границы в межкультурной коммуникации. Маркеры своего и чужого в межкультурной и внутрикультурной коммуникации о межкультурных отношениях распадаются на три уровня: û уровень общекоммуникативных установок («свой» vs. «чужой» язык, культура) – уровень системы; û уровень концептов («свое» vs. «чужое» слово, имя, понимание слова и т.п.) – уровень элементов; û уровень коммуникативного поведения («своя» vs. «чужая» модель поведения, речь) – уровень дискурса. Общекоммуникативные установки. Этимология слова чужой связана с чудной «необычный, странный» (ср. Степанов Ю.С., 2001, с.140). Свой же язык связывается с ясностью, прозрачностью, понятностью (переосмысленное слово deutsch – andeuten). Подобное «наивное» представление в той или иной мере присуще всем коммуникантам, вне зависимости от степени их просвещенности в сфере научных основ межкультурной коммуникации. В социальном плане общая оценка чужого языка («языковой имидж») проявляется в массовой культуре и литературе, в образовании, в экономикополитических предпочтениях и т.п. Подобная оценка складывается из множества субъективных оценок и предпочтении и, в свою очередь, влияет на последние. Например, выбор иностранного (первого, второго, третьего и т.д.) языка в сфере образования и самообразования во многом связан не только с экономической и культурной ситуацией в мире, но и со сложившимися стереотипами, мифологемами. Так, например, в современной России считается, что испанский язык легче немецкого или французского, поэтому студенты языковых факультетов предпочитают в качестве второго языка испанский (хотя экономически сейчас более выгоден немецкий). Действительно, при пересечении границы гумбольдтианского круга создается ситуация языкового и культурного контраста. В результате возникает бытовая аксиология в форме стереотипов собственного коммуникативного поведения в иноязычной и инокультурной среде, и в виде языкового или этнического ‘имиджа’, системы мифологем, стереотипов того или иного языка или этноса в массовом сознании (Shuy R.W., 1981, с. 315326). Мифы о чужих языках и народах (мифология семиотической границы) соотносятся со степенью сформированности толерантного сознания в данном социуме и с поведенческими стереотипами отдельного пользователя языка и носителя культуры. Многие мифологемы имеют интертекстуальную опору (Великий и могучий русский язык; No hay más dulce que el habla castellana и т.п.) и постоянно воспроизводятся в дискурсивной деятельности, вновь и вновь создавая интертекст. Практически все мифы о чужих языках и культурах выступают как мифы тоталитарного действия, разделяемые большинством респондентов. Носители русскоязычной культуры самым красивым языком считают французский или русский (50,0% по результатам опроса), а самым некрасивым – немецкий (37,5%). Французский язык пригоден для объяснения в любви; для комплиментов; для стихов о любви; для того, чтобы говорить красиво. Характерные черты гетеростереотипа французов в глазах русских: вежливость (галантность), чувство юмора, эмоциональность (даже любвеобильность). Есть мифы о самом трудном (китайский), самом правильном (русский) и т.п. языках. Немецкий язык считается грубым, жестким, варварским; украинский – смешным, глупым и т.п. Немецкий язык пригоден для войны; для военных действий; для угрозы; для разговора о спорте; украинский – для того, чтобы смешить людей. Как правило, наивная аксиология приписывает положительные качества родному языку (самый красивый, правильный, точный и т.п.), чужие же языки оцениваются в рамках наивной картины мира в зависимости от территориальной и исторической близости либо удаленности. Наивные пользователи языка часто высказывают ‘странные’ мнения: Украинский – это такой язык, который был специально придуман, чтобы смешить людей; и наоборот: в постсоветской Украине националисты считают русский язык вульгарным и грубым, запрещая исполнение песен на русском. Разумеется, в национальной концептосфере дается оценка только тем языкам, которые тем или иным образом значимы для данной культуры. Это либо языки территориально близких народов (финский, украинский и др.), либо культурно связанных народов, международные языки-доминаторы (английский, китайский и др.). Мифологемы. Этнонимы в рамках наивной картины мира позволяют выявить те аспекты ‘трения слова о внесловесную среду’ (выражение М.М.Бахтина), которые остаются скрытыми, когда мы рассматриваем язык как систему отношений слов. Человек никогда не использует слова ради слов: он живет и действует, используя слова для организации своего и совместного общественного опыта: центр всякого высказывания лежит вовне, в социальной среде (Волошинов В.Н. (М.М.Бахтин) 1993, с.77-82, 102 и др.). Слово неразрывно связано с социальным действием, поэтому дискурсный анализ функционирования этнонима как вербальной мифологемы выявляет аспекты языкового существования в условиях межкультурного контраста. Подобных примеров много: Типичный немец, такой педантичный, Эмоционально жестикулирует, как истинный итальянец, Типичный английский юмор или: Он русский, это многое объясняет – выражение, которое стало рекламным девизом российского блок-бастера, режиссерпостановщик которого сам постоянно претендует на роль общенациональной мифологемы. За словами русский, англичанин, француз, немец, итальянец и др. всегда стоит нечто большее, чем некоторая группа людей. Употребление этнонима вызывает в сознании пользователя языка свернутые в единый образ воспоминания о предшествующих контекстах его употребления, оценки соответствующих этнических групп, эмоциональное отношение к ним и т.п. То есть, этноним в межкультурном дискурсе скрывает за собой миф как свернутое руководство к действию: «Myth does not limp but it leaps» (McLuhan M., 1995, c.361). Выше уже отмечался интертекстуальный характер дискурса в условиях межкультурного контраста. Можно говорить о ретроспективной интертекстуальности (памяти слова), которая присуща не только этнонимам, но и в принципе всем словам и отрезкам дискурса. Особенность же лексемыэтнонима и стоящего за ней мифологизированного концепта в том, что последняя характеризует не референт «третьего порядка», а одного из возможных участников коммуникации. Помимо того, этномифологема приписывает возможному собеседнику классификационные признаки еще до вступления в коммуникацию, и последствия этой антиципации прослеживаются на протяжении всего коммуникативного акта или события, на протяжении всей истории межкультурных контактов. Предвосхищение и предписывание определенного отношения к возможному коммуниканту можно считаеть эффектом опережающей интертекстуальности. В определенном смысле, совокупные индивиды (нации) также состоят в коммуникативных отношениях в рамках постоянно текущего процесса межкультурной коммуникации, взаимное определение ролей в которой управляется этнонимами и вызываемыми ими стереотипами. Кстати, только в этом смысле оправдан сам термин «межкультурная коммуникация», ведь в реальной ситуации в коммуникативных отношениях находятся не культуры, отдельные индивиды, принадлежащие к разным культурам. Обычно, в развитие идей Липпмана, выделяют четыре разновидности этнокультурной стеретотипизации: простые авто- и гетеростереотипы (что мы думаем о себе и о «чужих») и переносные (projected) авто- и гетеростеротипы (что мы предполагаем о том, что ‘чужие’ думают о нас и о себе самих). Простой автостереотип финнов: финны считают себя трудолюбивыми и честными. Простой гетеростереотип финнов: финны считают шведов гордыми и самолюбивыми. Переносный автостереотип финнов: финны полагают, что шведы считают их самих (финнов) тупыми и отсталыми. Переносный гетеростереотип финнов: финны полагают, что шведы считают себя умными и цивилизованными (Lehtonen J., 1992). А вот пример гетеростереотипа «русские глазами финнов» (Кашкин В.Б., Пёйхёнен С., 2000, с.62-70): …русские довольно ленивые люди. Они даже не стараются строить свою страну, чтобы она ‘стала на ноги’. Русские только жалуются, что у них все плохо. Русские бедные и одеваются в старомодные коричневые и серые одежды. У русских женщин много косметики на лице и они любят одеваться в короткие юбки и обувь на каблуке. Русские знают, как веселиться: они много пьют, танцуют и поют. Те русские, которые богатые, вероятно, работают для мафии или просто спекулянты (автор благодарит студентов и коллег из университета г.Ювяскюля, участвовавших в интервьюировании во время стажировки по гранту Академии Финляндии). Во всех разновидностях стереотипизации отношения и коммуникативного поведения просматривается единый принцип. Даже определяя другую нацию, народ, по принципу бинарной оппозиции, имеет в виду самого себя, свои собственные характеристики, свои границы в поведенческом континууме. Если ‘они’ – бездельники, то ‘мы’ почти наверняка – трудолюбивые (и наоборот). Следует, впрочем, отметить, что автостереотип далеко не обязательно положителен: русский автостереотип в качестве «самокритики» включает такие концептуальные единицы, как лень (Иван на печи) и пьянство. Итак, этнос, идентифицируя себя через дискурс своих представителей, проводит границу собственного этнокультурного пространства. В целом, представляется более уместным говорить не столько о концептах «свои» vs. «чужие», сколько о целом концептуальном поле, ср. этнические поля у Гумилева (Гумилев Л.Н., 2001, 309-314). Семиотическая граница коммуникативной личности и дискурсивное поведение. Имя, с которым человек «идет по жизни» также принадлежит к концептуальному слою дискурса. Фактически, имя (как и имя этноса) – это мифологемный маркер концептуальной программы жизни человека. Разумеется, это следует понимать не в том смысле, что имя какими-то своими чертами предопределяет судьбу человека, а в том, что в определенном социуме складывается система представлений об именах. Именно на эту систему представлений и опирается мифологема имени собственного. Среди имен собственных особой маркированностью и концептуальной «заряженностью» обладают иноязычные, инокультурные имена. Многие заимствованные тем или иным социумом имена обладают исторической памятью, ретроспективной интертекстуальностью: Фидель, Адольф в России, шведские имена в Финляндии (Оути – имя одной из королев) и т.п. Их использование связано со стремлением либо установить межкультурный диалог и взаимопонимание («стирание» границы), либо показать особые качества, «инаковость» человека-носителя иноязычного имени (подчеркивание границы). Человек проходит две основные стадии самоидентификации в жизни. Первая – отграничение себя как индивида от социальной среды, состоящей из других индивидов. Вторая – отграничение себя как вида или подвида (нации, народа, социума, общности) от других социальных групп. Имя человека и имя народа (антропоним и этноним) являются двумя центрами мифологической системы, организующей жизнь и выживание индивида, сотрудничество и совместное выживание совокупности индивидов. Это я и Это мы – первичные элементы социального дискурса, определяющие границы внутреннего и внешнего микромира, среды обитания человеческой особи. В этом смысле делимитативная и конституирующая функция этнонима напоминает роль групповых дискурсивных маркеров в политическом или возрастном дискурсе, в других его сферах. Политические партии и группировки, банды и подростковые группировки, болельщики футбольной команды и фанаты рок-звезды в дискурсивном и – шире – коммуникативном поведении проявляют удивительную, может быть для них самих, но неудивительную для исследователя универсальность. Они объединяются по признаку подобия и заставляют других членов группировки вести себя в соответствии с внутренними коммуникативными нормами. Они отделяют себя от других по тем же самым признакам норм коммуникативного поведения. Маркерами границы служат мифологемыавтономинаты и мифологемы-гетерономинаты (в том числе – и в особенности – с отрицательными коннотациями: чухонцы, фрицы, бульбаши, макаронники, черные, лохи и т.п.), дискурсивное поле номинантов (грязные русские; он действовал очень аккуратно, по фински), нормы дискурсивного и коммуникативного поведения. В ряде случаев дискурсивная реакция коммуниканта может выражаться в различных вербальных симптомах «культурного шока»: «Почему они («чужие») делают так-то, а не делают вот так-то?!» и т.п. (Стернин И.А. 2001, с.153-156). Ряд авторов выделяют также невербальные маркеры «чужого»: внешние признаки, одежда и украшения, взгляд и общее выражение лица, кинесика и проксемика, даже запах (Донец П.Н., 2002, с.42-47). Маркер чужого социума (чужой социальной группы) в процессе социализации индивида становится маркером его собственной границы как границы коммуникативной личности. Маркировка «чужого» в дискурсивном поведении проявляется, в первую очередь, в вербальном выражении той или иной оценки коммуникативного поведения представителя иной культуры. Данная оценка может быть как положительной, так и отрицательной. Неизменным опять же остается факт признания инаковости чужого, проявляющийся в коммуникативном поведении в ситуации культурного контраста. Этнолингвистическая и межкультурная компетенция. Маркеры своего и чужого не являются раз и навсегда установленными, они проявляют территориальную, индивидуальную и историческую неоднородность. Наиболее дифференцированы гетерономинаты в пограничных областях, именно здесь присутствуют в достаточной степени отрицательные коннотации, в центре собственной этнокультурной среды образ чужого менее эмоционален, более взвешен. Баланс негативных и позитивных коннотаций в мифологемах-этнонимах меняется также и в зависимости от исторической эпохи, исторических и интертекстуальных событий (прецедентные тексты могут в значительной степени изменить существующий стереотип). Различия в понимании маркеров «своего» и «чужого» зависят также от социальной функции и предыстории конкретного индивида. Например, межкультурные посредники более толерантны в отношении негативных коннотаций, зачастую вовсе их отрицают, у них вырабатывается осознанный метакоммуникативный взгляд. Таким образом, этнолингвистическую компетенцию можно воспитывать. Исследование коммуникативного поведения в условиях акультурного контраста призвано внести существенный вклад в подготовку учебных пособий по иностранным языкам и культурам. Фактически, специалист по иностранным языкам, межкультурной коммуникации и переводу не может считаться полностью сформировавшимся, если его языковые знания и навыки не дополняются знанием коммуникативного поведения и умением его правильно интерпретировать в соответствующих ситуациях. Многие современные авторы отмечают «культурогенность» учебного материала как его способность выступать маркером «своего» и «чужого» в условиях межкультурного общения (Гришаева Л.И., 2003, с. 66-67). Литература Арутюнова Н.Д. Наивные размышления о наивной картине языка // Язык о языке. – М.: Языки русской культуры, 2000. – С.7-20. Барт Р. Общество, воображение, реклама // Система моды: Статьи по семиотике культуры. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003. – С.442-455. Гришаева Л.И. Культурогенность как критерий отбора учебного материала при межкультурно ориентированном преподавании иностранного языка // Формирование социокультурной компетенции средствами иностранного языка: Сборник научных статей. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2003. – 348 с. Гришаева Л.И., Цурикова Л.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации: Учебное пособие. Воронеж: ВГУ, 2003. 369 с. Донец П.Н. Сигналы «чужого» в межкультурной коммуникации // Межкультурная коммуникация и проблемы национальной идентичности: Сб. научных трудов / Ред. Л.И.Гришаева, Т.Г.Струкова. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2002. – С.42-47. Донец П.Н. Основы общей теории межкультурной коммуникации: научный статус, понятийный аппарат, языковой и неязыковой аспекты, вопросы этики и дидактики. – Харьков: Штрих, 2001. – 386 с. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Волгоград: Перемена, 2002. – 477 с. Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2003. – 175 с. Кашкин В.Б., Пёйхёнен С. Этнонимы и территория национальной души // Русское и финское коммуникативное поведение. Вып.1. – Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. – С.62–70. Леонтович О.А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения. – Волгоград: Перемена, 2002. – 435 с. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. – М.: Языки русской культуры, 1996. – 464 с. Мацумото Д. Психология и культура. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2002. – 416 с. Степанов Ю.С. Константы: словарь Академический проект, 2001. – 990 с. русской культуры. – М.: Стернин И.А. Введение в речевое воздействие. – Воронеж: Полиграф, 2001. – 252 с. Филинский А.А. Критический анализ политического дискурса предвыборных кампаний 1999-2000 гг. / Автореф. дисс. … канд.филол.наук. – Тверь: Тверской гос. ун-т, 2002. – 16 с. Bashaikin N. Das Eigene und das Fremde: Das Deutsche zehn Jahre ohne Mauer // Свое и чужое в европейской культурной традиции: литература, язык, музыка. – Н.Новгород: Деком, 2000. – С.20-28. Hawkins E. Awareness of Language: An Introduction. – Cambridge: CUP, 1991. Lehtonen J. Cultural stereotypes as a projection of national self-consciousness // Proceedings of the 9th Annual Intercultural and International Communication Conference. – Miami: University of Miami, 1992. – C.144-146. Lier L. van. Language Awareness, Contingency, and Interaction // AILA Review. – 1994. – 11. – C.69-82. Lippmann W. Public Opinion. – New York: Harcourt, Brace, 1922. Shuy R.W. Variability and the Public Image of Language // TESOL Quarterly. – 1981. – 15:3. – C.315-326.