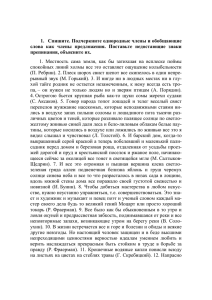Лабоцкая Лидия Иосифовна - Женщины. Память. Война.
advertisement

Лабоцкая Лидия Иосифовна, 1930 г.р. Р – Войну помню, но так, просто помнится, так это, видимо, запомнилось на всю жизнь. Вот для меня лично война началась, когда немецкие солдаты ехали на мотоциклах с овчарками. А потом за ними шли танки. Вот мы были в это время на хуторе, из Мира тогда все сбежали, кому куда удалось. У нас так там был свой хутор. Но моя мама при Польше занимались сельским хозяйством. У нас, был там свой дом, 17 гектаров земли, и все. Но потом, когда уже пришла советская власть, как у нас называют, «тыя Саветы». Мама работала в школе учительницей, мы все учились в школе, и поэтому жили, вот, зиму, а потом уже, потом и вообще, лето в Мире на квартире. А свое хозяйство обрабатывали, ну, как теперь, что на дачах. Но, когда началась война, мы, конечно, сразу поехали на хутор, и с нами все наши знакомые, близкие. Казалось, что там будет спасение, потому что начали бомбить Мир. И потом начались пожары. И я помню, что все вещи, которые остались, куда-то на улицу вытащили, так и бросили. А сами оказались, успели приехать на хутор. И вот пошли вот эти мотоциклы с овчарками, за ними танки. И мы поняли, что война уже действительно, это не пустой страх, а это действительно, реальность. Но, потом, немцы больше, вот они проехали, где-то, может быть, полдня, ну, и какое-то затишье… И – Ага. Р – Там уже была шоссейная дорога, которая шла от Мира на Столбцы, и уже дальше военные части как-то шли по какой-то более устроенной дороге. Где-то недели две спустя после начала войны к нам на хутор пришла бывшая директор школы Анна Ивановна Сташевская. Она коммунистка, она и ее брат Леонид Иванович Сташевский, вот как-то возглавили всю советскую власть в довоенные годы. Она была директор школы, он, по-моему, председатель, ну, местных депутатов трудящихся. Они очень были, ну, истинные коммунисты, которые старались там жить по всем самым лучшим законам, которые слышали по радио. Наушниками ловили передачи из… И – Из Москвы? Р – Из Москвы, и во все это свято верили. И сразу решили, ну, сделать в Беларуси, самую райскую жизнь, которая была в Восточной Беларуси. Но вот, когда она пришла к нам на хутор, я очень отчетливо ее помню, воспаленные красные глаза, черный платок завязан. Она такая изможденная, устала и говорит, что дошла до Минска, но немцы уже далеко впереди. И она уже поняла (пауза), что дальше дороги нет. И она вернулась. 1 Она жила у нас около недели на хуторе, и все время как-то они с мамой обсуждали эти вот проблемы военные. И она говорит, что она пойдет в Мир, потому, что всю войну она здесь на хуторе не пересидит. И у нее остались там дети, и она еще сказала: «Я никому вреда не сделала, кроме добра. И меня никто не выдаст». Мама еще предложила, что: «Давай я схожу, посмотрю, а ты все-таки, но я менее заметная. И не представляю такого вот значения». Но она говорит, что, вот с этими словами, что люди меня не выдадут. Она ушла в Мир. Через три дня ее расстреляли вместе с ее братом. Они под Мирским замком выкопали, им дали лопаты, выкопали себе могилы. И их расстреляли. Меня там не было, но вот мои одноклассницы, с которыми вот, я Вас хочу познакомить, тогда ходили и смотрели с таким ужасом. Но, действительно, видели вот эту страшную картину. Школу потом назвали ее именем, именем Сташевской. Ну, и вот, тот ужас, что ни сегодня – завтра должны и мою маму расстрелять, вот он как-то со мной был все время. Потому что не знали: всех, не всех, почему, отчего. Вот какое-то подспудное чувство страха вселилось. Это первый был, собственно, расстрел. Ну, потом началась.., пошли молодые люди, которые сказали, что из советских тюрем они идут. А это были наши солдаты, которые переодевались на ходу, кто во что им там давал. И остались у нас на хуторах, стали просить, чтоб им там разрешили работать на сельском хозяйстве, чтоб как-то. Все ж верили, что война эта вот-вот закончится. Что это надо какие-то месяцы переждать. Но, и когда.., ну, может, около года, с полгода прошло после этого, как у нас они остановились, расселились по нашей местности. Их решили собрать и отправить в Германию на работу. И вот тогда пошли в партизаны. Это было начало местного партизанского движения. Ушли в лес, но потом, когда уже расстреляют тех, от кого ушли вот эти… И – Партизаны? Р – Партизаны и так далее. Ну, вот стрессовыми постоянно ситуациями было, что люди как-то стали в ополчение. Наши местные, ну, казалось, абсолютно никчемные мальчики, какие-то начали динамиты доставать и идти на шоссейную дорогу, взрывать немецкие машины. И не столько они делали вреда, сколько сами себе. Потому что давали нам пятнадцать минут вынести вещи, и за каждую взорванную машину или попытку взорвать ее расстреливали несколько человек и поджигали дома. И – Ага. 2 Р – До трех километров от места происшествия. И вот началось ещё дополнительно, вот, такое, ну, не организованность, что ли, не понимание ситуации. Но очень быстро люди образовывались тогда, как-то мгновенно, и поняли, что этот риск не лучший способ борьбы и… И – А что известно Вам о партизанском движении? Р – Ну, вот, когда началось партизанское движение, параллельно с ним началось жесточайшее мародерство. Из соседних деревень ночью приходили там, где их меньше знают, и забирали абсолютно все. Вначале по крупному там, лошадь, корову, то, что было. Потом – мелкие вещи: бельё, посуду, зерно - ну, абсолютно всё. Когда уже больше грабить было нечего, так ставили к стенке и требовали: «Дай самогонки, дай сало!». То, чего давным-давно не было и в помине. Вот у меня воспоминания детства, что, если ложки еще какие-то остались, там какая-то сковорода, мы каждый вечер прятали это в картофлянник, то под елки выносили, чтоб хоть что-то уцелело назавтра. В чем сварить какую-нибудь картошку или еще что-то. Но, из партизан, которые действительно, ну, хочется сегодня вспомнить, это был вот отряд Дмитрия Денисенко. Его звали Митька. Они, действительно, настолько как-то поднимали дух. Вот, допустим, в Мире, значит, произносят, собирают, собирают, почему-то и я была на этом сборище. И там: «…за пособничество партизанам через повешенье…», и так далее угрожающее… В это время Митька, его звали Митька, отряд Митьки зашли в мирской магазин, это в двадцати метрах от того, где идет собрание, забрали все, что им надо, все продовольствие. Ну, им же тоже надо попитаться, какие-то медикаменты и скрылись. Ну, это уже было всеобщее веселье, хоть кто-то там был наказан. В общем, и эти ребята, которые уходили с наших хуторов потом в партизаны, вот они, действительно, были организованы. И, если они приходили, допустим, ночью, просили там какой-то перевязочный материал или еще что-то, им всегда были рады. Но было, такой-то вот очень страшный момент, который тоже держал всех в жесточайшем напряжении, что, допустим, приходят переодетые полицаи. В полицаи часть населения пошла. И начинают спрашивать, как Вы тут к немцам относитесь, Вы пособничаете, и так далее? То есть они под видом партизан. И, если кто-то не так что-то сказал, значит, значит… И – Забирают? Р – Забирают. Приходили партизаны, переодетые в полицаев, так, чтобы не бросаться в глаза – и тоже самое. Это надо было быть какими-то супердипломатами, 3 чтобы остаться в живых. И маленькому, и старому, потому что чуть сказано им не то, сразу вызывало за собой кару по тем временам. Так, ну, потом, следующее, когда уже слушали радио, откуда оно было – не знаю. О победах на фронте, выступление Сталина. Это было тоже святым делом. Я не знаю, откуда было тогда, вот радовались белорусы, ну, вот, как-то, не знаю, мы, видимо, больше себя чувствовали, чем русские. И – Верили? Р – Потому что мы не жили долго, а воспринимали все, как святую веру. Ну, потом, так же, как началась молниеносная война, так же она и закончилась. Вот эти долгие страшные годы, постоянный голод, постоянное чувство страха, постоянная беспомощность. И страх не столько за себя, сколько, вот, за своих близких. (Пауза) И, казалось, что никогда эта война не кончится. Но ко всему пришел тоже свой час, освободили. И вот, потом эти военнопленные шли. И уже начали как-то, немножко, видно, повзрослели, начали на все смотреть другими глазами, переоценивать какие-то истины. Ну, собственно говоря… И – Ну, а что именно переоценивалось? Р – Переоценивалось то, что, вот, мы – белорусы стали, которые были в оккупации и западники еще, стали людьми третьего сорта, если не хуже. Считалось, те, кто западники, что это враги Советского Союза. И даже, когда я, удалось мне поступить в 49-от году в университет, так это было, это было какое-то чудо, что приняли. Потому что мы враги были, все равно считались врагами Советского Союза чуть ли не. А то, что были под оккупацией, это усиливало это… И – Вдвойне. Р – Усиливало вину вдвойне. Ну, и вот, за той войной, так и до сих пор, хотя, я считаю, что это самые лучшие люди на планете. Но тогда мы многие. Даже вот теперь мне недавно сказали: «Так это же западники!» Так я говорю, что не знаю, для меня западники – это самые порядочные и честные люди. И вот, ну, и как после войны, так и до сих пор я живу так, как и живут другие. Потому что, как начал с этой нищеты, с этого угнетения, с этого ощущения страха, так в нем, собственно говоря, и прожила всю жизнь. Это вот… И – А теперь это у Вас изменилось как-то вот, заново что-нибудь? Вот изменилось отношение к войне? Как Вы смотрите на… Р – На войну? И – Да. 4 Р – Вы знаете, вот мне сначала казалось, что война в Чечне, что это детские забавы, по сравнению с тем, что мы пережили во время Второй мировой войны. И отношение к войне, видимо, это самое черное воспоминание и самое ужасное. Когда от тебя ничего не зависит, ты какой-то муравей, которого могут в любой момент раздавить. И вот еще одна черта в воспоминаниях о войне, я Вам Сташевскую Анну Ивановну вспоминала, лет десять тому назад, судьба не меня свела, а мою приятельницу Веру Федоровну с сыном Леонида Сташевского, то есть расстрелянного вместе. И он с огромной обидой вспомнил мою маму, что она выгнала Анну Ивановну и ее расстреляли, потому что она не дала ей приют. И я говорю, что этого быть не может, я была свидетельницей их встречи и расставания. Она уходила утром, но я не спала, я вообще ловила каждый звук, каждую, так это сказать… И потом вот до меня это дошло в связи с другим событием, сейчас я Вам его тоже напомню. Что она, видимо, не хотела подставить маму, что она дала приют, потому что тогда уже был издан указ, что расстрел, нет, повешенье, повешеньем у нас все пугали, тот, кто приютит или не выдаст, или будет знать, где прячутся коммунисты и не выдаст. И она сказала дома, видимо, детям, чтобы, ну, так сказать, чтобы обезопасить. Ну, это тоже вот, человек этого благородства, белорусского. Даже, он знает, что ее жизнь заканчивается, но она боялась потянуть за собой других. Вот даже вот в этот страшный момент она подумала о моей маме и ее семье. (Пауза) Так, и в связи с этим мне еще вспомнился один эпизод. У нас было начальство, я забыла фамилию, но немец, который был комендант в Мире или, но какое-то, я уже не помню название, но первое лицо в Мире. И – Понятно. Р – И у него была Верочка переводчица, которая, через которую он общался со всем населением. И эта Верочка переводчица была в прошлом женой офицера, у нее была маленькая девочка. И смотрела эту девочку ее мать. И вот мать все время ходила и говорила: «Это ж надо, предалась, отдалась. Мне ж стыдно теперь людям в глаза смотреть. Гестаповская сука!» Ну, по всякому вот, называла свою дочку, но иногда она мне эту маленькую девочку оставляла посмотреть. Говорит: «Мне надо там что-то там в магазин забежать, еще что-то там купить». Ну, какие-то вот там мелкие бытовые, ей надо было устроить свои дела. И вот эта девочка мне очень нравилась. Такая была очень красивенькая, годика три, видимо. И вот после войны я узнала, что эта вот Верочка передавала все сведенья партизанам через свою мать. Мать должна была идти куда-то, значит, к связному. И 5 чтоб отвести подозренье и от своей дочки и от себя, она вот незаметно заходила до подола. Там, вот был, где мы тогда ютились, оставляла эту девочку, сама с кем надо встречалась и при этом поливала грязью свою дочку. Вот мне почему-то, вот, когда я узнала, но я тоже узнала, ну, может, тридцать лет спустя после войны, что это совершенно не та была ситуация, которую мы видели. И теперь ясно, у многих осталась в памяти эта Верочка действительно так. Но хотелось, конечно, чтобы как-то женщин в Беларуси, ну, мы изучили. Но это ужас ведь, согласитесь? И – Да. Р – И психологически, и морально очень трудно было жить вот в такой вот всеобщей ненависти, все ради того, чтоб этим людям помочь. И – Да. Р – Ну, вот это, это война была. (Пауза) И даже вот сколько, уже семьдесят лет прошло, и мне захотелось как-то. Ну, встречаешься в Мире, многие умерли, многие уже как-то уехали. Их потомки остались. Но все равно, когда собираемся, все равно, самые ужасные воспоминания все равно всегда всплывают. Ну, вот. И – А как складывались отношения с немецкой властью? Р – Ну, Вы знаете, мы с ней очень мало общались, с самой немецкой властью. Они, мы, нами полицаи больше руководили. Но полицаи среди полицаев были те, которые шли, чтоб так сказать, И – Помогать? Р – Немножко помогать. А были, действительно, отъявленные сволочи. Тут как, все-таки, видимо, вот у нас один сосед, он отсидел в тюрьме потом, за свою деятельность, пошел комендантом. Вернее, у нас он был, или солтес. Какой-то, была там какая-то пасада, он немецкие распоряжения нам передавал. Так он, собственно говоря, больше всех боялся, чтоб они не наделали вреда. И он каким-то образом все знал, что за чем, и к этому втихоря говорил, что надо лучше делать. Давал советы и вот говорил: «Если б я не пошел, так мало ли кто другой, совершенно бы по-другому вел себя». Ну, вот, так. Немцы вот, как немцы, мы, это мы, вот, были, как-то в изоляции, хуторяне. Но у нас там полицаи, партизаны. А немцы, как немцы, они нас боялись. Они сделали несколько облав на партизан, но партизаны были предупреждены. Как я уже теперь понимаю, что любое отступление партизан готовилось на много раньше, чем на них наступление. То есть у нас как-то в Мире такой вот такой дух порядочности, видимо, продолжал жить и в самые суровые дни войны, что приятно вспомнить, 6 конечно. (Пауза) Ну, а так, вот теперь я очень рада, что наш Мир реставрируется, что там тоже будет центр… И – Да. А как вот, были ли какие-то попытки со стороны немецкой власти организовать что-то, типа колхозов или сдачи там продуктов, вот что-то такое? Р – Было, было, было. И – А как? Р – Было: яйца, масло. Но они брали, они брали, вот приходили, ловили курей, где они могли войти. А если нет, так заставляли, чтоб там что-то им приносили. Но вот лично я с немцами практически не общалась. Ну, там видела, ехали они где-то там, но всегда старались быть на большом приличном расстоянии. Но мне ж было одиннадцать лет, когда началась война. Молодые девочки иногда вот там, ну, их воспринимали как кавалеров. Катались зимой на санях, но их всех очень дружно осуждали, всем Миром. И это были единичные такие вылазки. Хотя ведь молодежи ведь было интересно, что-то. Ну, в целом… (Пауза) Вот, Татьяна, вот может Вас еще что интересует? И – Ну, вот как Вы вот в деревне там, на хуторе? Ну, понятно, что свое вот хозяйство. Ну, а вообще, были какие-нибудь, вот помогали друг другу? Р – Что? И – Вот, связь именно людей? Р – Людей? И – Да. Р – Людей? Вот я на себе могу сказать, что колоссальная была помощь. И отдавали, делились всем. Вот для меня теперь самое вкусное – это помидоры со сметаной и луком, такое вот. И на полотенце льняном такое угостила женщина, у нее еще не забрали корову. И я помню, я такая была голодная, но она так, как гостя приняла в самые какие-то мрачные времена. И дача для меня - это вырастить такие самые помидоры и вспомнить этот самый радостный день, потому что мы такие были голодные постоянно. Но молоко давали бесплатно друг другу. У нас вот была пасека, пчелы. Мы когда-то при Польше 600 килограмм на зиму себе на еду оставляли меда. Мы его ели со всем, и потом погибли пчелы, потому что их, ну, разграбили, не знаю кто, но, видно, более бедные. Пока были, мать, значит, давала всем мед. Нам давали молоко, у кого оно еще было. Потом мы сами пытались что-то посеять, чтоб какую-то картошку вырастить, огурец. Ну, что-то вот такое, ну, самое примитивное. А так доброжелательное было отношение. И война сплачивала, на столько сплачивала, и у людей не было зависти, не было какого-то недоброжелательства. Хотя были, действительно, такие случаи. (Пауза) 7 Вот две подруги, это наши хуторянки. Одна говорит: - А у нас вообще, забрали корову. А она говорит: -А к нам не приходили. - Ну, так я скажу в следующий раз, что у Вас есть еще корова, чтоб забрали. Ну, вот и к ним пришли и забрали корову. И она все, стала первым врагом, хотя к этим не заходили. То есть, поняли, что даже шутить надо думать таким образом… И – Ага. Р – Чтоб не задевать интересы. И – А школы, вот, были? Р – Были, были. И немцы устроили школы. Ну, там шили им мешки, и даже заставляли тех, кто работал учителем до войны, чтобы… Вероятно, для того, чтобы был народ более, так сказать, легче с ним общаться. Вот, допустим, забирали потом в Германию на работу, значит, целый класс, старшеклассников явиться. Потом ребят забирали в какую-то молодежную организацию. Я боюсь ее назвать. И многие шли, потому что была альтернатива: или в Германию на работу, или в эту молодежную организацию. Здесь они давали ботинки и шапку, пиджачок, штаны – обмундирование. И после войны при Сталине вот всю эту молодежь забрали в тюрьму, хотя они еще ничем, вроде, ну, не знаю. Их, и они учились в каких-то ремесленных училищах, какие-то специализации им. Ну, и они считались организованной немцами молодежью. Вот была такая Комарик Веры сестра. Вера старшая, так она и не вернулась, потому что она тоже вступила в эту организацию. Не из каких-то политических убеждений, а просто для того, чтобы выжить. Уже покорности белорусов, так, видимо, нет предела. Все делалось, чтоб как-то выжить. И – А вот, где доставали одежду и какие-то такие предметы, которые, ну, вот?.. Р – Так, спички кололи на четыре части. А там, где когда отступали, отступали наши, тогда в магазинах, кто чем мог, тот запасался. Кто-то сахарин брал, кто-то спички, кто-то соль. А потом менялись. Вот, допустим, я помню, спичку кололи на четыре части. И если зажег эту спичку, там такой «волчий глаз». Из под одеколона наливали туда, керосинка, что ли, тоже бешенные деньги стоил, и такой фитилечек малюсенький, чтоб хоть как-то видеть. Лучины жгли. А обувь обувались, та обувь, которая была довоенная, там где-то кто-то колесо какое-то прикатил, это резали вот эту шину колеса – это были подметки, потому что основное было, чем ходить. Шили из каких-то тряпок себе на ноги. Ходили, Бог знает, как. И я еще после войны чулки не 8 знала как одеть, чтоб не было дырки. Видно, они носились три или четыре года, зашивать уже было ниток не чем. Где-то вытянешь, и так, чтоб только между какой-то юбкой. Ну, там, Бог знает, как ходили плохо. И сапогом вот такое расстояние, чтоб было только чуть-чуть стенка прикрыта. Ходили все зиму с мокрыми ногами, но потом прилезешь на печку отогреешься немножко. Голодные были, вот картошки раз в день поели – и счастливы этим. Вообще, ужасно, я не знаю как, теперь, когда говорят: «Нас не развлекают, клубы не строят, молодежью не занимаются». Вот всегда сравнивается своё, раннюю молодость… И – А как развлекались, вот? Было, вот?.. Р – Ну, Вы знаете, единственное было, ну, вот приходили на посиделки, пряли лен, который сами вырастят. Или были овцы, шерсть где-то делали, пряли и вязали. Это было самое, так сказать, развлекательное мероприятие. И ходили, вообще, во всем натуральном. (Пауза) И – Ага. Р – А покупать. Ну, это уже после войны что-то где-то. А так только что осталось. А при Польше ж никто не делал больших запасов, потому что все было в магазине. Это уже потом, когда этого нету, так начинают запасать, чтоб впрок было. А тогда все что, что тебе надо, ты пошел и купил. Поэтому война, конечно, застала врасплох и в этом плане. И – А церкви работали? Р – Работали церкви, работали. И церкви работали, у нас там, вообще, многонациональное место, там евреи, татары… И – И как уживались? Р – Ой, я Вам еще не рассказала о еврейских погромах. Это еще была очень черная страница нашего Мира. Когда всех в начале войны их собрали в гетто. Мирский замок превратили под гетто. И им нашили желтые звезды шестиугольные или надо было носить повязку с этой звездой, или на одежде сзади и спереди эти две звезды. Я еще встретила девочку, с которой училась в классе. Я говорю: «Господи, а зачем и тебе звезда?» А она говорит: «Чтоб знали, где сердце, чтоб сразу могли убить». И об этом говорилось, вот, совершенно (Пауза) И – Спокойно. И – Вот, как-то, как об обыденном. И вот, потом, когда день расстрела. Но, тоже, они знали, что это будет, потому что многие сбежали, хоть их там и очень караулили. Вот четверо на наших хуторах и войну закончили. Они жили там в сарае и ходили, но они, в основном, воровали. Вот, 9 они, ну, уже иногда потом просили кусок хлеба, картошку, какую-нибудь горячую воду, спичек коробку какую-нибудь, чтоб там себе вскипятить. Но, в основном, очень покорно шли на расстрел. Эти колонны я, естественно, не видела, но вот это громыхание, выстрелы. Они целый день убивали. Ров, где Мирской замок, и там была огромная такая канава, вот, подходили, становились в ряд. Матери держали детей. Потом их, говорят, что драгоценности заставляли снимать, раздевали, хорошие вещи отбрасывали. И покорно принимали смерть. Вообще, это дикий ужас, вот около трех тысяч тогда у нас, которые жили в Мире. И евреи мирские были очень зажиточные. И красивые эти дома, сверкающие жестью, крыши. Казалось, ну, торговля была вся в их руках. Белорусы, в основном, возделывали до того, землю, поляки занимали чиновничьи пасады, евреи – торговля, а татары – огород. Они огурцы выращивали, лук, чеснок, и все это продавали. Но среди всех этих сословий были еще хлопцы, которые могли делать колеса, сани. То есть делали предметы, так сказать, ну, то, что нужно было всем. Допустим, бороны, спружиновки, кузнецы, то есть, все делали, все сами. У нас не было не заводов, ничего. Но были очень мастеровые, добросовестные люди. И то, что сделано руками белорусов, еще тех, за польским часом, еще кое-что у меня сохранилось. Например, льняная, кусок натурального льна спряденного, выпряденного, но это еще за польским часом сделано. И – А как уживались, вот, все вместе, как вот?.. Р – Великолепно! И – Великолепно? Р - Великолепно! И – Не было, вот, никаких обид? Р – На что? Нет, нет. Мы, вот, ходили, у меня подруга одна, Шута Корицкая, она тут, кстати, заслуженный детский врач. Мы ходили с ней в мечеть, хотя не разрешено было. Там надо было разуваться, и, помню, становишься на колени и так вот молились: «Хребу моле, хребу данилес ле. Кита ум Коран…». Так она говорит: «Делайте, как и все, а то выгонят». И мы становились, так, как они садились и делали. Ну, интересно было. Потом, в синагоге, а там же был центр, в Мире, где учили на раввинов. И даже из Америки приезжали сюда. То есть, у нас было так: католики ходили в костел, православные – в церковь. Я учила Закон Божий, начиная с первого класса. К нам поп приезжал, и потом, мы к исповеди мы ходили. Это была панская Польша. К католикам – ксендз, о есть, никто не был обделен. И это было на столько естественно, что мы не знали, что может быть какая-то национальная рознь или… Но, во всяком случае, я 10 этого ни разу не ощутила, ни мои старшие. Единственное, что было при Польше, моя мать, поскольку она не католичка, она не имела права, допустим, работать в школе. У нее было образование, ну, она гимназию при царе закончила. И отец мой белогвардеец был, он шел, отступал с Деникиным, полковник Лаботский. А потом, ну, поскольку, он родом из Мира, потом Деникин на Болгарию, туда, а он остался в Мире. Ну, и покупал он такие вещи, вот у нас была большая энциклопедия. Она и теперь есть у сестры, большой словарь Брокгауза, вот «Мироздание» у меня тут еще осталось, «История земли» Ранке, «Человек», потом барометры, гигрометр, там всякие были приборы, где он… Вот, часы швейцарские были, они там у брата в Витебске на 400 дней завода. Вот, то есть, у него была какая-то тяга к антикварным вещам. А сельское хозяйство для него было тоже, какой-то душой. Вот, я у него это тоже наследовала, я тоже очень землю люблю и работать, и копаться. И это единственное, что никогда, видимо, от чего не устанешь. Вот, и при Польше он просто был «рольником заровы». И – Как? Р – То есть – «примерный крестьянин». А мать была, она не была такой, прелестной крестьянкой, но приходилось все равно работать. Уже в 39-ом году, когда пришли, уже воссоединение Беларуси произошло. И матери разрешили работать в школе, она была до такой степени счастлива, что сказала, что, вот, будет без зарплаты работать за то, что ей дали это право работать. Но это было угнетение, и то, что не разрешали на белорусском языке разговаривать. Мы ж все пшекали, вот, и даже сказали, что даже за пределами школы вы должны говорить на польском языке. Но это было нам все равно, мы знали, что так нам надо себя вести. Мы не пробовали бунтовать. Хотя потом, вот моего отца брали, страх! Те, кто ушли до 23-его года в Советский Союз, те живы остались. И потом мы их понаходили, из Воронежа сестра, она была депутатом Верховного совета даже при Сталине. И когда она приехала, как нас освободили в 49ом, вот перед войной, в 40-ом году. Она приехала и говорит: «О, у Вас сало со шкурочкой!» А мама спрашивает: «А почему у Вас нет?» А она говорит: «Вот, поживете под солнцем сталинской конституции, тогда не будешь задавать такие вопросы». Но тоже, для меня это был абстракцией, это уже позже все прояснилось, вот. А так у нас великолепно, великолепно! И я не знаю, вот мы дружили с детьми осадников. А осадники – это было привилегированное… И – Поляки? Р – Поляки, которые получили земельные наделы лучшие за свои заслуги перед Польшей. Но, то, чтоб мы враждовали – никогда. И тоже делились. Вот, у нас не было помидор, а у них не было огурцов. Я помню, вот воз, приехали, нагрузили воз огурцов. 11 Вот как тогда росли – это тоже уму не постижимо! А они нам привезли целый воз привезли красных помидоров. (Смеется) И – А уже, когда началась война, помогали вот, другим, или как-то?.. Р – Вы знаете, осадники все сбежали, в основном. Поляки отступали и они вместе. А, помогали, помогали, сало приносили. Я помню, я помню, мы какие-то были очень бедные и несчастные, потому что мы жили, переехали вроде как в Мир жить. А потом там, когда началась война и мы пошли на хутор, у нас там все вещи сгорели, практически. А корову, коня забрали под названием партизаны, сразу, а потом и меда не стало. И только то, что мы вырастим сами на огороде. А малые ж были все, как-то... Это вот, если б теперь, тогда другое. А тогда мы даже и не в том плане думали. Тогда не было даже, какие-то понятия были совершенно другие. Какие-то больше были белорусы тогда голотьба-аристократы, для которых голодная порядочность чтоб… Боялись Бога, соблюдали посты, ходили в церковь. Мы православные, вот, моя бабушка. (Пауза) И ходили в Жировичи, молиться, это пилигримы, паломники. И знали, что это высшее счастье, что ты можешь там организоваться и пойти. И знали, что ты вылечишься от этого. Но как-то и не болели. Был этот у нас фельдшер Бочковский, который лечил гораздо лучше, чем теперь все светила с современной аппаратурой. Он назначал просто, всегда очень конкретно, и всегда всем все помогало. Почему – не знаю. И – То есть, это не лекарства какие-то или? Р – Лекарства, лекарства. Лекарства, но самые примитивные. Он как-то знал, кому что надо посоветовать. И, вот, действительно, послушает и так сказать… Но если уже кто-то заболевал, конечно, медицина стоила, но это при Польше, очень дорого. И – А во время войны? Р – А во время войны не болели. Вероятно, адреналина было столько в крови, что не простудными заболеваниями… Вот так… И – А праздники отмечали какие-нибудь? Р – Все отмечали праздники. И – Религиозные? Р – Религиозные. И – А государственные? Р – А государственные… Вот, у нас при Польше, там бунтовала молодежь, они праздновали большивитские праздники. И это было, так сказать, там самых активистов сажали. Рассказывали, как издевались, что мыльную воду в нос там накачивали, и все прочее за провинности. Но, вот, когда началась война и пришли немцы. Вот эта же 12 молодежь и пошла в полицаи, служить, причем в отчаянные. То есть, это натура бунтарей, которые не принимали действительность. Но процент этот был довольно низким. А вообще, вот, честно говоря, порядочнее, чем белорусы, людей… Вот сравниваю потом, у меня теперь в России есть родня и все, все-таки как-то они отличаются. И потому, видимо, мы пережили эту войну. (Пауза) И – Да. Р – И теперь, я вот, иногда слушаешь там, где-то самые бедные ученые в Мексике, и там, и там, выходцы из Беларуси. Еще Турбин когда-то, когда приехал из Канады, так говорит: «Я там встретил, за польским часом еще уехали». И это самое, и верхушка была ученые, которые делали мировые открытия, но, конечно, они там приобрели статус совершенно другой. И – Понятно. Р – Вот, так что, если б белорусов каким-то образом немножечко реанимировать… И – Расшевелить? Р – Расшевелить и дать им чуть-чуть больше денег, чтоб только мозги не были заняты. И – Да. Р – Теперь хоть не война, а можно позволить себе немножечко кое-что. (Вздыхает) И – Скажите, а вот любви было место на войне? Вот война… Р – Было, было, было. У меня не было, но у моих старших было. Особенно у сестры. Она какие-то, не знаю что она продала и купила себе туфли, которые вот тут вот были заплатки, одна и вторая. Но она была так счастлива, что можно на танцы ходить будет. А танцы там, гармошки какие-то были. И вот собирались вечерами и играли, и танцевали, молодые еще. Но, видимо, все чувства были более обостренными в это время. (Пауза) И замуж выходили, и детей рожали, хотя это были единицы. Потом, и женщины какие-то были отчаянные: сутки знакомы - и все, она могла и на фронт идти вместе. И – А как относились к таким отчаянным женщинам? Р – У нас как-то не осуждали. Вот, в моем окружении, как-то не принято было осуждать. Ну, просто говорили: «Ну, вот, молодец!» Кто-то: «Ну, вот, отчаянная!» А кто-то скажет: «Как это ее мать отпустила?» И – Ага. 13 Р – Ну, вот такое. Ну, это не осуждение, это просто мнение высказывали. Но, вероятно, размазни во все времена не котируется. А так, человек, вот, волевой… Ну, делали много всяких поступков во время войны, конечно, бесшабашных, смелых, отчаянных. Но, потом, это как теперь, по телевидению увидишь что-то. А это пока дойдет, пока осмыслишь, пока осознаешь. Мы ж жили, жили вот так вот, как первобытное общество, особенно во время войны, только что не охотились. Ягоды собирали, грибы – это тоже был основной продукт питания. Рожь сеяли. Вот, что еще от войны запомнила, мы выращивали рожь, овес, пшеницу, ячмень. Это сами сеяли, собирали, а потом сделали из камня жернова. И вот надо было крутить эти жернова и сыпать это самое зерно, чтобы оно мололось. Вот оному - вообще не выносимо, втроем - взяться не за что. Это палка, знаете, два камня, вот такой один, вот там такие бороздки выбиты, а сверху - второй. Этот второй был к палке прикреплен, которая там вверху крепилась, не здесь. И вот ты берешь за эту палку и так вот крутишь все время. И снизу сыплется мука. Там был такой деревянный ящик. И я помню, как оно изнуряло, пока намелешь, это день там, может быть, приходилось тягать, вот, крутить этот камень. В основном, я с братом. Это было у нас работа. Младшую уже не брали, у нее вообще сил не было, а старшая, она всегда умела увильнуть от этой работы. Ну, иногда тоже делала. Вот, и пекли свой хлеб. Я думаю, что ж мы вообще ели. Пекли хлеб. Но это надо было рожь где-то спрятать эту, чтобы ее не забрали ночью те, которые звали себя партизанами. И одолжали друг у друга хлеб. Если мы сегодня испекли, то к нам шли, во всяком случае, пять-шесть из соседей: фунт хлеба, килограмм хлеба брали. А потом они пекли, они разносили свой свежий. Так что все время мы имели какой-то, относительно свежий хлеб. Потому что, если колет кто-то кабанчика, что во время войны было очень редко, значит, обязательно соседям пайку, всем причем, с кем тут. Следующие тоже разносили. И это, видимо, тоже дало возможность выжить. Потому что, ну, один бы съел, а если б у него забрали, так он сразу разнес, потом следующий – опять разнес по соседям, то есть… А этих, кабанчиков где только не прятали тоже. Уже в хлеву не держали, а где-то, где-то какие-то делали там укрытия. Козу мы потом завели, ну, уже козье молоко было. И я, когда поступила в университет, на первый курс, у нас эти козы оставались. И там осталась младшая сестра. И она первого апреля пишет письмо, что коза повесилась на заборе. Я думаю: «Господи, уже что-нибудь повесили!» А это она, действительно, решила перепрыгнуть через забор и зацепилась, и вот так вот повисла. Но это было наше последнее хозяйство, которое осталось с войны. Ну, уже последние годы, уже 14 когда немцев не стало, уже тогда, конечно. Надо отдать должное соседям, которые нам дали этих козочек маленьких. Нам все помогли, у кого, что было. У нас, мы ж остались четверо без матери. (Пауза) И бабушка умерла. Ну, уже немцы тоже отошли, но война еще продолжалась. А потом уже мы все получили высшее образование. Как-то поступил старший брат, потом меня потянул. Сказал, помню, я закончила, вообще-то война уже была давно, как закончилась, 49-ый это был год. Он приехал и говорит: «Пиши заявление в ВУЗ». Я говорю: «Коля, у меня не в чем, а в чем же я поеду сдавать, я ж в одних латках сижу». Потом, та, которая вышла замуж за моего брата, Нина. Она выше меня в два раза и толще меня в два раза. Но у нее была старшая сестра, которая ей там из каких-то кусков сшила платье. Так эта Нина, подруга мне говорит: «Я тебе дам платье. Вот я иду в первый поток, а ты во второй. И поедешь в моем». И я поехала. А чтоб еще ж что-то было для смены, в ее ж только экзамены сдавать. А надо ж было в чем-то, ну, там в общежитии сидеть, еще что-то. Так я жала жито у тетки Маруси, у своей родственницы за плату. И вот я две недели жала рожь серпом, а она мне купила вот такой батистик красный, в маленькую, мелкую горошку и сшила платьишко. Боже, это был такой подарок судьбы! Вот так я приехала сдавать вступительные. Но, у нас потом, сразу после войны были очень хорошие учителя в Мире, приехали физик, который нам дал какое-то, но это уже подарок, видимо, судьбы, какието особые знания. Не то, чтоб мы заучивали какие-то законы, а вот они воспринимались своим существом. Вот они были понятны. Вот, допустим, там полупроводники, почему там постоянный ток, вот все это, как получается, вот эти динамики работают, как ток, что куда идет. И когда она первая сдала экзамен, вот жена брата, позже она уже по окончании вышла за его замуж. Так пришла преподавательница на кафедру и сказала, что к нам идет гений, чтоб так сдали физику, что они сами это не так воспринимали, как отвечает ученик, причем из такой захудалой послевоенной школы. Ну, и когда я пришла сдавать физику, ну, я физику тоже хорошо знала, и когда я пришла отвечать, так она мне раньше поставила пятерку, узнав, что я Мирскую школу кончила, а потом уже стала спрашивать. Кто поступал из нашей школы все поступили. Вот, кстати, если Вас интересует… Мы шли с охапками цветов, все, что можно было бросать, им бросали под ноги – освободители. И, помню, первая газета, которая дали нам, тоже советские солдаты почитать, вот там было такое стихотворение Арка. Вот его моя мама, как знающая русский язык, читала вслух. Постараюсь и я вспомнить: 15 Там, где режет рубеж белорусскую землю на части, Где челябинский трактор соседствовал с ветхой сохой, Возвышалась она, как преддверие нашего счастья, Деревянная арка, увитая хвоей сухой. За столбами ее необъятные дали синели, И, как в сказку, в Москву на Восток уходили пути. И крестьянин в лохмотьях, и жены в казенной шинели Все смотрели на арку, и глаз не могли отвести. И сердца обжигая, надпись гласила, Что мечта человечества в нашем стремленье живет. Все границы сметет коммунизма великая сила, Справедливость сама начертала такие слова: «В светлый день сентября мы промчались под сводами арки, Зачеркнули рубеж, здесь недавно стоял часовой, Он схватил этот столб в перетяжку с орлом проржавелым, Словно выдернул нож из трепещущей плоти живой. А на встречу полкам протянулись иссохшие руки. Люди пели и плакали, радостных слез не тая, В предрассветную рань, после долгой и тяжкой разлуки, Мы как в праздник входили в родимые эти края! Ну, в общем, там: Лишь одно просили сохранить нашим детям и внукам на память – Деревянную арку, увитую хвоей сухой. Пусть и надпись на ней для грядущих веков сохранится, Чтоб бессмертие эти слова принесли. Пусть знает история, как счастье сметает границы. А всеобщее счастье – ведь это и есть коммунизм! И все, мы всеобщего счастья дождались. Боже, какая это была радость! Это не передать!.. И – Скажите, а следили ли женщины за своей внешностью во время войны? Р – Хотите услышать о женской красоте? И – Да. Ой, женщины всегда старались быть красивыми. Карандаш, если был какой-то, один у нас на двадцать молодых девушек, так его делили на маленькие кусочки. Но чаще всего углем, обыкновенным углем, красили сажей, чем только брови 16 не подкрашивали! Но бураком губы не красили, но пробовали. (Усмехается) А так, пудра, пудра тоже какая-то была. Но мы умывались травами, вот чтобы был матовый цвет лица, вместо пудры, так тысячелистник сушили, заваривали, умывались. Он великолепный давал цвет лица. Молоком вместо крема, у кого там была коровка – сметана шла вместо крема. Медом мазали лицо, но это, вот, когда он был. Но красивыми всегда хотели быть, особенно молодые. И – А пожилые? Р – А пожилые? А пожилые все-таки стремились к тому, чтоб выглядеть аккуратно. И принцип у нас такой был, что старость сама по себе оченьстрашная, и, если ее не подкрасивить… Вот люди раньше пожилые стремились ходить в каких-то темных ситцевых, или самых простых, без рисунка, ну, юбках там, платьях. Чтобы не выделяться, не быть видной. Но, платочек должен быть более светлым, считали, что б как-то окружающим тебя приятно было созерцать. Потому что, если еще и мрачная голова, так ты, вообще, становишься угрюмой и некрасивой. А одевались так вот в теплое, потому что сельские труженики, им главное, что б пыль не так была заметна. Ну, мы стирали, у нас же не было ни бани, ничего. Мы в ночевках летом холодной воды нальешь, она там нагреется, вот вечером, так сказать, мылись. Потом, ходили за пять километров в баню. Это, вообще, был праздник души, это уже перед Пасхой. Ну, грели воду зимой. И мне нравится вот такой типичный для Беларуси анекдот. Вы знаете? - Маня, а где ты голову моешь? - У речке. - А зимой? - Ой, а скольки той зимы?... Р – Очень четкое отношение. В 39-ом году и до военного времени любили до беспамятства. Западная Белоруссия воспринимала, действительно, как солдатосвободителей, с огромной любовью, радостью. Но, эта радость, когда узнали, что церковь отделена от государства. Это абсолютно было не понятно, то, что учителя не должны быть. Восприятие советской власти, но как-то постепенно, каждый день приносил что-то новое, не в пользу советской власти. И – Ага. Р – И, когда уже вторично пришла советская власть, вот моя мама например, не смотря на ее чрезвычайную преданность, но она, видимо, так вот выросла. Под конец, когда боролись за право говорить на русском языке, на белорусском языке, ну, она была преданной, она считала себя русской и русским человеком. И, вот, когда ей дали 17 паспорт, то есть, подготовили на вывоз. Вот, Лидия Владимировна, о которой я вспоминаю, ее же тогда вывезли в 47-ом году, а мама успела умереть. Когда сказали. Она говорит: «А я паспорт получила». Потому что неблагонадежным паспорта не давали. Так говорят, какая там серия была, потому что была определенная серия, которые подлежат высылке. И оказалось, что у мамы эта вот. Это нас четверо детей за то, что когда-то при Польше была земля, на которой надо было работать. Ну, мы жили при Польше бедно, потому что у нас работников не было. Отец умер, когда старшей было девять лет, в 35-ом году. А младшей – год и четыре месяца. И у нас работников не было, а землю надо было обрабатывать, поэтому мы были очень не богатыми, но за это мы должны были ещё заплатить вот той власти. И, когда, потом стали видеть в чем ходят жены офицеров. Они же женились тогда на красивеньких, абсолютно не образованных девочках. Как они в ночных рубашках пошли ходить по городу, в кружевах красивых. И они не умели есть, они не умели вилку держать, они не знали что чем в гостях и только выхвалялись. Вот как-то рейтинг советской власти резко-резко пошел вниз. И – Понятно. Р – Ну, и стали называть словом советские. Советские, а они нас- западники. Это уже для нас была, для западников, низшая категория оценки. А после войны, когда, ну, уже родителей не было, у нас было как-то, кто вернулся из фронта, ну, тогда в основном, зализывали раны. Как-то было даже, уже не обращали внимания. Были счастливы, что освободили. Вот это сам день победы, это так было воспринято, ну, самым лучшим образом, но уже сталинское время, конечно, уже все знали, что нельзя говорить то, что думаешь… 18