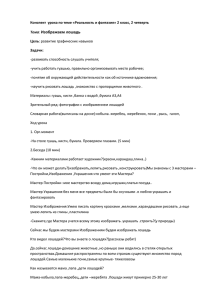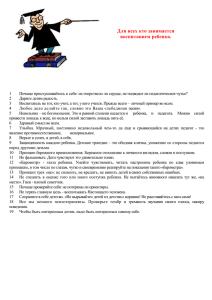ПРИЗЁР КОНКУРСА
advertisement

ПРИЗЁР КОНКУРСА Владимир Краснов ОСЕННИЙ СВЕТ В конце каждого лета в низине у реки, как два родных брата, вставали два стога. Обнесенные оградой из жердей, они заметно оживляли скучный прибрежный пейзаж, вдоль и поперек разлинованный кудрявой порослью картофельных посадок. Реки здесь делала большую петлю, точно нарочно оставив посреди села широкую пойму под луга и огороды. По весне, взломав лед, снося лавы, мостки и остожья, она разливалась по окрестным ивнякам и ольшаникам, отражая в неспокойных водах своих раскинувшееся по берегам село Далекое. В иные годы ей тесно становилось в привычном русле, и она выплескивалась на площадь, почти вплотную подступая к пожарной части, к тыльной стороне которой примыкала бревенчатая конюшня. Конюшней и всем конюшенным хозяйством ведал Михаил Захарович Захаров, которого иначе, как Захарычем, никто не называл. Это он, выходя по утрам с косой-литовкой, в одиночку накашивал за лето два стога, ставя их один подле другого. У стогов, помахивая хвостом, паслась стреноженная лошадь. Завидев издали одетого в неизменный «пинжак» Захарыча, лошадь фыркала ноздрями и приветственно ржала, взмахивая густой, с проседью, челкой. – Малька, Ма-алька... – подзывал он ее, вынимая из кармана кусок хлеба. Неловко подскакивая, лошадь устремлялась навстречу. Потрепав ее по загривку, старик скармливал хлеб и, нагнувшись, снимал веревочные путы. Терпеливо дождавшись конца этой изо дня в день повторяющейся процедуры, Малька наметом пролетала по скошенному лугу круг или полкруга и послушно возвращалась к хозяину. – Ну, не балуй, не балуй, – урезонивал он ее, надевая уздечку, – не маленькая, ведь, – степенная, в час сказать, кобыла. Силу, что ль, понимаешь, некуда девать? Ничего, вот осень подойдет, наломаешься на огородах-то, вспомнишь, как летом дурака валяла... Малька, скосив синие глаза, в которых дрожали искорки детского озорства, внимала хозяину и понимающе мотала мордой: «Знаю, мол, не хуже тебя, но сейчас-то не осень...» Довольные друг другом, лошадь и конюх шли краем поля. Причем, старик, чуть прихрамывая, всегда шел впереди, а лошадь, отстав на полшага, как в кавалерийском манеже, послушно вышагивала следом. Так было всегда и, казалось, всегда так будет. Но пришли иные времена и, стоящую на милицейском довольствии Мальку, продали в лесхоз, а полставки конюха в районном отделении милиции сократили. И остался Захарыч, всю жизнь состоявший при лошадях, и без работы, и без лошади. Безработица ему, восьмидесятипятилетнему пенсионеру, ничем не грозила (без дела в жизни своей он часа не посидел), а вот без лошади он себя и помыслить не мог. Мир сузился до размеров небольшой однокомнатной квартирки в центре села с видом на двор, тесно заставленный дровяными сараями. Старый конюх места себе не находил. Проснувшись, по привычке, ни свет, ни заря, вскакивал с постели, торопясь в конюшню, но, вспомнив, что спешить некуда, снова ложился и, ворочаясь с боку на бок, перебирал, день за днем, неторопкую, как долгая дорога, жизнь. Перед глазами вставали яркие, точно красками писаные, картины из того, что было да прошло... …И представлялось ему, как ранним утром, когда по спящим улицам неслышно крадется озябшая тишина, с тяжким стариковским вздохом отворяются широкие расхлябанные ворота, и на затоптанный у порога снег ложится желтое пятно света. Лошади, завидев конюха, прядут ушами и шумно раздувают ноздри, наперед зная, что сейчас он подкинет в кормушки сенца, принесет воды, выскребет скопившийся за ночь навоз... В конюшне тепло, опрятно пахнет сеном, опилками, дегтем и сыромятной кожей. Каждая вещь знает здесь свое место, раз и навсегда отведенное для нее по соображениям удобства и целесообразности. На крючьях, вбитых в бревенчатую стену, висят хомуты, уздечки, гужи, чересседельники и прочий конюшенный инвентарь, без которого не запряжешь лошадь ни в заурядные дровни, ни в легкие нарядные саночки, сохранившиеся с тех незапамятных времен, когда подавали их вместо автомобиля начальнику милиции, судье или прокурору. – Бардака в своем деле не выношу, – часто говаривал он, когда я по-соседски заходил к нему на огонек. – У нас на Дону этого не терпят. Конь и упряжь у казака всегда должны быть в полном порядке. Я ведь из донских казаков. Никому не говорил, тебе скажу… Еланский юрт, Захаров хутор… Слыхал о таком? Вот и я о нем мало что знаю. Отец не рассказывал. Настрадался от новой власти. Когда стало невмоготу, бросили все и подались под Новгород…. К мамкиной родне. Я тогда маленьким был. Мало что понимал. Дом срубили на выселках, подвели под крышу ригу, дворы, амбары…. И потекла жизнь казацкая по хуторскому распорядку. Детство на хуторе вспоминалось Захарычу, как счастливый безоблачный сон. Когда своей землицы не хватало, брали у мужиков исполу, делясь с ними половиной урожая, за что, наверное, и были раскулачены в тридцать втором году. Когда пришли описывать имущество, простодушная хозяйка приняла хмурых уполномоченных за гостей, пригласив их к столу, но «гости» с каменными лицами пересчитали коров, телят и свиней, забрали ружье и гармонь и без церемоний удалились восвояси. Дом отошел колхозу и в войну по чьей-то халатности сгорел дотла. Обобранное до нитки семейство разбрелось по городам и весям. Устроиться с «волчьим билетом» было трудно, горемык таких всюду хватало, и когда Михаил, в ту пору уже женатый, поступил на известковый завод плиту ломать. И рад был, радешенек, что наконец-то к месту пристал. Едва перемогли одну напасть, как новая на пороге — война. В конце жаркого пыльного июня, когда военные сводки были скупы и уклончивы, а слухи ходили самые невероятные, маленький тщедушный боец Захаров уже топал в солдатском строю, еще не зная, что домой вернется только через четыре мучительно долгих года, изведав и горечи отступлений, и тесноты полевых госпиталей, и болотной сырости в позиционных боях на финском направлении... А был он в войну и кашеваром, и конюхом, и автоматчиком, и разведчиком и даже снайпером, лично уничтожившим пятерых врагов. Рассказывать о войне Захарыч не любил. – Ну что тебе сказать? – говорил он обыкновенно, когда я заводил с ним этот тяжелый для него разговор. – Худое это дело, не приведи Господь. Я стрелял, в меня стреляли... Два раз в ногу ранили, печень зацепили... Выкарабкался кое-как. Я ведь маленький, юркий – в меня трудно попасть, и то, понимаешь, попадали, а сколь здоровых молодых ребят в болотах этих так и осталось... Как вспомню их, так вот тут вот, понимаешь, все изболится, – трогал он заскорузлой рукой левый лацкан видавшего виды пиджака и замолкал, отвернувшись. В сорок пятом пришла пора возвращаться солдату домой. Но куда? След семьи, оставленной до войны под Новгородом, отыскался в Далеком. Туда и направился с предписанием из части встать на воинский учет в местном военкомате. В Далеком устроился конюхом в районную прокуратуру, получив в свое распоряжение гнедого жеребца Кобчика, который однажды едва не угробил конюха, испугавшись встречной машины. — Я и пикнуть не успел, понимаешь, как вылетел из седла,— рассказывал Захарыч. — Нога в стремени, руками землю царапаю, а жеребец мой галопом прёт.... Хорошо, что повод не выронил и кое-как Кобчика-то осадил. А растеряйся я тогда, и все – каюк с музыкой.... Историй, подобных этой, за долгую жизнь скопилось немало. Кому-то, может быть, и одной хватило бы, чтобы бросить лошадей и никогда к ним не подходить. Но хороший конюх не станет винить животину бессловесную, а покумекает и поймет, в чем сам виноват, чтобы впредь не наступать на те же грабли. Что касается своенравного Кобчика, то работягой он был, каких поискать, и ради этого стоило терпеть его недостатки, а их у лошадей не меньше, чем у людей. Если болеют они теми же болезнями, что и мы, и даже, бывает, умирают от инфаркта, то и во всем остальном тоже похожи на своих хозяев. Так же страдают, грустят, обижаются и ревнуют. Так же стареют, седеют, год от года становясь все бледнее мастью. И человеческие слабости знают не хуже людей, и умело ими пользуются. Почует конь слабину, заартачится и ни с места, хоть с лаской к нему, хоть с таской. Зато твердую руку сразу чувствует и беспрекословно ей подчиняется. Говорят, что лошадь вывезла человека в люди. Если вспомнить, что уже пять тысяч лет она верой и правдой служит ему, то слова эти не покажутся чрезмерными. В мире семьдесят с лишним миллионов лошадей. Примерно половина из них в канун революции обитала в России. Сейчас конское поголовье много скромней и давно не поднимается выше пяти миллионов. Большие числа поражают воображение, но мало что объясняют. А дело все в том, что не только лошадь в наши дни становится редкостью, но и человек, который знает с какой стороны ее запрягать, как кормить и ходить за плугом. Хорошего конюха днем с огнем не сыскать. Захарыч так и не дождался охотников поинтересоваться конюшенной «наукой». «Никому ничего не надо», – не без горечи часто повторял он, и я невольно думал о том, что и в этой ветхой, с подгнившими венцами, конюшне давно бы не было ни лошадей, ни телег с плугами и боронами, не ходи он туда изо дня в день. Кажется, только ему и нужна была та старая конюшня с подслеповатыми оконцами, забранными железной решеткой, и обитающими здесь лошадьми, за которых он получал в райотделе милиции полставки конюха. На полставки он успевал накосить сена, отремонтировать упряжь, умудряясь содержать в порядке казенное имущество, до которого давно никому, кроме него, не было дела. Он на это не обижался, понимая, что милиционеры — народ занятой, и не их дело заботиться о лошадях. Он знал, что придет весна, и все вспомнят о них, когда понадобится сажать картошку. Но в прежние времена милицейских лошадей ставили на довольствие и выделяли на них столько-то мер овса, столько-то пудов сена, ржаного зерна или жмыха. Присылали для них и дефицитную ныне упряжь. В последние годы конюху оставалось лишь сожалеть о тех временах и самому заботиться как о прокормлении лошадей, так и об амуниции для них. Он сам созывал свободных от дежурства мужиков на покос и неутомимо косил с ними по утрам, понимая, что не похлопочи конюх о кормах, не попридержи в запасе лишние гужи, седелки и хомуты, и забудут занятые люди о таких пустяках, а когда хватятся — поздно будет. О лошадях – гнедых, вороных, караковых и буланых – старый конюх мог, бывало, говорить часами, припоминая повадки и особенности всех Орликов, Кобчиков, Мальчиков, Зорек, которые прошли через его руки за долгую жизнь… Скромная, малозаметная фигура конюха испокон веку остается в тени. Время ломовых, «ванек», лихачей ушло безвозвратно. Кто теперь расскажет, чем бричка отличается от двуколки, а дровни – от возков, кто вспомнит, что обычные телеги, которые делали когда-то на обозном заводе, стоили восемьдесят четыре рубля с копейками, кто поругает нынешние рессорные, на резиновом ходу, колымаги за их неудобство и неприспособленность к деревенскому хозяйству? Кто скажет, что за лошадь некогда давали меру серебра, а за кобылу и того больше? Кто вспомнит, что жеребенка меняли на восемь лисьих шкур, что у коней когда-то был свой ангел-хранитель, которого звали Возила? Говорили: если встретишь в конюшне маленького человечка с конскими ушами и копытами, это и есть Возила. Он заботился о лошадях, оберегал их от болезней, а на выпасе всегда был при табуне, охраняя коней от хищного зверя. Вот только не сберег добрый Возила старой конюшни для старого конюха, не сберег и последнего его коня. Разобрали конюшню вместе с разоренной пожаркой и распилили на дрова. Мальку по сходной цене посулили продать конюху. Обрадовавшись, он стал было спешно строить для нее двор, но... милицейское начальство безо всяких объяснений передало бессловесную Мальку другому хозяину. Михаил Захарович расстроился, растерялся... Спасая никому, кроме него, не нужное конюшенное добро, сильно зашиб однажды левое плечо и неожиданно для себя расхворался. Рука обвисла, как плеть, и ныла, лишая сна и покоя. Он терпел, перемогался, а когда стало совсем невмоготу, пришел в больницу. Доктор долго мял и ощупывал больную руку, а потом сказал, как отрезал, что без ампутации уже не обойтись. «Болезнь запущена, где ж вы раньше-то были?» Захарыч принял вердикт врача спокойно. Лег на операцию и через несколько дней, похудевший и осунувшийся, вернулся домой. По весне, по птичьи махая пустым рукавом, он еще сажал на огороде у реки картошку, судачил с мужиками о том, как лучше пахать: «на свал» или «на развал» и, улыбаясь, кормил чужую лошадь черным хлебом. Потом ему стало хуже. Он совсем перестал выходить из дому и ночами, забывшись коротким болезненным сном, часто видел сквозь пелену страданий и боли огороженные жердями стога на зеленом лугу и наметом летящую лошадь… Умер он, попросив перед смертью пива, глухой предзимней порой. С огородов наносило дымком, подопревшей картофельной тиной и капустным листом. Проданную в лесхоз кобылу Мальку в тот день не запрягали. Она дремала в пустой конюшне, то и дело косясь в сторону запертых ворот, точно поджидая кого-то. Сквозь щели в дверях сочился невыразимо печальный осенний свет.