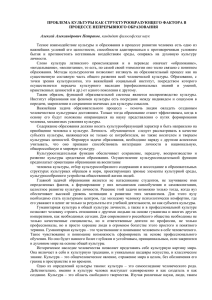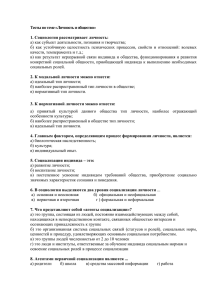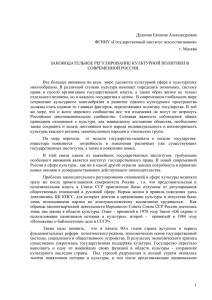Сорока Ю
advertisement
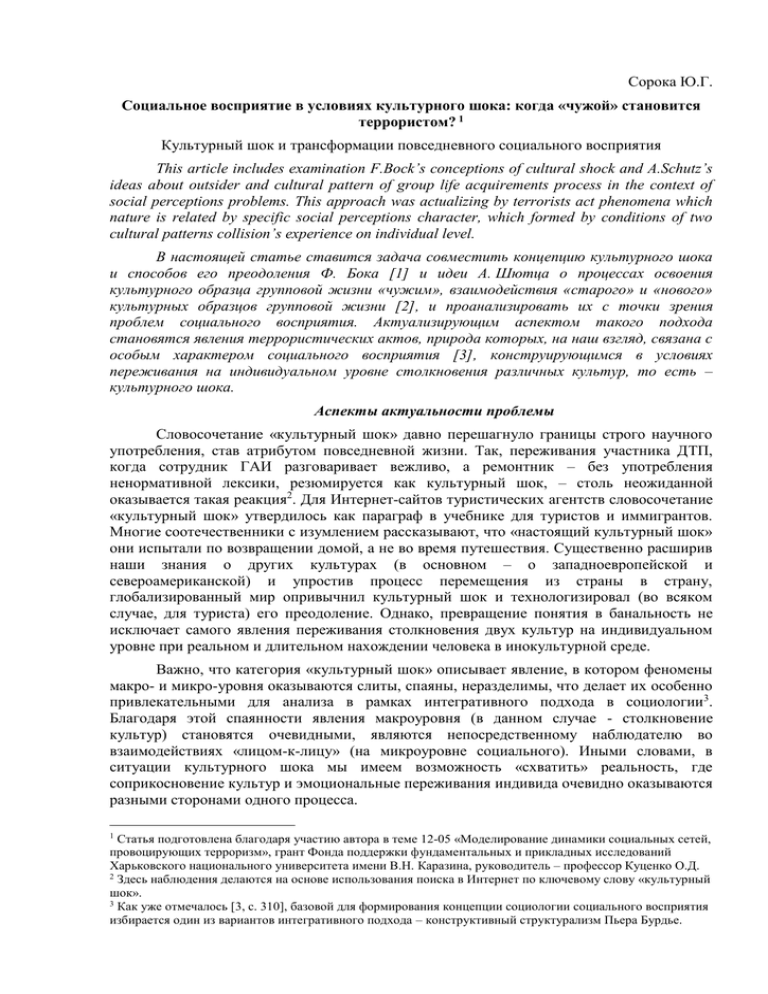
Сорока Ю.Г. Социальное восприятие в условиях культурного шока: когда «чужой» становится террористом? 1 Культурный шок и трансформации повседневного социального восприятия This article includes examination F.Bock’s conceptions of cultural shock and A.Schutz’s ideas about outsider and cultural pattern of group life acquirements process in the context of social perceptions problems. This approach was actualizing by terrorists act phenomena which nature is related by specific social perceptions character, which formed by conditions of two cultural patterns collision’s experience on individual level. В настоящей статье ставится задача совместить концепцию культурного шока и способов его преодоления Ф. Бока [1] и идеи А. Шютца о процессах освоения культурного образца групповой жизни «чужим», взаимодействия «старого» и «нового» культурных образцов групповой жизни [2], и проанализировать их с точки зрения проблем социального восприятия. Актуализирующим аспектом такого подхода становятся явления террористических актов, природа которых, на наш взгляд, связана с особым характером социального восприятия [3], конструирующимся в условиях переживания на индивидуальном уровне столкновения различных культур, то есть – культурного шока. Аспекты актуальности проблемы Словосочетание «культурный шок» давно перешагнуло границы строго научного употребления, став атрибутом повседневной жизни. Так, переживания участника ДТП, когда сотрудник ГАИ разговаривает вежливо, а ремонтник – без употребления ненормативной лексики, резюмируется как культурный шок, – столь неожиданной оказывается такая реакция2. Для Интернет-сайтов туристических агентств словосочетание «культурный шок» утвердилось как параграф в учебнике для туристов и иммигрантов. Многие соотечественники с изумлением рассказывают, что «настоящий культурный шок» они испытали по возвращении домой, а не во время путешествия. Существенно расширив наши знания о других культурах (в основном – о западноевропейской и североамериканской) и упростив процесс перемещения из страны в страну, глобализированный мир опривычнил культурный шок и технологизировал (во всяком случае, для туриста) его преодоление. Однако, превращение понятия в банальность не исключает самого явления переживания столкновения двух культур на индивидуальном уровне при реальном и длительном нахождении человека в инокультурной среде. Важно, что категория «культурный шок» описывает явление, в котором феномены макро- и микро-уровня оказываются слиты, спаяны, неразделимы, что делает их особенно привлекательными для анализа в рамках интегративного подхода в социологии3. Благодаря этой спаянности явления макроуровня (в данном случае - столкновение культур) становятся очевидными, являются непосредственному наблюдателю во взаимодействиях «лицом-к-лицу» (на микроуровне социального). Иными словами, в ситуации культурного шока мы имеем возможность «схватить» реальность, где соприкосновение культур и эмоциональные переживания индивида очевидно оказываются разными сторонами одного процесса. Статья подготовлена благодаря участию автора в теме 12-05 «Моделирование динамики социальных сетей, провоцирующих терроризм», грант Фонда поддержки фундаментальных и прикладных исследований Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, руководитель – профессор Куценко О.Д. 2 Здесь наблюдения делаются на основе использования поиска в Интернет по ключевому слову «культурный шок». 3 Как уже отмечалось [3, с. 310], базовой для формирования концепции социологии социального восприятия избирается один из вариантов интегративного подхода – конструктивный структурализм Пьера Бурдье. 1 Актуализирующим моментом для данной постановки вопроса является также интерпретация современного общества как трансформирующегося или, говоря словами Зигмунда Баумана, как «эпохи перемен». В этих условиях «сами матрицы, в которые заливались человеческие отношения ради придания им необходимой формы, брошены в плавильный котел» [4, с.267]. Здесь склонный к метафоризации социального теоретизирования Бауман оставляет нам возможность понимать под матрицами человеческих отношений культурные образцы групповой жизни (в категориях А. Шютца). В условиях трансформаций культурные образцы утрачивают своего носителя (социальное сообщество), предоставляя другим культурным моделям шанс быть актуализированными в качестве источника картины мира, «непосредственного мировоззрения» [2, c.196], коллективных и индивидуальных идентичностей и т.д. Переживание культурного шока и характерные особенности восприятия социальной реальности, сформированные этими условиями (они и будут предметом рассмотрения ниже), потенциально связаны с особыми поведенческими реакциями. В первой половине ХХ века основным актуализирующим моментом для социологических и антропологических исследований в этой области были проблема иммиграции и задачи создания «технологии» адаптации и интеграции индивидов в обществе, превращения их в лояльных его членов. Ныне же актуализирующим фактором исследований в этой области является проблема терроризма. Не вдаваясь в подробности дискуссии о понятии «терроризм», ограничимся рабочим определением, актуальным для нашего исследовательского контекста. Под терроризмом понимается разновидность политического экстремизма в его крайнем насильственном варианте. В таком понимании феномен терроризма связывается с одной стороны с ксенофобией, то есть распространенными среди населения страхом, подозрительностью, проявлением недоброжелательности по отношению к представителям других этнических, религиозных и т.д. сообществ. С другой стороны, террористические акты связывается с деятельностью специфических идеологических и политических объединений или организаций, позиционирующих свои представления и идеи как единственно верные, и стремящихся навязать их всему обществу4. Иными словами, явления терроризма и экстремизма возникают в поле обострения отношений между группами, противопоставляемыми по схеме «свой-чужой», при условии актуализации идеологических течений, ориентированных на консерватизм и экспансию (консервативных по сути и экспансионистских по стилю). Важным также является и то, что террористические и экстремистские акты мы понимаем как особый способ воздействия на государство и общество посредством устрашения5. Такое уточнение позволяет, рассматривая терроризм и экстремизм в категориях средства и цели, осмыслить факт гибели в результате таких действий людей не только ни в чем не повинных, но и не связанных в своей непосредственной деятельности с органами власти, управления, а также социально-политическими проблемами, решение которых выдвигается террористами в качестве их требований. Безусловно, состояние дезориентированности, эмоциональной подавленности, беспомощности, переживаемое индивидом на стыке культур (культурный шок), не являются достаточными условиям для его участия в терротистическом акте. Наша исходное положение состоит в том, что эти состояния формируют социальноперцептивные основания для проявлений насилия, экстремизма, то есть особый способ восприятия социального мира, допускающий такие проявления. Важным здесь оказывается наличие в структуре восприятия таким индивидом социального мира Такое понимание заимствовано у Э.М. Паина и более подробно представлено в статье [5]. М. Одесский и Д. Фельдман, анализируя террор как идеологему на материале европейской истории XVIXIX веков, обосновывают идею террора как превентивного устрашения [6]. 4 5 конфликтных «очагов», пустот, несогласованностей с одной стороны, и подпадание его в «зону воздействия» экстремистских организаций и идеологий с другой. Такой подход к рассмотрению проблемы терроризма может быть обозначен как социокультурный, иными словами – актуализирующий социокультурную природу терроризма, его культурный контекст. Преимуществом такого подхода является возможность уйти в объяснении конкретных событий от, словами Тишкова, «системного фетишизма» [7], ставших стандартными объяснений со ссылками на историю, религию, социально-экономические факторы. Актуализируя социокультурную природу терроризма – в данном случае – социоперцуептивную ситуацию как особую конфигурацию категорий социального восприятия, особую форму процесса социального восприятия и их социокультурных предпосылок – мы тем самым обращаем внимание на неопределенности, несистемные проявления и взаимосвязи, иррациональные факторы, к использованию которых в объяснениях терроризма все больше склоняется соицальная наука. Как отмечают исследователи, многие из подозреваемых в причастности к организации террористических актов (в том числе – 09.11), большую часть жизни провели в США и Великобритании. Этот факт демонстрирует, что «жестокость, фанатизм и готовность осуществлять насилие порождаются в рамках одного мира» [7, с.362]. С точки зрения нашего подхода этот факт подтверждает, что специфическая (допускающая насильственные проявления), социоперцептивная ситуация характеризует не только социальное восприятие инокультурного индивида, но в целом ситуацию социального восприятия в поликультурном обществе. Не только «чужие» (в категориях Щютца) обладают предрасположенностью к такому способу социального восприятия, но и аборигены оказываются им захвачены. В настоящей статье мы предполагаем, опираясь на идеи А. Шютца, охарактеризовать этот способ восприятия социальной реальности и проследить его динамику на основании набора способов преодоления культурного шока по Ф. Боку. Почему Бок и Щютц? Сопоставимость концепций Шютца и Бока на тематическом уровне очевидна: каждый из них рассуждают о феномене «чуждости» индивида социокультурному окружению. «Культура…, – пишет Бок, - это то, из-за чего ты становишься чужаком, когда покидаешь свой дом» [1, с.17]. Чужой, - пишет Шютц, - это индивид, который «хочет быть принятым или хотя бы терпимым некоторой группой» [2, с.192]. С другой стороны, каждый из авторов дает свое определение культурного шока. «Пребывая в чужом обществе, ты будешь испытывать трудности, ощущение беспомощности и дезориентированности, что можно назвать культурным шоком» - утверждает Бок [1]. Шютц более нейтрален эмоционально, фиксируя внимание на «ситуации сближения, предшествующей всякому возможному приспособлению и содержащие его предпосылки» [2, с.192]. Каждый из авторов реализует свой угол зрения на индивида в состоянии культурного шока: Бок обращает внимание, прежде всего, на эмоциональную составляющую и поведенческие стратегии индивида в новой культурной среде. Шютц же интересуется смысловой структурой его жизненного мира, характеризуя «чужого» как объективного и потенциально нелояльного относительно нового для него культурного образца. Но если Шютца интересует «как культурный образец групповой жизни представляется повседневному мышлению человека, являющегося членом этой группы» [2, с.192], а ситуация «чужого» анализируется лишь с целью проявить структуры повседневного мышления, то для нас способ восприятия социальной реальности индивида на стыке культур является центральным предметом анализа. Две реальности и перспективы их взаимодействия Для индивида в состоянии культурного шока, переживающего путаницу в ценностных ориентациях и самоидентификации, оказываются актуализированы две реальности. Во-первых, это интериоризованная реальность «родной» культуры, раскрывающаяся в его спонтанных реакциях восприятия и действия. Это реальность, языком которой говорит его прошлый опыт. Во-вторых, это реальность «чужой» или новой культуры, развертывающаяся в наблюдаемых им взаимодействиях ее носителей, а также взаимодействиях индивида с «аборигенами» в актуальных ситуациях взаимодействия «лицом-к-лицу». Обе эти реальности претендуют на статус верховенства повседневности, что и является основанием для их конкуренции. Этот конфликт может пониматься как противоборство внутреннего и внешнего, прошлого и будущего, потенциального и актуального, поскольку с каждым из первых членов приведенных оппозиций ассоциируется опыт индивида, а со вторым – социокультурная среда актуальных взаимодействий. Необходимо помнить, что, рассуждая о культурном образце групповой жизни и его носителе, противопоставляя «старый» и «новый» культурные образцы, Шютц несколько упрощает ситуацию (отчасти с аналитической целью, отчасти – в связи с тем, что несистемные культурные влияния в те времена не были столь актуальной проблемой как в наши вследствие развития коммуникационных и информационных технологий). Ведь каждый индивид является носителем множества различных культурных моделей, в разной степени актуализированных и в разной форме представленных в его сознании. Разнообразные культурные влияния, которым подвержен современный включенный в сеть коммуникаций (как межиндивидуальных, так и массовой) человек, снабжают его знанием множества культурных моделей при наличии некоторой доминанты, которую представляет собой культурная модель группы непосредственного контакта и сферы деятельности. Первичная для индивида культурная модель определяет его мир повседневной реальности, с ее набором типизированных объектов, личностей, мотивов поведения в освоенном индивидом «сегменте» деятельности в рамках соответствующей культурной модели социальной жизни. Шютц обращает внимание на то, что актуальное для индивида (актора в социальном мире) знание культурного образца групповой жизни ограничены: они некогерентны, лишь частично ясны и непоследовательны [2, с.194]. Но индивид – это часть живой исторической традиции, сформировавшей данную культурную модель; а она, в свою очередь, является частью его личной биографии. Культурная модель, говоря словами П. Бурдье, интериоризована индивидом, вписана в его тело, в его взгляд на мир, оценки, восприятие и поведение. Благодаря этому «родной» культурный образец пользуется абсолютным доверием индивида, принимается им полностью в качестве инструмента интерпретации окружающего мира, его объектов и других людей, «инструкции» для решения любых возникающих проблем и затруднений. Это оказывается возможным благодаря базовым допущениям повседневного мышления (допущениям «тождества объектов» и «взаимозаменяемости точек зрения» [8, с.44]), характеризующих индивидов, связанных непосредственно, через личную биографию с данной культурной моделью. Таким образом, категории «родной» культуры являются для индивида не только и не столько понятыми, но принятыми, благодаря чему расхождение, «зазор» между реальным и должным не наблюдается [9, с.59]. «Новая» культурная модель не способна вызывать у индивида такого доверия, вследствие чего воспринимается, по словам Шютца, не как убежище («дом родной»), а как лабиринт. Кроме того, лишь членам «in-groupe» доступен не только язык, но «универсум дискурса», где каждое слово обладает аурой эмоциональных ценностей и иррациональных импликаций. Еще одно преимущество члена «in-groupe» - владение социальным и ситуативным контекстом словоупотребления, специфическим групповым кодом, знание которого объединяет участвовавших в его создании и пронизывает культурные продукты данной группы (фольклор, литература, кинофильмы и т.д.). Поскольку поведение индивида не определяется полностью внешними факторами, состоянием внешней среды (в случае «чужого» – правилами и формами взаимодействия другой культуры, ее языком и поведенческими кодами), то исход разворачивающейся в представлениях индивида конкуренции между «своим» и «чужим» культурными образцами заранее неизвестен. Он не зависит также исключительно от осознанного желания индивида интегрироваться в новое сообщество, поскольку не все реакции человек способен осознанно контролировать. Наконец, идеологические воздействия, которым оказывается подвержен индивид через разнообразные формы коммуникации (непосредственной – в специфических сообществах или организациях, или опосредованной – через книги, фильмы, фольклор, пропагандистскую культурную продукцию и т.д.), могут способствовать либо препятствовать интеграции индивида в новую социальную среду. Таким образом, две актуальных реальности, пребывая в форме культурных образцов групповой жизни, интерсубъективных реальностей, в различной степени и поразному интериоризированных индивидом, соприкасаются, соотносятся, сталкиваются и противоборствуют в его (индивида) представлении. Форма этих отношений проявляется в характере поведенческих реакций на культурный шок, словами Бока – в способах выхода из культурного шока. Способы преодоления культурного шока и соответствующие им социоперцептивные ситуации Как известно, Бок обосновывает пять различных способов преодоления культурного шока: геттоизация, ассимиляция, частичная ассимиляция, культурный обмен и культурная колонизация [1, с.17]. Каждая из этих стратегий предполагает различную степень изменений повседневного мышления и восприятия. С этой точки зрения различаются две группы стратегий: предполагающих преодоление индивидом позиции «чужого», то есть ориентированные на изменение культурного образца, формирующего повседневного восприятия, и – с другой стороны – предполагающие утверждение в качестве доминанты восприятия «первичного», «родного» культурного образца. К первой группе мы должны отнести стратегию ассимиляции и частичной ассимиляции. Анализ этих стратегий представляет интерес с точки зрения осмысления процесса изменения повседневного мышления и восприятия, условий успеха и границ возможности таких изменений. Интерес ко второй группе стратегий связан с анализом социальных практик (в том числе, актуализированных в различные эпохи и в различных обществах) сохранения существующих доминант восприятия, обеспечивающих эти практики форм взаимодействия с внешней инокультурной средой, разнообразных внешних факторов этого процесса, а также (что особенно важно в контексте проблем терроризма) практик поддержания приемлемого уровня толерантности в отношениях носителей разных культур или наоборот, актуализирующих антикультурные настроения, заостряющие культурные различия и восприятие неравенства. Ассимиляция и частичная ассимиляция. По Боку, ассимиляция предполагает отказ от «первичной» культуры в пользу актуальной для социальных взаимодействий индивида культурной среды. Опираясь на идеи Щютца, можем утверждать, что изменению в данном случае подлежит повседневный способ мышления и восприятия индивида, а основанием такого изменения должна стать «замена» культурной модели, которая определяет этот способ восприятия. Этот процесс «замены» предполагает наличие у индивида знания о культуре пребывания, и начальным для него является уровень простых представлений об объектах этой культуры, необходимых для элементарной повседневной ориентации. К знанию такого уровня следует отнести владение языком, знание обычаев, традиций, истории и географии страны, календаря, привычек носителей культуры и т.д. (вплоть до режима работы магазинов или правил работы общественного транспорта, например). Критерием в данном случае выступает не количество информации (измеряемая, например, толщиной прочитанных книг или полученным баллом языкового теста), а характер и направленность самого знания: ориентированность на интерпретацию объектов новой культуры и поведения ее носителей. Наличие такого знания как удобной схемы интерпретации новой культуры является необходимым условием начала адаптации. Потенциал реализации стратегии ассимиляции обусловлен возможностью для индивида превратить эти знания из интерпретативной в интерактивную форму, то есть трансформировать их в руководство по взаимодействию с новой культурой и ее носителями. Культурный образец как предмет мысли в процессе ассимиляции преобразуется в интерсубъективное пространство, пространство общения и взаимодействия. Но решающим здесь оказывается не столько усвоение правил взаимодействия: из виртуального пространства знаков новая культура должна преобразоваться в пространство деятельности индивида. Иными словами, условием успешной ассимиляции является обретение индивидом позиции «заинтересованного деятеля», обретения им нового для него социального интереса, формулируемого «на языке» нового культурного образца. Такое обретение новой позиции или нового статуса может с точки зрения «родного» культурного образца, соотечественников индивида расцениваться как потеря, недопустимое снижение статуса (например в ситуации, когда в советский инженер-конструктор, иммигрировавший в Израиль, становился лифтером). Еще один пример: в советские времена существовала шутка о том, что «из-за границы не возвращаются» (имеется в виду иммиграция, длительные загранкомандировки, посещения родственников и т.д.). Многие в таких случаях вспоминали о родственниках и знакомых, для которых пребывание в иной культурной среде существенно изменяло когнитивный и оценочный горизонт, систему ориентаций, повседневных смыслов, ценностей. Такие люди, вернувшись, видели, думали и чувствовали, то есть воспринимали социальный мир по-другому, используя другие категории и схемы восприятия. Это неизбежно приводило к конфликтам и разрушению прежних социальных связей, распадению первичных групп, поискам новых идентификаций и социальных сообществ, культура которых была бы адекватна новым интересам индивида. Обретение индивидом интереса и деятельности в новой культурной среде (как условие ассимиляции) не ограничивается получением официального статуса (например, гражданства) и места работы. Позиция «заинтересованного деятеля», члена in-группы предполагает постоянную работу по освоению коннотативной системы языка, присвоению истории народа, встраиванию своих эмоциональных реакций в рамки данной культуры, присвоению культурного образца в качестве повседневной реальности. В результате должен измениться характер переживания индивидом нового культурного образца: из простых представлений он должен превратиться в инвайроментальное переживание явлений и объектов данной культуры. Возвращаясь к идее об актуализированных индивидом в состоянии культурного шока двух реальностях, двух способах социального восприятия, заметим, что ассимиляция означает «замену» одной другой. Возможности и перспективы такой замены связаны с характером конкретных культурных моделей – степенью близости культур, их языков и других элементов, а также ряда интегральных свойств культуры, как например выраженность фундаменталистских ориентаций. Щютц в данном случае указывает в качестве условий такой «замены» возможность «перевода» категорий одной культуры на язык категорий другой, определенный параллелизм культурных моделей. Так, например, ассимиляция румынки в Будапеште представляется потенциально более успешной, чем камбоджийки в Харькове. Однако и близость культур, и обретение официального статуса и места роботы в стране пребывания, как и знание языка, общий образовательный уровень индивида не гарантируют успеха процесса ассимиляции. Он, вероятно, может длиться неопределенно долго, поскольку освоение разных аспектов новой культуры идет неравномерно. Эта сложность и нелинейность процесса ассимиляции, непредсказуемость (негарантированность) его результатов находит отражение в понятии частичной ассимиляции, которое фиксирует промежуточное состояние между позицией «чужого» и «своего». Однако общими для форм ассимиляции является установка самого индивида на принципиальную невраждебность «старой» и «новой» культур. Другими словами, успешное развертывание стратегий ассимиляции связано с господствующей установкой индивида по отношению к самому факту кроскультурного перемещения. Эта тема разрабатывается в рамках кросскультурных исследований связи культурных перемещений и психопатологии [10]. Индивидуальные психологические реакции стресса в ситуации культурного перемещения ниже у иммигрантов в сравнении с беженцами, тем ниже, чем выше обрезовательный уровень и социально-экономический статус индивида. Также, по результатам исследований психологов, значимыми факторами адаптации в инокультурной среде (заметим, по-разному проявляющихся у мужчин и женщин, девочек и мальчиков) являются предшествующий миграции травматический опыт, этнический состав общества, опыт усвоения чужой культуры и отношение к такому усвоению. Ассимиляция и является одним из возможных типов отношения наряду с интеграцией, отторжением и маргинализацией [10, с.447]. Геттоизация, культурный обмен и культурная колонизация. Вторая группа стратегий ориентирована на существование индивида в условиях инокультурной среды в качестве «чужого» и предполагает различные формы отношения к господствующей культуре, а значит, актуализирует ситуацию культурного неравенства как в определении позиции или социального статуса индивида, так и инокультурного сообщества в целом. Их (индивида и группы) взаимодействие с культурой страны пребывания и ее носителями с неизбежностью испытывают воздействие складывающейся в данном поликультурном (полиэтническом) обществе иерархии культурных групп. Как известно, геттоизация как способ выхода из культурного шока связана с формированием для инокультурной группы особой «своей» территории с очевидными или «невидимыми» границами. История демонстрирует нам различные виды гетто и способы позиционирования его обитателей в социальном пространстве. Так, пребывание в гетто может быть связано с определенными привилегиями, в том числе экономическими (современные локальные поселения индейцев в США) или обозначать маргинальный статус этнического сообщества с перспективой полного его исчезновения (еврейские гетто в фашистской Германии). В любом случае возможности для инокультурной группы существовать, следуя своим культурным установкам, подвергаются ограничению. Иными словами, геттоизация ограничивает для культурного образца возможности развертывания в качестве основания повседневной жизни сообщества (например, ограничивая географически пространство его обитания). Это означает и ограничение возможности бытия культурного образца в качестве организующего принципа повседневного восприятия. Геттоизация также приводит к ограничениям возможности общения носителей разных культурных групп: одним из главных преимуществ локальных замкнутых этнических общин является запрет или существенное ограничение доступа в них представителей господствующей культуры. Такая ситуация приводит к приписыванию индивиду инокультурного происхождения в условиях повседневных контактов и взаимодействий позиции «чужого» с такими его характеристиками, как неадекватность ситуациям взаимодействия, подозрительность, незаинтересованность, внеисторичность [2]. Это выражается в негативных психологических и поведенческих реакциях автохтонов, формирующих в свою очередь у членов инокультурных групп представление об агрессивной и негативной по отношению к ним среде взаимодействия. Такие представления, в свою очередь, являются благоприятной почвой для распространения идеологических конструкций, обостряющих восприятие культурного неравенства, формирующих агрессивные установки по отношению к «несправедливому» окружающему миру. Культурный обмен предполагает возможности свободного, адекватного и взаимовыгодного общения между культурными группами. Если геттоизация подразумевает сохранение позиции «чужого» и формирует его негативный, враждебный образ, то условия культурного обмена должны актуализировать позитивное, заинтересованное отношение автохтонов к инокультурным группам. Примерами такого рода состоявшегося культурного обмена, по мнению Ионина [1], могут выступать «гугеноты, бежавшие в Германию от ужасов Варфоломеевской ночи, осевшие там и многое сделавшие для сближения французской и немецкой культур; это немецкие философы и ученые, покинувшие Германию после прихода к власти нацистов и сумевшие внести весомый вклад в развитие науки и философии в англоязычных странах». Иными словами, сообщество должно быть заинтересовано в «чужом»: его знаниях, профессиональных навыках, опыте или других качествах. Как видим, целые иноэтнические сообщества могут занимать в социальном пространстве особую позицию, востребующую их уникальные качества. Однако такое положение не может быть устойчивым, что подчеркивает и сам Бок, обозначая культурный обмен как промежуточный способ выхода из культурного шока. Культурный обмен как способ межгруппового взаимодействия имеет тенденцию изменяться и принимать форму ассимиляции или геттоизации, что становится еще более очевидным при обращении к специфике мышления «чужого» у Шутца. Речь о таких свойствах «чужого», как объективность и относительная лояльность. Он, в отличие от носителей культурного образца, «обладает ясным чувством некогерентности и неконсистентности культурного образца, с которым сближается» [2, с. 205], а это знание, в свою очередь, противодействует установке на принятие культурного образца. Осознавая непоследовательность, фрагментарность знаний «аборигенов», индивид, вероятно, постоянно подвергает сомнению мотивацию им подражать. Их поведение кажется ему непонятным, возможно – неэффективным или неправильным. Его же сомнения и потребность интерпретировать, объяснить установки и правила чужой культуры для ее носителей означают, прежде всего, недоверие к их способу жизни, мышления, восприятия и т.д. Иными словами, позиция «чужого» активизирует у самого индивида и его партнеров-«аборигенов», противоположно направленные установки, реализация которых ведет к утверждению индивида в этом статусе («чужой») и усугублению отношений взаимного неприятия. С другой стороны, пребывание в чужой культуре с необходимостью становится для индивида переживанием относительности своего культурного образца, условности его «естественного мировоззрения», возможно даже кризиса его способа восприятия мира и его социальной реальности. Это напряжение (в данном случае можно говорить об аналогии с фрейдистским понятием напряжения) нуждается в разрешении, что и делает нестабильной, промежуточной позицию «чужого» и, в свою очередь, культурного обмена как формы межгруппового взаимодействия. Разрешение этого напряжения возможно в двух направлениях: в пользу «нового» или «старого» культурного образца, обретения позиции «своего» либо в укреплении позиции «чужого». В категориях Бока это и означает перерастание культурного обмена в иную форму межгруппового взаимодействия: ассимиляцию либо геттоизацию. С геттоизацией, в свою очередь, связан такой способ выхода из культурного шока, как культурная колонизация. Она также предполагает сохранение в качестве схемы восприятия и действия, основы повседневного мышления «родного» культурного образца. И более того: культурная колонизация состоит в распространении и утверждении этого культурного образца в инокультурном пространстве. Как подчеркивает Ионин [1, с.10], термин «колонизация» не имеет здесь политического значения, а представляет особую форму взаимодействия нормативных и ценностных, добавим – когнититивных и перцептивных – систем. Так можно понимать практику помощи (в том числе и технологической) слаборазвитым странам, вестернизацию, американизацию и разнообразные формы модернизации (в том числе и технологической). Однако, невозможно не отметить и принципиальное различие ситуаций геттоиации и культурной колонизации с точки зрения распределения социальных сил, ресурсов, капиталов (в широком смысле) между группами носителей культуры и «чужими». Геттоизация возможна в условиях приоритета местной культуры, колонизация демонстрирует противоположный расклад сил. Научно-поэтический взгляд на проблему Актуальность данной темы связана с тем, что задачи управления обществом актуализируют вопрос о том, какова максимальная эффективность процесса ассимиляции. Иными словами, возможна ли (полная) замена культурной модели в основании повседневного восприятия. Этот вопрос заботит не только ученых и «просвещенных» управленцев, но и художников: от Гомера с его Одиссеем до сценаристов телевизионных сериалов, где так часто семьи «сражаются» за сердца потерянных и вновь обретенных отпрысков. Насколько пластична человеческая натура во взаимодействии (противостоянии?) с социокультурной средой? Как много значат для нее условия первичной социализации? Если оставить в стороне категоричный ответ, который дает на этот вопрос Зигмунд Фрейд, следует предположить несколько направлений поиска ответа: научный, в том числе эмпирический, идеологический и художественный. И тем замечательнее, когда обнаруживаются авторы, в своих судьбе и творчестве сочетающие эти три аспекта. Именно так мы подходим к работе Юлии Кристевой «Болгария, боль моя»6, где автор рассматривает эту проблему с позиции собственного эмпирического опыта, делает это как писатель ярко, образно, метафорично. Внешним толчком к написанию этой работы стали события в Косово и Чечне 90-х гг прошлого века. Особый интерес в данном случае представляет возможность рассмотреть изнутри, с позиции самого переживающего и рефлексирующего индивида, трансформацию культурных оснований повседневного восприятия. Иными словами, изложенная и обоснованная ранее теоретическая модель требует дополнения, иллюстрации, эмпирической интерпретации. Для реализации этой цели мы обращаемся к статье Юлии Кристевой, которая в данном случае понимается не только и не столько как научная работа, но как уникальный культурный продукт, воплощающий персональный опыт трансформаций социокультурных оснований социального восприятия. Кристева Ю. Болгария, боль моя (Перевод с французского Е. Богатыренко) // «Иностранная литература», 1997, №10 6 Кристева называет таких как она – людей, в опыте которых присутствуют две культуры, два языка и один из них дан по рождению, – «нелепыми гибридами», «не поддающимися классификации космополитами», «родившимися на перепутье монстрами». Для них границы «свого» и «чужого» (языка, культуры) уже не могут быть четкими, вписывающимися в организованные по принципу бинарной оппозиции языковые конвенции. Поэтому не удивляет Кристеву то, что болгарский для нее одновременно и родной язык, и ассоциирующийся с водами «теперь … такого чужого моря». Место, которое болгарский занимает в ее мышлении, Кристева называет первородными глубинами, «которые, как оказывается, спят отнюдь не вечным сном» и олицетворяют для нее связь с истоками. Эта связь неожиданно оказывается востребованной в нестандартных, сложных ситуациях: «И вовсе не французский язык приходит мне на помощь, когда я пробуксовываю в некой искусственной знаковой системе или, устав, не могу справиться с простейшими арифметическими действиями; на помощь мне приходит болгарский»7. Осмысляя свое вхождение в иную культуру, освоение французского языка, Кристева признает, что часть ее личности утрачивалась в этом процессе, «угасала». «В конце концов эмиграция и вовсе убила ту старую мою основу, чтобы заменить на новую – сначала хрупкую и искусственную, вскоре все более и более мне необходимую, а теперь единственно живую – французский язык». Так, словами Альфреда Щютца, «чужой» обретает сначала интерпретативное, а затем и инвайроментальное переживание нового культурного образца. И это новое знание-переживание вытесняет из актуального употребления первичное знание, родной язык. Но, читаем у Кристевой, вытеснение не означает стирание прежнего опыта: «Я не распрощалась навсегда с языком детства, ведь «навсегда» означало бы равнодушное безразличие, рубец и даже забвение». Переживаемое индивидом при освоении иной культуры Кристева называет раздвоением духа и тела, способным обернуться воскрешением первичной культурной модели (как мы видели выше) в условиях неопределенности или кризиса. Развивая идею раздвоения, Кристева пытается обозначить различия условий, в которых каждый из языков оказывается ею востребован. «Там, где кончаются мои чувства, рождается почти неуловимый трепет – жажда французского языка; одновременно откуда-то сверху, навстречу мне, идет ярким потоком света целый арсенал прочитанного и проговоренного по-французски: опускается сверкающая ткань, которая – я ощущаю это – должна стать воплощением живущей во мне ясности. В алхимии наименований я остаюсь наедине с французским. Дав имя Бытию, я начинаю быть: душой и телом я живу по-французски». Что же болгарский? «Когда события складываются в сюжет, то есть всякий раз, когда Бытие является ко мне в виде истории – истории жемчужного тумана или истории диких уток и, конечно, истории мечты, страсти или убийства, – я чувствую смятение, которое не выразить словами, но которое обладает собственной музыкой». Взгляд со стороны на собственный опыт французского и болгарского языков провоцирует эстетическое высказывание, где болгарский видится как «неуклюжий синтаксис и бездонные метафоры, не имеющие ничего общего с французскими блеском и внятностью». Наконец, различаются и коммуникативные ситуации использования языков. Французский для Кристевой – средство общения с другими людьми, разделяющими с нею реальность, «форма проявления учтивости в отношениях между людьми, разделяющими один способ общения: одни и те же образы и выражения, один и тот же запас прочитанного и проговоренного, как и должно быть в стабильном обществе». Болгарский Здесь и ниже цитируется по Кристева Ю. Болгария, боль моя (Перевод с французского Е. Богатыренко) // «Иностранная литература», 1997, №10 7 же видится как «уродливый росток чего-то глубоко личного». Иными словами, французский – язык актуального общения – укрепляется в своем интерактивном статусе, болгарский – язык родной, но не используемый повседневно – обретает статус интраспективный. Болгарский приобретает для индивида в аналогичной для Кристевой социальной позиции смысл чего-то глубоко личного, индивидуального, внутреннего. Родной язык становится языком внутреннего «Я», глубокого, настоящего истинного: «над спрятанной в подземелье криптой, неподалеку от болота с недвижной и загнивающей водой я построила себе новый дом, в котором живу и который живет во мне и где протекает то, что можно назвать – не без высокопарности, конечно, – истинной жизнью духа и плоти». Иными словами, два языка (шире – культуры), сосуществующие и взаимодействующие как сообщающиеся сосуды, позволяет маркировать внутренний опыт, восприятие себя как специфического пространства с качественно различающимся областями, для каждой из которых язык становится средством ее выражения и доступа к ней. Следует подчеркнуть, что восприятие таких различий неразрывно связано с наличиейм поликультурного опыта индивида. Боль, о которой говорит Кристева в начале статьи, ассоциируется и с моральными переживаниями. Мигрант одновременно переживает страдание матереубийцы – уменно так Кристева квалифицирует «отказ от родного языка», отказ от жизни в его пространстве. Но он же наслаждается гордостью свершения того, о чем другие, в том числе и родители, только мечтают. В этом контексте у кристевой возникают и новые понятия для обозначения взаимодействия французского и болгарского: «Я испытываю бесконечную печаль: мои язык и тело воскресают благодаря жизненным сокам французского трансплантанта, а я прислушиваюсь к слабым биениям жизни в еще теплом теле моей материнской памяти». «Тело материнской памяти» – так благодаря Кристевой мы можем обозначить форму существования первичой культурной модели в представлениях мигранта. Внутренняя реальность мигрантского сознания, его новый дом, новый язык, постоянно спорящий сам с собой, вызывает раздражение у коренных жителей обоих стран: «полноценные» граждане всегда настроены воинственно. Преступив границы собственной культуры, индивид тем самым не «вступает» в другую, не становится ее частью, а движется в некую иную реальность, и вероятность разделить ее с другими людьми, обрести социальное окружение, качественно сравнимое с условиями первичной культуры, существенно ниже. Однако мигранты, «живущие на самой границе», «не поддающиеся классификации», «космополиты», «нелепые гибриды» воплощают, по мнению Кристевой, «жизненную силу современного мира, который выжил после утраты своих замечательных ценностей благодаря – или вопреки – приливу иммигрантов и смешению народов». С другой стороны, мигранты «стали олицетворением новой реальности – той, что выступает противовесом национальной косности и интернационалистскому нигилизму». Их жертва осуществлена ради возникновения новых человеческих существ, «чьи язык и кровь не будут связаны родовыми узами ни с одним языком и ни с одной кровью», прирожденных посредников, не зараженных воинственностью «полноценных». Однако этот взгляд в идеальное будущее «кочующего человечества, которое больше не желает сидеть на одном месте» не утешает трагедии разделенности с родиной. Реальность же (как уже отмечалось, непосредственным толчком к написанию статьи для Кистевой были события конфликтов на этнической почве) подсказывает в качестве наименования для бывших соотечественников «мрачные балканцы». О них: «Ваши похвалы похожи на упреки, ваша благодарность похожа на требования, ваши надежды изначально обречены и угасают, не успев отлиться в слова, в ваших песнях звучит плач, ваш смех предвещает несчастья, ничто вас не радует, вы не рветесь вперед; пусть вы проснулись слишком рано, вы непременно явитесь слишком поздно в этот слишком старый мир, который все же постоянно обновляется и не любит опоздавших». В своем глубоком и изысканном тексте Юлия Кристева, как видим, отвечает отрицательно на главный наш вопрос – возможна ли полная замена культурного образца в основании повседневного восприятия. «Первичная», «родная», «материнская» культура прорывается к сознанию упреками совести или всплесками гнева. Этические и эстетические реакции переплетаются с эмоциональными. Опыт поликультурности формируют у индивида не только противоречивость реакций, но и особую чувствительность как к внешним условиям, так и к анализу внутреннего опыта. Социальноперцептивные ситуации и перспективы проявления нелегитимного насилия и терроризма Негативные предчувствия и страхи, испытываемые автохтонами по отношению к «чужим», связаны в предельном своем выражении с ожиданиями агрессивного поведения или проявлений насилия. Низкая культурная компетентность, приписываемая «чужому», в глазах носителей «местной» культурной модели – это, прежде всего, неадекватность «терминальным» рамкам культуры, ее повседневным трактовкам добра и зла, разрешенного и запретного, а значит и свойственным ей рамкам проявления силы и легитимного насилия. Использование этого понятия, следуя Бауману [4, с.259-275], применительно к современному обществу (как в повседневном так и в научном дискурсе) сталкивается с рядом затруднений. Определяя насилие как нелегитимное, не осве(я)щенное волею социального порядка использование силы, мы не должны забывать, что всякий социальный порядок несет в себе результат предшествующих баталий борьбы за власть (в категориях П. Бурдье). В ситуациях, когда применение силы предполагает пересечение государственных или культурных границ оказывается практически невозможным уйти от «двойных стандартов». Далее, затруднения, связанные с формулированием универсальной трактовки легитимного насилия (в том числе связанные с идеей «устранения насилия» как одной из важнейших общеидеологических установок современной цивилизации), не исключают наличия в каждой национальной культуре (культурной модели) качественно специфических категорий, идей, представлений и конструкций, ограничивающих и направляющих проявления силы и легитимирующих насилие. В центре внимания при обсуждении проблемы нелегитимного, несанкционированного насилия оказываются террористические акты и терроризм как феномен. Рассматривая стратегии выхода из культурного шока в контексте проблемы взаимодействия в представлениях индивида двух реальностей и перспектив, которые эти ситуации имеют в контексте возможных проявлений террористических действий и других форм нелегитимного насилия, необходимо отметить следующее. Те стратегии, которые предполагают «замену» культурного образца, лежащего в основании повседневного восприятия, - стратегии ассимиляции – имеют в качестве исходного принципа лояльность по отношению к «новому» культурному образцу. Сама установка на ассимиляцию включает и лояльное отношение к институциональным основам социального порядка, в том числе – институтам легитимного насилия. Отказ от конкуренции «старой» и «новой» культурных моделей в пользу последней предполагает блокировку агрессивных тенденций восприятия и действия, поскольку трансформации подлежит сама повседневная интерпретация понятий добра и зла. Вторая группа стратегий – геттоизация, культурный обмен и культурная колонизация, не предполагающих «замены» способа восприятия реальности, в той или иной степени способны актуализировать потенциал агрессивности и насилия по отношению к автохтонным культурным моделям и воплощающим их институциям. Колонизация прямо предполагает и культивирует такие способы восприятия и действия. Культурный обмен связан с реализацией противоположных установок, но как было показано выше, не является устойчивой формой взаимодействия и существенным образом зависит от внешних факторов. В ситуации, когда в представлениях индивидов актуализированы две культурные модели, индивид оказывается перед необходимостью периодически пересекать их территориальные или символические границы, обозначающих и границы конкретной легитимности (наиболее явно они воплощаются в границах этнических кварталов – современных вариантах гетто). Необходимость осуществления контроля за поведением по поводу пересечения этих границ актуализирует как перцептивную категорию границы, так и все возможные обоснования ее локации. Это, на наш взгляд, создает неоднозначную ситуацию, способную разрешиться в форме нелегитимного насилия или представляющую потенциальную опасность такового. И необходимым условием такого разрешения является идеологическое воздействие, «паразитирующее» на специфически обостренном у индивида в подобных условиях переживании культурного и социального неравенства. Актуализированная перцептивная категория границы ареала культурной модели, объекивная необходимость периодически ее пересекать в комплексе с другими аспектами культурного шока как социоперцептивной ситуации (о чем шла речь выше) делают индивида не только «легкой добычей» для экстремистских идеологических воздействий, но и желанным рекрутом для соответствующих организаций. Таким образом, рассматривая стратегии выхода из культурного шока в контексте создаваемых ими специфические социально-перцептивные ситуации, мы выходим за рамки собственно культурной обусловленности их развертывания и оказываемся перед необходимостью разъяснить и «внешние» факторы этого процесса. Это, в свою очередь, заставляет поставить вопрос не только о количественных, но и качественным параметрах капиталов, борьба которых обретает формы различных способов выхода из культурного шока: речь должна идти не только о финансовых, экономических военных или политических ресурсах, но и об идеологических конструкциях и технологиях идеологического воздействия, которые непосредственно направлены на изменения и корректировки повседневного восприятия и мышления. Следует заметить, что посредниками, трансляторами (об «источниках» в лассвеловском смысле слова здесь говорить не приходится) такого идеологического воздействия выступают не только экстремистские и террористические организации. Выступающие «от имени «угнетаемых меньшинств» или «непризнанных наций», они в последнее время сильно скомпрометировали себя готовностью прибегать к насилию и включаться в геополитические баталии» [7, с. 364]. Вслед за Тишковым отметим, что в практике террора все более важную роль играют так называемые «несистемные активисты», которые напрямую не связаны с известными экстремистскими организациями, но в своей деятельности (не только собственно идеологической) способствуют распространению описанного выше способа восприятия социальной реальности. «Самоусвоение того, что ты беден, обездолен и должен взять реванш, появляется тогда, когда есть агитаторы и телеэкраны для сравнения» [7, с. 366]. Но Тишков лишь обращает внимание на общеидеологическую направленность таких «сообщений» - стремление обострить переживание бедности, несправедливости и безысходности8. Мы же стремимся вычленить условия, связанные с практикуемым характером социального восприятия, способствующие превращению слов в действия. Однако, на наш взгляд, нельзя согласиться с выводами Тишкова относительно стратегии и методов борьбы с терроризмом. Пропагандируемая им стратегия усиления государственного воздействия на источники «несистемной активности», где государство «Начало терроризма не там, где реальная бедность, а там, где создают ощущение бедности, несправедливости и безысходности» [7, с. 366] 8 выступает как выразитель воли большинства (в противоположность меньшинствам, от имени которых действуют разнообразные организации), не снимает опасных с точки зрения возможных проявлений насилия ситуаций, а их усугубляет. Возвращаясь к терминологии «своих» и «чужих», следует заметить, что усиление роли большинства в лице государства (т.е. - «своих»), легитимация проявления силы с их стороны лишь обостряет противостояние с «чужими», лежащее, как было показано выше, в основании проблемы. Преодолению же этой проблемы будет способствовать снятие, деактуализация самой социоперцептивной ситуации «чужого», способа восприятия реальности, конфигурирующегося вокруг этой категории восприятия. И на этом пути важнейшая роль принадлежит институтам и организациям, публичным фигурам – журналистам, ученым, политическим деятелям, деятельность которых должна быть направлена на деконструкцию понятия «чужого» как категории восприятия9. *** Рассмотрение понятия «культурный шок», предложенное выше, было актуализировано прежде всего разнообразными ситуациями межкультурного перемещения. Однако проблематика социальных изменений также приемлет это понятие в качестве одного из ключевых, на что обращает внимание, например, А. Тоффлер, определяющий культурный шок как «стресс и дезориентацию, которые возникают у людей, подверженных слишком большому количеству перемен за слишком короткий срок» [11, с.5]. Эту мысль поддерживает и продолжает и М. Кастельс [12, с.49], говоря о периодах истории общества, когда постепенный характер его развития находится под угрозой. Интенсивность перемен приводит к культурным потрясениям таких масштабов, утверждает Кастельс, что культурные шоки становятся элементом повседневности. Не имея возможности развивать в данной статье эти идеи, заметим в качестве гипотезы, что предложенный выше анализ социоперцептивных ситуаций культурного шока может быть адекватно применен к исследованию процессов трансформации повседневного социального восприятия в связи с проблематикой социальных изменений. Перенося данную тематику с поля межэтнических взаимодействий в более широкое поле взаимодействий представителей различных сообществ, групп, субкультурных образований и т.д. – иными словами, взаимодействия носителей различных культурных форм (выделяемым по любым признакам), - обнаруживаем, что она (тематика) затрагивает проблему социально-перцептивных условий поликультурности, полистилизма, множественных идентификаций и т.д. Идеологически и теоретически эта тема исследовалась в концепциях постмодернизма. Технологическим основанием для становления и понимания этой проблемы как социальной (массовой, широко распространенной и т.д.) стали телевидение, информационные и коммуникационные технологии. Тема возможности „поли-ориентированности” широко представлена в произведениях массового искусства (в частности - кинематографа) ХХ века. Широчайшими оказываются и вариации тематики: от политико-идеологических („Подвиг разведчика” (СССР, 1947), „Семнадцать мгновений весны” (СССР, 1943)) или брачно-эротических общностей („Романс о влюбленных” (СССР, 1974) или „Москва слезам не верит” (СССР, 1979)) до профессиональных или гендерных („Часы” (США, 2002)). Обращение к вариантам проигрывания этой темы в культурных продуктах (в частности - кинофильмах), в виртуальном пространстве вымышленных героев и ситуаций делает для нас явными факторы проблемы. Так, возможность и успешность поликультурных идентичностей и личностных стратегий связана, с одной стороны, с пластичностью человеческой натуры, с другой – с легитимацией возможностей Эта задача, на наш взгляд, требует отдельного внимания и дальнейшего анализа уже в социальнопрактической плоскости. 9 множественности индивидуальных ориентаций каждой конкретной культурной формой. Только на первый взгляд эта разделение ассоциируется с дихотомией „внутреннее внешнее” или „индивидуальное - социальное”, поскольку бытие индивида в качестве носителя конкретной культурной формы по-своему организует и конструирует саму природу человека. Такой подход позволяет рассматривать и проблему социокультурных эпох как специфических социально-перцептивных пространств. С другой стороны, такая постановка проблемы демонстрирует природу и роль идеологических конструкций и технологий (стретегий идеологического воздействия) в контексте решения проблем «коррекции» габитуса в интересах конкретной социокультурной общности. В частности, такая постановка вопроса выявляет принципиальные различия либеральной и консервативной идеологий с точки зрения их социально-перцептивных характеристик. Однако все эти „расширения” тематики и сфер ее приложения не снимают актуальности концептуального и категориального аппарата социологии повседневного мышления А. Шютца. Центральным моментом здесь, на наш взгляд, является аппарат теоретической рефлексии различия инвайроментального и интерпретативного характера знания культурных образцов. Первый из них характерен для носителя культурного образца, освоившего его в условиях первичной социализации и, что еще более важно – переживающего его как непосредственно данную реальность и способный активно действовать в этом пространстве. Второй характеризует знание наблюдателя любой степени „близости” (от уровня зрителя телепередачи „Вокруг света” до студентаиностранца или иммигранта с многолетним стажем) по отношению к данному культурному образцу, для которого он как способ восприятия и действия опосредован другими культурными образцами. Категориальный аппарат концепции Щютца дает нам возможность дальнейшего развития этой тематики и решения задач ее выведения на уровень эмпирических исследований, построения системы показателей и индикаторов этих двух типов культурного знания и восприятия социальной реальности, что сделает возможным применение эмпирических социологических методов анализа этих явлений. Литература 1. Culture Shock. A reader in modern cultural anthropology /Ed. by Ph. К. Bock. New York, 1970 (Цитируется по: Ионин Л.Г. Социология культуры. -М.: Логос, 1998.) 2. Щютц А. Чужой // Щютц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии / Пер. с нем. М.- 2003. 3. Сорока Ю.Г. Трансформация структур восприятия социального мира...// Посткоммунистические трансформации: векторы, измерения. Содержание.- Х.- 2004.-с.308-327 4. Бауман З. Индивидуализированное общество /Пер. с англ. под ред. В.Л.Иноземцева. – М.- Логос, 2002.- 390 с. 5. Паин Э.А. Социальная природа экстремизма и терроризма // Общественные науки и современность, 2002, № 4 6. Одесский М., Фельдман Д. Террор как идеологема . Доступно на: www.ecsocman.edu.ru 7. Тишков Реквием по этносу 8. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие.- М.- 2000. 9. Сорока Ю.Г. Концепция социального восприятия П. Бурдье: основные идеи и возможности применения // Методологія, теорія та практика соціологичного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць.Х.- 2004.- с. 58-61 10. Культурное перемещение, аккультурация и психопатология // Психология и культура / Под ред. Д. Мацумото. - СПб.: Питер, 2003. – с. 446-448 11. Тоффлер А. Футурошок. - СПб, 1997 12. Кастельс М. Информационная эпоха. М.: 2000 1. Soroka Y.G.Transformation of Social World Perception Structures // Changing diversity: Vectors, Dimensions and Content of Post-communist Transformation / (edited by O.D. Kutsenco, S.S. Babenco). – Kharkov. – 2004. P.308-327 (in English) 2. Boudreaux’s Conception of Social Perception: Basic Ideas and Application Means // The Methodology, Theory and Practice of the Sociological Analysis of the Modern Society. Kharkiv. -2004. – P. 346-348 (in Russian) Alfred Schutz …the knowledge of the man who acts and thinks within the world of his daily life is not homogeneous; it is (1) incoherent, (2) only partially clear, and (3) not at all free from contradictions.' SCHUTZ, A. The stranger: an essay in social psychology. In: Collected papers. Vol. II. Studies in social theory. The Hague: Martinus Nijhoff, 1964, 93. Julia Kristeva, “Bulgaria, My Suffering” Zigmund Bauman Alvin Toffler Manuel Castells