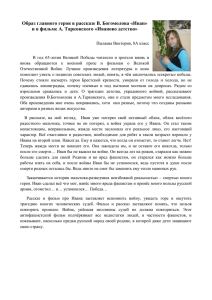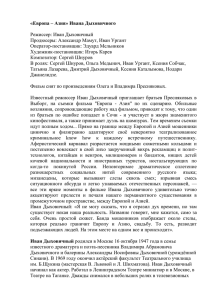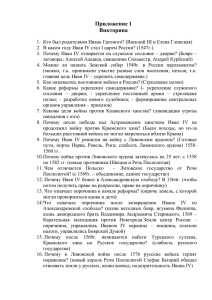"Сумрак, дождь, середина лета", "На цыпочках" и "Все часы в
advertisement
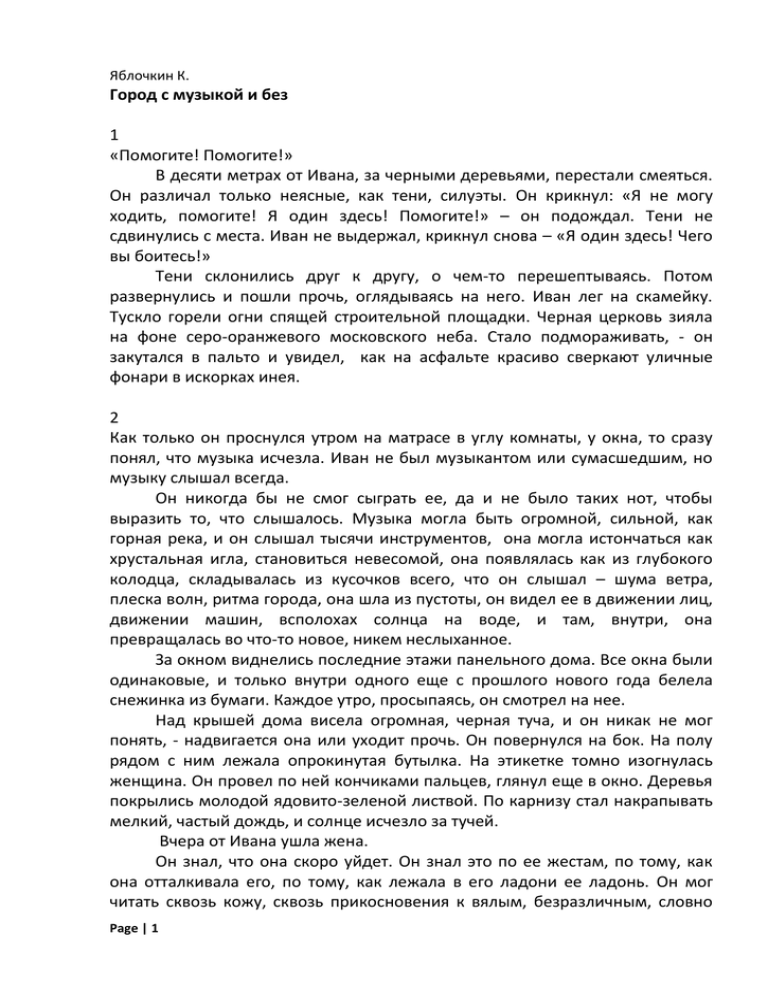
Яблочкин К. Город с музыкой и без 1 «Помогите! Помогите!» В десяти метрах от Ивана, за черными деревьями, перестали смеяться. Он различал только неясные, как тени, силуэты. Он крикнул: «Я не могу ходить, помогите! Я один здесь! Помогите!» – он подождал. Тени не сдвинулись с места. Иван не выдержал, крикнул снова – «Я один здесь! Чего вы боитесь!» Тени склонились друг к другу, о чем-то перешептываясь. Потом развернулись и пошли прочь, оглядываясь на него. Иван лег на скамейку. Тускло горели огни спящей строительной площадки. Черная церковь зияла на фоне серо-оранжевого московского неба. Стало подмораживать, - он закутался в пальто и увидел, как на асфальте красиво сверкают уличные фонари в искорках инея. 2 Как только он проснулся утром на матрасе в углу комнаты, у окна, то сразу понял, что музыка исчезла. Иван не был музыкантом или сумасшедшим, но музыку слышал всегда. Он никогда бы не смог сыграть ее, да и не было таких нот, чтобы выразить то, что слышалось. Музыка могла быть огромной, сильной, как горная река, и он слышал тысячи инструментов, она могла истончаться как хрустальная игла, становиться невесомой, она появлялась как из глубокого колодца, складывалась из кусочков всего, что он слышал – шума ветра, плеска волн, ритма города, она шла из пустоты, он видел ее в движении лиц, движении машин, всполохах солнца на воде, и там, внутри, она превращалась во что-то новое, никем неслыханное. За окном виднелись последние этажи панельного дома. Все окна были одинаковые, и только внутри одного еще с прошлого нового года белела снежинка из бумаги. Каждое утро, просыпаясь, он смотрел на нее. Над крышей дома висела огромная, черная туча, и он никак не мог понять, - надвигается она или уходит прочь. Он повернулся на бок. На полу рядом с ним лежала опрокинутая бутылка. На этикетке томно изогнулась женщина. Он провел по ней кончиками пальцев, глянул еще в окно. Деревья покрылись молодой ядовито-зеленой листвой. По карнизу стал накрапывать мелкий, частый дождь, и солнце исчезло за тучей. Вчера от Ивана ушла жена. Он знал, что она скоро уйдет. Он знал это по ее жестам, по тому, как она отталкивала его, по тому, как лежала в его ладони ее ладонь. Он мог читать сквозь кожу, сквозь прикосновения к вялым, безразличным, словно Page | 1 мертвым пальцам ее мысли. Ее отвращение. Он смотрел в серое небо, в пустые, зашторенные окна дома напротив и пытался вспомнить, когда это началось, но вспомнить не получалось. Он что-то пропустил. Однажды он пришел домой, а она сидела на кровати, натянув шерстяное одеяло до подбородка, смотрела передачу о египетских пирамидах, и даже не повернула в его сторону головы, когда сказала «здравствуй». Он вспомнил, как она позвонила ему вчера на работу, обыденно, словно сообщая о покупке продуктов, сказала, что приехала за вещами, и крепко зажмурился. Дома она собирала большой красный чемодан. На секунду подняв на Ивана глаза, она так естественно, так просто улыбнулась, спросила: «ты не знаешь, где моя расческа?», - так просто, так обыденно спросила, будто это каждый день люди расстаются навсегда, чтобы больше не увидеться никогда. А он знал, что они больше не увидятся. Иван видел, что ей неприятно, что ей, может, даже жалко его, но больше всего, он чувствовал, ей хотелось поскорее закончить со сборами, попрощаться и уйти. После того, как она собрала вещи, он зачем-то предложил проводить ее до двери. Они молча спустились в тесном лифте вниз, не глядя друг на друга, потом она долго пыталась нащупать в темноте подъезда кнопку, чтобы открыть дверь. Он стоял позади жены, смотрел на ее тонкую шею, коротко остриженный, как у мальчика, затылок, чувствовал такой родной запах ее волос, видел прямо перед собой маленькую родинку на чуть выпирающей косточке позвоночника, до которой он теперь уже не мог притронуться, и вдруг чётко осознал, что за те два года, пока она жила с ним в его однокомнатной квартире, в огромной типовой многоэтажке, в огромной, уродливой Москве, она ни разу не почувствовала себя дома. Одним заученным движением Иван нажал на кнопку, что-то противно запищало, она открыла дверь, повернулась к нему, извиняясь, улыбнулась и пошла сквозь тёмную детскую площадку к шумной дороге а он долго смотрел ей вслед. 3 Иван поднялся, прошел в ванную, запер зачем-то дверь, задернул занавеску, залез под тонкие, обжигающие струи. В голове быстро пульсировала кровь, тонкие стенки сосудов казалось, вот-вот лопнут. Прохладная вода лилась на затылок, текла по груди. Он не мог оторвать взгляд от воды, утекающей в черную дыру водостока. Он жил в Москве уже семь лет, работал дизайнером в одном из тысяч дизайнерских бюро, в тусклом подвале верстал визитки, рекламные Page | 2 открытки, флаеры, обложки для дисков и прочий хлам, которым полнятся мусорные урны у метро и автобусных остановок. Все эти семь лет он боролся за себя, потому что всё, что у него было до переезда – это старая квартира в далёком городе, а в этой квартире – нагромождение ненужной мебели, посуды, трёхлитровых банок на подоконниках в кухне; старый, огромный, похожий на гроб телевизор «Чайка» в тусклой гостиной; усталая мать, которая в жизни ничего, кроме кухни, не знала, отец, который не знал ничего, кроме станка на заводе; а ещё – окна, выходящие на школу с потрескавшимися стеклами и ржавыми перекладинами спортплощадки; улица, где знаком каждый закуток, где даже грязь кажется родной. Город, в котором ранним солнечным утром, глядя в окно на нетронутый снег на пустынной улице, ему хотелось повеситься. Когда Иван чистил зубы, десны начали кровоточить, - он сплюнул пасту и смотрел, как кровь стекает по белому фаянсу. Рубашек в шкафу не оказалось, а те, что лежали в ящике для белья, были заношенными, - на сгибе воротника отчетливо просматривалась серая полоска, на ботинке порвался истертый шнурок, и он долго не мог найти ключи. 4 Дождь кончился, из-за туч вышло холодное весеннее солнце. Люди, одетые по-зимнему серо, не отвыкнув от гололеда, смотрели под ноги, привычно спешили на теплые рабочие места. В воздухе было что-то по-весеннему сладкое, и эта сладость лилась внутрь, растекалась по телу и ранила его. Пахло свежей краской. На карнизах серых домов верещали воробьи. С похмелья все звуки - резкие, громкие. В плеере лупила музыка. У метро из каждого второго ларька – уродский шансон. Похмельный клоун в разноцветной куртке кричал в мегафон, призывая посетить меховой салон. В метро сквозь наушники был слышен стук колес, - в туннеле он отражался от стен, сливался в гул, скрежет. На переходе усталую скрипку седого старика совсем не было слышно за объявлениями из динамиков, в которых празднично-размеренный голос требовал доносить на соседей-наркоманов в милицию, сообщать ментам о найденных вещах. У Ивана закружилась голова. Раньше он любил музыку, ходил на концерты, где мигали красным, желтым, синим огромные лампы, и кто-то неразборчиво орал в микрофон; а еще он слушал в консерватории Рахманинова, Моцарта, Бетховена, Баха, слушал с закрытыми глазами, затаив дыхание, и ему при этом нисколько не мешал храпящий сосед справа. Потом ему надоело – всякий раз слышать, как музыкант не попадает в ритм, мажет мимо нот, и открывать глаза, смотреть на человека во фраке за огромным роялем или на вокалиста модной группы, нелепо сжавшего серебряный микрофон, и чувствовать, как музыка превращается в шум. Page | 3 Выйдя из метро, он свернул во двор и сел на скамейку. Тревожное солнце то скрывалось за тучами, то вспыхивало вновь. Вдоль старой, крошащейся стены бежал по весеннему льду плачущий мальчик лет восьми в зеленой куртке. За ним бежали другие мальчишки, видимо, друзья, они звали его играть дальше, кричали, что не хотели бросаться ледышкой, и мальчик оглядывался на бегу, смеялся, а потом опять плакал и бежал дальше. Воркующие голуби клевали хлебные крошки у грязного бордюра. Иван давился противной сигаретой. Дым летел в небо. Что-то давило на уши, где-то за аркой старинного здания сигналили в пробке машины, тихо переговаривались вышедшие на перекур после ночной смены повара ресторана – звуки города мешались в огромный грязный ком, как музыка на плохих концертах. 5 Иван открыл вчерашний проект. Он совсем забыл, что было изображено на плакате. После звонка жены он работал не думая, подбирал цвет, размер шрифта, подгонял присланную фотографию. Это был портрет очередного жирного президента с плотоядной улыбкой и глазами рептилии, и сверху надпись большими белыми буквами по синему фону: «Медведев! Путин! Народ!». Иван увеличил масштаб и долго смотрел в глаза существа, на фотографии. Его стало подташнивать. Он вышел в курилку, сел в дальнем углу. В маленькое, как бойница, окно лился тусклый свет, белые, покрытые дешевыми пластиковыми панелями стены пожелтели от никотина, и курилка походила на палату для буйных. Негромко шуршала вытяжка в стене, и Иван долго смотрел, как дым медленно улетает наружу. В курилке было тихо, и только где-то далеко внизу шумела, как горная река, улица, да пронзительно и одиноко верещала сигнализация машины во дворе. Иван думал о том, как плавно падал всю длинную, тягучую черную зиму снег за окном, как они зажигали свечи на кухне, пили с друзьями вино и пели песни, а потом она сидела на подоконнике и смотрела на рыжие фонари внизу, по-кошачьи грелась под одеялом, по утрам готовила завтрак – черный, крепкий кофе в граненом стакане, яйца всмятку и тосты с сыром, как будила его и улыбалась, как мылась в душе, и вода текла тонкими струями между её лопаток, по позвоночнику, по длинным ногам, а он смотрел на нее, сидя на ящике для белья, как она уезжала домой на белом автобусе и как возвращалась. 6 Похмелье накатывало волнами, всё казалось вычурным и отвратительным. Рабочий день тянулся мучительно медленно, Иван поглядывал на часы над Page | 4 столом, и минутная стрелка почти не двигалась, словно не минуты считала, а годы. Он работал здесь уже пять лет, и его устраивало место. Ехать до работы на метро было меньше часа – намного меньше, чем на предыдущих его работах. Вот только платили мало, но он привык. Все его знакомые работали так же много и так же мало получали, помыслить о покупках квартир, машин никто из них не мог, но это почему-то мало кого беспокоило всерьез. Иван уже не помнил, когда стал равняться на других. Ему было важно видеть, что рядом с ним в метро, в этом вонючем подземелье каждый день едут такие же, как и он, усталые люди. Каждый из них считал себя особенным, но все они, так или иначе, слушали одинаковую музыку, ходили на одинаковые фильмы, жили в одинаковых домах и одинаково отрабатывали одинаковые дни на проклятой работе, год за годом одинаково взрослели, старились, окончательно сливаясь в одну серую массу. В социальной сети несколько его «друзей», которых он не видел ни разу в жизни, выложили снятые хорошими зеркальными фотоаппаратами красивые фотографии: там был правильно пойман желтый солнечный свет на улыбающихся лицах. Люди гуляли по огромному полю, улыбались, по рукам ходила бутылка хорошего вина с красивой этикеткой. На одной из этих фотографий девушка с парнем ссорятся, отойдя в сторонку от компании. Она плачет, парень держит ее за тонкое запястье, видно, что девушка хочет вырваться, а на переднем плане посреди русского поля в лучах желтого заходящего солнца улыбаются остальные. На них модные, сужающиеся к низу джинсы, у каждого второго пирсинг в губе, на одной из девушек – футболка с микки-маусом. Иван впал в странную тупость – бесцельно, автоматически открывал и закрывал сайты из панели быстрого запуска, жал на кнопку «новости», пролистывал страницу до конца, открывал другую, и так же бесцельно рассматривал фотографии, не очень-то понимая, что на них, слушал новые песни без музыки (только шумы и пустые слова), открывал и закрывал список контактов в аське – в «онлайне» были только деловые контакты; затем вставал, шел курить, глядя в окно под потолком, работал, улыбался на шутки, пил сладкий кофе из автомата, говорил о погоде. В голове не было ни одной мысли, ни одного чувства, так, будто всё, что было внутри, высосали, словно вода вылилась из надтреснутого кувшина. Музыки не было. То, что раньше вызывало ее, заставляло течь, меняться, - всполохи солнца на потолке курилки или чей-то редкий, но искренний смех, честное, настоящее слово, - всё теперь стало ненастоящим, пустым. Все вокруг были смертниками, да только не знали, когда расстрел, бодрились, шутили. Он смотрел по сторонам и не мог поверить, что все эти люди могут добровольно собраться в огромном, тусклом помещении в Page | 5 весенний, такой сочный день и смотреть в квадратные ящики тусклых мониторов, заниматься идиотской работой вместо того, чтобы идти по берегу ногами босыми, в небо смотреть, быть с любимыми. Но и он сам садился на свое привычное место в дальнем углу и работал так, как вчера, месяц, год назад. Раньше для него каждый человек звучал по-своему – эта музыка была в глазах, в походке, в жестах, в смехе и плаче, в уголках губ. Когда Иван смотрел на руку спящей жены в свете луны ночью, на ее расслабленные, иногда вздрагивающие, как у марионетки, пальцы, он слышал, как медленно и тихо в огромной, гулкой, темной комнате поет ребенок. Когда он видел, как она улыбается, полулежа на диване с книгой в руках, - сотни маленьких колокольчиков звенели на ветвях старого, одинокого дерева в поле. Когда она грустила, и что-то тянуло вниз, к земле, уголки ее губ, он слышал, как кто-то резко, грубо перебирал сухие клавиши фортепиано, и звук будто катился вниз. Офис звучал как сотня японских барабанщиков, они то сбивались с ритма, то находили его вновь; черные и светлые окна домов по дороге домой – как мажор и минор; Музыка была в книгах, каждая из них звучала по-своему, какая-то высоко, утонченно, какая-то – резко, грубо, музыка была в каждом встречном, – любой открытый взгляд прохожего тоже был нотой в симфонии города. Эта симфония, стихая ночью, набирала силу днем, и никогда не смолкала. Вечером раздали зарплату в длинных белых конвертах. К концу рабочего дня у Ивана перестали трястись руки, прошла голова, и он вдруг представил, как выйдет сейчас из офиса, пройдет тем же путем до метро, спустится в той же толпе, с которой ехал с утра, в подземку, проедет час в битком набитом вагоне до дома, поздоровается с консьержкой, поднимется в вонючем лифте на свой пятый этаж, где пустая бутылка вина так же лежит на полу; там так же пусто, так же тихо со вчерашнего дня, так же темно, будет сидеть один на кухне, на диване, на подоконнике, смотреть телевизор, слушать музыку без музыки, смотреть вниз, курить, и вспоминать ее тело, ее родинку на шее, как она сидела на подоконнике, положив ногу на ногу, как она смотрела на него, как плакала, как смеялась с морщинками в уголках губ, – и ему стало страшно и жутко, и захотелось бежать в обратную сторону от дома. Иван действительно пошел в другую сторону от Павелецкого вокзала быстрым шагом, словно опаздывал куда-то, на ходу листая записную книжку в сотовом. Старые друзья остались там, в городе детства, а с теми, которые как и он перебрались в Москву все контакты были потеряны: почти все Page | 6 женились, нарожали детей и работали круглые сутки, у всех вечно не совпадали рабочие графики. Было воскресение, и он знал, что все знакомые уже спят или сидят в уютном кресле, переключая каналы в телевизоре. Он несколько раз пролистал список контактов и понял, что идти не к кому. Он шел, не глядя по сторонам, смотрел только под ноги. Ему казалось, что все знают: от него ушла жена, и ему некуда идти. Вечер был холодным, и уличные фонари в асфальте оранжевыми пятнами отсвечивали, и молодая листва старела в их свете, словно и не весна вовсе, а осень. Тот дух весенний, что был с утра, пропал, тихо двигались прохожие, и ехали машины по только что оттаявшим дорогам, кое-где чернел пятнами снег, как оденок зимы, и Иван медленно шел вперед, сворачивал, не глядя вправо, пока не увидел реку с горбатым мостом и несколько скамеек на другом берегу. На скамейках никого не было, неподалеку замерло стеклобетонное здание офисное здание с потухшими окнами. Он помнил, как на этой скамейке они с женой сидели прошлой весной, и в воде отражались здания, помнил, как они пили вино и шатались по центру всю ночь напролет, и вино не пьянило, и медленно шли по Москвареке корабли, и облака в промозглом выпуклом небе замирали, и пустели проспекты, и город застывал, как вязкое, темное желе. Он остановился на мосту, огляделся, ничего не почувствовал, словно и не было прошлой весны. Вода медленно двигалась вперед. Ничего не изменилось, только бутылки в урнах другие, да на здании теперь новая, яркая реклама. Иван прошел по Шлюзовой набережной на Зацепский Вал, по которому громыхали грузовики, и остановился. Шум давил на уши – вокруг стоял такой грохот, словно в водосточную трубу бросили камень, и вот он несется вниз, барабанит о стенки. Иван вошел в стеклянные двери какого-то ресторана, сдал в гардероб пальто, спустился по темной лестнице в подвал, прошел по прокуренному залу в дальний угол, сел на кожаный диван, притянул к себе меню, заказал двести грамм водки; пока официантка записывала заказ в маленький блокнот, пока она, так и не взглянув на него, меняла на столе пепельницу, – он смотрел на ее руки, на простые, некрасивые глаза, на устало упавшие на лоб волосы, грудь в разрезе блузки, и пытался вспомнить жену и не мог, словно она не вчера ушла, а три года назад. Кто-то остановился рядом с его столиком и что-то сказал, но за громыхающей музыкой Иван расслышал только обрывки слов. Он поднял глаза. Перед ним стоял его начальник. 7 Page | 7 Михаил родился в сорок третьем, и с тех самых пор, как первый раз вышел один из подъезда дома, в котором родилась его мать, дед и прадед, в промозглую улицу, сразу понял: для того, чтобы быть, нужно драться. Когда он вспоминал времена детства, они не казались ему давно прошедшими, чёрно-белыми, они были тёплыми, как старая цветная фотография, оттенки которой приятней даже яростно ярких цветов мира вокруг. Времена, когда он начал драться за то, чтобы пройти по двору, с пацанами из соседнего подъезда, из соседней школы, времена, когда каждый ходил с кастетом или ножом, когда в трамвай можно было вскочить на бегу, времена, когда они тайком слушали джаз, казались ему теперь птичьими. Он сам и все вокруг тогда были серыми птицами – носили одинаково серую одежду, обставляли квартиру одинаковыми лакированными шкафами, креслами, столами, стульями, набивали шкафы одинаковой посудой, все слушали одинаковую музыку и одинаково боялись опоздать на работу, одинаково жили. Птичьи времена, когда все были серыми как голуби. И это было время полета. Время, когда всё казалось возможным, особенно когда сдох Сталин, и ту учительницу, которая била учеников длинной линейкой по затылку и по пальцам за то, что они неправильно сосчитали дважды два, и которая, имея через мужа связи где-то в НКВД, пересажала половину учителей, нашли повешенной на карнизе для штор в её огромной квартире с высокими потолками, а они с друзьями, собравшись на школьном дворе и встав кружком голова к голове, смеялись и повторяли раз за разом как заклинание: «собаке собачья смерть»; тогда у всех были серые крылья, которые, и казалось-то, нужно только раскрыть да полететь к неведомым высотам. Но когда пятьдесят семь лет спустя он ломал дорогие кисти в маленьком доме на краю туманного поля, смотрел, как пузырится, течет красная краска его картины, как её корежит в огне, пил дорогую водку из горлышка, вытащив пассатижами дозатор, а потом по-животному кричал в чёрной пустоте поля, срывая голос, – он, наконец, понял, что за всю жизнь ни разу даже не посмотрел в ту сторону, куда собирался лететь, расправив гордые серые крылья; и когда он упал на некрасивую дикую траву и глянул в высокое, звездное небо, он понял ещё, что дело совсем не в том, что он когда-то умел чувствовать мир тоньше, чем все, и вовсе не в государстве, не в семье, не в родителях и работе. Дело было в чем-то таком, чего осознать и представить невозможно, и тогда он стал кататься по земле и плакать первый раз за несколько десятков лет, плакать так, как не плакал ни разу в жизни. Page | 8 Михаил был талантливым человеком, и талант свой чувствовал внутри как мать чует ребенка под сердцем, – каждый раз, когда он поворачивал за угол дома и видел пустую улицу, где отражаясь в мокром асфальте, солнце слепило глаза, когда видел огромные чёрные волны, когда в туманном, предрассветном окне начинало теплиться небо, когда смотрел на беззащитную спину очередной любовницы, - когда видел на миг что-то истинное, его пронзало до костного мозга чувство гармонии, и никого больше не было на земле, да и времени тоже не было, не было ни прошлого, ни будущего, только вечность. Он начал рисовать не так, как начинали остальные. Он не хотел стать знаменитым художником, он не хотел рисовать портреты красивых одноклассниц, чтобы нравиться им, он в первый раз взял в руки карандаш, когда чувство вечности, которое он испытывал, стало настолько болезненным, что не попытаться нарисовать то, что он чувствует, было просто невозможно. В тот день он заперся на чердаке старого деревенского дома и извёл кучу бумаги, без остановки рисуя, и даже теперь, когда он смотрел на эти свои первые рисунки, всё в них казалось ему идеальным, хотя тогда, на чердаке, он чуть не плакал от досады, - казалось, что удалось перенести на бумагу только крупицу из того, что он чувствовал, видел, что было у него внутри. Он рисовал тайком, когда не видела усталая после двух рабочих смен мать, когда были сделаны все домашние задания, и никогда никому не показывал своих рисунков, которые с каждым годом становились лучше и лучше, хотя он никогда не учился рисовать. В год окончания школы он стал понимать, что нужно выбирать ремесло. Его отца отправили куда-то далеко на север за рассказанный по пьяной лавочке друзьям анекдот про Сталина, а мать ходила в военной шинели и сапогах до пятьдесят третьего года и работала в три смены на скорой помощи за такие гроши, что не каждый день на столе было что поесть, а каждая покупка куртки, штанов или ботинок для него была таким же праздником, как новый год и день рождения. Речи о том, чтобы пойти по художественной стезе, не могло идти в принципе, да никто и не знал, что Миша рисует, а он ни разу не был ни в художественной школе, ни даже в музее. В школе же в это время как раз проходил набор в военное училище, и он, не особо раздумывая, пошел туда вместе с несколькими друзьями, потому что в оборонной промышленности тогда платили больше всего. В училище не было времени думать о красоте, да и красоты там почти не было - сталинское здание с серыми стенами где-то на окраине города за колючей проволокой, одинаковые бритые курсанты в одинаковой форме, непонятные лекции об обнаружении летящей в твою сторону ядерной Page | 9 ракеты, которую всё равно при всем желании сбить невозможно, бесконечные задачи и формулы, разговоры о бабах, сволочахпреподавателях и последних драках в курилке на втором этаже (она больше всего походила на стоянку первобытного человека: на кафельные стены перьевыми ручками наносились портреты преподавателей с матерными подписями, голые женщины с раздвинутыми ногами и огромные стоящие члены). В какой-то момент ему захотелось бросить всё и бежать из дома, из города, куда глаза глядят. Иногда ему казалось, что он совершил какую-то страшную ошибку, но не поинимал, какую, - он отчего-то запоем читал романы Лондона о бродягах, и засыпая поздной ночью в отгороженном занавеской углу маленькой комнаты, в которой жил с матерью, ему представлялось, как он путешествует по бескрайним степям в товарном вагоне, как рисует поля и леса, портреты бродяг и нищих. Но утром всё пропадало, - он только дышал зачем-то на индевелое стекло пустого трамвая, чтобы посмотреть сквозь маленькое окошечко в черный, замерзший город и не увидеть ничего. А еще ему иногда до боли хотелось с кем-то поговорить, хотелось, чтобы кто-то указал ему, что делать, указал на выход из замкнутого круга, рассказал, как жить так, чтобы не ездить в серое здание за колючей проволкой черным, мертвым утром в заиндевелом трамвае. Ему до боли хотелось по-мужски, просто поговорить с отцом, и чтобы тот сказал ему, что во всем его поддержит. Ему хотелось, чтобы отец подарил ему набор кистей, красок и холст. Но об отце не было слышно ничего уже много лет, и Миша знал, что скорее всего он упал где-то на вечную мерзлоту, беззубый, обмороженный, похожий на скелет обернутый в серые тряпки. Миша видел, как серый, похожий на миллионы таких же как он комок того, что отсалось от его отца бросили в безымянную могилу без надписи и креста. Миша знал, - сейчас там только мертвые черные камни, кривые, карликовые сосны, да ветер. Чем больше Михаил не рисовал, тем больше кто-то другой рисовал у него внутри. Хотел он этого или нет, он видел сюжеты даже на скучном уроке, глазея на черные осенние деревья за окном. Его считали странным, потому что он часто вдруг замолкал и смотрел куда-то поверх голов, и сколько не смотри в том направлении, куда он так пристально уставился, ничего интересного не увидишь. Это происходило, когда он поворачивался спиной к зеленой, пахнущей мелом доске, чтобы ответить учителю, и видел сорок таких же как он, одинаковых бритых парней в одинаковой форме и сорок пар разных глаз; это происходило, когда на футбольном поле он ударял по белому мячу и тот летел высокое в небо, в переплетенье ветвей; когда шел с утра по темным еще, длинным, гулким, пустым коридорам училища, и даже тогда, когда Page | 10 видел похожую на убитую акулу серебряную ракету без обшивки, из которой, как красные кишки, торчали провода. Пока он учился, время текло медленно, казалось, учеба никогда не кончится, и он никогда не отрастит волосы нормальной длинны и никогда не снимет проклятую форму, но когда после бессонных ночей над чертежами, дрожания перед экзаменами, в один из серых дней в сером здании он получил диплом, - четыре года в училище показались ему четырьмя минутами. Чтобы не идти в армию, он пошел работать на один из сотен НИИ, где разрабатывали приборы для баллистических ракет, скоро стал заведовать испытательным стендом, и карьера его быстро пошла в гору. В двадцать три года он был начальником отдела электроники крупного института не потому, что хорошо знал электронику, - электронщиком он был посредственным, а потому, что странным образом вокруг него сразу же кристаллизовался такой коллектив, который мог перевыполнять план вдвое и втрое. Люди тянулись к нему не потому, что он был умней или опытней их, не потому, что он был красив или умел шутить, а потому, что уже к двадцати трем годам тот другой, у него внутри, научился наблюдать. Михаил, не отдавая себе в этом отчета, наблюдал за людьми, за их мимикой и движениями, замечал мельчайшие детали в их одежде, чувствовал каждое движение глаз, пальцев рук, и очень скоро он мог сказать о человеке почти все, только лишь увидев его руки, его ботинки, узел галстука, взглянув ему в глаза. Его подчиненные были его же картинами, портретами, которые не смог бы выполнить ни один художник, ни один мастер; по тому, как один из них вешал с утра пальто на вешалку, Михаил знал, что он поссорился с женой. По тому, какой у другого узел галстука, он знал, что у него появилась новая женщина. По тому, как третий держал в руках сигарету в курилке, он знал, что он метит на его место. Михаил видел это настолько ясно, что скоро люди для него стали одинаковыми. Каждый раз, когда он знакомился с новым человеком, ему казалось, что он знал его раньше, - в чертах лица всегда находилось что-то знакомое, уже виденное в ком-то, а за чертами лица, он знал, скрываются давно известные черты характера. Уже к тридцати он стал понимать, что уникальных, ни на кого не похожих людей совсем мало, а остальные ничем не плохи, но скучны. Ему ничего не стоило затащить любую девушку в постель. Всё шло по накатанной: они встречались в самом модном кафе «Лира» на Пушкинской он, мельком взглянув на нее, «гадал» ей по руке, угадывал всю ее жизнь, рассказывал все ее сокровенные мысли, мечты, потом вел в пушкинский музей и показывал картины Рембрандта, говорил о них, словно это он Page | 11 нарисовал их, словно ему знаком каждый мазок на полотне, и девушка влюблялась в него так, что он мог делать с ней всё, что захочет. Он никогда не врал женщинам, но не потому, что очень их ценил, а потому, что не любил мук совести, он прожил несколько лет с одной женой, потом с другой, а потом с третьей, и каждый раз переживал разрыв легко, ему казалось, что эта боль естественна, так же естественна, как приход нового времени года. То, что он видел в людях и в самом себе, было где-то в подсознании, на инстинктивном уровне, он больше чувствовал себя и других, чем думал о них. Со временем одно его «Я» слилось с другим до такой степени, что он перестал замечать, где он – настоящий, а где тот, другой, наблюдатель. Он стал думать, что это он сам научился так видеть мир. Когда он был молод, он знал, что еще слишком молод, когда он повзрослел, он знал, что уже взрослый, даже тогда, когда он влюблялся и был без ума, кто-то внутри него знал, что так и должно быть, и незаметно, не мешая, наблюдал за его страстью, за его равнодушием, за его яростью и нежностью. Когда в тридцать пять у него начался кризис среднего возраста и в Крыму он по пьяни прыгнул в волны с волнореза и поплыл в ночь, этот кто-то наблюдал за ним со стороны, знал, что так и должно быть. Он много зарабатывал, но легко относился к деньгам, ездил на работу в пиджаке и галстуке на мотоцикле с сигаретой в зубах, пил вино из горлышка на ржавых крышах, позволял себе один раз за зиму летать в Ялту на выходные, гулял по пустынным пляжам, смотрел на шторм, подняв воротник пальто, закрывал глаза и чувствовал в себе огромную, как море, пульсирующую жизнь, и жилы его казались ему древесными волокнами, и он, как молодая столетняя сосна тянулся упругим телом к небу за серыми облаками, безмятежно раскачиваясь в солнечном ветре. Всё то время, пока он был силён, он дышал полной грудью, был уверен в каждом шаге своем, в каждом своем действии, потому что видел себя со стороны, и знал, что всё, что с ним происходит – естественно, так же естественно, как медленный, вечный рост огромного дерева из маленького семечка, брошенного кем-то в жирную почву. Когда советский союз издох как огромный раненый динозавр, а его НИИ превратился в отвратительный, переваривающий сам себя организм, он был на пике жизненных сил и отнесся к этому так, как относились все остальные. На кухнях за рюмкой он говорил об уродах Горбачевых и Ельциных, а все вокруг кивали головой. Но на самом деле ему было плевать на совок. Он боялся за себя, он видел, как бессмысленно и подло убивали всё, что им так долго и с таким трудом создавалось, но кто-то внутри говорил ему, что всё это естественно, что так же рушились, превращались в Page | 12 пыль империи, а солнце при этом продолжало так же светить, и так же зеленела трава, и так же бились о берег огромные волны. Когда институт, где он работал, наконец, умер, один из его бывших подчиненных, успевший подняться в бизнесе, предложил ему должность начальника одного из первых в стране дизайнерских бюро. При слове «творчество» всё в Михаиле вздрогнуло, но он не подал вида. Михаил сразу согласился, и когда потом он ходил по проходам, вглядываясь в лица молодых дизайнеров, смотрел на цветную рекламу в тусклых мониторах, курил в курилке, разговаривая с сотрудниками, ему казалось, что, в сущности, в его жизни ничего не изменилось, всё было так же, как и десять, двадцать лет назад, и он был спокоен, так же, как и раньше, уверен в себе, и так же вслушивался в волны океана, что был у него внутри. 8 Он не помнил того момента, когда пульс жизни стал медленней, когда океан внутри стал мельчать, а натянутые до звона волокна – слабеть, это происходило так же, как и всё в его жизни, - само собой, естественно, и он ждал старения, смерти, и в то же время никогда не думал об этом всерьез. Он смотрел на стариков и думал о том, что его лицо станет таким же – морщины как русла маленьких высохших рек лицо вниз потянут, и не мог себе даже представить, что с ним и вправду такое случится. К пятидесяти он начал замечать, что кожа стала сухой и мягкой, на ногах проявились синие вены, виски поседели, а перепрыгивать через несколько ступенек стало немыслимо. Он долго не понимал, что стареет. Когда он брился, вглядываясь в своё стареющее отражение, когда чувствовал, как что-то ноет и тяжелеет в левой части груди, каждый раз, когда понимал, что путь до работы занимает всё больше времени – он всегда находил этому оправдание, всегда находил в себе что-то молодое, что-то от себя пятилетней, двадцатилетней давности, и успокаивался. Однажды он вешал в прихожей картину, стоя на высокой стремянке, и, потянувшись за отверткой, вдруг увидел себя в большом старом зеркале. Он увидел себя целиком, - в старых домашних штанах, истертых тапках, с прорисовывающимся пивным брюшком, - но не это поразило его так, что он замер и долго, с ужасом всматривался в отражение. На руках, выше локтя, кожа свисала, как у старика, и эта кожа была как резиновая, неживая. В первую секунду ему даже не поверилось, что это он, он сам, - мелькнула дикая мысль: «что это за старик там, там, в зеркале?» С того дня он стал стареть еще быстрей. Каждый день он замечал в себе признаки умирания. Каждый день в зеркале он замечал у себя несколько новых седых волос и морщин. Он чувствовал свое тело так же, как в молодости, но в молодости сердце работало как хороший дизель, без Page | 13 перебоев, и каждый удар его был уверенным, настоящим, а теперь сердце словно сбавило шаг и от усталости ныло. Он стал терять память и подолгу бесцельно бродил по квартире в поисках чего-то, забыв, что искал. Постепенно мир для него начал сереть. Люди раздражали его, ему казалось, что он прожил на свете не шестьдесят пять лет, а тысячу, и всё знает наперед. Всё казалось ему давно виденным, слышанным, каждый новый человек словно выплывал из прошлого, так, словно за ним уже была какая-то история. Он не мог уже смотреть кино и читать книги – все персонажи казались ему плоскими, выдуманными, неестественными. Постепенно для него потухло даже солнце, - на отпуске в Греции он смотрел на безумной красоты закат над бескрайним и хмурым, пенным морем, попивая из высокого бокала холодное пиво, и вдруг поймал себя на мысли, что его совершенно не волнует эта картина. Солнце было лишь красным раскаленным стальным шаром, который механически закатывался за горизонт. Больше ничего. Он всматривался в своих родных. У него было две дочери – от первого и третьего брака. С первой уже давно была потеряна связь, - она иногда звонила по праздникам и дням рождения, но всё никак не могла собраться и приехать, хотя жила в соседнем районе. Когда им всё-таки удавалось встретиться, он не узнавал ее, - это была сорокалетняя женщина в кожаной куртке, у нее был прямой, откровенный взгляд, она курила тонкие сигареты, уверенно держа их в стареющих, но красивых руках. Он не видел в ней ничего её собственного. Видел только частички себя. Внучка вызывала панику. Увидев в первый раз этого маленького человечка, он зачем-то пошел в ванну, заперся, и вдруг заплакал, глядя, как слезы капают в раковину. Но внучка скоро выросла, вытянулась, без его участия стала человеком, и когда он смог видеть ее и общаться с ней на взрослом языке, это ощущение прошло. Ему нравилось ловить в ней свои черты, играть с ней. Но еще больше ему нравилось, что она растет где-то отдельно, ему не мешая. Михаил всматривался в лицо постаревшей, усталой жены, и никак не мог понять, что эта старая, некрасивая женщина делает в его жизни. Они спали уже на разных кроватях, говорили только о продуктах или о чем-то мелком, диком, смотрели каждый свой сериал по своему телевизору в наушниках, чтобы не мешать друг другу. Он забыл, когда последний раз прикасался к ней. В ее голове словно не было мыслей, и он думал, что она не живет, а существует, а еще – понимал: она всё время была несчастна с ним, была рядом не потому, что любила его, а потому, что он был силен, да и после пятидесяти желание начинать новую жизнь пропало, осталось только доживать. Он смотрел украдкой на нее, сидящую в другом углу комнаты, уткнувшуюся в телевизор, и повторял про себя – «Доживать. Доживать…» Page | 14 Но когда он представлял себе, что вот ее не стало, и он остался один, в старой трехкомнатной квартире с двумя телевизорами, и теперь не нужно надевать наушники, потому что мешать некому, – на него накатывал липкий, холодный ужас. Он поворачивался к своему экрану и пытался смотреть идиотский сериал о ментах. Его стал раздражать старый дом, в котором родилась его мать, дед и прадед, – старая, огромная квартира со скрипящими дверьми и паркетом, высокими потолками с лепниной и огромными окнами, выходящими на вечно движущуюся улицу в центре, были насмешкой. Он чувствовал, что этот дом переживет его, так же, как пережил его предков. Второй дочери, Оксане, было двадцать пять, и она давно жила отдельно. От дальнего родственника им счастливо досталась двухкомнатная квартира в районе метро Октябрьская, куда после долгих раздумий и была отправлена жить дочь. Молодая, бойкая и всегда счастливая, она носила дреды, красила ногти на руках каждые два дня в разные цвета, одевалась в дурацкие футболки с дональд даком и высокие ботинки военного образца, работала где-то в музыкальном магазине. Оксана была для него существом из другого мира. Между ними было сорок лет разницы, и эти сорок лет казались ему пропастью. Тот маленький мирок, в котором она жила, казался ему ничтожным и не стоящим внимания. Он никогда не говорил этого вслух, старался не думать об этом каждый раз, когда приходил к ней, чтобы подкинуть денег и принести еды, а в ее холодильнике почему-то никогда не было еды, словно она и не ела совсем. Он пил с ней чай и улыбался, снисходительно слушал, как она играет на гитаре, но сквозь его молчание, из этой его отстраненной улыбки все равно сочилось презрение к ней, и он не мог ничего с собой поделать, а она чувствовала это кожей, и никогда, с тех пор как выросла и стала считать себя самостоятельной, у них не было разговора по душам, - они только играли в дочь и отца. Пять лет назад, когда он в очередной раз пришел к ней домой, то застал там Ивана. Сцена была неловкой: Иван не знал, что Оксана – дочь его начальника. Он смущенно пожал Михаилу руку и через несколько минут ушел. У Михаила Алексеевича внутри ничего не дрогнуло, - всё это казалось ему правильным и естественным, и он знал, что ничего серьезного у них не получится, - он видел это по тому, что они слишком сильно друг друга любят. Но он стал внимательней всматриваться в Ивана, и с каждым днем тот нравился ему всё меньше и меньше. Всё в Иване было поверхностным и глупым – и каждое движение, и его давно не чищенное пальто, его туристические ботинки, которые совершенно к нему не шли, всегда взлохмаченные волосы, эта манера вглядываться в окно курилки, его отстраненная, дежурная улыбка утром, когда они Page | 15 здоровались и вечером, когда прощались. Михаил видел Ивана насквозь – его ничем не наполненную жизнь, его однокомнатную съемную квартиру на окраине, работу, которую он ненавидит, его движение по течению, его молодую, наивную наглость, смешанную с застенчивостью, которая иногда проскакивала в глазах. Когда через пару месяцев Оксана бросила его, Михаил только ухмыльнулся, увидев его опущенные плечи. Когда он вспоминал теперь эти свои мысли, то не мог не клясть себя. Иван был первым в его жизни человеком, в котором он так ошибся. Михаил не увидел в этом молодом застенчивом парне себя самого, а Иван действительно был похож на него в молдости. Это и раздражало, и притягивало. Михаила Алексеевича очень любили сотрудники, и на 65-летие скинулись по паре тысяч и подарили ему сверкающий «макинтош». Но он не умел работать на компьютере и скрывал это от всех. Каждый раз он включал его, чтобы за весь день не сесть за свой рабочий стол ни разу. Он медленно ходил по проходам, каждый день перебрасывался хоть несколькими словами, но с каждым подчиненным, участливо спрашивал каждого о жизни, безошибочно определял, случилось ли что-нибудь по тому, как на столе лежат бумаги, как человек сидит в кресле, как ударяет по клавишам, какие цвета использует для очередного проекта. Когда ему преподнесли красивую коробку с ноутбуком, Михаил застенчиво улыбался и повторял «спасибо, спасибо, зачем вы так», - а про себя думал: «эти скоты не понимают ничего! Они ничего не видят! Они все слепы!». Михаил всё дальше и дальше отдалялся от людей, и одиночество накрывало его огромной холодной волной. Это было не то одиночество, как в молодости, - звонкое, чистое, как зимнее утро, не то ощущение полета, когда ты ни с чем и ничем не связан, потому что один. Теперь он чувствовал, что мир сужается, тускнеет, вокруг него не было ничего настоящего, он смотрел вокруг сквозь стекло, и то живое еще, что было в нем, не могло вырваться наружу, сколько ни кричи — никто не услышит. После работы он долго ходил по улицам, пил коньяк в джазовом ресторане, вслушиваясь в музыку, которая уже давно перестала его трогать. Он вспоминал, как в детстве чуть не плакал от голоса Фицджеральд, как слушал ее пластинки, запершись на три оборота в темной комнате, как смотрел на тонкое пламя свечи. Теперь пламя маленькой свечки на столе, покрытом белой скатертью, было другим, - холодным, искусственным. Он подносил ладонь к верху стеклянного подсвечника и чувствовал, как жар обжигает кожу. Когда после небольшого корпоратива все разбрелись по домам, к Михаилу подошел Иван и протянул ему продолговатую коробку в яркой оберточной бумаге. Он смущенно улыбнулся, и сказал что-то вроде «Я вот... Page | 16 это вот от меня», развернулся и, не дождавшись от Михаила «спасибо», ушел. В коробке был очень дорогой, красивый набор кистей и акриловых, масляных, акварельных красок. На толстых лакированных кистях золотом было выведено название брэнда. Михаил долго смотрел на кисти, на ровные, нетронутые, красивые, алюминиевые тюбики с краской, проводил пальцем по лакированной крышке коробки. Дома он достал из запертого ящика стола детские рисунки и долго их разглядывал. Откуда Иван узнал, что он умеет рисовать? Он никогда никому не показывал своих рисунков, - это было его нутро, про которое он сам забыл, это было самое сокровенное, что было у него в жизни. В выходные он сел за руль и отправился один в деревню, оставшуюся от бабушки. Маленький, покосившийся, похожий на клубок серой шерсти бревенчатый домик стоял на краю огромного поля. Где-то вдалеке темнела полоска леса, сверкало на солнце водохранилище, по голубому небу плыли огромные, как воздушные замки, облака, парил, замерев на месте, сокол. Михаил долго смотрел в поле, вслушивался в порывы ветра. Упруго кланялась березка, дикая трава в поле тревожно двигалась, будто кто-то гладил по ней огромными ладонями. Когда Михаил сделал несколько мазков по холсту, то сразу понял, что рисовать он не разучился, - кисть в руке лежала плотно, он чувствовал каждый ее волосок, чувствовал упругость холста, чувствовал, как слой за слоем ложилась краска, и цвета переплетались друг с другом, и откуда-то из пустоты появлялись поле и лес, и птица, застывшая в небе, и заходящее солнце. Он улыбался. Работа шла хорошо, и картина была готова до темноты. Михаил налил себе рюмку водки, отошел на несколько шагов от холста, склонил голову на бок. Рюмка выскользнула из рук. Он сам не мог понять, что было в картине не так – всё было на месте, всё было правильным, и смешение красок, и тень, которую птица бросала на тревожную траву, и небо с огромными, как замки, облаками, но он смотрел поверх холста и видел живое, настоящее, смотрел на холст – и видел свой портрет. Картина была пустой, всё в ней было пластиковым, не было там ни жизни, ни движения, даже небо стало мертвым. Он постепенно увидел в картине себя, такого, каким был сейчас – пустым, озлобленным, гордым. Он видел всю свою жизнь, весь свой путь. Впервые за много лет тот, внутри, заговорил с ним. Он спрашивал: «А чего ты хотел?» Он говорил: «Ты сам к этому пришел, не так ли?» Page | 17 Он повторял: «Ты сам виноват». Михаил посмотрел в поле. Село солнце, и природа стала погружаться во мрак. С остервенением он выдавил на холст весь красный тюбик и стал руками размазывать по голубому небу, по зеленой траве красную как кровь краску. Но это не помогало, - он видел пустоту даже в красных пятнах, видел: она проглядывает из-под толстого слоя краски. Он развел костер и бросил холст на поленья. Красная краска текла, пузырилась. Пузыри лопались, как сотни красных смеющихся ртов. Он смотрел на свои красные руки в отблесках пламени, смотрел в бесконечное черное поле. Лес исчез в темноте. Он вытащил пассатижами дозатор и пил водку большими глотками. Он шел, шатаясь, по полю, спотыкался о кочки. Его вырвало, и он почувствовал, насколько он стар и слаб. Он упал на тревожную траву и увидел небо, и заплакал, и когда он плакал, ему казалось, что что-то черное выходит из него вместе со слезами, но грязи, лжи внутри было так много, что выплакать всё было невозможно. Он чувствовал, как кто-то внутри ухмыляется, глядя на него со стороны. 9 Михаил сел напротив Ивана. В руке у него был бокал с виски, который он уверенными, будто небрежными движениями то и дело подносил к губам и пил большими глотками. Несколько минут они молчали, глядя, как сцену выходят музыканты с серьезными лицами, переговариваются, подключают гитары, неслышно спорят друг с другом. Одна молодая пара в самом дальнем и темном углу зала сидела, взявшись за руки. Музыканты настраивали гитары по тюнеру, наклоняясь друг к другу, о чем-то ожесточенно спорили, ударник пару раз ударил по тарелкам и смолк. В зале был приятный полумрак, вокруг за столиками все разговаривали шепотом, словно боялись, что кто-то услышит. У всех были напряженные лица, даже у молодого, нарочито небритого парня за соседним столиком, который смеялся, запрокинув голову назад, словно хотел показать всем свои, видимо, недавно отбеленные в хорошей клинике, зубы. Ивану принесли водки в маленьком графинчике, лимоны на маленькой тарелке. Он налил полную рюмку, и, не чокаясь с Михаилом, выпил. Тепло разлилось по телу, и на секунду ему стало легче, словно он проваливался куда-то в теплую, мягкую глубину сна. Он откинулся на спинку кожаного дивана, посмотрел в потолок, где зеркальный шар, замерев, как звезда перед взрывом, отбрасывал в разные стороны неясные синие, красные отблески. Михаил повернулся к Ивану, поставил стакан с виски между своими большими, сохнущими руками и спросил: Page | 18 - Как жена? Иван перевел глаза с зеркального шара на уже раскрасневшееся лицо Михаила. Ему никогда не нравилось, как разговаривал начальник, отрывисто, по поводу и без повода ввинчивая в речь словечки из молодежного сленга, чтобы показаться молодым людям если не «своим», то хотя бы «прикольным». - Ушла. Михаил взглянул на Ивана, похожего на тряпичную куклу, и никакого отклика на это в себе не почувствовал; он стал вспоминать, как мучился, когда от него ушла первая жена, но всё это было так давно, и так естественно, что он не нашел ничего лучше, чем махнуть рукой и сказать, отвернувшись к сцене, словно там есть что-то более важное, чем этот разговор: - Да ладно, Вань. Перемелется, мука будет. Всё будет ништяк. Другую найдешь. Ивану стало неловко и стыдно за то, что он рассказал. Он смотрел на Михаила, который в свою очередь, взглянув мельком на сцену, уставился опять в стакан с виски, и странная, дикая ненависть поднялась в нем к этому стареющему, черствому человеку. Он не чувствовал за его словами ни одной настоящей эмоции. Он спросил, глядя ему в глаза. - Ну как, Михаил Алексеевич, удалось что-то нарисовать? Михаил быстро поднял глаза на Ивана и опять уставился в стакан. - Нет. Времени не было. Сколько раз тебе говорить, зови меня Миша. У Ивана на секунду вспыхнул в сознании образ рук жены, - с тонкими, крепкими пальцами, и он поморщился от боли. Налил вторую рюмку, выпил. Помолчали. - Ты, Вань, не парься, – Михаил придал голосу самые сердечные нотки, на которые был способен, – я три раза женат был. Представляешь? Да куда тебе. Три раза. И каждую любил до сердечного приступа. То, что так случается, это жизнь, понимаешь? - Да-да. Жизнь, - Ивану захотелось уйти. Он налил себе еще рюмку. - Тебе не повезло со временем, – перешел на излюбленную тему Михаил. – Вот когда я был в твоих годах, тогда всё строилось, понимаешь? То, что до сих пор разваливается. Тогда всё по-другому было. Да и бабы другие были. Что сейчас за бабы? – он обвел стаканом зал, – да и мужики? Мы строили, работали, а сейчас… Бухать, курить, трахаться, дёргаться где-то под музыку. Ага. Так что не грусти. Сейчас не поймешь, где найдешь, где потеряешь. Иван наклонился к нему. Михаил невольно отшатнулся. - Слушай, ты, козёл, - Ивана трясло, – срал я на то, что ты начальник. Ты заебал своим хорошим временем и моим плохим. Это время – мое время, а не твое. Свое ты просрал. Такие, как ты, - шестидесятники долбаные, Page | 19 проебали страну, продали с потрохами. Все ваши Окуджавы и прочее говно. Знаю я про вас, про строителей, всё. Сидели на кухнях, ныли о своем под гитарку, а наутро в свои НИИ шли и на карачечках перед системой ползали, лишь бы триста, а не сто двадцать. А потом в санатории по путевочкам, да? Это мы сейчас говно расхлебываем, которое вы тогда заварили. Другую найду? Да ты хоть понимаешь, что я люблю ее? У тебя живого хоть грамм остался, Миша? Иван откинулся на спинку дивана и сложил руки на груди. Ему сразу же стало стыдно за свои слова. Михаил на сотую долю секунды показал свое настоящее лицо, - и ему стало его жалко. Он понял, что попал в десятку, ранил старика. Михаил выпил остатки виски залпом и поставил на стол стакан. - Ты прав. Я всё просрал. - Извини, – Иван налил себе еще водки. - Ничего. Ты знаешь, я… - Михаила прервала музыка. Первые аккорды взял клавишник, потом вступил гитарист, и в зале стало громко, вспыхнули софиты, на сцену вышла женщина в красных сапогах, красных перчатках и белой шляпе, с накрашенными ярко-фиолетовым губами. Ее лицо искривилось в дикой улыбке, и она затянула: «summertime...». Иван подавился водкой, закашлялся. Михаил, наклонившись через стол, хлопал ему по спине. Иван прокашлялся и просипел: - Что это еще за нахрен? - Джаз не прет? - Какой это на... джаз. Они поднялись наверх, где в огромные окна было видно, как мимо проходят трамваи с неясными силуэтами пассажиров, как спешат по домам люди. Они сели у окна, заказали еще водки. Михаил посмотрел в окно, потом зачем-то – себе на ладони, сказал: - В первую влюблен был поуши, потому что она была особенной, знаешь, не такой, как все. Она смотрела на всё по-другому, я ее не видел, не разгадал. Я не знал, что она сделает дальше, какой фокус выкинет. У меня в Москве тогда одновременно шесть баб было, и они за мной бегали. За ней бегал я – голову прямо потерял. Она чуть меня не бросила, слишком уж я за ней ухлестывал. Ну и что, - прожили два года, развелись, - я знаю, как оно, слишком молодые были, всё сожгли, а еще она личностью была, сильной, одаренной, - да и я таким себя считал, таким вдвоем не ужиться. Она переехала в дом напротив, а я лет десять потом холостячничал, и специально шторы не задергивал, когда очередную бабу приводил. Я ее ненавидел за то, что она сильней меня, понимаешь? Да и сейчас еще ненавижу. - Нафига ты мне это всё рассказываешь? – Иван чувствовал, что стремительно пьянеет. Он уже не думал о жене, а больше жалел себя. Page | 20 - Подожди. Потом была еще одна, - но там рассказывать нечего. Ничего не вышло, - глупость какая-то. Третья, теперешняя, это святой человек. Я ее насквозь вижу и знаю, что она меня лучше, хоть и пустая совсем, глупая. Это я к чему всё, - не ищи особенного ничего в людях, - самая лучшая баба – та, которая глупая и не понимает ничего. Так лучше, поверь мне. Найди себе вот такую и детей тройню заделай, вот тогда заживешь. Ты вообще еще много чего не видел. Ты не мужик еще. Мужиком тогда становятся, Вань, когда дети рождаются. И вообще, будь мужиком, - нюни не распускай. Увольняйся, найди себе работу нормальную, карьеру делай. Всё наладится. - Да пошел ты. Лечь и помереть, может, лучше, а? Что ты мне предлагаешь такое? С тупой бабой жить, и что б она мне детей рожала? Круто! «Будь мужиком»? Тот, кто из себя Хемингуэя по жизни строит – сто процентов латентный педик, это что, не понятно разве? Карьера? Это ты своим шестидесятникам сраным оставь. - Да что с тобой говорить… - Вот именно. Иван налил себе водки и выпил. Посмотрел в окно и вдруг почувствовал, как где-то в глубине, на самом дне сознания поднимается странная, жгучая тоска, которой он всегда боялся. Ему захотелось сделать что-то безумное – прыгнуть в воду и плыть далеко, пока хватит сил, бежать по шпалам в ночь, подраться с кем-нибудь, подцепить девку и привести домой, уйти далеко в туманное, черное поле и кричать до хрипоты. У Михаила в кармане заверещал телефон. Он взял трубку и расплылся в улыбке. - Здравствуй, доча! Ну, как… а? Что? Да-да, конечно есть. Сколько? Хорошо. Как… Я тут в водку пью с Ваней. Ну, с Ваней. Доооча, как не стыдно. Ага. Ты бы пригласила молодого человека, а, у тебя там, походу, тусовка какая-то, а он горем убитый. Вот он тебе и передаст... Что? Ты у него спроси. Трубку? – он протянул Ивану трубку. В ней на заднем плане верещала музыка, Оксану почти не было слышно. - Ну, ты что там, чувак? - Да так. - Давай, приезжай. У нас тут весело. - А надо? - Это ты как хочешь. - Хорошо. Иван повесил трубку. Он расплатился, пожал Михаилу руку и вышел из ресторана, перешел на другую сторону и зачем-то обернулся. Михаил сидел в витрине ресторана, держа обеими ладонями пустой бокал, с опущенными плечами. 10 Page | 21 Московская ночь текла по проспектам водой оранжевой, замирала во дворах, застывала в черных окнах, люди как тени медленно мимо огромных витрин кафе шли, другие, по ту сторону стекла, всматривались в ночь, где машины-белые стрелы пролетали мимо, заглядывали с секундным интересом в лица прохожим, чтобы забыть их тут же навсегда. Иван долго выбирал вино в магазине, взял самое дорогое, встал на краю дороги, и через минуту перед ним выстроилось несколько серых, с тусклым светом фар, грязных машин. Он сел в первую и назвал адрес Оксаны на Октябрьской, и замолчал, вглядываясь в текущую навстречу улицу. Он вспоминал, как они спали вдвоем с женой на старом матрасе, на чердаке с маленьким окошком, выходящим на поле, как словно в черно-белом кино, ветви Ивы раскачивались на сером квадрате окна, как ползли полосы от фар по черному потолку в их маленькой квартире, как ночь была похожа на театр теней. Отвратительная музыка вибрировала в колонках, и водитель что-то говорил, делая ее то тише, то громче. Иван закурил, приоткрыл окно и вдохнул свежего, холодного воздуха. Накрапывал мелкий дождь, и капли расплющивались об стекло, текли вверх тонкими струйками. - Вот куда, куда едешь? Не, ну ты посмотри на него! Водитель стукнул по рулю ладонями. - Вот Москва, - столько лет за рулем, но чтобы столько мудаков на дорогах было, - никогда не видывал, где только права покупают?! Или пьяные, что ли, все, по праздничному делу? – он сделал музыку тише, и, не глядя на Ивана, затараторил дальше, – сколько ни езди, сколько ни работай, денег не будет никаких в стране этой сраной. Нет, ну ты только посмотри вокруг, - в какой жопе мы живем! Сейчас хоть полегче стало, а вот зимой, можешь себе представить, - грязь, слякоть, воду для стеклоочистителя литрами заливал, а все равно как в амбразуру смотришь, дороги не видно нихрена, это ладно еще, так скоты эти, что б саранча им пузо повыгрызала, новую херню какую-то напридумывали, - ты про бензин слышал, а? А про налог этот новый? Нет, я ничерта не понимаю, куда всё катится, да куда ж, твою мать, тебя несет! – он резко притормозил перед черной «ауди», хотел просигналить, но вовремя заметил выключенную мигалку. - Вот, вот оно, - ты только глянь, спешит, козёл, в саркофаг этот золотой, прости господи. Христос воскресе, твою мать, опаздывает, наверное, Новодворскую тебе в жены. Ты-то что смурной такой? К бабе или от бабы? – водитель первый раз мельком взглянул на Ивана. - От бабы. Водитель пару секунд помолчал, глядя на дорогу впереди, а потом затараторил снова: Page | 22 - Ну вот еще, коза, ну, куда прёшь, красный же, нет, ну ты глянь, тачка как бюджет Молдавии, а права нормальные купить не смогла, в бога душу мать! Иван трезвел, и снова накатывала тоска, казалось, что это не он едет в прокуренной, старой шестерке невесть куда и невесть откуда. Музыка города ночного, которую он слышал всегда, каждый раз, вглядываясь ночной город, пропала. Он пытался вспомнить ее – это было что-то быстрое, мрачное, как изломанный, жесткий блюз, а остался только грохот из колонок, сливавшийся с бесконечным потоком слов водителя, рев мотора, и грязнооранжевый город за окном со сверкающими кое-где красными, зелеными, желтыми огнями дискотек, баров. По радио начались новости, и на словах «совсем немного осталось до торжественного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя» из-за поворота вынырнул огромный, подсвеченный памятник Ленину на Октябрьской. Ярко освещен был только постамент, где солдаты с винтовками хмуро смотрели друг на друга, и женщина с большой грудью в развевающихся одеяниях протягивала руку к ресторану самообслуживания у метро, призывая к мировой революции. Ильич над ними был почти черный, огромный, и казалось, что он сейчас зашевелится и раздавит всех этих людишек у своих ног. Машина остановилась в тёмном дворе, Иван расплатился с водителем, поднялся по старой лестнице на третий этаж, позвонил в старую, потрескавшуюся дверь. Ему почти сразу открыла Оксана, так, словно только и ждала его. 11 Оксана увидела море только в прошлом году. Волны накатывали на берег, лизали его огромными языками, и вода проглатывала частичку суши, а потом приходила за новой. Она зашла по пояс в воду и остолбенело стояла несколько минут. На нее, крошечную, накатывали огромные, упругие волны. Она любила чуть недозрелые, зеленые, кислые яблоки, любила чувствовать, как скрипит под крепкими, белыми зубами твердый, сочный плод, как сок течет по небу. Детство вспоминалось ей серым, - старый, советский магазин с грязным мраморным полом и пустыми, пугающими прилавками, толстыми продавщицами в замызганных белых колпаках, этот запах советской столовой около дома, откуда несло вареной гречкой и еще чем-то грязным и сладким. Оксана любила в жизни только самое яркое и новое, хотя объяснить, что такое это «новое», не смогла бы никогда. Меньше всего ей хотелось быть похожей на остальных, тех, кто ехал с ней в метро, тех, кто сидел с ней за партой в институте, шел навстречу по улице. Она хотела казаться особенной, Page | 23 и это у нее всегда получалось. Она одевалась ярко, вычурно, а самое главное – так, чтобы все вокруг думали, что ей наплевать на то, как она выглядит. Футболки с надписью «СССР» она носила вместе с драными джинсами, кедами, ногти на руках и ногах красила каждый день то в красный, то в синий, то в черный цвет. После того, как Оксана вернулась с моря, ей стало казаться, что внутри неё что-то сломалось. Всё было так же, как и всегда, - та же квартира в старом доме, где на стене все так же висел подаренный кем-то инь и янь и плакат с Бобом Марли, тот же дом напротив, та же толстая, ленивая кошка на подоконнике, те же разноцветные чашки с дорогим китайским чаем на столе в кухне, та же музыка, тот же запах благовоний, тот же тусклый свет, тот же сладкий гашиш. Она вырастала из своей жизни как из детской одежды, но не могла даже представить, что делать дальше, - она должна была прожить жизнь не так, как другие. Не так, как родители, а особенно, - не так, как отец. Она чувствовала в отце холодную уверенность, которой не видела больше ни в ком. Он никогда не обижал ее, не говорил о том, что нужно делать, что правильно, а что – нет, никогда ничего не запрещал, и все друзья говорили наперебой, что у нее самый лучший на свете папа. Но она чувствовала его пустоту, и знала, как похожа на него, и ей было отвратительно до тошноты это осознание, она всегда гнала его от себя. Оксана была талантлива, особенно хорошо она пела низким, грудным голосом современные песни на английском языке. В ее доме вообще не было места чему-то русскому. Ее уже давно тошнило, когда кто-то начинал говорить о патриотизме и русском духе. В такие моменты она морщила свой красивый курносый нос и отворачивалась. Когда несколько лет назад она проехала через всю Европу автостопом и увидела чистые улицы, хорошо одетых, улыбающихся в метро людей, велосипеды у незапертых входных дверей, Россия с ее грязным снегом, холодом, пьяными бомжами в темных дворах, засранными подъездами и вонючими мусоропроводами стала казаться ей еще более отвратительной, чем раньше, и всё, что она хотела – накопить денег и уехать отсюда навсегда, хотя где-то в подсознании понимала, что от перемены места ее жизнь всё равно не изменится никак. Оксана хотела жить по-своему, по-особенному, по-новому, и иногда, когда они с друзьями закидывались спидами или кислотой, танцевали до утра или смотрели очередной авторский документальный фильм, обдолбавшись до стеклянных глаз, ей казалось, что она вот-вот ухватит ту ниточку, ту суть, то истинное, что откроет ей глаза, и даст ей новую жизнь, даст новое видение, новый мир, новое, бесконечное счастье. Но каждый раз нить ускользала, только на утро болела голова, и на душе было пусто и одиноко, как пауку в грязной стеклянной банке в солнечный день. Page | 24 Несколько раз она кололась, но героин пугал ее, - она опускалась как белое перышко на дно огромного озера и плыла в темноте до утра, и не было ни мыслей, ни эмоций, было что-то безграничное, невозможное и пугающее, как там, за черным занавесом, откуда можно было и не вернуться. Больше всего Оксана боялась боли. Не той боли, когда порезался или упал: все стоматологи, у которых она была в детстве, гордились ее мужеством – она ни разу не заплакала; не боли совести: ей всегда удавалось убедить себя в том, что она права, а чаще – просто забывать. Она боялась той боли, когда приходится между чем-то выбирать окончательно и бесповоротно. За двадцать два года Оксана ни разу не сделала осознанного выбора, а когда назревал момент что-то решать, пускала всё на самотек. Она ненавидела, когда ей кто-то жаловался на свои проблемы, все отношения с парнями и подругами она решала жестко, чётко, так, чтобы не оставалось никаких иллюзий. Ей хотелось одновременно и быть скем-то, и быть свободной, ей хотелось спокойной жизни и безумия, и она танцевала всю ночь до утра, пела до хрипоты на прокуренных кухнях, уходила куда-то в ночь, словно бежала от чего-то. Каждый раз, когда отношения с очередным парнем заходили слишком далеко, она как-то инстинктивно отталкивала его от себя, - ей не хотелось ничего серьезного, ей хотелось жить просто, так, чтобы в любой момент можно было встать и уйти. Это притягивало к ней людей, но за мнимой независимостью была не уверенность, а страх. При этом Оксана совсем не умела быть одна, - каждый раз, когда в ее старой и большой квартире не было никого, она в буквальном смысле сходила с ума, - ей казалось, что она никому не нужна, что ночь никогда не кончится, никогда не наступит утро, что она будет еще вечность вот так лежать в темноте, в огромной пустой комнате, в огромном пустом городе. Как-то раз она проснулась в холодном поту, и яркий, оранжевый свет фонаря, что бросал в комнату тусклый свет, показался ей чьим-то глазом, смотрящим в ее нутро. Ей снился осенний, сырой лес на скалистом берегу у моря. Море было где-то далеко внизу, и она знала, что до него не добраться, она только видела серые, дымчатые волны, что одна за другой шли на невидимый пляж. Под ногами упруго пружинили грязно-желтые, чернеющие листья. Высокие, голые деревья тянули черные ветви в серое небо. Перед ней на огромной поляне был очерчен прямо по полусгнившим листьям белый круг, а в его центре - старая сцена, как в заброшенном летнем театре. Сцену закрывал черный занавес, за которым шевелилось что-то огромное. Оксане никогда не было так страшно, как в этом сне, она чувствовала, как слабость подкатывает к кончикам пальцев, как ладони становятся потными, липкими, как волосы шевелятся на затылке, и как пульсирует в тонкой вене на шее кровь, бьется бешеное сердце. Page | 25 Там, за занавесом, было что-то важное, что-то такое, что ей нужно было узнать, понять, осмыслить, но чего она боялась больше всего на свете. Но она знала, что рано или поздно занавес обязательно откроется, и тогда она должна будет войти в белый круг, и пережить всё до конца. Она знала, что этот сон обязательно вернется, и еще долго лежала с широко открытыми глазами и смотрела, как снег падает в свете фонаря и исчезает в темноте. Когда, наконец, наступила весна, Оксане не стало легче, как обычно, она не расцвела, не ожила, как оживала каждый год до этого. Весна вливалась в город сладким запахом зреющей листвы, и совсем скоро белыми, обреченными цветами должно было зацвести дерево в соседнем дворе, и она боялась увидеть, как лепестки устилают мертвыми, белыми пятнышками грязный асфальт, и чувствовала, что вместе с набухшими, нежными почками в ней зреет что-то чёрное, как опухоль, давит на душу и не дает вздохнуть полной грудью, и она курила, пила больше прежнего, и почти каждый день у нее собирались знакомые и незнакомые люди, и почти каждое утро она с трудом открывала налитые тяжестью веки и поднималась с кровати. 12 У Оксаны было красивое, немного широкое лицо с глубоко посаженными глазами, которые от этого казались темнее, и всегда чуть искривленными то ли в улыбке, то ли в насмешке тонкими, прекрасными губами. Иван передал ей деньги, она сказала не здороваясь: «проходи в кухню», повернулась и пошла по длинному коридору в комнату, и на тонкой, беззащитной шее под собранными в толстый хвост тонкими дредами был легкий, светлый, золотистый пушок, по которому хотелось провести ладонью. Иван прошел на кухню, пожал всем руки, поставил на стол бутылку. Таких бутылок было уже штук десять, а одну пролили, и вино огромной лужей растеклось по скатерти и тонкой бордовой струйкой медленно стекало на пол. Ему предложили гашиша, и он нехотя выкурил три плюшки с фольги, сел в дальнем углу, откинулся на спинку стула, огляделся. Рядом с ним, на полу, у стиральной машины сидел представившийся Андреем отдаленно знакомый красивый парень с длинными кудрявыми волосами, острым подбородком и черными, то ли вконец обдолбанными, то ли по жизни тупыми глазами. Две девушки лет семнадцати сидели друг напротив друга у стола, и, хихикая, о чем-то перешептывались, поглядывая иногда на Ивана. На подоконнике сидел немного опухший от пьянства Дима, небритый парень лет под тридцать в тяжелых военных ботинках. В кухню постоянно кто-то заходил, брал со стола стакан с вином, выпивал, и выходил, в соседней комнате орала музыка, и ни одна песня не доигрывала до конца, там кто-то смеялся, громко разговаривал. Люди на кухне перебрасывались иногда ничего не значащими фразами, мельком Page | 26 смотрели друг на друга, погружались в мысли, улыбались без причины, раскачивались в такт музыке, в углу мерцал маленький цветной телевизор с выключенным звуком. Гашиш почти сразу дал в голову, но легче не стало, всё вокруг замедлилось, а мысли в голове бежали быстрей, и отвратительная, дикая музыка в соседней комнате ранила сильней, чем обычно. На экране появился похожий на мавзолей, серый храм Христа Спасителя, кто-то включил звук, и из динамиков понеслось: «Добрый вечер, уважаемые телезрители, дорогие братья и сестры. Информационное агентство русской православной церкви начинает прямую трансляцию ночного пасхального богослужения из кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. Праздничное богослужение в святую и спасительную ночь Светлого Христова Воскресения совершит предстоятель русской православной церкви, Святейший патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в сослужении с преосвященными архиереями и соборным духовенством». - О-о-о, ну щас начнется, – встрепенулся Дима. - Слуш, а с чего он святейший-то, патриарх этот, - спросил Андрей. - Ну как же, они все там святые. Щас Путина святого покажут, – Дима пристально всматривался в экран. Они помолчали. Картинка сменилась: внутри огромного храма с позолоченными стенами горели свечи, разношерстная публика толпилась за ограждениями, как на концерте. На экране появился патриарх в белом одеянии и стал что-то говорить, но его никто не слушал. Дима сказал: - Я вот всё думаю, представьте – второе пришествие и всё такое, Иисус заходит в этот храм имени себя, смотрит вокруг, и говорит... Ну, что бы он сказал? - Да сжёг бы его к чёртовой матери. Я б на его месте сжёг, – Андрей отхлебнул вина из горлышка и передал Ивану. - Ой, какие у них шляпы смешные! – сказала одна из девушек и захихикала. В храме звонко пели «Господи помилуй», и Иван весь обратился в слух, на секунду ему показалось, что это не там, не в золотом храме поет толстый священник в очках в золотой оправе перед микрофоном, а что это у него внутри чей-то чистый голос повторяет раз за разом «помилуй нас». Но музыка тут же исчезла, так и не окрепнув, словно кто-то вырвал с корнем из земли молодой цветок. - ...крещеный, конечно, - кто ж меня спрашивал-то? – Дима закурил, посмотрев в окно. - А я – нет. Предки – комуняги шизанутые, - Андрей посмотрел на Ивана и спросил: - А ты? Page | 27 - Я?.. да как-то... - Ясно, – Андрей по-идиотски засмеялся. Иван вспомнил церковь, куда в детстве однажды его привела бабушка, внутри было темно и душно, и горели свечи около сумрачных икон, и пел хор. Он вспомнил, как его парализовал тогда этот хор, - он не видел лиц поющих, не чувствовал под ногами пола, не видел икон, свечей, чувствовал только сухую и тёплую ладонь бабушки, которой она осторожно, словно боясь навредить, гладила его по щеке. Он посмотрел на нее, - по лицу бабушки ползли медленные, тонкие тени, а где-то высоко, с высоты сумрачного свода синие глаза Христа пронизывали всё пространство церкви, словно упрекая его в чём-то. Он вспомнил, как позже, уже после смерти бабушки каждый день ходил в школу мимо этой старой церкви, как в начале девяностых оттуда доносился какой-то странный звон колоколов. Однажды он остановился и посмотрел на колокольню. Колокола в звоннице не двигались, не было видно звонаря. Иван огляделся вокруг, пытаясь понять, откуда идет колокольный звон, но так и не понял. Понял только через несколько недель, когда плёнка затёрлась и стала немного заедать, будто один из колоколов треснул. - Вот они! Вот они, упыри! На экране появился президент в синем галстуке, его жена в белом платке и премьер в красном галстуке со свечой в руках. Они усиленно крестились, улыбаясь, о чем-то переговаривались друг с другом, а цвета их галстуков, прекрасно сочетаясь с белым платком, образовывали российский триколор. Диктор продолжал: «Вы видели, что на богослужении в храме Христа Спасителя присутствуют первые лица государства, несущие высокую ответственность за народ, за страну в эти не самые легкие времена. Это наш премьер-министр, премьер министр России Дмитрий – диктор запнулся, эээ… Владимир Владимирович Путин и Президент России... Владимир Владимирович... Путин» - Ааа! Я же говорил, что он себя клонировал! Все на кухне покатились со смеху, Дима, держась за живот, упал с подоконника, Андрей подавился вином, а на Ивана вдруг накатила беспричинная злость, какая охватывает человека, который что-то раз за разом пытается объяснить другому, но у него ничего не получается. Он взял со стола бутылку и вышел из кухни. В коридоре он прислонился спиной к стене и сделал несколько глубоких глотков из горлышка. В соседней комнате вокруг маленького, громыхающего музыкального центра на ковре полулежа расположились три парня и девушка, даже не повернувшие в его сторону головы, когда он зашел и поздоровался. На матрасе в углу комнаты кто-то спал, стены были увешаны разными ничего не значащими побрякушками, исписаны идиотскими фразами, сладкая вонь от Page | 28 благовоний смешивалась с дымом сигарет, и в воздухе было мутно от дыма, щипало глаза, на подоконнике стоял полный окурков стакан, за окном медленно летели капли в свете фонаря. Иван постоял в дверях и пошел по коридору в комнату Оксаны. 13 Оксана была одна. Маленькая свеча горела на тумбочке у кровати в тёмной комнате, тускло светил фонарь за окном. Она сидела за компьютером, глядя в экран, не замечая ничего вокруг. Иван долго всматривался в ее лицо, которое всегда казалось ему каким-то родным, словно он знает ее не пять, а двести лет. Она медленно качала головой в такт музыке, и в ее расширенных зрачках медленно двигалось синее отражение, словно синее небо на глазном дне. - Ничего, я... – он зачем-то протянул вперед бутылку. Оксана мельком посмотрела на него: - Заходи. Он сел на стул рядом со столом, помолчал. Почему-то он не мог оторвать от нее глаз. Оксана сидела «Вконтакте», листая страницу с музыкой. - Я это, не могу найти песню эту, как ее... Дилана, может, вспомнишь? – она неразборчиво напела мелодию. - Нет, не знаю такой. - Блин. Они помолчали. - Как тебе Андрей? - Нормальный вроде парень. Новый твой? - Да. - Понятно. - Ты всё там же работаешь, у папаши? - Там же. - Ты же уходить собирался. - Да вот как-то... - Как же ее... песню эту... Они еще помолчали. - Ну, а вообще у тебя как? Что-то ты тухлый какой-то. - Вот вчера... - А! Вот она! - Кто? - Песня! Вырубайте там говно свое! – крикнула она в коридор. В соседней комнате выключили музыку. Из динамиков послышся голос Дилана. Это была house of rising sun. Она повернулась к нему, и, перекрикивая музыку, спросила: Page | 29 - Так что там у тебя? – только сейчас он заметил, насколько она обдолбана – глаза её были мутные, как плохо промытые стеклышки, и ему вдруг захотелось распахнуть окна, чтобы вся эта сладкая, приторная вонь благовоний, сигарет, гашиша, духов, пиццы и перегара улетела в небо, а потом уйти, и никогда не вспоминать кухню с пролитым вином, полный окурков стакан в соседней комнате, поющего «помилуй нас» жирного попа в золотом храме и Оксану со стеклянными глазами, которой словно не стало, словно ее кто-то забрал от него, забрал ту, которая каких-то пять лет назад была ему самым близким человеком на земле. - Это не Дилана песня. - Да? А чья? – она отвернулась к столу и стала открывать одну за другой разбросанные пустые пачки сигарет. - Это народная песня. Сто лет назад муж с женой в каком-то баре на окраине Бруклина сочинили. Дом восходящего солнца – это не то бордель, не то тюрьма, не то этот самый грязный бар, – Иван встал. - Ты куда? - Пойду я. - Да лааадно тебе, останься, хочешь, дунь еще. - Мне пора. - Поехали в ОГИ, там Фёдоров сегодня! – в дверях появился Андрей. Иван на секунду представил, как бьет ему в зубы, а потом долго, со смаком добивает ногами в голову, пока ничего не останется от смазливого туповатого лица. Он отвернулся и стал смотреть в окно. Дождь всё так же медленно летел вниз. Из колонок сдавленный голос повторял «Going back to spend the rest of my days, beneath that Rising Sun». Пока все мучительно долго собирались, искали свои куртки, ботинки, сигареты и сотовые, Иван зачем-то ждал их на пустой кухне и смотрел телевизор, в котором маленькая кучка священников, политиков в разноцветных галстуках с охранниками и женами стояла на пустынной площади пред вратами храма Христа Спасителя и пела вместе с патриархом: «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ». Потом патриарх повернулся к собравшимся людям в пиджаках, и, обведя их кадилом, несколько раз произнес «Хрисос Воскресе», а те ответили: «Воистину Воскресе!». Диктор бодро произнес: «С праздником вас, дорогие братья и сестры. Христос воскресе!». Когда они вышли на улицу, Андрей в расстегнутом синем кашемировом пальто споткнулся о бордюр и упал в лужу. Иван помог ему подняться, отряхнул приставшую к нежной ткани грязь. Когда после долгих препирательств с бомбилами вся компания уселась в несколько машин, Оксана вспомнила про Ивана, которому не хватило места, фальшивожалостливо спросила из темноты салона, глядя на него снизу вверх: - А ты? Page | 30 - Я пройдусь. - Нет, поехали с нами! Федоров же! - В другой раз. - Один пойдёшь? - Да, один. - Ну, тогда бай. Он аккуратно захлопнул дверь, и смотрел, как машина тронулась, смешиваясь с потоком таких же старых, грязных, набитых битком машин. Оксана не посмотрела в его сторону, что-то увлеченно рассказывая подруге. 14 Иван купил еще вина, прошел проходными темными дворами к набережной, облокотился о перила и стал смотреть в медленное течение: река, только что разорвавшая лед, была мрачна, ее черная вода словно вышла из чрева земли и медленно двигалась вперед, чтобы снова в нём скрыться. На другом берегу, у мёртвого, гладкого гранитного берега плавал мусор, в воде тускло переливались отсветы фонарей. Иван приложился к горлышку и выпил залпом полбутылки. Он чувствовал, что сильно пьян, и скоро потеряет себя, и хотел этого. Он медленно пошел вдоль набережной. Навигацию уже открыли, и у пристани стоял, сверкая огнями, огромный, белый корабль. Внутри, в светлых окнах, танцевали, - он слышал только глухие удары басов, видел только тёмные фигуры в узкие иллюминаторы. Иван смотрел на встречное течение, и каждую секунду ждал, что музыка вернется, снова зазвучит внутри ритм волн, снова что-то тонкое появится, чистое, настоящее. Он остановился у памятника Петру, долго смотрел в подсвеченное софитами безобразное лицо огромного царя в доспехах. Широко расставив ноги на палубе слишком маленького для него кораблика, одной рукой он небрежно держал штурвал, в другой сжимал как истинное знание золотой свиток и всматривался в далёкий пункт назначения, - куда-то выше головы Ивана, поверх крыш домов, но не в небо, а куда-то в пустоту. Иван выпил еще вина, поплелся вдоль набережной. Ему нестерпимо захотелось с кем-то поговорить, пусть ни о чем, ему захотелось глупо смеяться над чьими-то глупыми шутками, рассказать кому-то всё. Ему представилось вдруг, что кто-то, так же как он, бродит по улицам один, что кому-то, может, так же больно. Иван посмотрел вокруг: улица была пуста, и только редкие машины проносились мимо на полной скорости. Он допил вино и поставил бутылку у парапета. Вдруг рядом притормозила приземистая, старая машина ППС. Из салона на него смотрели два жирных мента. Иван разглядел, что за рулем был старый, а рядом, на пассажирском кресле – молодой мент. В уродской форме они были похожи на сына с отцом. Какое-то время они молчали, Page | 31 глядя на Ивана, потом молодой тихо, так, что Иван с трудом расслышал, сказал старому: - Ну что, берем? Старый мент оглядел еще раз Ивана с ног до головы и ответил: - Не... он... в пальто. - И что? - В пальто. А хрен его знает, кто он такой. Тут центр же. - Хм. Ну да. Машина скрипнула покрышками и скрылась вдалеке. Иван невольно посмотрел на свое пальто и вокруг, на пустынную улицу. Он шел дальше. Нежная листва застыла в свете рыжих фонарей, и ему чудилось, что она никогда листвой летней не станет, никогда не зазвучит шелестом тихим, а будет всегда такой – беззащитной перед ночью, рыжим светом неживым и порывами холодного ветра. 15 Иван облокотился на чугунные перила Большого каменно моста у кремля. Он сильно опьянел и никак не мог собрать мысли в голове. Вода медленно двигалась на него. Кремлевские башни торчали из земли как красные зубы. Храм Спасителя, как нарисованный, возвышался над домами, а его зыбкое, тонкое отражение колыхалось в воде. Где-то внизу, справа, из храма шли люди, и у почти у каждого была в руках свеча. Люди несли огонь в обрезанных пластиковых бутылках, в банках, кто-то просто прикрывал от ветра ладонями. Поток огоньков рассеивался, расходился в разные стороны, пока улица внизу снова не стала пустой. Кокольный звон летел по Москве, сливаясь в гул. Иван прошел мимо кремля, мимо старых, приземистых домиков на Волхонке, свернул на Новый Арбат, прошел мимо ресторанов с яркими вывесками. Внутри было много людей, девушки тянули через соломки коктейли, не обращая внимания на гвалт голосов, непринужденно говорили о своём мужчины в дорогих костюмах за стеклянными столиками у окна. Иван спустился в странно грязный для Арбата, отделанный старой, советской плиткой переход. В середине, балансируя на трехногом стуле, сидел мужчина лет тридцати с гитарой и пел что-то из ДДТ про облака. Иван остановился, кинул в пустую коробку сто рублей. У мужчины был хриплый, простуженный голос, и, с трудом допев до конца, он начал отогревать замерзшие руки дыханием. У него была короткая клочковатая борода и усталые, красные глаза. Черты лица были правильными, четкими, приятными, и если бы не изношенная, грязная куртка и дырявые штаны, то можно было бы подумать, что он зашел в переход поиграть просто так, для удовольствия. Page | 32 - Христос воскресе! – он с интересом посмотрел на Ивана. - Воистину. Он достал из кармана бутылку дешевой водки и два стакана - Будешь? Лёша, – он протянул Ивану руку. Ладонь была шершавая и холодная. Алексей разлил водку по стаканам. - Ну, будем, – сказал он и, не морщась, выпил. Паленая водка обожгла Ивану горло. С трудом отдышавшись, он закурил. - Ну, как работа? - Плохо совсем. Всю ночь сижу, ты – второй, кто денег дал. Первая девушка была, заплаканная. А остальные – так, ходят мимо, не взглянут даже. - Ну... кризис. - Вот здесь, здесь кризис, – Леша показал куда-то в левую часть груди. - А можно я... – Иван указал на гитару. - Конечно-конечно! – Леша улыбнулся. Гитара была на удивление хорошей. Иван провел по струнам, и гитара отозвалась, но совсем не так, как он ожидал: звук был слишком высоким и чистым. Иван стал вспоминать аккорды, но понял, что слишком пьян, - ничего не получалось, и каждый раз, когда он попадал мимо нот, что-то обрывалось внутри. - Ладно, ты прости, давно не играл, – Иван откуда-то со стороны услышал свой отвратительно пьяный голос. - Ничего, брат. Всё получится потом. - Ушла, ушла вчера. А я сегодня... вот... - Я знаю. Ты бы шел домой, Вань, проспался. - Не хочу домой, там пусто совсем. Пусто. У меня нет никого. Никого нет. Понимаешь? Мне поговорить не с кем. А они... они все... Алексей взял несколько аккордов и улыбнувшись пропел: - И ни церковь, и ни кабак – ничего не свято… – он остановился, – не убежишь ты никуда, Ваня. Никто тебе не поможет. Помоги себе сам. Иван поплелся к выходу из перехода, чувствуя, как заплетаются ноги. Он долго шел куда-то, не понимая, куда идет. 16 Он шел по широкой изуродованной временем улице: как старое белье изпод нового пиджака выглядывали из-за спин стеклобетонных офисных центров брежневские многоэтажки и хрущевки. Кое-где с двухэтажных царских особняков сбили лепнину и атлантов при косметическом ремонте, и дома стали похожи на двухъярусные строительные бытовки. Посреди всего этого раскинулся огромный круглосуточный супермаркет, в котором двигались по проходам люди. Иван посмотрел на Page | 33 вывеску и вспомнил, что когда-то был здесь, в начале девяностых, с матерью. Тогда они первый раз приехали в Москву и долго гуляли весь день по центру, по красной площади, по узким улочкам, ходили в пушкинский музей, рассматривали в греческом зале скульптуры. Иван помнил, что на улицах никто не убирал снег, снегоуборочные машины отбрасывали его на тротуар, и люди шли по проезжей части. Они зашли в этот супермаркет, потому что Ивану понравилась вот эта красивая вывеска. Внутри всё было волшебно и ново, - это был один из первых супермаркетов в Москве. В нем было всё иностранное, начиная от носков, заканчивая шариковыми ручками. Пеналы, рюкзаки, игрушки, свитера, брюки, упакованные в маленькие коробочки маленькие помидоры, всё это было яркое, особенное, и так сильно контрастировало с серыми советскими магазинами, в которых всё было тусклым, одинаковым и скучным, что Иван решил хоть что-то унести из этого магазина с собой, пусть хотя бы на память. Он вцепился в какой-то пенал, и потребовал от мамы, чтобы та купила его. В зале почти не было людей, а те, что были, накладывали в корзину продукты, по-напускному не глядя, брали самые дорогие вещи, посматривая иногда удивленно на Ивана. Отбежав к какому-то прилавку и обернувшись, чтобы что-то крикнуть матери, он замер. Он вдруг всё понял. На ней был советский деловой костюм пятилетней давности, изношенные, потерявшие вид черные сапоги из кожзаменителя и нелепая розовая куртка на пуху с черкизовского рынка. Мама стеснялась, смущенно смотрела по сторонам, чувствуя, что она здесь не к месту, и она действительно была не к месту в этом ярком зале, среди этих ярких вещей. Его красивая, тонкая мама была из старого мира, а в этот, новый, ей было почему-то нельзя. Новый мир с красивыми вещами был для избранных. Иван посмотрел на ценник со штрихкодом на пенале и понял, что она никогда его не купит, потому что он стоил, наверное, половину ее зарплаты. 17 Он вошел через автоматические двери, прошел по залу в дальний угол, достал из холодильника бутылку воды. В супермаркете почти ничего не изменилось: те же маленькие помидоры в маленьких коробках, те же яркие, уже примелькавшиеся вещи, те же косые взгляды охранников. Он заплатил на кассе сто рублей за воду и вышел на улицу. Иван немного отрезвел и чувствовал только, что сильно отравлен алкоголем, в голове шумело, хотелось спать. Он знал, что нужно поймать такси и ехать домой, но почему-то шел вперед, глядя под ноги. Он свернул влево и пошел мимо строительной площадки. Строили элитный квартал в китайском стиле. Стройка молчала, но горели прожекторы, освещая глубокий котлован, из дна которого уже высились, как Page | 34 надгробия, бетонные блоки. На картинке, что висела на заборе, были красивые дома с красными китайскими крышами на фоне голубого неба, в окнах которых отсвечивало какое-то ненастоящее, ичкусственное солнце. Рядом со стройкой чернела церковь Николая Чудотворца, с пристроенным к ней уродским зданием «союзмультфильма». На первом ее этаже были поставлены стеклопакеты, которые странно смотрелись на фоне крошащихся стен из тёмно-красного кирпича. Метров через сто Иван увидел несколько скамеек между худых березок, и повернул к ним. Когда он перешагивал через полуметровое ограждение, правая нога скользнула по влажной земле, и ступню вывернуло. Он почувствовал, как в коленном суставе лопнула связка, как сустав, хрустнув, выскочил вправо. Иван упал на землю и застонал. Боль была такой силы, что казалось, каждая клетка в теле разрывается пополам. Пару минут он лежал, боясь пошевелиться, потом приподнялся на руках, но тут же опять упал, схватившись за колено. Ногой было невозможно пошевелить без дикой боли. Кое-как он дополз до скамейки, взобрался на ее и перевел дыхание. Справа был жилой дом, в котором не горело ни одного окна. Прямо перед ним – котлован. За ним – в темноте чернела церковь. Только сейчас он увидел ее всю, целиком. Церковь была без купола и креста, и в темноте казалась погоревшей. Из стен колокольни торчали голые ветви кустарника, сквозь выбитые стекла окон звонарной чернело московское небо. Он глянул мельком на чёрную церковь и отвернулся. Согнулся пополам, и сказал тихо в сжатые кулаки: «Прости меня. Я дурак. Дурак. Я пытаюсь. Я пытаюсь. Мне ничего не нужно. Дай мне сил». Над Иваном качнулись березы, и тихий шорох прошелся по небу. Он услышал позади себя смех. 18 Он лег на скамейку и закрыл глаза. Вспомнил, как встретил ее два года назад на лесной дороге. В лесу было тихо, только вдалеке на туристическом слете кто-то пел у костра под гитару. Он возвращался из магазина, что был в десяти километрах от лагеря. Лес пах свежестью короткой летней ночи, деревья бесшумно раскачивались, тянули ветви-руки в небо. Иван шел босиком, чуть теплый песок под ногами хранил в себе остатки яркого, солнечного дня. Дорога была пустынная, тихая, идти было далеко, и Иван шел медленно, чувствуя, как прохладный воздух омывает лицо, и как укутывает темнота весь мир вокруг. Взошла луна, и зыбкие, неземные полосы света легли на песок, и лес стал загадочным и прозрачным, и Иван услышал его хрустальную музыку. Дорога шла через смешанный лес, через дымчатые березовые рощи, мимо Page | 35 молчаливых кряжистых дубов, разбуженные птицы вспархивали с верхушек столетних сосен, и где-то тихо шуршал ручей, впадая в огромное, гладкое озеро. За два часа пути он не встретил ни одного человека. Он увидел ее издалека, - темная фигурка вынырнула из темноты и медленно приближалась. На ней была тельняшка в зеленую полоску. Она медленно и осторожно ступала по траве босыми ногами. Поравнявшись с ним, она сказала: «Здравствуй!», а потом он всматривался в ее лицо, освещенное оранжевым огнем костра, и она казалась ему вечной. Она лежала на пенке у огня и спала, а он долго еще, пока костер не потух, и всё вокруг не исчезло темноте, видел ее. Ивану так понравилось воспоминание, что он скрылся в нем как в спасительном сне, и скоро действительно уснул, закутавшись в пальто. Ему снился темный лес, только свет луны был с примесью крови, - чтото двигалось между деревьев, не отступало от него ни на шаг. Он свернул с дороги и бежал, скатываясь в овраги, спотыкаясь о корни, которые торчали из земли как черные змеи. Под огромным, мертвым дубом стоял стол, а за ним сидел Михаил с бокалом виски, и когда Иван пробегал мимо, то увидел, что лицо у него всё в красной краске, которая течет, пузырится. Пузыри лопались на коже начальника, как красные язвы. Он повторял: «Это жизнь, понимаешь, жизнь». Рядом с ним, за деревьями была толпа, Иван видел только черные спины. Они смеялись неживым смехом, и он бежал дальше. Посреди поля стоял ржавый остов машины, и Оксана, сидя на заднем сидении, крикнула: «Поехали с нами!»; всё вязло в темноте, исчезали деревья, лес пропадал, и Иван шел на ощупь, и руки натыкались на чьи-то лица, и он чувствовал, что лица искажены в агонии, чьи-то узловатые пальцы хватали его за волосы, дёргали за одежду, тянули куда-то вниз. Ему всё сложней и сложней было идти, и он остановился, и что-то огромное и черное навалилось сверху, прижало к земле, и ему стало трудно дышать, он не мог пошевелиться, и мысль, что это и есть смерть, показалась вдруг естественной и единственно настоящей. 19 Он проснулся от холода. Черная фигура отшатнулась от него, скрылась в темноте. Пальто было распахнуто. Пропал кошелек и сотовый, конверт с зарплатой, шапка, ботинки были расшнурованы. Он лежал, не шевелясь. Церковь обломком черной скалы сливалась с ночью. У соседней скамейки неподвижно сидела огромная крыса, уставившись на него глазами-бусинками. Иван повернулся на спину. У него перехватило дыхание. Page | 36 Ясное ночное небо разрезал млечный путь, и звезды мерцали из темноты, как тысячи божьих глаз. Музыка перетекала между ними, с каждым движением становилась другой, новой. Page | 37