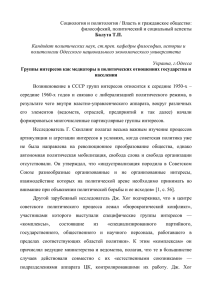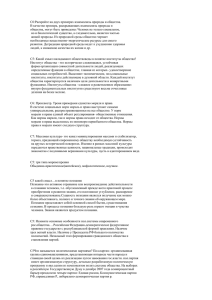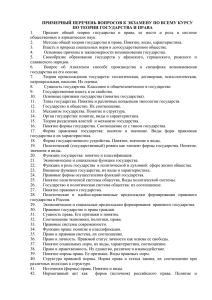Марача В.Г. Социокультурный анализ политико
advertisement
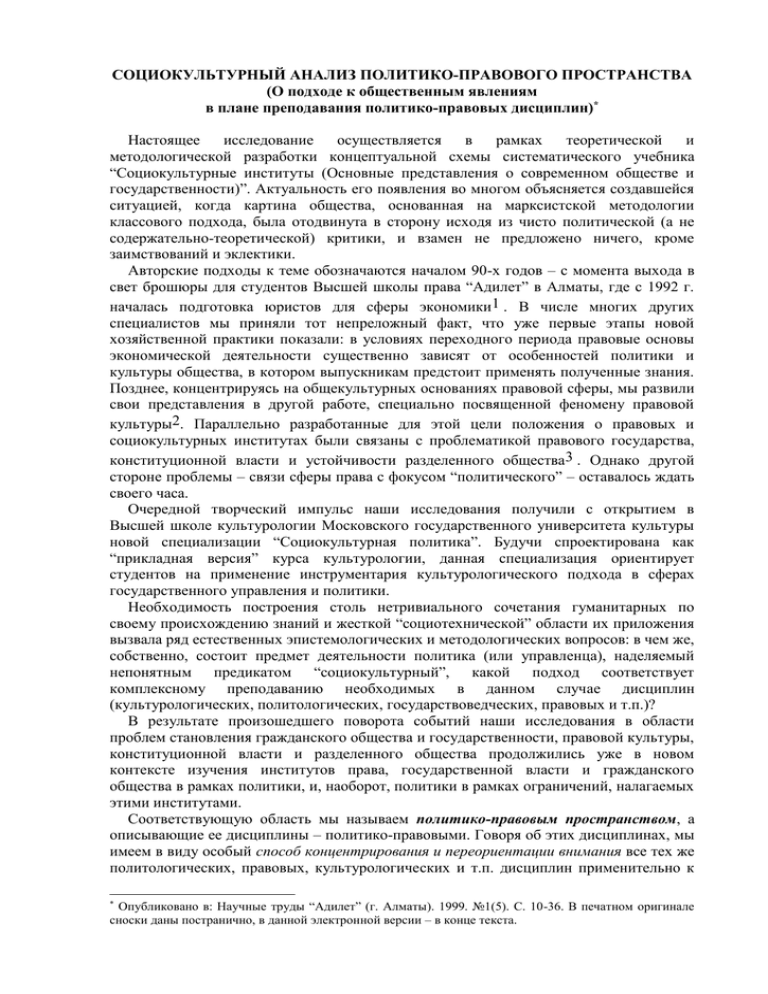
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО ПРОСТРАНСТВА (О подходе к общественным явлениям в плане преподавания политико-правовых дисциплин)* Настоящее исследование осуществляется в рамках теоретической и методологической разработки концептуальной схемы систематического учебника “Социокультурные институты (Основные представления о современном обществе и государственности)”. Актуальность его появления во многом объясняется создавшейся ситуацией, когда картина общества, основанная на марксистской методологии классового подхода, была отодвинута в сторону исходя из чисто политической (а не содержательно-теоретической) критики, и взамен не предложено ничего, кроме заимствований и эклектики. Авторские подходы к теме обозначаются началом 90-х годов – с момента выхода в свет брошюры для студентов Высшей школы права “Адилет” в Алматы, где с 1992 г. началась подготовка юристов для сферы экономики1 . В числе многих других специалистов мы приняли тот непреложный факт, что уже первые этапы новой хозяйственной практики показали: в условиях переходного периода правовые основы экономической деятельности существенно зависят от особенностей политики и культуры общества, в котором выпускникам предстоит применять полученные знания. Позднее, концентрируясь на общекультурных основаниях правовой сферы, мы развили свои представления в другой работе, специально посвященной феномену правовой культуры2. Параллельно разработанные для этой цели положения о правовых и социокультурных институтах были связаны с проблематикой правового государства, конституционной власти и устойчивости разделенного общества3 . Однако другой стороне проблемы – связи сферы права с фокусом “политического” – оставалось ждать своего часа. Очередной творческий импульс наши исследования получили с открытием в Высшей школе культурологии Московского государственного университета культуры новой специализации “Социокультурная политика”. Будучи спроектирована как “прикладная версия” курса культурологии, данная специализация ориентирует студентов на применение инструментария культурологического подхода в сферах государственного управления и политики. Необходимость построения столь нетривиального сочетания гуманитарных по своему происхождению знаний и жесткой “социотехнической” области их приложения вызвала ряд естественных эпистемологических и методологических вопросов: в чем же, собственно, состоит предмет деятельности политика (или управленца), наделяемый непонятным предикатом “социокультурный”, какой подход соответствует комплексному преподаванию необходимых в данном случае дисциплин (культурологических, политологических, государствоведческих, правовых и т.п.)? В результате произошедшего поворота событий наши исследования в области проблем становления гражданского общества и государственности, правовой культуры, конституционной власти и разделенного общества продолжились уже в новом контексте изучения институтов права, государственной власти и гражданского общества в рамках политики, и, наоборот, политики в рамках ограничений, налагаемых этими институтами. Соответствующую область мы называем политико-правовым пространством, а описывающие ее дисциплины – политико-правовыми. Говоря об этих дисциплинах, мы имеем в виду особый способ концентрирования и переориентации внимания все тех же политологических, правовых, культурологических и т.п. дисциплин применительно к Опубликовано в: Научные труды “Адилет” (г. Алматы). 1999. №1(5). С. 10-36. В печатном оригинале сноски даны постранично, в данной электронной версии – в конце текста. * комплексной проблеме изучения политико-правового пространства. То есть вопрос приобретает методологический характер выработки подхода, позволяющего изучать соответствующие явления комплексно, “состыковывать” (в том числе и в процессе преподавания) знания, взятые из различных дисциплин с помощью неодинакового инструментария и представляющие разнообразные точки зрения. Подобная задача чрезвычайно объемна и требует, с одной стороны, ряда социально-философских разработок по выяснению границ и современного содержания “политического”4, а с другой, – обстоятельного методологического исследования инструментария тех дисциплин, которые имеют значение в изучении общественно-политических явлений. Исходя из задач обеспечения процесса образования, мы попытались изложить основные представления (базовые схемы) того подхода к общественным явлениям, на котором может строиться систематическое преподавание политико-правовых дисциплин, отвечающее духу времени. Мы выражаем признательность своим коллегам из Высшей школы культурологии Б.В.Сазонову, С.И.Котельникову, В.И.Малкину, в плодотворных дискуссиях с которыми выкристаллизовывался наш подход к проблеме в целом, а также В.В.Никитаеву, Я.Ш.Паппе, М.В.Рацу, В.М.Розину, А.В.Савинову, А.Г.Шейкину, обсуждавшими с нами различные аспекты данного исследования и внесшими ряд ценных замечаний. Особую благодарность хотелось бы выразить С.В.Попову, обратившему еще в 1990 г. наше внимание на растущую актуальность проблем институционализации власти и взаимосвязи институциональных форм организации социальной жизни с мышлением и знанием. 1. ПРИНЦИПЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО АНАЛИЗА 1.1. Методологические ограничения существующих парадигм и рамочные ориентиры нового подхода к преподаванию политико-правовых дисциплин Под политико-правовыми дисциплинами понимается комплекс дисциплин, позволяющих представить общественные явления в областях, соизмеримых с понятиями политики, права, власти, государства, государственности, гражданского общества (ряд можно продолжить); иначе говоря, осмыслить “политическое” (в аристотелевском смысле синоним “общественного”). При этом наша позиция подразумевает, что в рамках европейской – а теперь и глобальной – цивилизации “политическое” может быть осознано не иначе, как в соизмерении с “правовым”. В разработке нового подхода к преподаванию политико-правовых дисциплин принимается во внимание, что в настоящее время перед Россией, Казахстаном и другими постсоветскими государствами стоят комплексные проблемы возрождения культуры, реформирования и переориентации образования, воссоздания и развития в новых условиях социокультурного мышления и подхода к институциональному регулированию совокупности социальных, культурных, экономических и политических процессов. Явления, протекающие в одних сферах, приводят к широкомасштабным последствиям в других областях, что требует комплексного подхода к постановке и решению проблем социокультурной и правовой политики, расширения рамок узкоэкономического взгляда на общественные процессы. Новый подход к преподаванию политико-правовых дисциплин характеризуется рядом специфических черт. Во-первых, обучение по ним не сосредотачивается на какой-либо уместной здесь научно-предметной области знания (политологии, социологии, правоведении и т.п.), но так же, как и сами проблемы социокультурной и правовой политики, предполагается комплексным. Во-вторых, комплексность обеспечивается не суммированием предметных знаний, но строится на принципиально иных основаниях: применительно к каждому социокультурному институту за счет специфических мыслительных процедур выделяется свой круг проблем, а предметные знания выступают в прикладной роли средств их решения (особо стоит вопрос о средствах и механизмах рефлектирующего проблемного мышления). Практической задачей разрабатываемого подхода является подготовка специалиста, умеющего ставить социокультурные и политико-правовые проблемы, использовать различные предметные знания для их решения и организовывать конкретную деятельность по формированию социокультурной и правовой политики. Комплекс политико-правовых дисциплин претендует, по нашему мнению, на свою особую точку зрения на общество в целом (как история и социология, и как, по версии А.А.Богданова, “наука организации”5 ), а не только на его часть (как экономика, политология или социальная психология). Отдельные специальные дисциплины внутри комплекса должны соотноситься как дополняющие друг друга. Сердцевину образовательной концепции, используемой при разработке предлагаемой системы учебных пособий, составляют две гипотезы. Сущность первой гипотезы в том, что в основе освоения общественно-гуманитарных дисциплин должно лежать преподавание права и логики (эпистемологии), которые здесь играют роль, аналогичную роли физики и математики при освоении естественнонаучных дисциплин. Основание данной аналогии – простота и относительная формальная ясность обеих пар дисциплин – было отмечено еще И.Кантом. Право вместе с логико-эпистемологической рефлексией и дает то чувство формы, без которого немыслимо освоение ни других политико-правовых дисциплин, ни философских, ни, пожалуй, даже историкофилологических (на которых традиционно базировалось гуманитарное образование в классических российских гимназиях). Вторая гипотеза предполагает подход к общественным явлениям, на котором может строиться систематическое преподавание политико-правовых дисциплин, основанный на социокультурном анализе. Рассмотрение политико-правовых проблем в этом аспекте позволяет удерживать и анализировать ситуацию как социокультурную, т.е. подразумевающую существование, взаимодействие и одновременное изменение сразу двух планов: плана социально-политических действий и тех затруднений, в которых оказываются субъекты этих действий, и плана правовых и общекультурных норм (образцов), в соответствии с которыми (явно или неявно) участники общественных отношений пытаются строить свою деятельность и преодолевают возникшие препятствия. Формирование новых образовательных программ закладывает основы понимания общественной жизни следующим поколением. И во избежание отрицательных уроков подобную социокультурную ситуацию необходимо с самого начала мыслить в динамике, т.е. как историческую. Данное утверждение распространяется не только на модернизацию программ и системы образования в бывшем СССР, но и на реформирование институциональных основ общественной жизни в целом. А коль так, то в поиске правильного метода придется в полной мере испытать все парадоксы вечной проблемы объективности в истории. Причем интеллектуальная коллизия столкновения с политико-правовой проблематикой принципиально осложняется еще и тем, что ставится задача не написать историю процесса завершившегося (успешно или безуспешно), но проанализировать ситуацию становления, т.е. выявить смысл событий, происходящих, во-первых, “здесь и сейчас”, а во-вторых, еще длящихся, не завершенных. Поэтому, хотя позиция историка и дает принципиальную возможность получить целостное представление об общественной жизни, для нас она играет лишь вспомогательную роль. Казалось бы, надежно обеспечивает объективность социологический подход. Так, при рассмотрении социальных единиц (сил, классов и т.п.), заведомо превышающих по масштабу отдельного деятеля, анализ переводится на уровень макросоциальных структур, процессов и т.д. Но императив преобразующей роли социальной теории, провозглашенный К.Марксом, играет с исследователями в ту же игру, что и с открывшим его классиком: теория, ставшая средством деятельности, в качестве неучтенного следствия неизбежно порождает другие виды деятельности, противостоящие данной. Натуральный объект, к которому относилось социологическое знание, изменяется самим этим знанием. Изменение объекта, в свою очередь, требует конструирования нового знания: логические условия истинности той идеализации, на которую опиралось знание, перестают действовать, что приводит к смене исходных абстракций и порождению новых рефлексивных самообразов. Объект, который содержит компоненты, порождающие самообразы, называется рефлексивным6 . К таким объектам относится организационно-управленческий подход, но тип предлагаемых им решений вряд ли может быть удовлетворительным. Здесь можно согласиться с В.М.Розиным, полагающим, что в данном случае “эффект социального действия незначителен, поскольку не затрагиваются основные глубинные структуры и процессы той системы, на которую оказывается воздействие”7 . Дело в том, что если понимать модернизацию не плоско-натуралистически, то за ситуациями, обычно рассматриваемыми как социально-политические (но не социальнокультурные!), необходимо видеть нормирующее воздействие культурных образцов, по образу и подобию которых подобные ситуации формируются, а саму реформу рассматривать не столько как “преобразование, строгую программу или проект в традиционном смысле”, а как “втягивание в новый тип культуры”8 . Такое формирующее (нормирующее) воздействие плана “культурного” осуществляется через менталитет, структуры повседневности, обыкновения различных слоев населения. Без изменения культурного образца модернизация института – это просто порождение псевдоформы без изменения сути дела. “Образец, – пишет Э. Дюркгейм, – это не только привычный способ действия; это прежде всего обязательный способ действия, т.е. в какой-то мере неподвластный индивидуальному произволу”9. Можно ли предположить, что наши проблемы решит культурологический подход, и что в общественно-историческом процессе необходимо признать “направляющую” роль плана “культурного”, считая план “социального” чем-то вторичным, производным? “Но, – продолжает Э. Дюркгейм, – только сформированное (курсив наш. – В.М. и А.М.) общество пользуется моральным и материальным превосходством, необходимым для того, чтобы иметь силу закона для индивидов...”, ситуация же становления подразумевает, что предъявляемые членам общества образы-образцы также могут изменяться в свете “коррекций процесса реализации” и “активного и положительного вмешательства в создание всякого образца”10. А поэтому и культурологический подход оказывается подвержен тому же парадоксу, что и социологический. 1.2. Анализ становления правовой культуры: базовые принципы и понятия социокультурного подхода Исходя из вышеизложенного можно сформулировать основные принципы социокультурного анализа как подхода: 1. Постулируется принципиальная различенность планов культурных норм (образцов) и социальных ситуаций, причем вторые должны схватываться в конкретных обстоятельствах своей реальной динамики на фоне “относительной вечности”11 первых. 2. Признается нормирующая функция культурных образцов по отношению к социально-политическим ситуациям12. 3. Опираясь на принцип различения планов “социального” и “культурного” и предположение о том, что каждый из этих планов обладает собственной внутренней динамикой, социокультурный анализ учитывает рефлексивность социокультурных объектов (ситуаций). Если рефлексивный объект является “действующим” и/или “целеустремленным”, то рефлексивность придает ему ту обратную связь, благодаря которой он становится “самодвижущимся”, самоизменяемым. С учетом такого рефлексивного самодвижения нами и описывается внутренняя динамика плана “социального”. Характерными же частными случаями порождения социальной деятельностью рефлексивных самообразов являются социальное познание и общественная коммуникация. 4. Культурные образцы представляются как личностные и олицетворяемые, причем сразу в двух смыслах: с одной стороны, культурное единство понимается и осознается личностно, происходит герменевтическая диверсификация культуры, порождающая ее множественность и разнообразие; с другой, отдельные личности становятся живыми образцами для остальных, нормы и образцы персонифицируются. Применительно к политической реальности это означает, что политические отношения не только проявляются, но и напрямую зависят от личных взглядов и убеждений конкретных политиков (лидеров), а образцы политической культуры данного народа в конкретную историческую эпоху социализируются через актуальный набор политических позиций. 5. Необходимо учитывать два типа динамики плана “культурного”, задаваемые разным отношением к процессам рефлексии и мышления: эволюционный и эмерджентный. Первый тип представляет собой имманентную динамику культурных образцов, второй – характерный для некоторых обществ процесс постоянного порождения новых культурных норм за счет интервенции в план “культурного” рефлексивных самообразов социальной деятельности в условиях, когда темп социальных изменений, приходящихся на одно поколение, значительно опережает скорость культурных новообразований. Общество с подобным качеством изменений называется динамическим. Динамическое общество как тип противостоит статическому (где структурные изменения достаточно медленны – настолько, что при анализе социальных ситуаций план “культурного” можно считать неизменным) и гомеостатическому (где изменения настолько медленны, что в большинстве случаев ими вообще можно пренебречь). Что касается имманентной динамики культурных образцов, то она является вполне традиционным предметом гуманитарного знания. Фактически гуманитарные дисциплины впервые появляются как описательно-оформляющее знание, фиксирующее исторические изменения характера общественных отношений в той или иной сфере жизни. Например, если в обществе исторически изменяется язык, то эти сдвиги сначала фиксируются в виде нормативных описаний. Описания некоторого “идеального”, “типичного” или “нормального” (напр., литературного) языка – реально все люди говорят по-разному – переводятся либо в предписания (как правильно говорить), либо в систему возможностей (как можно говорить), определенную границами “хорошего вкуса” или норм данной культуры. Поэтому закономерно появление целого корпуса культурологических дисциплин, связанных с эстетикой, этикой, историей литератур и классической древности и т.д. – как фиксацией некоторых идеальных образцов. Тип отношения мышления и рефлексии, порождающих подобное гуманитарное знание, к культурным образцам определяется как преимущественно созерцательный, т.е. считается, что описательно-оформляющее знание лишь реконструирует и описывает – а не конструирует и формирует – культурные образцы. Применительно к политико-правовой проблематике классический образец и наглядный пример знания, производящего реконструкцию норм к изменяющейся реальности, дает правоведение, развивающееся в таком качестве со времен рецепции римского права (ХII–ХIII вв.). Однако, если в те времена общественные изменения были сравнительно редкими и медленными, то сейчас они стали непрерывными и быстрыми. Современное правоведение имеет дело с постоянным пересмотром норм и институтов права, отражающим тенденции общественной динамики. Речь идет как об имманентной динамике культурных норм (изменениях в правовой традиции, обычаях, идеологии, доктринах), так и о социальных механизмах искусственного изменения норм в результате рефлексии проблем общественной жизни (законотворчество, создание прецедентов). Характеризуя тип отношения мышления и рефлексии к культурным образцам в данном случае, уже нельзя пренебречь влиянием знания на собственный объект и считать это отношение чисто созерцательным, – напротив, следует признать активную конструктивную роль мышления в конституировании культурных образцов. Далеко не всякое социально обусловленное изменение правовых норм и институтов признается культурным (право)сознанием и закрепляется образом жизни. В условиях быстрой динамики только часть социализированных норм и образцов-предписаний удается проинтерпретировать в рамках развития “высокой” правовой культуры. Некоторые же из социализированных норм, оставаясь “не прописанными” в “высокой культуре”, тем не менее, определяют массовое социальное поведение, осуществляя функцию, аналогичную культурной нормировке. В простейшем случае план “культурного” приходится мыслить как “расслаивающийся” и образующий иерархированную структуру, включающую слои “высокой” (“элитарной”) и “массовой” культуры. К политической культуре данный принцип применим в еще большей мере, чем к правовой. Здесь социальная (социально-политическая) практика очень часто “противоречит культуре” – во всяком случае, тому ее образу, который дает классическое гуманитарное знание: политика и “высокая” культура помещаются в разные “модальности”. Политика является “искусством возможного” (а не должного!), отчего с позиций “высокой” культуры получает характеристики “грязной”, “безнравственной” и т.д. “Реальные” политические силы, действуя в пределах наличных возможностей, преследуют “сиюминутные” цели, определяемые их интересами, а не устоявшимися формами культуры. В то же время и динамика плана “культурного” может оказывать достаточно активное формирующее влияние на социальнополитические ситуации. Самоопределение в рамках истории и культуры позволяет политикам выходить за границы существующей реальности, раздвигая тем самым горизонты возможного. В условиях динамического общества расширение границ политически возможного связано, прежде всего, с сопоставительной рефлексией, возникающей в социальных системах, вовлекаемых в “диалог культур”, процессы “кросс-культурного” взаимодействия. У определенных общественных групп в таких системах могут возникать особые “мета-цели”, связанные с социокультурной трансформацией, преобразованием экономических, политических и иных институтов по образу и подобию институтов другой культуры. Такие мета-цели являются внешними по отношению к социально-политическим ситуациям внутри данного общества, они “идут из культуры” и формируют уже конкретные политические цели и интересы, выступая по отношению к ним в функции нормирующей стратегии. Формирование стратегии, направленной на социо-культурные изменения, а также постановку и реализацию в ее рамках политических целей, называется (социо)культурной политикой.Она может складываться не только в процессе кросскультурной коммуникации, но и в контексте решения внутренних проблем социальной системы. Это происходит тогда, когда для осуществления общественных изменений, реализации проектов и т.п. недостаточно рассматривать культуру как “фон”, который можно “учесть”, после чего “вынести за скобки”. Речь идет о контекстах, в которых от политического влияния и экономического принуждения и стимулирования необходимо переходить к созданию культурных сетей: “движение в сторону “социального общества и государства”, предельные вопросы нравственно-этического отношения к миру, “экологическая” оценка собственной деятельности, проблематика современного гуманитарного образования, делающая отдельного человека соразмерным темпу происходящих трансформаций...”13. Резюмируя сказанное, можно отметить: от социо-логического предлагаемый способ рассмотрения отличается тем, что за социально-политическими ситуациями учитывает имеющие самостоятельное значение “культурные нормы”, трансцендентные плану “социального”. А в случаях, когда при обращении к культурным нормам не происходит полное абстрагирование от данностей социально-политической ситуации, удерживаются в мышлении ее конкретные обстоятельства и особенности, отчасти конституирующие (через посредство рефлексии и мышления) план “культурного”, – предлагаемый способ анализа противостоит культурологическому. Иначе говоря, не следует придерживаться какой-либо из уместных здесь разновидностей монизма (социологического или культурологического), но, подобно К.Попперу, необходимо признавать онтологему “трех миров”. У Поппера это были миры природы (в новоевропейском смысле natura), социальных отношений и объективного знания14 . Соответственно место мира природы занимает мир культуры (выступающей здесь как “вторая природа”), а мир объективного знания трактуется как “бытие, неотделимое от становления”, т.е. как мир осуществляющихся интеллектуальных функций (мышления, понимания, рефлексии и т.д.) и их объективированных продуктов – знаний и иных эпистемических форм. Разумеется, данный тезис требует обстоятельного комментария, но обсуждение онтологических оснований социокультурного анализа выходит за рамки данной работы. Исследование правовой культуры предполагает, что с точки зрения культурной динамики необходимо различать ее воспроизводство, относимое к уже существующим (пусть и находящимся в процессе изменения) культурным образцам, и становление15 . Принимая это различение и для анализа политических явлений, рассмотрим далее представления о политико-правовом пространстве и проблемы его становления. 2. ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО В ЕГО ГЕНЕЗИСЕ И “СТАВШИХ” ФОРМАХ 2.1. Генезис политико-правового пространства: значимость правовых институтов в реализации политических отношений Как же теперь в намеченных рамках социокультурной динамики представить политико-правовое пространство? С исторической точки зрения очевидно, что такое пространство присуще не всякому типу общества. По всей видимости, впервые в истории общественные отношения начинают трактоваться как собственно политические в греческом полисе. Древние греки остро чувствовали дыхание общественных изменений. Смена правителей и даже форм правления иногда происходила неоднократно на протяжении жизни одного поколения. Именно там, в условиях первой демократии, противостоявшей то и дело возрождавшейся тирании, начинает формироваться личность свободного гражданина, за которым признается индивидуальная воля и право ее изъявления – право голоса. Слово “политика”, в этимологии которого присутствует корень “полис” (множественность), означает искусство управления обществом, государством, подразумевающее совместное принятие властных организационных и управленческих решений, механизм взаимодействия множества индивидуальных воль и их консолидации в общую волю или в набор общественно значимых точек зрения на “публичные вещи”16 . Как видим, само существование политики предполагает плюрализм. Если политик остается один, то он уже не занимается “политикой” в исходном смысле этого слова 17 . Следовательно, и политическая позиция не может быть “единственно верной”, а только одной из возможных. Но в чем же тогда особенность позиции политика как общественной в отличие от любой частной (пусть и очень культурной) деятельности? Такую особенность выделил еще Аристотель: “Хотя моряки на судне занимают неодинаковое положение... благополучное плавание – цель, к которой стремятся все моряки в совокупности и каждый из них в отдельности... То же самое и по отношению к гражданам: хотя они и не одинаковы, все же их задача заключается в спасении составляемого ими общения, а общением этим является государственный строй”18 . Итак, политические отношения с самого начала приобретают коммуникативный характер, который в демократическом обществе захватывает и государственность. Греки, обладая уже идеей правового равенства свободных граждан, изобрели публичное пространство общественного обсуждения и принятия решений по поводу государственных дел: “...и к высшему из всех благ стремится то общение, которое является наиболее важным из всех и обнимает собой все остальные общения. Это общение называется государством или общением политическим”19 . Позднее Рим к этому политическому пространству общественной коммуникации добавил еще правовую процессуальную форму, поддерживаемую особой профессиональной корпорацией юристов. Процесс публичного обсуждения общественно значимых проблем постепенно оформлялся за счет процедуризации и юридического нормирования. Последнее, в свою очередь, после многолетних усилий по кодификации законодательства и систематизации мышления самих юристов, приобрело характер правовых институтов. “И пусть для истории науки и политической мысли Аристотель значит больше – есть нечто свежее, важное и неувядающее в общественных взглядах какого-нибудь Цицерона и, шесть веков спустя, в идеях юристов эпохи Юстиниана. Возможно, в названии одной из их работ и выражается суть того дара, который Рим вручил Западу: Institutiones, институты”20 . Для того, чтобы представить социокультурный институт, необходимо различать, как минимум, институциональную Идею, слой ее символического закрепления, набор формальных мест, связанных процедурой или процедурами, а также опоры двух типов. Первый тип – это материальные опоры (М) в виде определенных инфраструктур или технологий, словом, всего того, что связано с материальной “посадкой” института. Второй тип – духовные опоры (Д): укорененность института в духе народа, традициях и т.д., что подразумевает укорененность “в нравах” прежде всего институциональной Идеи и культурную приемлемость соответствующих ей формальных процедур, системы мест и т.д. – всего того, что в сумме называется институциональной формой. Выделенные компоненты в совокупности образуют схему состава института. На схеме 1 изображен всеобщий принцип функционального устройства социокультурного института, распространяемый и на политико-правовые институты. Морфологически же основные политико-правовые институты имеют популятивный характер, т.е. представляют собой множественность организаций и учреждений, воплощающих этот принцип своим собственным индивидуальным способом. Логика рассмотрения генезиса политики как плюралистического общения популятивных субъектов приводит к утверждению значимости правовой действительности, проявляющейся через функционирование политико-правовых институтов в форме институционально-правовой организации публичного говорения, опосредующей реализацию политических отношений. В европейской культуре эта значимость обусловливается также и тем, что политическое отношение, чреватое разрывами и конфликтами, для своего устойчивого воспроизводства нуждается в “беспристрастном третьем”, выведенном из политики, пусть даже этот третий актуально присутствует лишь в форме рамки21 . В развитых политических демократиях подобная рамка поддерживается сложным механизмом, подразумевающим согласованную работу всех институтов сферы права, соответствующих основным функциональным компонентам ее структуры: правосознанию, правовому поведению и правоотношениям, правовым нормам, правоприменению, правотворчеству, правовой науке и философии права, правовому образованию22 . В условиях политической демократии важные социокультурные функции сферы права – правотворчество и правоприменение – оформлены состязательными институтами, структурирующими общественную коммуникацию, необходимую для политического способа обсуждения социально-значимых проблем и принятия решений. Рассмотрим подробнее институт, непосредственно выполняющий социокультурную функцию “беспристрастного третьего”, – институт состязательного правосудия. 2.2. Состязательное правосудие как правовая форма институционального опосредования Ядром состязательного суда является судоговорение в состязательном процессе, выступающее в то же время важной правовой институциональной формой организации общественной коммуникации. Зал суда – это процедурно организованное пространство, где создается набор общественно значимых возможностей для обсуждения и разрешения конфликтов. Когда кто-то обращается в суд (представим себе некое гражданское дело), предполагается, что есть определенный конфликт, который служит поводом для подачи иска. Один из участников конфликта входит в особым образом организованное правовое пространство (можно специально показать, что такое пространство обладает всеми компонентами, выделенными на схеме 1) и подает иск, становясь истцом. Основанием для входа в это пространство и условием начала слушания по делу является соответствие случая определенным формальным критериям. В первую очередь имеется некоторая формальная норма, регулирующая вход в институциональное пространство, при условии соблюдения которой в институциональное пространство приглашается второй участник конфликта, который переоформляется в ответчика. Истец и ответчик – стороны институционального судоговорения. К процессу судоговорения подключается еще целый ряд других фигур, наличие которых, собственно, и позволяет переоформить конфликт в нечто иное. Переоформление происходит за счет перенесения отношений участников конфликта в зал суда – зону действия правовой институциональной формы, которая реализуется через взаимоотношение формальных мест (“кресел” истца, ответчика, судьи, адвокатов и других участников процесса), особые процедуры и т.д. В результате появляется отношение сторон с некоторой “идеальной добавкой” – элементом, имеющим чисто культурное происхождение, которого не было в исходном отношении. Переход от начальной ситуации неоформленного конфликта к конечному состоянию, порожденному присоединением идеальной добавки, называется институциональным опосредованием (см. схему 2). И, поскольку за правовым институтом стоят, во-первых, Идея Права, имеющая трансцендентальный смысл, а во-вторых, некоторый набор правовых норм, регулирующих не только вхождение в пространство, но и разрешение дела внутри него, то можно утверждать, что вход в институциональное пространство представляет собой механизм апелляции к тому, что в гносеологической традиции называется трансцендентальным миром. Если таковая апелляция имеется и есть некоторая достаточно регулярная и воспроизводимая (в данном случае благодаря институту) система правил (“логика”) такой апелляции, то весь процесс в целом можно трактовать как мышление23 . При этом институт действует как целостная (органическая) единица наподобие субъективной личности, а объективный характер мышления обеспечивается такими структурными компонентами института, как направляющая идея, процедуры и т.д.24 Человек, обладающий индивидуальным сознанием, мыслит (а не просто “думает”) лишь в меру своей сопричастности к правилам и процедурам мышления, имеющим надындивидуальный нормативный характер. Но, как показывает опыт Аристотеля по содержательному разрешению вопроса о том, что такое справедливость, установление таких правил в формах, применимых для отдельного индивида (логика, понятийное разграничение и т.д.), не всегда возможно или, во всяком случае, социально неоправданно. А более чем двухтысячелетняя история римского права подтверждает, что в некоторых ситуациях наилучшим решением является установление таких правил и процедур применительно не к индивиду, а к институту. Если при решении, например, арифметической задачи правила и процедуры мышления с очевидностью доступны индивиду непосредственно (или мышление опредмечено в формах знака и знания, непосредственно доступных индивиду, т.е. имеется семиотическое опосредование), то в случае судебного разбирательства сопричастность мышлению, выносящему в итоге справедливый приговор, опосредована участием в институциональном действии (в данном случае – судебном разбирательстве). Не меньше, чем для прочих участников процесса, это верно и для судьи, вроде бы непосредственно выносящего приговор: без участия в предписанной процессуальным законом судебной процедуре ему пришлось бы выносить неправосудный приговор “по Аристотелю”, на основе одного лишь субъективного усмотрения, определяя “середину между выгодой и ущербом”. При этом стороны, участвующие в процессе, являются для судьи не просто предметизованными “условиями арифметической задачи” по вынесению приговора, а компонентами “совокупной личности суда” – такими же частичными по отношению к процессу, как и судья, – и лишь суд как институт “мыслит”, “разрешает конфликт” и “выносит приговор”25 . “Мир”, в котором осуществляется социальноорганизованное коллективное мышление суда, отделен от того мира, в котором существуют разрешаемые этим судом конфликты, логической границей26 , искусственное поддержание которой, собственно, и позволяет “переоформлять” конфликты. Пересечение данной границы означает “вхождение” в процесс в качестве участника, которое в зале суда материализуется как занятие одного из “кресел”: судьи, истца, свидетеля и т.д. Форма социально-организованного мышления суда обеспечивается логической структурой, разделяющей пространство зала суда на несколько слоев: слой событий и свидетельств, слой суждений и интерпретаций, слой квалификаций и обоснований (см. схему 3). Взаимодействие участников процесса регламентируется процессуальными нормами, задающими для каждого слоя и для переходов между ними свой собственный набор процедур. В слое событий представлены конфликтные точки общественных отношений, которые проявляются и предъявляются в особой юридической форме – свидетельств, вещественных доказательств и т.п. Слой суждений проявляет телеологию состязающихся сторон: в каком направлении они хотят “сдвинуть” ситуацию конфликта. За счет интерпретации (толкования) свидетельских показаний, вещественных и иных доказательств (и выстраивания системы доказательств уже в логическом смысле этого слова) проявляется тот смысл, который стороны вкладывают в юридические конструкции из первого слоя. Каждая из сторон стремится разрушить системность доказательств и целостность версии (картины событий), выстраиваемых другой стороной. Таким взаимным разрушением системной замкнутости версий и доказательств сторон обусловлен пространственный (а не системный) характер судоговорения и соответствующей формы социально организованного мышления. В слое квалификаций необходимо “подвести черту” состязательности и вынести обоснованный приговор, для чего суд должен прежде всего решить “вопросы факта”, т.е. определить, какая из версий (и в какой части) “ближе к истине”. Но, поскольку истинная картина событий суду не дана, а стороны, будучи заинтересованными в исходе дела, если и знают, какова картина “на самом деле”, могут ее целенаправленно искажать в свою пользу, суд обосновывает свое предпочтение, “взвешивая” доказательства сторон и реконструируя собственную версию. Разрешив “вопросы факта”, суд решает “вопросы права”, осуществляя “подведение обстоятельств дела под норму”. Данная операция, отвечающая кантовскому представлению о мышлении как “подведении под понятие”, состоит в том, что суд решает, гипотезе27 какой из действующих материальных норм лучше всего соответствует набор юридических фактов (фактический состав), признанных “доказанными”. Решение выносится в соответствии с диспозицией и – в случае охранительных норм – с учетом санкции применяемой нормы. Прохождение состязательного процесса по всем слоям позволяет найти юридически значимое решение конфликта, которое, “опускаясь” – в форме приговора суда – на ситуацию исходного конфликта, становится также и социально значимым. В итоге, на примере институциональной правовой формы состязательного правосудия видно, что институциональность есть тип опосредования общественных отношений, а это делает представления об институциональности важнейшим средством проникновения в их (общественных отношений) суть и позволяет – по аналогии с институциональным опосредованием в его правовой форме – обозначить подход к рассмотрению политики через социокультурные институты и их динамику: политика проявляется в “говорении на публике” и оказывается принципиально опосредованной этим говорением, которое, в свою очередь, само опосредовано целым рядом институциональных процедур. Такое процедурно опосредованное говорение – общественная коммуникация – является следующим после процессуальной формы института “ободом”, стягивающим создаваемое данным институтом пространство общественных возможностей28 . Посредством ее индивидуализированные субъекты общества во взаимодействии с государством определяют и переопределяют институциональные условия и каналы реализации своей свободы. 2.3. Правовые рамки свободы гражданского общества Если для греков и римлян ключевой политической проблемой был вопрос о справедливости, который философски решался с помощью этики, а практически – юриспруденцией, то возрождение политического пространства в средневековых городах характеризуется повышенным интересом к проблематике свободы. Как совместить индивидуальную свободу и социальный порядок? Можно ли это сделать не в рамках реализующего божественный миропорядок Града Божьего, а посредством реальных политических механизмов? В силу очевидной множественности индивидов свободу в социокультурной (и, тем более, политической) среде необходимо стало уже мыслить через ограничения, накладываемые не внеположенной социокультурному миру божественной волей, а волями самих этих индивидов. Такой способ представления Идеи Свободы связан с концепциями естественного права, которые возникают на гребне смены феодальных отношений капиталистическими и иногда противостоят церковному праву, а также аристократизму сословного общества. Подобное революционизирование правопонимания – а затем и основ социально-политической жизни – происходило на основе философских построений Г. Гроция, Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж.Руссо, Ш. Монтескье; оно было продолжено немецкой классической философией, которая в этом плане завершается гегелевской философией права. Представители естественно-правовых теорий, ссылаясь на очевидность биологической тождественности человеческих индивидов, считали, что каждый человек “по естеству” обладает некоторыми неотъемлемыми, неотчуждаемыми правами, которые равны для всех. Данный принцип формального равенства составляет основу современного понимания Идеи Права. Но далее, как правило, фиксировался парадокс: индивиды множественны и живут на одном территориальном пространстве, и поэтому попытки реализовать естественные права и свободы всех в одном месте и одновременно неизбежно приводят к ситуации, названной Гоббсом “войной всех против всех”. Впрочем, в реальном обществе постоянно такой “войны” не наблюдается, люди могут мирно уживаться, а потому для объяснения данного положения дел – без привлечения воли Божьей – была предложена идея общественного договора29 . Правда, “общественный договор” в деятельном плане неудовлетворителен, поскольку неясным остается ответ на вопрос: как на такой договор можно реально опереться в случаях столкновения разных интересов, кому какие права приписать и как поведение индивидов в такой ситуации регулировать? Естественные права и свободы различны по своему правовому статусу. Часть из них тесно связана с индивидом, это – личные, частные права и свободы. В их осуществлении достаточно проявления индивидуальной воли и поддержания стабильного характера функционирования правовых институтов. Хотя последние и обеспечиваются законами, но как само законодательство, так и правовые институты долгое время устанавливались не политическим путем, а либо “мудрым правителем” (Хаммурапи), либо “великим законодателем” (Ликург), либо жрецами (Законы ХII таблиц) и санкционировались опять-таки не политическим механизмом, а традицией в форме сакрализованного обычая30 . Однако, cверх частных и личных, постепенно выявляются еще такие права и свободы, которые касаются “общих дел” (res publica), т.е. вещей, где действительно могут пересечься интересы различных индивидов и их общностей, что может привести к “войне всех против всех”. Это публичные (общественные) права и свободы. В “цивилизованных” правовых системах, характерных для европейской культуры, они не могут быть реализованы непосредственным образом или через традиционные правовые институты, а только опосредованно – через политические институты и государство. Для объяснения необходимости такого способа воплощения свободы призывается Идея Гражданского Общества31 . Гражданское общество опирается на презумпцию естественного права и связывает с определенными институциональными правилами реализацию свободы индивидов, которая осуществляется через частные (личные) права, политические институты, государство. Получается, что пространство, в котором реализуется свобода гражданского общества, олицетворенная противоречащими друг другу волями многих индивидов, признающих в то же время общие для всех рамки права, по необходимости становится также и политическим. А в условиях политической демократии правовые институты не только действуют на основе норм закона, принимаемого политическим путем, но, благодаря развитым медиа-технологиям, еще и погружаются в социокультурный контекст “суда общественного мнения”. Для функционирования гражданского общества в таком пространстве необходимо законодательное регулирование, устанавливающее правила поведения для различных субъектов права и для осуществления политического и социокультурного взаимодействия различных сил. Поэтому политическое пространство, в котором множество социокультурных индивидов посредством закона устанавливает общее и равное для всех право, не просто “объемлет” правовые институты, но и само нормируется ими. Следовательно, в современном демократическом обществе переплетение правовых и политических институтов и полей их взаимосвязи становится настолько тесным, что можно с полным основанием называть это пространство политико-правовым. С этой точки зрения “архитектура” политического пространства повторяет структуру правового института, построенного на принципе состязательности. 2.4. Структура политико-правового пространства Как же можно осмыслить структуру политико-правового пространства? В нем действуют различные субъекты, ставящие свои собственные цели и стремящиеся их достичь. И потому политико-правовое пространство устраивается таким образом, чтобы быть отделенным от сферы непосредственного действия. Хотя, как известно, “война есть продолжение политики другими средствами”, политика не является прямым применением силы. Политическая борьба – это не непосредственная “война” за обладание объектом интереса или зоной влияния. Напротив, “она прежде всего есть борьба за то, чтобы знать, кто имеет право говорить и от имени кого, то есть борьба за предоставление слова и искусство говорить за группы”32 . П.Шампань, со ссылкой на этнологию, утверждает, что подобная разделенность политического и непосредственно-силового воздействий начала формироваться уже при выделении родоплеменных структур власти как их ритуально-символическая “аура”, постепенно становящаяся важной опорой протоинститутов власти: “Главный в примитивных обществах – это тот, кто умеет говорить, или, что одно и то же, кто имеет право и обязанность говорить за племя. Это тот, кто властвует над племенем, властвуя над словами племени, и кто должен мобилизовывать свой ораторский талант, чтобы убеждать и усмирять разногласия”33 . В подобной ситуации, когда нет возможности прямо воздействовать на объект политического интереса, политика строится по принципу борьбы за ограниченный ресурс и косвенное влияние на соперника, обладающего качественно иным ресурсом, через формирование условий. Соответственно в политико-правовом пространстве – по аналогии с пространством зала суда – выделяются слои: политических событий, политической коммуникации и легитимизации. Политическое событие есть публичная экспликация пересечения политических интересов различных субъектов на “арене политической борьбы”. Как правило, борьба ведется вокруг какого-либо конкретного предмета, который является либо непосредственным объектом политического интереса (место в парламенте, проведение какого-то государственного решения и т.д.), либо символическим “заместителем” такого объекта. Благодаря медиа-технологиям политические события становятся достоянием всех. А в некоторых случаях “четвертая власть” не довольствуется функцией информирования общества и превращается в участника политической борьбы, для чего начинает заниматься “производством событий”34 , конструированием особой “виртуальной реальности”35 . Для этого современные медиа-технологии располагают широким арсеналом средств: от “репортажа с места события” до сложных приемов видеомонтажа. В политической коммуникации по определенным “правилам игры” происходит выяснение, проявление и формулирование воли индивидов и их особенностей. “Состязающимися сторонами” политической коммуникации могут быть отдельные публичные политики, политические институты, государство. Коммуникация, как правило, концентрируется на определенных политических событиях, а в некоторых случаях и сама может их порождать. Политическим событием функционально может стать любой факт, приводящий к поляризации пространства коммуникации, в том числе и высказывание одного из ее участников. Появление противоположных сторон в пространстве коммуникации происходит, чаще всего тогда, когда эксплицируются основания политической позиции, которую занимает данный субъект. Основные типы подобных оснований следующие: интерес (государственный, классовый, групповой, национальный и т.д.), представляемый тем или иным политиком; учение или идеология, отстаиваемые им; рациональный расчет или расчетная схема (стратегема), следование которой определяет политическую линию данного субъекта как “искусство возможного”. Предъявление оснований политических позиций может производиться самими политиками, “реконструироваться” их оппонентами, а также осуществляться “четвертой властью” за счет интервьюирования представителей различных политических сил, политической публицистики. Собственно, без СМИ полноценная политическая коммуникация сегодня и невозможна: именно они обеспечивают политикам возможность публичного обращения и влияния на “электорат”, “массы” или “целевые группы”. Но необходимо сказать больше: возможность выделять и сопоставлять основания противоборствующих политических течений в соединении с технологиями “производства событий” превращает современные средства массовой информации в средства массовой коммуникации36 . Государство отличается от иных институтов политико-правового пространства тем, что является “первым среди равных” политических институтов и должно поддерживать всеобщую (т.е. единую и равную для всех) законность и порядок. Именно государство признается тем политическим субъектом, позиции которого основаны на отстаивании интересов общества в целом. И только за ним – как правило, в лице судебной власти – признается функция оценки законности политических действий различных субъектов. Эта функция соответствует слою легитимизации в политико-правовом пространстве, понимание которого тесно связано с рассмотренным институциональным характером социально-организованного мышления. То, что мыслит, по сути, не только человек, а “нечто большее”, придающее форму его “думанью”, по-своему отметил еще Г.В.Ф.Гегель. Он трактовал явление, сейчас называемое институтами, как опредмечивание мирового духа в действительности осознанной и мыслящей нравственности: “...индивид, заботясь в гражданском обществе о себе, действует также на пользу другим. Однако этой неосознанной необходимости недостаточно: осознанной и мыслящей нравственностью она становится только в корпорации... в себе и для себя корпорация не есть замкнутый цех; она сообщает отдельному промыслу нравственность и поднимает его до уровня той сферы, в которой он обретает силу и честь”37. Система институтов, по Гегелю, венчается государством. Будучи “единственным условием достижения особенной цели и особенного блага”38 для индивидуальной воли, “государство есть действительность нравственной идеи – нравственный дух как очевидная, самой себе ясная, субстанциальная воля, которая мыслит и знает себя и выполняет то, что она знает и поскольку она это знает. В нравах она имеет свое непосредственное существование, а в самосознании единичного человека – свое опосредствованное (выделено нами. – В.М. и А.М.) существование...”39 Иначе говоря, надындивидуальные правила и процедуры мышления (субстанция которых представлена Гегелем как мировой дух) институционализируются в виде системы корпораций и “венчающего” ее государства, и эта система опосредует сопричастность единичного человека мышлению. Но как же становится легитимной деятельность самого государства? Это происходит благодаря тому, что государство устанавливает подзаконность не только частных лиц и политических институтов, но также и самого себя. Отсюда – Идея Правового Государства, т.е. такого, которое действует в правовых рамках, ограничено правом40 . Именно в политико-правовом пространстве происходит размежевание “всеобщей воли” на частные интересы и соответственно свобода самоотчуждается сама себе и происходит разделение прав. Закон выступает как охранительный и регулирующий инструмент внутри правового пространства, причем инструмент, обладающий определенной самоценностью и самостоятельностью: именно закон очерчивает и оформляет правовое пространство, им же обеспечивается восстановление прав, нарушенных в результате того или иного конфликта. Но это лишь при том условии, что сам закон имеет правовой характер и происхождение. Последнее обеспечивается легитимностью как процедуры принятия закона, так и органа власти, от которого он исходит. Но, в конечном счете, легитимность задается гражданским обществом, согласующим политические воли различных субъектов с основными принципами права, с идеей незыблемости основных правовых свобод. В противном случае закон приобретет неправовой характер, а это означает, что, оставаясь мощным социальным инструментом, он станет средством “неправым”, т.е. вместо поддержания права будет служить неправому делу в чьих-либо интересах. Итак, субъекты, реализующие различные каналы воплощения свободы и структуры, их опосредующие, могут находиться в политических отношениях, регулируемых законом, который поддерживается государством, а в своем правовом характере легитимизируется гражданским обществом41. Если политика происходит в рамках закона, то свобода разворачивается мирно и полно настолько, насколько позволяют очерченные нормативные рамки. В случае, когда свобода индивида выходит за границы, установленные законами, такой субъект попадает в состояние “вне закона”: отчуждается от гражданского общества и впадает в ситуацию войны с ним. Преступив границы, индивид совершает акт произвола и, тем самым, допускает произвол к себе со стороны гражданского общества. Но может и вернуться в его лоно, приняв соответствующие наказания. Отсюда и известный принцип И.-Г.Фихте и Гегеля о наказании: наказание – это право преступника42 . Этот принцип означает, что наказание – не только акт принуждения, но также и реализация свободы43 . Здесь принуждение выступает как отчужденная и противопоставленная самой себе свобода: свобода индивида противопоставляет себя свободе всех остальных членов гражданского общества, чем и вынуждает последних (как правило, через государство), прибегнуть к принуждению44. Гражданское общество позволяет опосредовать реализацию свободы политическими институтами, и при этом, очевидно, основное место в оформлении политико-правового пространства занимает государство. Оно легитимизируется и ограничивается гражданским обществом, хотя по большому счету представляет собой самостоятельную часть общества, в значительной мере оформляющую и венчающую целое. В классике государство – “лучшее выражение” и “кристаллизация” духа нации, “действительность ее нравственной идеи” (Фихте, Гегель). В то же время, государство (как правило) – более оформленный, консервативный, постоянный элемент общества, а гражданское общество – более изменчиво, динамично, текуче, оно чутко реагирует на социальные движения и процессы. 2.5. Государственность, демократическое общество и принцип самоограничения государства. Политическая демократия в рамках права Представления об индивидуализированных субъектах гражданского общества, политических институтах и государстве как участниках политико-правового пространства организуются в целостную систему и опираются на понятие государственности. Содержание его включает и гражданское общество, и государство, и историко-культурные традиции, которые актуально выражены и правом, и государственными институтами, структурами, символами. Гражданское общество – субстанция государственности. Для поддержания функционирования государственности (в рамках европейской традиции Нового времени) необходимо признать состояние гражданства и гражданских прав. Человек обладает совокупностью гражданских прав (часть которых провозглашаются “неотъемлемыми и неотчуждаемыми”, “естественными”), что при определенных условиях фиксируется статусом гражданина, и это открывает для него определенные юридические возможности. Например: участвовать в хозяйственной жизни, в политических структурах, в осуществлении власти и т.п. Граждане в совокупности образуют народ данной страны как носитель государственности45 . И по отношению к “собственному” государству человек выступает не только как носитель гражданских прав, но и как подданный, поскольку подчиняется его законам и защищается ими46. Различают права человека и гражданина. Не всякий человек, находящийся на территории государства, является его гражданином. Но его права признаются (должны признаваться в соответствии с международными традициями, обыкновениями, нормами) любым государством. Следовательно, гражданское общество признает и обеспечивает гражданские права, благодаря которым и получает свое название. В известном смысле, подобная трактовка не противоречит пониманию гражданства как политико-правового состояния человека по отношению к конкретному государству. Гражданское общество, с правовой точки зрения, имеет место там, где за всеми или определенной категорией индивидов, проживающих в данной стране, в определенных случаях признается возможность приравнивания гражданина перед лицом закона государству, где может быть создан противовес или уравновешивание воли государства воле гражданина или группы граждан (воле общественных организаций, движений и т.п.). Такая возможность “уравнивания на весах правосудия” субъектов, имеющих существенно разную “мощность”, возможна лишь при условии самоограничения государства. Как показывает исторический опыт, в наибольшей степени принцип самоограничения государственной власти удалось реализовать тем народам, чья государственность организована как политическая демократия. Данное понятие представляется более широким по охвату явлений, чем принятое в политологии понятие демократии, имеющее собственный смысл в действительности политического ре- жима государственной власти. Думается, что такое представление о политической демократии касается не только государства, но является качеством государственности, т.е. характеризует взаимодействия в политико-правовом пространстве как целом47 . Демократия как политический режим обеспечивает определенные механизмы отчуждения (передачи) правомочий: кому приписываются первичные (собственные) права; как происходит делегирование правомочий; как эти правомочия передаются. Политическая демократия – это набор механизмов не только для перераспределения властных правомочий, но и для соорганизации субъектов политико-правового пространства, включая в их число и государство. При этом подразумевается, что за субъектами признаются “естественные” и другие гражданские и политические права. “Злоупотребление” свободой (т.е. использование своих прав в ущерб правам других), не говоря уже о такой крайней ситуации, как “война всех против всех”, предотвращается в подобном обществе за счет отлаженных механизмов политической и правовой культуры, оформленной институтами, включенными в сферу права. В частности, законы в подобной ситуации выполняются почти “автоматически”, и только сравнительно редкие случаи их нарушения пресекаются властью государства. Злоупотребления же властью самого государства предотвращаются самоограничением власти последнего, которое при либерально-демократическом устройстве реализуется за счет принципов “разделения властей”, создания “системы сдержек и противовесов” и т.д. Аналогичным образом, политическая демократия создает систему институциональных каналов для реализации свободы субъектов гражданского общества. В новоевропейской либерально-демократической культуре рамочной для политической демократии является Идея Права, образуемая композицией ценностных идей Свободы, Общего Блага и Справедливости48. Сфера права есть то “место”, где коллизия идей свободы, общего блага и справедливости получает не только принципиальное, но и формальноинституциональное (процедурное) разрешение. Достигается это благодаря институциональной организации, т.е. воплощению формального принципа в институциональных формах. В рамках трактовки, которую можно назвать либеральным институционализмом, Идея Общего Блага институционализируется государством, а Идея Свободы – институтом личности и ее неотъемлемых, неотчуждаемых прав. Институт свободной личности в плане его множественности, популятивности рассматривается на базе Идеи Гражданского Общества как свободной общественности, институционализируемой как политические институты. Таким образом, ось “Идея Свободы – Идея Общего Блага” имеет институциональную проекцию в виде связки “государство – свободная личность”, которая разворачивается в триаду “государство – политические институты – гражданское общество”. Соразмерность идей Свободы и Общего Блага в рамках конкретной правовой культуры, а следовательно, мера, баланс соответствующих институтов (т.е. баланс государства и конкретной личности, государства, политических институтов и гражданского общества) обеспечивается Идеей Справедливости. Выступая в подобной функции меры, и будучи понята на основе принципа формального равенства, Идея Справедливости приобретает юридический характер Идеи Права, социокультурной проекцией которой являются институты правосудия и другие институты сферы права. Еще более емким (хотя и более абстрактным) понятием, чем “политическая демократия”, является понятие открытое демократическое общество; оно подразумевает реальное равенство рас, наций, страт по отношению к формальным правам, причем не только гражданским и политическим, но также социальным, культурным, экологическим и т.д. Такое общество признает равные права человека и гражданина за каждым индивидом. Создание демократического общества провозглашено как цель в конституциях большинства постсоветских государств. Достижение этой цели, движение к ней означает, что в историческую перспективу должно быть помещено общество, где будут равны не просто все люди, но вообще все виды их множественности и популятивности. В известном смысле дорогу к желаемому будущему открывает формирование гражданского общества и достижение реальной политической демократии как качества государственности. 3. ВЛАСТЬ В КОНТЕКСТЕ АНАЛИЗА ПРОБЛЕМ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО ПРОСТРАНСТВА 3.1. Парадокс институционализации власти Рассмотренный ряд понятий фиксирует не то, как все есть “на самом деле” и не желательное положение вещей, а метод рассуждений о политико-правовом пространстве, которое связывается с представлениями об общественной коммуникации, правовых институтах, государственности и демократии, и структурируется при помощи понятийной сети “государство – политические институты – гражданское общество”. Любой метод имеет границы применимости, налагает определенные ограничения на “натурализацию” используемых понятий, поэтому считать, что с их помощью описывается реальность “как она есть на самом деле”, можно лишь в рамках предположений, составляющих условия адекватности понятийного описания реальности. Возникает неизбежный в таких случаях вопрос “соответствия метода предмету”: отвечает ли метод социокультурного анализа, дающий (посредством вышеупомянутых терминов) ответы на вопросы типа “как мыслить...”, чему-либо в реальности современного общества, его истории? Имеет ли вообще смысл применять понятийную сетку, связанную с гражданским обществом (представляющим собой идеальный тип западной городской цивилизации), к условиям бывшего СССР? Ясно, что в России и Казахстане такая сетка почти ничего существующего не описывает – ни современного фона, ни естественноисторического. Не может она служить и веберовским идеальным типом, хотя и применявшимся как чисто конструктивный инструмент исторической социологии, но все же описывавшим нечто общее в существующих явлениях, на фоне чего более выпукло выделялось особенное. Однако, по нашему мнению, понятийная сетка, связанная с гражданским обществом, может быть инструментом социокультурного анализа постсоветской реальности, поскольку схватывает поле возможных (хотя и не обязательно реальных) ориентаций действующих субъектов, возможные формы (образцы) их мышления. С точки зрения развиваемого подхода к рассмотрению социокультурной динамики существенно, что описанная структура политико-правового пространства, задающая соотношение социальных функций гражданского общества и государства, работает только “в классике”, т.е. для стационарных ситуаций. В случае радикальных общественных трансформаций имеется иное соотношение гражданского общества и государства: гражданское общество по-прежнему является более чувствительным к содержанию изменений источником социальной динамики, в то время как государство становится инстанцией, оформляющей эти содержательные сдвиги. Даже в случаях так называемых “революций сверху” роль государства – скорее в “опережающем оформлении”, создании легитимных возможностей осуществления того, что уже назрело. В частности, для России и Казахстана вполне возможен и такой вариант, когда в ситуации “революционных изменений”, напротив, определенные структуры гражданского общества оказываются более “консервативными” носителями норм обычного права, вместилищем и хранителем традиций. Например, в условиях консерватизма сложившейся системы юридического мышления (речь идет, конечно же, об интеллектуально-общественном феномене, а не о мышлении отдельных продвинутых правоведов) логично предположить опережающую (“размыкающую”) роль политико-правового пространства, оформляемого государством, по отношению к правовой системе, которая консервируется сейчас не столько государством, сколько профессиональным сообществом юристов. Как же описать становление политико-правового пространства не с точки зрения наблюдателя, а с позиции свидетеля-соучастника, мышление и знание которого оказывают формирующее влияние на такое становление? Вначале обсудим парадокс, который составлен из двух утверждений, на первый взгляд кажущихся довольно очевидными для данного случая: 1. Политическая демократия подразумевает институционализацию власти. 2. Установление институтов осуществляется посредством власти. Говоря об установлении институтов (или институциональном оформлении, институционализации чего-либо), необходимо принять во внимание то, что любой институт – в значительной степени искусственное образование, артефакт, результат институционального строительства. Таким образом, в категориальной оппозиции “естественное – искусственное” применительно к институтам целесообразно сфокусироваться на пределе искусственного49 . Например, субъект, формирующий новый (или реформирующий существующий) образовательный институт, неизбежно “ставит перед обществом цели”, программируя развитие следующего поколения, т.е. выходит за границы обычного своего бытия в исторический трансцензус, заставляя других принять рамки собственного исторического понимания и самоопределения50 в качестве данности – в этом, собственно, и состоит власть как воля данного субъекта, накладывающаяся на воли других и формирующая совокупную общественную волю. Однако, применительно к институциональному строительству не менее значим и противоположный фокус – естественноисторическое становление институтов, заставляющий умерить управленческий энтузиазм и говорить о самоограничении власти, понимающей границы управления институциональной динамикой. С этой точки зрения “программирование развития” – не столько в том, чтобы поставить цели перед обществом, сколько в том, чтобы самоограничиться адекватно целям, поставленным перед самим собой. Установление института посредством власти начинается с того, что власть должна установить институциональность самой себя: только институционализированная власть конституирует политико-правовое пространство, в границах которого возможна всякая иная институционализация. И то, что относится к власти в языке, должно быть, прежде всего, относимо не к субъекту и не к отношению, а к институту власти. “Локк прав, – пишет Р.Дарендорф, – утверждая, что институтам всегда требуется “власть”; общественный договор – это, конечно, “договор об объединении”, но это также и “договор о власти”... Отсутствие эффективных норм и эффективной власти в конечном счете становится угрозой для свободы”. Но, в то же время: “Свобода – это не первобытное состояние человека, к которому следовало бы вернуться, сняв все ограничения, и это не постмодернистская пустота, в которой может происходить все что угодно. Свобода – это цивилизованная и цивилизующая сила. Поэтому она процветает только в том случае, если нам удается создать институты, обеспечивающие ее стабильность и продолжительное существование. Институты – это рамки, внутри которых мы осуществляем свой выбор, например, экономическое процветание. Если мы хотим, чтобы как можно большее число людей имело лучшие шансы в жизни, мы должны добиваться этого через институты, не переставая оттачивать и совершенствовать их. В условиях, когда опасность аномии возрастает, важнейшей задачей либерала становится создание институциональных структур”51 . Обыденное понимание власти – всегда редукция, так как осуществляется уже среди данной власти и, как правило, не затрагивает ситуаций установления власти, которые всегда есть выход за пределы обычного бытия, поскольку то, что удерживается властью, подразумевает масштаб, далеко выходящий за границы человеческой жизни. В большинстве случаев анализируется не ситуация становления, а состоявшаяся, “ставшая”, установившаяся, оестествленная власть, где этот масштаб представлен в виде уже готовой институциональной формы, за видимой “естественностью” которой теряется процесс становления власти. Происходит та самая натурализация понятий, об ограниченной применимости которой уже упоминалось. Похожая редукция, но на теоретическом уровне, произошла в марксистской трактовке, в соответствии с которой институциональная концепция была заменена классово-отношенческой52 . Связывая власть с отношениями господства и подчинения, марксисты традиционно утверждали, что основной вопрос политики – это вопрос о власти. И механизмом получения господства (в этом марксистская традиция исходит от Гегеля) считалось отчуждение воли путем захвата власти (последнее составляет уже чисто марксистскую специфику). Ибо само понятие о власти как “полновластии” или “владетельном целом”, где все сводится к субъективной воле, подталкивает к ничем не ограниченной “воле к власти”. Причина такого субъективизма и волюнтаризма в понимании власти состоит в том, что в нем субъектно-отношенческая и формальноинституциональная стороны власти “склеиваются” (т.е. неправомерно объединяются) в одно “органическое целое”. В результате установления такой “диалектической связи” всего со всем становится непонятно, как на категориальном уровне отделить форму осуществления власти от содержания властных решений – следовательно, на практическом уровне оказывается невозможным формально-правовое регулирование деятельности власти. Так что марксистам только и остается, что ругать формальное право как “буржуазное”, основывая собственную теорию государства и права на нормативнодогматическом позитивизме. Подобный подход, считающий “правовой” акт, принятый “надлежащим” государственным органом, правовым по определению, не оставляет места для правовой критики “социалистической законности” в деятельности власти: различение “правового” и “неправового” акта власти отсутствует здесь даже теоретически. 3.2. Принципы институционализации власти В отличие от марксистского подхода, понятие власти в либеральной традиции различает и особым образом соотносит субъекта, отношение и институциональную форму власти53. Либеральная философия права вместо отчуждения воли путем захвата власти ради достижения господства говорила о некоем “добровольном” отчуждении воли – общественном договоре, признавая при этом, что власть есть своего рода “неизбывное зло”. Почему народ повинуется своим правителям? Да лишь потому, что правитель, как держатель определенной инфраструктуры, гарантирует ему защиту, порядок и безопасность, строительство дорог и т.п., недоступное субъекту без содействия власти54 . Вот эту добровольность и, в то же время, неизбывность, внутреннюю необходимость повиновения и принуждения связывали с тем, что только государство может обеспечить и гарантировать определенные возможности, поддерживать общественно необходимые структуры и функции, составляющие “общее благо”, которое в то же время лежит за границами обычного бытия каждого отдельного субъекта. Именно трансцендентность “общего блага” и порождает логическую необходимость отчуждения воли55 . Всякая воля, устанавливающая отношение к чему-то, направлена к определенному результату. Воля есть стремление к чему-то. И если один из субъектов волеизъявления волит к чему-то, но не может этого достичь, то он может попытаться передать свою волю некоему более мощному субъекту в надежде, что таким образом все же сможет достичь желаемого. После подобной передачи – отчуждения воли – та определенность, к которой стремилась первая воля (как воля к чему-то) становится содержанием властных решений, а сама первая воля – объектом властного отношения для второй – властной – воли, “надстраивающейся” над первой. Таким образом, во властеотношении, как и в любом общественном отношении, присутствуют субъекты, так как власть над вещью невозможна. Кроме того, власть всегда содержит волю, идущую поверх другой воли. Необходимо наличие как минимум двух воль. И между ними должно установиться некое отношение по поводу вещей, возможностей совершения тех или иных действий, всего того, что выходит за пределы обычной жизни подвластного субъекта. Содержательность этого отношения характеризуется передачей, изъятием, отчуждением воли. А воля понимается как такая субстанция, которая признается за неким индивидом и является абсолютной и свободной. Именно на основе подобного подхода к власти Римская империя сделала доступным для своих граждан такие вещи, которые при иных обстоятельствах и иным субъектам были бы недоступны, т.е. находились за пределами их бытия и за границами их реальных возможностей. Гражданин Римской империи, напротив, мог приехать в любую провинцию, где живут инородцы, уже имея определенные формальные подпорки (юридические фикции), на которые можно опереться в отношениях с местными жителями. И за счет апелляции к правовой форме решить вопросы владения имуществом, купли-продажи и некоторые другие, а также урегулировать ряд конфликтов, обратившись к соответствующему должностному лицу (претору и т.п.) Поскольку Римская империя (где оформлялись первые правовые институты) должна была быть “приподнята” над отдельными народами, обладавшими своим обычным правом, постольку необходимо было разделить не только властные субъекты и отношения, но также и отделить институциональную форму власти. А следовательно, были разделены и субъект государственной власти (именно он актуализирует отношение власти), и политико-правовое пространство, в котором происходит превращение одного из политических субъектов в субъекта власти, обсуждение политических решений власти и т.д. В Риме – в отличие, например, от империи Александра Македонского – впервые в истории были осознаны и частично реализованы принципы институционализации власти: 1. Политико-правовое пространство (прежде всего, “арена политической борьбы”) было отделено от сферы непосредственного действия властного отношения. 2. Политико-правовое пространство было структурировано: слой политических событий получил материализацию на Форуме; слой политической коммуникации – в Сенате; слой легитимизации – в республиканском законодательстве (а позднее – в императорском законодательстве и в безусловном признании божественного характера власти императора). 3. Процессы “вхождения во власть” (т.е. превращения одного из политических субъектов в субъекта власти) и движения по ее “коридорам” были помещены в рамки формальной процедуры и подчинены закону. Первый и третий принципы означают, что компоненты института власти (субъект, отношение и институциональная форма) были разделены логически. И несмотря на то, что на практике часто происходило нарушение правил политической игры, превышение властных полномочий, возникали злоупотребления властью, судьба Империи уже не зависела всецело от воли одного человека. Была создана своего рода “защита от дурака” и, если даже несколько преувеличивая допустить, что у власти некоторое время мог находиться сумасшедший, это не затрагивало бы основ государственности. В результате институциональная форма стала каналом для определенного рода отношений, наполнявших его содержанием властных решений. И эта форма определяла одни типы отношений (и решений) как возможные, а другие – как невозможные (по содержанию, по существу дела) в рамках данного института власти. Ибо ситуация установления власти (с неизбежной проблемой задания “цивилизованных” – в отличие от “варварских” – форм жизни) воспроизводилась в каждой присоединяемой к империи земле, становившейся ее провинцией. В логико-эпистемологическом плане для анализа чрезвычайно значим тот момент, что институциональная форма власти определяет и ограничивает не конкретное содержание властных отношений, а тип содержания и принимаемого решения. Именно благодаря такому способу опредмечивания категориальной пары “форма–содержание” в процессе институционализации становится возможным оформление ситуации взаимодействия множества субъектов, действующих исходя из своих собственных, несводимых друг к другу и часто антагонистичных оснований. Если при семиотическом опосредовании множество знаковых форм по-разному оформляет единое “объективное содержание”56 , то в случае институционального опосредования категориальная схема “переворачивается”: в одну и ту же форму может “входить” множество субъектов с разным (хотя и однотипным) содержанием. 3.3. “Сила формы” и “власть образца”: правовые аспекты Отличие “цивилизованных” форм властных (как и прочих общественных) отношений от “диких” и “варварских” состоит в том, что в этом случае отношение оформлено правовым образом, хотя, например, все то же властное отношение может реализовываться и без всякого права. А может быть и прямо противоположно праву, вплоть до полного насилия. Например, властеотношения между отцом и ребенком, старейшиной и членом рода напрямую не связаны с правом, они протоинституциональные, хотя частично являются институционально оформленными (в предельных случаях бывают и моменты полного произвола). Если ситуация хотя бы частично институционально оформлена, с некоторой условностью можно говорить о праве – не в классическом понимании, а в смысле обычного права. И вся структура правоотношения может быть восстановлена (как это и делали римляне по отношению к варварам при расширении империи). Предметом правоотношения здесь становится то, ради чего отчуждается воля: во имя чего, для чего я себя ограничиваю или накладываю на себя что-то (для варваров это были “общие функции” и “блага” римской цивилизации). Если иметь в виду грубую схему, то вначале устанавливался институт власти, внутри него оформлялись места (“должности”), а между местами – определенные отношения (координации и субординации). Морфологически отношения могли быть и вне институциональных каналов, например, отношения родства, дружбы, зависимости, политического влияния. Или же – внутри института (подчинение, совместное принятие решений и т.п.). В последнем случае тип отношения, оформленного институционально, задается самим институтом. Но люди, которые это наблюдают натуралистически, нередко свойство института приписывают отношению. Возникает подмена, чреватая целым рядом псевдоформ. У римлян эти различения были достаточно отчетливыми – просто в силу того, что у них не происходило, ввиду обширности империи, натурализации сознания. Вряд ли римлянин мог перепутать конкретного варвара и лицо (persona). Однако в средневековой феодальной Европе, когда отношения власти и подчинения обсуждались под углом зрения вассалитета, степени преданности королю того или иного барона, баронские права и привилегии были, как правило, индивидуальноконкретны, пространство реализации правоотношений – сильно натурализовано, а правовые субъекты – конкретно персонализированы. Отчего вновь возникало замещение: фактически институты права и власти заслонялись властными субъектами, а институциональные формы растворялись в конкретике личных отношений влиятельных людей. И лишь в новоевропейский период, когда возникают большие государства с массовидными процессами, институты права, а затем и власти снова начинают отделяться от физических субъектов и отношений между ними. Тогда же появляются разные теории типа общественного договора, институциональные теории, а в противовес им – классовые теории, социологические. Эти оппозиции проходят через всю новоевропейскую историю от торжества натурализма в идеологии естественного права к его постепенному преодолению через историзм в институционализме (с откатами в правовой позитивизм и социологизм)57. Подобное преодоление правового натурализма шло параллельно с преодолением натурализма эпистемологического, ибо натурализм есть прежде всего характеристика мышления (в данном случае – юридического), уже вторичным образом “опрокидываемая” на практику. Современная теория права постулирует, что общественные связи уже освоены мышлением, и это мышление накладывается на практику, присовокупляя к отношениям каждый раз определенную, специфическую для данного случая, и в то же время типовую в формальном смысле “интеллектуальную добавку” – юридическую конструкцию, фикцию и т.п. В получающемся таким образом правоотношении выделяются его субъекты; предмет, по поводу которого осуществляется отношение; форма, опосредующая реализацию отношения; содержание, которое характеризуется как субъективные права и юридические обязанности, корреспондирующие друг другу. С нашей точки зрения, в обсуждаемом контексте имеет место параллелизм право- и властеотношения, основанный на том, что выделенная структура отношения в какойто мере сохраняется для любого общественного отношения. С точки зрения институционально ограниченного отчуждения воли, содержание властного отношения возникает сразу в определенной правовой форме – в виде решения, распоряжения, нормативного акта и т.п., порождая права и обязанности. То есть содержание властного отношения “рождается в рубашке” правовой формы. Обычно современное правоведение, выступая в качестве описательнооформляющего знания, довольствуется описанием и установлением субъектов, предмета, формы и содержания общественного отношения. Но естественно и стремление проникнуть глубже, постичь основания: откуда появляются права и обязанности? Откуда берется правовая форма и ее власть над нами? И почему одни отношения оформляются институционально-правовым образом, а другие – нет? Ведь признание права у другого, как и возложение на себя обязанности, есть волевой момент, более того – обязывающий, что подтверждается даже интуитивно. В признании необходимости следования правовой форме таинственным образом сливаются воедино две силы, имеющие, на первый взгляд, совершенно разную природу: принудительность власти и принудительность культурной нормы. Феноменологически ясно, что две названные силы сходятся при установлении института власти. Власть основывается на отчуждении воли. Понятно также, что такое “прямая” власть: это господство, основанное на отчуждении воли путем насилия. Однако как понять “власть образца”? И может ли такая власть быть принята добровольно? К подобного рода власти над людьми идеи “разумно организованного общества” апеллировали сторонники теории общественного договора, вдохновляемые гуманистическим стремлением к минимизации насилия и реализации “естественного” права человека на свободу. Вызов, брошенный эпохой Возрождения, был осознан философами XVII века в виде антиномии двух утверждений: 1. Человек имеет “естественное право” на свободу; в гуманистическом смысле признание данного права означает отрицание насилия. 2. В социальном смысле признание права каждого на свободу означает “войну всех против всех”, т.е. свобода сама порождает насилие. На эту антиномию социального бытия свободы Просвещение XVIII века дало ответ, заключающийся в том, что свобода без насилия означает добровольное подчинение всех “власти образца”: справедливого (или разумного) общественного устройства, “хорошего вкуса”, “здравого смысла” и т.д. В немецкой классической философии функцию верховной нормативной инстанции по отношению к человеческим поступкам выполняют нравственный закон (Кант), идеал (Фихте и Шеллинг), логика исторического процесса (Гегель). Свобода постепенно превращается в “осознанную необходимость”, а “власть образца” – во власть разума, абсолютного знания, духа, Идеи. Так каков же действительный смысл признания над собой институционализированной власти? В чем суть “добровольно-принудительного” принятия индивидами власти институционально-правовой формы, которая в некоторых странах непостижимым образом оказывается сильнее и устойчивее, чем прямое господство – настолько, что эта “власть формы” подчиняет себе не только подданных, но и само государство? И, наконец, поскольку такое принятие не может происходить бессознательно, имеет ли данный процесс какое-либо отношение к знанию, мышлению, разуму? Или – уже в постановке, более характерной для политика: можно ли все это сделать “разумно управляемым” и использовать для общего блага (или хотя бы в интересах одного из субъектов политико-правового пространства)? 4. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: ПРОБЛЕМА МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ПОВОРОТА ОТ “ЧИСТОГО” РАЗУМА К “ПРАКТИЧЕСКОМУ” Появление воли в качестве существенного обстоятельства ситуации выводит нас за границы “чистого разума” в область “разума практического”, т.е. в область гуманитарных дисциплин, оформляющих и регулирующих активность “одушевленных” субъектов. У Канта и в неокантианстве право считалось первой из таких дисциплин практического разума – по логике появления, а также по простоте и формальной ясности (подобно физике в ряду естественных наук), – что косвенно подтверждает идею о ведущей роли права в системе преподавания гуманитарных дисциплин. Обычно в юриспруденции не обсуждается свободная воля, а признается чисто формализованная схема правоотношения, вошедшая во все учебники. Политологии представляется достаточным кантовский принцип автономии личности в качестве готовой “естественной” данности, подразумевающей существование гражданского общества, состоящего из самостоятельных граждан, обладающих свободой воли. Подобную ситуацию можно сравнить с отношением эпистемологии и науки. Ученый – со своей позиции наблюдателя – точно знает, что есть некие связки между знанием и объектом, которые обладают известной “истинностью” при определенных условиях. Но при этом про источники отношения “знание – объект” ученый ничего не знает, пока не задается методологическими вопросами. Рассмотренное как классический образец описательно-оформляющего знания, описательное правоведение в основном имеет дело с уже готовыми структурами и институциональными формами. Так, структура опосредования, скажем, в договоре, фиксирует стяжку содержания (заданного в правах и обязанностях) и предмета. Здесь возникает некоторый аналог эпистемологического отношения: там – “знание – объект”, а здесь – “субъективные права и обязанности – предмет (повод) правоотношения”. Форма в обоих случаях является опосредующей структурой, стягивающей два момента, два полюса отношения. В одном случае знаковая форма оформляет “объективное содержание” знания для субъекта познания, в другом – институционально-правовая форма оформляет содержание прав и обязанностей для субъектов – сторон правоотношения. И в обоих случаях форма является “априорной”, т.е. обладающей нормативной силой для субъекта. При этом следование ей добровольно-принудительное: в одном случае – чтобы “правильно мыслить”, в другом – для того, чтобы “поступать по праву”58 . Институциональное строительство в политико-правовом пространстве, трактуемое в соответствии с изложенными понятиями, требует “практического знания”, способного конструировать “априорные” формы применительно к конкретной ситуации, а не описательно-оформляющего знания, основанного на теоретической идеализации59 и принимающего эти формы действительно как априорные, т.е. как данность, в готовом виде. Классическая философия, начиная с “Государства” Платона, на протяжении всей своей истории за небольшими исключениями разрабатывала в основном второй вариант (примеры первого можно найти в “Политике” и “Никомаховой этике” Аристотеля, у Н.Маккиавелли и в “моралистической” традиции). Этим задавался разрыв “философии” (как самосознания, имеющего свой предел в теоретическом разуме) и “политики” в классическом мышлении, частичные попытки преодоления которого в Новое время сводились в основном к введению “нравственного принципа” (как “практического разума”) и “духа” (как “единства теории и практики”). В опоре на эти философские новации и происходила институционализация политики в Новое время, но это срабатывало лишь в предположении относительной гомогенности и единства национальной культуры (“духа народа”). Философская ситуация начала XX века, осмысленная позже как “постмодерн”, продемонстрировала принципиальную “катастрофичность” преодоления разрыва разума и политики внутри классического мышления. Специфика развиваемого подхода к интеллектуальной ситуации, в которой оказались как политическое и юридическое мышление, так и философия, осмысливающая политико-правовые проблемы, состоит в “методологическом повороте” проблемы описанного выше разрыва. Этот поворот заключается в том, что мышление должно опираться не на культуру и дух (которые в условиях динамичного общества стали “разрывными”), а на самое себя и на некоторые формальные структуры опосредования (семиотические и институциональные), динамику которых по отношению к структуре ситуации можно считать “слабой”. Попытки постановки вопроса о методе через анализ условий и возможностей мышления показали, что теоретическое мышление в вопросах “конечного синтеза” не может опираться только на себя (ввиду принципиальных антиномий, свойственных его категориальной структуре)60. Поэтому, наряду с понятиями, категориями и т.п. семиотизируемыми структурами самого мышления, последнее опирается также на внешние структуры (как семиотические, так и институциональные), выступающие в функции средств мышления, т.е. опосредующие дискурс, “разворачивание” мышления. Эти опосредующие мышление структуры социализированы, и именно они в большой степени определяют связи мышления с социальной деятельностью, общественными процессами, причем “в обе стороны”: с одной стороны, ими определяются социокультурные границы мышления данного народа в данную историческую эпоху, а с другой, – именно через эти структуры мышление и разум могут оказывать формирующее влияние на общественные процессы. Начиная с эпохи Просвещения и Великой французской революции в философии пробивала себе дорогу постановка вопроса об управлении общественными процессами, которая в конечном счете привела к возникновению социального проектирования. Но попытки прямого социального проектирования, когда разум пытается “законодательствовать” наподобие того, как он это делает в естественных науках – с последующим приложением полученных знаний в инженерии – оказались либо неудачны, либо разрушительны. В условиях политической демократии разум не может законодательствовать: мыслитель-политик, предлагающий “разумные” решения, обладает точно такими же правами, как и другие мыслители-политики, выдвигающие конкурирующие гипотезы, и точно такими же правами, как политик-“немыслитель”, основывающийся не на знании, а, скажем, на личном опыте. Другими словами, в контексте политического действия разум из “законодательного” становится “интерпретативным”61 , его специфическая функция – не в обосновании “истинных решений”, а в выдвижении конкурирующих вариантов решений, в интерпретации предложений оппонентов, в рефлексии собственных и конкурирующих оснований. В рамках тоталитарной государственности была произведена беспрецедентная попытка замены политики “научно обоснованным управлением”. Субъект власти получал в свое распоряжение одну “научную” (т.е. правильную) модель объекта, на основе которой происходило “научное обоснование” предлагаемого властного решения. Но обычно оказывалось, что рекомендации ученых “далеки от практики”, поскольку теоретическое мышление, используемое для построения модели по естественнонаучному образцу, либо не охватывает достаточного количества аспектов “комплексного” объекта, либо не может объединить разнородные знания, полученные о данном объекте в разных научных предметах. Заканчивалось дело, как правило, тем, что “задним числом” ученые обосновывали решения власти, принятые вполне волюнтаристским путем из весьма практических (а не научных) соображений. В критических случаях объект управления чисто организационными средствами “загоняли” в условия, отвечающие возможностям научного инструментария. И только если объект управления был достаточно прост (или его удавалось сделать таковым), наука справедливо торжествовала. Но это длилось, как правило, недолго, поскольку в эпоху увлечения сциентизмом наука не знала и не хотела знать своих границ. И любое научно обоснованное решение, успешное в одной ситуации, в другой, внешне сходной, вполне могло оказаться провальным. Уже характерные для XIX века попытки тотального социального проектирования при помощи знания (Маркс) и их критика потребовали возврата к кантовской постановке вопроса об условиях возможности и границах мышления и знания, но на сей раз применительно к социальному и гуманитарному знанию. Поставленная неокантианцами проблема методологии “наук о духе” может быть здесь понята как проблема участия в политике (как практике воздействия на социокультурную динамику) посредством мышления и знания, а соответствующее практическое (“гуманитарно-техническое”) знание – как средство реформирования социокультурных институтов (или, если расширить контекст, как средство социокультурной политики и инженерии). Возвращаясь к социокультурному анализу как методу рассмотрения ситуаций, заметим, что для его реализации нужна “свобода от ценностных суждений”62 . Но, с другой стороны: всякое социокультурное суждение есть в то же время социокультурное действие, подразумевающее явную или неявную прикрепленность к ценностям того или иного общества. Маркс, говоривший о классовой сущности любой социальной теории, конечно, допускал передержку, натурализуя классовую структуру современного ему общества. Но он был прав в том, что нельзя совсем освободиться от общества и культуры. Хотя именно такое высвобождение было одним из глубинных смыслов трансцендентализма немецкой классической философии, из которой вышел и конец которой провозгласил Маркс. Конечно, можно быть “бескорыстным” исследователем, а не “партийным”, но это означает не снятие проблемы “социологии знания”, а лишь перевод проблемы “партийности” в проблематику социокультурного самоопределения свидетелясоучастника исторических событий, которое для подобного субъекта, совершающего суждение-действие в отношении институтов государства, права, образования и т.д., становится самоопределением историческим. Нельзя занять абсолютную позицию трансцендентального субъекта, во всяком случае в достаточной степени не отстранившись, оставаясь в “здешнем бытии”. Иначе придется признаваться вслед за Гегелем, что мировое мышление – это “я” (причем “я” с маленькой буквы – даже не с большой, как у Фихте). Не избежал этого соблазна и Маркс, “открывший” миру законы социальной истории. Но ошибка, продуктивная однажды, при повторении лишь воспроизводит “самонадеянность” новоевропейского рационализма, “покорившего” природу, но оказавшегося “бессильным перед лицом собственной субъективности” – дальше можно честно повторить всю критику М.Хайдеггера по этому поводу63. Нынешняя ситуация состоит в том, что в быстро изменяющемся мире (“динамичном обществе”) прежние представления о взаимоотношении мышления и социокультурной реальности должны быть пересмотрены в силу характеристик самого “динамичного общества” как такого, в котором внешние (не исходящие из самого мышления) опоры мысли, раньше считавшиеся культурно-историческими данностями, теперь изменяются при жизни одного поколения. Кроме того, осмысление проистекающей отсюда ситуационности мышления ведет к пересмотру важнейших рефлексивных представлений мышления о самом себе. В качестве примера можно привести считавшиеся всеобщими принципы тождества мышления и бытия, логического и исторического. Изучение логики “Капитала” Маркса, а также анализ логической структуры научного знания привели к выделению характеристики (естественно)научного мышления, описанной Московским методологическим кружком как параллелизм его формы и содержания. Выше нами показано, что эта характеристика присуща и описательному правоведению. Однако оказалось: мышление с такими свойствами имеет ограниченную область применения64. В частности, трактовка права как “надстроечного” явления в рамках подобного параллелизма приводит к тому, что “правовая” форма оказывается детерминирована содержанием, лежащим вне правовой сферы (социально-экономическим “базисом”, интересами классов и т.д.). А уж для власти, во имя классовых ценностей принимающей “революционные по содержанию” решения, попирать “буржуазную” правовую форму – дело просто святое. И если правовые институты не отменяются прямо, то они превращаются в инструмент политической воли партийногосударственного аппарата, в способ придания неправовым по сути решениям власти внешней формы “социалистической законности”. Роль принципа параллелизма здесь состоит в том, что о сущности решений предлагается судить по внешним признакам его формы: раз форма “правовая”, то и решение может считаться правовым. На деле же вместо правовой формы протаскивается превращенная форма или псевдоформа, поскольку ценностная идея института, в который данная форма встроена, не есть Идея Права. Так, решение органа власти можно было обжаловать в вышестоящем органе, но нельзя – в суде: правовая форма замещалась административной. А форма уголовного процесса в условиях, когда не действуют принцип равенства сторон и презумпция невиновности (“обвинительный уклон”), не может считаться правовой потому, что приводит к появлению законных приговоров, фактически нарушающих права человека. Подобная процессуальная форма справедливо квалифицировалась как неправовая. Переход к мышлению, рассматривающему правовую форму и содержание как два относительно самостоятельных аспекта (“непараллелизм”), и, соответственно, к институциональным представлениям о власти (логическое разделение субъекта, отношения и институциональной формы – с практическими следствиями в виде принципов институционализации власти), к пониманию институционального строительства как способа обустройства политико-правового пространства, – все это может быть весьма перспективным именно для государств бывшего СССР, преодолевающих наследие тоталитаризма. Если западные страны, где перечисленные представления во многом уже нашли свое практическое воплощение, вполне могут позволить себе и не знать, что “говорят прозой”, то для нас идея о том, что власть может основываться на “силе правовой формы” (а не силе милиции и “органов”), до сих пор является весьма свежей. В западных странах институционализированная власть есть прежде всего “власть образца”, т.е. результат длительного развития правовой культуры, искавшей способы преодоления антиномии свободы, – так, чтобы свобода не противоречила сама себе и общему благу (как в случае “войны всех против всех”) и могла отвечать справедливости в качестве меры. В развитой правовой культуре лежащие в основании функционирования сферы права культурные нормы-образцы служат априорными формами в точном смысле слова, как это понимал Кант. Априорность форм является здесь естественной данностью культуры и в качестве таковой осознается “чистым” (теоретическим) разумом. Но этот теоретический разум уже выступает “в практическом применении”, поскольку априорные формы, предметизованные в виде норм позитивного права, включены в правоприменительный контекст и являются действующим правом. В этом смысле в западных странах вопрос перехода от правоведческой теории к практике правоприменения решен “самой жизнью”. В государствах же бывшего СССР, где неисполнение законов считается обычным делом, где право не стало еще безусловной составляющей культуры, до сих пор во многом являясь теоретической абстракцией правоведов, поворот от “чистого” разума к “практическому” должен обсуждаться как особая методологическая проблема. Нормативность “априорных” форм правовой культуры имеет в данном случае не столько “естественный”, сколько конструктивный характер. Возникающие здесь интересные методологические вопросы о границах подобного конструирования могут по-разному ставиться и решаться в зависимости от индивидуальных особенностей культуры той или иной страны, что является выражением многообразия культур, их несводимости друг к другу. Отмеченные моменты связи правоведения с эпистемологией, культурологией и методологией накладывают свой отпечаток и на развитие юридического образования. Становление современной правовой культуры осуществляется не только через новые институты (хотя некоторые из них, в частности, конституция, имеют исключительное значение65), но и путем создания новых образцов юридического мышления, закрепляемых в этом статусе профессиональным сообществом юристов (правоведов и практиков). Именно профессиональное сообщество, “корпорация юристов” и в Древнем Риме, и в наши дни выступает как важнейшим носителем и “кристаллизатором” правовой культуры, так и источником ее развития. Соответственно юридическое образование выполняет двуединую задачу: воспроизводства “корпорации юристов” и правового просвещения широкой общественности, несения правовой культуры “в массы”. Завершая настоящий очерк, можно сказать, что в рамках развиваемого подхода попытки построения политико-правовых дисциплин через рассмотрение социокультурной динамики и институционального строительства приводят к проблемам эпистемологии и концептуализации мышления, интерпретируются через них и в то же время ставят их в собственный контекст, задавая принципиально новый содержательный поворот. Но это уже тема другого более углубленного исследования. 1 См.: Марача В.Г., Матюхин А.А. Гражданское общество и государство в Казахстане: основные понятия и особенности становления. Алматы: Каржы-Каражат; Высшая школа права “Адилет”, 1994. Журнальный вариант, расширенный за счет методологических примечаний и комментариев: Марача В.Г., Матюхин А.А. Гражданское общество и государство в Казахстане: понятия и становление // Кентавр (г. Москва). 1996. № 2. С. 31-41. 2 См.: Марача В.Г., Матюхин А.А. Правовая культура: генезис и воспроизводство правовых институтов // Теория культуры: Учеб. для вузов. Спб.: Университетская книга, 1998. Журнальный вариант: Марача В.Г., Матюхин А.А. Правовые институты, сфера права, правовая культура // Научные труды “Адилет” (г. Алматы). 1998. № 1 (3). С. 22-37. 3 См.: Марача В.Г., Матюхин А.А. Конституционная власть в странах СНГ: институциональное разделение властей и социальный идеал устойчивого развития // Вопросы методологии (г. Москва). 1997. № 1-2. С. 92-107; № 3-4. С. 101-116. 4 См.: Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии (г. Москва). 1992. Т. 1. № 1. С. 3767. 5 См.: Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука: В 2 кн. М., 1989. 6 См.: Лефевр В.А. Конфликтующие структуры. М., 1973. С.9–12. 7 Розин В.М. Юридическое мышление в исторической и современной перспективе. Тольятти, 1996. С.22. 8 См.: Судебно-правовая реформа и журналист. Дискуссия // Судебная реформа: проблемы анализа и освещения. М., 1995. С.86. 9 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991. С.8. 10 Там же. С.8-9. 11Относительная вечность – это не вневременной абсолют, как предполагается субстанциональным понятием вечности, а лишь “физически бесконечно большое” (по сравнению с длительностью социальных ситуаций) время жизни – долговечность – культурных образцов. Это долговечность безусловных культурных норм по отношению к обусловленности социальных ситуаций (условия меняются), долговечность парадигматики на фоне изменчивости синтагматики, вечность генотипа на фоне непостоянства приобретенных признаков. 12 Схема, основанная на принципе воспроизводства, описывающая существование деятельности и передачу ее образцов, выступающих также в функции “культурных норм” по отношению к “социальным ситуациям”, разработана в интеллектуальной традиции Московского методологического кружка и называется схемой воспроизводства деятельности и трансляции культуры. – Щедровицкий Г.П. Об исходных принципах проблемы обучения и развития // Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М., 1995. С.199-200. Применение данной схемы к сфере права в контексте рассмотрения правовой культуры см.: Марача В.Г., Матюхин А.А. Правовые институты... С. 25-26. По сути, предлагаемый метод социокультурного анализа есть результат перенесения “распредмеченной” схемы воспроизводства деятельности и трансляции культуры на материал правовой и политической культуры. Соответственно распредмечивается и лежащий в основе данной схемы принцип воспроизводства: в отличие от деятельности, существование социокультурного пространства задается, помимо воспроизводства, также категорией становления. Иначе говоря, социокультурное пространство (и политико-правовое – как его частный случай) необходимо мыслить не только в ставших формах воспроизводства и эволюции, но также и в “эмерджентных” формах генезиса и становления. 13 См.: Зуев С.Э. Культурные сети (опыт проблемного анализа) // Вопросы методологии. 1997. № 3-4. С. 117-125. 14 См.: Popper K., Eccles J. The Self and its Brain. Berlin; New York; London, 1977. 15 Воспроизводиться может “ставшая” правовая культура, основные черты которой, определяющие ее как целое, уже миновали стадию исторического формирования. В России и Казахстане в настоящее время наблюдается процесс становления правовой культуры. Становление – процесс с незавершенным результатом. На итог становления можно оказывать влияние, поскольку его искусственная компонента еще принадлежит нынешнему времени. Ставшие культуры тоже когда-то находились в стадии становления, но сейчас их искусственная компонента находится в прошлом (на которое повлиять уже нельзя), а результат становления известен. Историческая изменчивость ставшей и воспроизводящейся культуры, называется эволюцией, а завершившееся и перешедшее в воспроизводство становление – генезисом. Описание генезиса культуры особенно продуктивно в плане методологии исследования культурной динамики: категории, использующиеся для изучения генезиса, могут быть потом применены и к рассмотрению становящихся правовых культур, таких как российская и казахстанская. А поскольку Россия и Казахстан стремятся приобщиться к западноевропейской правовой культуре, которая иногда ассоциируется с правовой культурой вообще, то в первую очередь интересен генезис западноевропейской правовой культуры, особенно в странах континентальной, романо-германской правовой семьи, уходящей своими корнями в римское право. (См. об этом: Марача В.Г., Матюхин А.А. Правовые институты... С. 27.) 16 “Публичные вещи” – дословный перевод латинского res publica. Существительное res (вещь) означает также “дело”, т.е. res publica можно перевести и как “общее дело”, “дело всех”. 17 Роль плюрализма для поддержания демократии как режима политического правления – в противовес тоталитаризму как режиму тотального управления – обоснована в кн.: Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М.: Текст, 1993. 18 Аристотель. Политика. Кн. третья (Г), фрагм. 1276b. М.: Мысль, 1984. С. 449-450. Вначале это было пространство непосредственного взаимодействия на основе институциональных регулятивов (агора), но затем, по мере усложнения общественной жизни, эта непосредственность стала замещаться специализирующимся и структурирующимся семиотическим и институциональным опосредованием. 19 Аристотель. Указ. соч. Кн. первая (А), фрагм. 1252а. С. 376. 20 Дарендорф Р. Мораль, институты и гражданское общество // Путь (г. Москва). 1993. № 3. С. 179. 21 По сути, здесь проявляется рамочная функция культуры, направленная “на установление границ и упорядочение текущей ситуации, например, ситуации коммуникации”. – Никитаев В.В. Пресса и журналистика в рамках культуры // Вопросы философии (г. Москва). 1998. № 2. С. 72. Там же (с.71–73) объясняется понятие рамки и рамочной функции культуры в контексте изучения семиотическиопосредованных пространств и семиозиса культуры. Наш случай специфичен тем, что рамочная функция культуры реализуется через правовые институты. Соответственно политика осуществляется в пространстве, которое становится не только семиотизированным, но также и институционализированным, а отношения в нем – институционально-опосредованными. 22 См.: Марача В.Г., Матюхин А.А. Правовые институты... С.25. 23 Функциональная эквивалентность между действующим в институционализированном пространстве набором процедур, с одной стороны, и логическими правилами, регулирующими оперирование со знаковой формой знания, с другой, показана в ст.: Марача В.Г. Исследование мышления в ММК и самоорганизация методолога: семиотические и институциональные предпосылки // Кентавр. 1997. № 18. С. 7-15. Данная аналогия действует применительно к институтам не только судебной, но и законодательной власти: в этом случае парламент выступает своего рода “логикой, вынесенной вовне”. (См.: Мусхелишвили Н.Л., Сергеев В.М., Шрейдер Ю.А. Ценностная рефлексия и конфликты в разделенном обществе // Вопросы философии. 1996. № 11. С. 6-7.) 24 См.: Ориу М. Основы публичного права / Пер. с фр.; Под ред. Е.Пашуканиса и Н.Челянова. М.: Издво Ком. акад., 1929. С. 114-116, 257, 266. 25 Более того, социальная практика изобрела различные механизмы воспрепятствования “снятию” мышления суда субъективной способностью одного судьи. В ряде случаев это достигается добавлением к судье народных заседателей (шеффенов) или введением коллегии из нескольких профессиональных судей. Более сложный вариант предусматривает передачу разрешения части вопросов коллегии присяжных (установление факта совершения преступления, виновности, вопрос о снисхождении и т.д.), при этом вопросы права (поддержание процессуальных правил, юридическая оценка ходатайств сторон, вынесение приговора на основе вердикта присяжных и т.д.) остаются за судьей. Иначе говоря, стратегия институционализации мышления направлена на достижение результата при общем дистрибутивном (распределенном) характере этого мышления. 26 В случае семиотического опосредования ее аналогом является граница “реального” и “идеального” миров. Последний представлен в форме знаков, имеющих идеальное значение. По аналогии можно утверждать, что процессуальные фигуры также имеют идеальное значение, т.е. представляют идеальный мир права, являются его представителями. Но, при всем сходстве, семиотическое и институциональное опосредования весьма различны антропологически: если для первого содержание знаковой формы должно быть отчужденным (объективированным), то для второго содержание процессуальной формы должно “олицетворяться” субъектом путем “вхождения в роль” одной из процессуальных фигур. 27 Речь идет о схеме логической структуры правовой нормы, обычно представляемой как “гипотеза– диспозиция–санкция”. 28 Можно выделить категориальные характеристики общественной коммуникации и безотносительно к тому, институционализирована она или нет. Так, например, вопрос о том, как осмыслить общественную коммуникацию исходя из представлений об интеллектуальных функциях, выработанных в Московском методологическом кружке, рассмотрен в работе: Марача В.Г. Правовая система и правовое пространство общественной коммуникации // Судебная реформа: проблемы анализа и освещения. М., 1995. С. 411-418. 29 Если использовать современные политологические понятия, идея общественного договора означает признание приоритета мира, социального согласия, консолидации, консенсуса и т.п. Это непосредственные формы нахождения принципов согласования различных интересов, воль, прав, свобод, изначально всеми признаваемых. 30 Правовые институты, стабильность функционирования которых обеспечивается таким способом, называются традиционными. В рамках традиционных правовых институтов возможно признание некоторых личных прав, но идея о том, что эти права могут иметь характер неотъемлемых и неотчуждаемых, возникает только вместе с теориями естественного права. И даже после этого важнейший из правовых институтов, позволяющий защищать личные права, – суд – долго остается зависимым от королевской власти. А следовательно, и личные права могут попираться либо прямым вмешательством в дела правосудия, либо по причине неправового характера законов, применяемых судом. Идея независимости суда появляется вместе с требованием обеспечения публичных прав и разделения властей, а неотчуждаемость личных прав и свобод, так же, как и некоторых политических, окончательно закрепляется в европейской культуре только с появлением конституций. Вопрос же о правовом характере законов остается проблемным и до сих пор – ведь в развитии права и расширении свободы “конец истории” еще не наступил. 31 См.: Лейст О.Э., Мачин И.Ф. Гражданское общество и современное государство // Вестн. Моск. унта. Сер. 11 (Право). 1995. № 4. С. 31-35. 32 Шампань П. Манифестация: производство политического события // Вопросы социологии. 1992. №2. Т. 1. С. 52. 33 Шампань П. Указ. соч. С.59. См. также: Clastres P. La societe contre l’Etat. Paris, Ed. de Minuit, 1974. P. 133-136. В.В.Никитаев справедливо обнаруживает, что пространство масс-медиа, обеспечивающее политикам возможность “властвовать, властвуя над словами”, оказывается “типично мифопоэтическим”. – Никитаев В.В. Указ. соч. С. 77. 34 П.Шампань, определяя “производство события” как “бумажную манифестацию”, подчеркивает двойственную роль прессы, “фабрикующей, но одновременно и отражающей “событие”. – Шампань П. Указ. соч. С. 46, 42. 35 Розин В.М. Журналистика: создание виртуальных реальностей // Судебная реформа: проблемы анализа и освещения. М., 1995. С. 346-360. См. также: Никитаев В.В. Указ. соч. С. 76. 36 См.: Рац М.В. Журналистский цех в современной России // ОНС: Общественные науки и современность. М., 1998. № 6. Добавим, что публичность – не просто “основополагающая черта прессы”, – это качество, во многом искусственно производимое и воспроизводимое посредством прессы: “Пресса не может существовать, не (вос)создавая публику и публичное, то есть, с одной стороны, общееобщественное (в значении римского “res publica”), а с другой – открытое, гласное, доступное для всех”. – Никитаев В.В. Указ. соч. С. 67. В современном демократическом обществе политическая коммуникация принципиально опосредована институтом прессы и не может осуществляться вне этого опосредования. 37 Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. С. 277-278. 38 Там же. С. 289. 39 Гегель Г.В.Ф. Указ. соч. С. 279. 40 См.: Кистяковский Б.А. Государство правовое и социалистическое // Вопросы философии. 1990. №6. С. 141-159. Современная интерпретация данной темы рассмотрена в ст.: Марача В.Г., Матюхин А.А. Конституционная власть в странах СНГ... C. 103–106. 41 Право и закон совпадают лишь в «стационарном» случае гражданского мира, когда осуществление индивидуальной свободы, опосредуемое государством и политическими институтами, не противоречит непосредственной реализации личных прав. Только в этом случае гражданское общество подтверждает как легитимность политических институтов и государства, так и правовой характер законов. А несовпадение правовых норм, устанавливаемых и поддерживаемых государством, с нормами гражданского общества (существующими, скажем, в формах обычного права) служит основанием к изменению законов. 42 См. также: Соловьев Э.Ю. Личность и право // Вопросы философии. 1989. № 8. С. 81. 43 “...Право и справедливость должны корениться в свободе и воле, а не в несвободе, к которой обращается угроза. Такое обоснование похоже на то, будто замахиваются палкой на собаку, и с человеком обращаются не соответственно его чести и свободе, а как с собакой... В том, что наказание рассматривается как содержащее его собственное право, преступник почитается как разумное существо.”– Гегель Г.В.Ф. Указ. соч. С.147-148. 44 В этом же смысле отчужденной и противопоставленной самой себе свободой является и акт произвола, совершенный правонарушителем. Но в нестационарной ситуации (когда гражданский мир “и так” уже нарушен), отчуждение от государства (путем нарушения закона) не обязательно означает отчуждение от общества. В некоторых случаях (пример Я.Ш.Паппе) человек, оказавшийся вне закона, может “уйти в бега” – и его (по нормам обычного права) не выдадут, по ним же «больше трех раз не ловят» и т.д. Гораздо труднее преодолимо (и потому более опасно) отчуждение от общества самого государства, когда акты произвола осуществляются самой государственной властью или от ее имени: ведь свобода власти, по сути, не ограничена внешним образом, а только ею самой. 45 Здесь имеется в виду “народ” как юридическая категория, а не этническая. 46 Подданный защищается законом и исполняет его, гражданин же, кроме того, процедурно еще и может участвовать в изменении закона. 47 Отстаиваемое представление о политической демократии близко по смыслу к политологическому понятию демократической политической системы. Но, как и в случае с правовыми институтами, больший интерес вызывают не системы (политическая и правовая), а пространство (политикоправовое). Система – изолирующая абстракция, ориентирующая исследователя на выделение замкнутого целого. Важно взаимодействие политической и правовой систем, иначе пришлось бы рассматривать их как объединенную политико-правовую систему с политической и правовой подсистемами, с поправкой на ситуацию становления: многие элементы системы являются активно формирующимися. Если бы новые элементы возникали из внешней среды, можно было бы говорить об открытой системе (т.е. относительно замкнутом целом, взаимодействующим с внешней средой). Но, поскольку для нации, обладающей суверенной государственностью, формирование политических субъектов – дело по преимуществу внутреннее, представляется более подходящей категория пространства, ориентирующая на анализ внутренних взаимодействий наполняющих его субъектов. 48 Подробнее см.: Марача В.Г., Матюхин А.А. Правовые институты... С. 32-33; Марача В.Г., Матюхин А.А. Конституционная власть в странах СНГ... С. 98-99. 49 О категории “естественное – искусственное” см.: Лефевр В.А., Щедровицкий Г.П., Юдин Э.Г. “Естественное” и “искусственное” в семиотических системах // Щедровицкий Г.П. Указ. соч. С. 50–56; Щедровицкий Г.П. “Естественное” и “искусственное” в социотехнических системах // Там же. С. 437– 448; Генисаретский О.И. “Естественные” и “искусственные” системы // Вопросы методологии. 1995. № 1-2. С. 52–62. 50 Исторический характер самоопределения – одна из важнейших отличительных черт не только субъекта власти, но и субъектов всех тех социокультурных институтов (например, права, образования и т.д.), которые – в соответствии с самой природой этих институтов – призваны решать исторические задачи. Но, по-видимому, лишь для института власти историческое самоопределение является необходимым условием становления. 51 Дарендорф Р. Указ. соч. С.186. 52 То есть опять-таки субъектно-отношенческой. Правда, субъекты обозначались как типологические: “классовые субъекты”. Классы господствуют друг над другом и выражают некий абстрактный коллективный интерес. 53 При отличии властного отношения от других, отмечается его специфика: оно содержит в себе отчуждение воли. Но это еще не дает полного понятия власти. И для того, чтобы ответить на вопрос: зачем отчуждается воля? – необходимо вернуться к проблеме самоограничения власти и принять во внимание, что институционализация власти начинается тогда, когда есть проблема установления общественных отношений за границами обычного бытия. Данная проблема имеет и экзистенциальный аспект, проявляющийся в ситуации человека, находящегося у власти или стремящегося к ней. “Удовольствие” от повелевания другими людьми, от навязывания им своей воли – лишь один и притом наиболее поверхностный срез данной ситуации. Гораздо глубже и интереснее то, что дает власть человеку с точки зрения полноты раскрытия себя, выхода за пределы собственных индивидуальных возможностей и даже стремления к бессмертию (культурно-историческое самоопределение и “жизнь в истории”). – См.: Мизулин М.Ю. Философия политики: власть и право. Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 1997. С.53-60. 54 О принципе опоры института власти на инфраструктуры см.: Попов С.В. Идут по России реформы (анализ невольного участника) // Кентавр. 1992. № 3. С. 31-32. 55 Тотальное управление обществом советского типа было основано на том, что не только общее, но и частное – любое! – благо было трансцендентно для гражданина, недостижимо для него без посредничества государства. Поэтому любой рынок – даже “товаров народного потребления” – враждебен тотальному управлению: любая форма товарно-денежных отношений (т.е. свободного обмена, не опосредованного государством) неизбежно порождает, по В.И.Ленину, “буржуазность” – т.е. элементы частной жизни и приватного хозяйства, недоступные для тотального контроля. То же самое относится и к институциональной организации профессиональных сообществ и корпоративных групп. Сравним это с тем, что писал Э.Дюркгейм о деградации корпораций, которые на закате Римской империи “стали настоящими винтиками в руках администрации. Они выполняли общественные функции; каждая профессия рассматривалась как общественная служба, за исполнение которой соответствующая корпорация несла ответственность перед государством. Это была гибель института (курсив наш. – В.М. и А.М.), так как зависимость от государства незамедлительно превратилась в невыносимую кабалу, которую императоры могли поддерживать только принуждением”. – Дюркгейм Э. Указ. соч. С.8. 56 Ср. с названием работы М.К. Мамардашвили “Формы и содержание мышления” (М.: Высш. шк., 1968). Представление о “монизме” содержания через логику проникло и в грамматику русского языка: слово “содержание” допускает образование множественного числа лишь с большим трудом. 57 Логическую реконструкцию истории основных правовых учений в данном контексте см.: Матюхин А.А. Правопонимание по Конституции Республики Казахстан (Юридико-герменевтическая техника понимания Идеи Права и толкование Конституции) // Научные труды “Адилет”. 1997. № 1, 2. 58 Правда, вследствие отмеченной “перевернутости” категориального отношения “форма – содержание” при наложении на оппозицию “единое – многое” ведущая модальность указанной “добровольной принудительности” будет различной: в первом случае это модальность необходимости (с полагающейся добровольностью познавательного усилия в рамках принудительности “правильного мышления”), во втором – модальность возможности (и, соответственно, принудительность правового регулирования в рамках добровольности использования своих прав). Подробнее см.: Марача В.Г. Исследование мышления в ММК... С. 7–15. 59 То, что гуманитарное знание описательно-оформляющего характера так же, как естественнонаучное и техническое, основано на теоретической идеализации, показано, например, в работе: Розин В.М. Специфика и формирование естественных, технических и гуманитарных наук. Красноярск, 1989. 60 См.: Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения: В 6 т. Т. 3. М.: Мысль, 1964. 61 См.: Бауман З. Философские связи и влечения постмодернистской социологии // Вопросы социологии. 1992. № 2. Т. 1. С. 5-22. 62 См.: Вебер М. Смысл “свободы от оценки” в социологической и экономической науке // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 547-601. 63 См.: Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Проблема человека в западной философии. М.: Прогресс, 1988. 64 Щедровицкий Г.П. Принцип “параллелизма формы и содержания мышления” и его значение для традиционных логических и психологических исследований // Щедровицкий Г.П. Указ. соч. С. 1-33. 65 О значении конституции как института в переходный период см.: Марача В.Г., Матюхин А.А. Конституционная власть в странах СНГ... С. 112–113. О РОЛИ ПРАВА В СОВРЕМЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ В статье обосновывается весьма интересная мысль о роли права в современном гражданском обществе. Она заключается в следующем: право можно и нужно рассматривать как методологию познания и строительства современного гражданского общества. Авторы, используя исторический материал, показывают, что с начала возникновения гражданского общества мыслители уже начали разрабатывать эту идею. Например, Т.Гоббс, опираясь на такие понятия, как “естественные права человека”, “теория общественного договора”, “война всех против всех” и другие, по существу, утверждает необходимость изменения места и роли права в системе общественного сознания и отношений. Понятия, перечисленные выше, являются лишь инструментальными образованиями, помогающими осмыслить сущностные связи гражданского общества. В том же духе развиваются гносеологические исследования немецких мыслителей XIX века И.Канта и Г.В.Ф.Гегеля. Авторы статьи в полном соответствии с историческим материалом отмечают, что право становится методологией по мере институционализации правовых отношений и достигает своего объективированного вида в государстве. Таким образом, в процессе построения гражданского общества роль права как методологии осознается в гносеологии, которая завершается выводом в философии права как цели и средства общественного развития. На данном этапе развития общественных отношений гражданское общество утвердилось во всем мире, и это приводит к тому, что мышление не может быть суверенным, если оно не пользуется правом как методологией. Применяя право как методологию познания, можно осмыслить современное общество и выразить в понятиях сущностные черты гражданского общества. Объективный ход развития истории завершается созданием мировой капиталистической системы, и тем народам, которые не достигли в своем развитии гражданского общества, предлагается строить его. И даже навязывается различными способами давления экономического, политического и другого характера прежде всего понимание “прав человека” и институтов, приводящих к их осуществлению. В данном случае речь не идет об апологетике насилия и распространении американского образа жизни. Имеются в виду объективные процессы общественного развития и построение при этом правового государства. Рассматриваемая статья подтверждает общую мысль о том, что в историческом процессе на разных этапах общественного развития меняется не только тип общественных отношений, но и методология познания и взаимоотношения индивидов. В древнегреческом обществе роль методологии принадлежала философии, в период европейского средневековья она перешла к религии, в связи со становлением капиталистического общества синтез пройденных путей в гносеологии приводит к обоснованию философии права. Отсюда можно заключить, что политические лозунги сами по себе пустая фразеология, если они не становятся реализацией суверенных прав человека. А для этого требуется созданный деятельностью людей свой исторический фундамент. Гражданское общество есть продукт особым образом развитых производительных сил, где наука является непосредственной производительной силой. При том подходе, который заявлен авторами статьи, а именно, что мышление (а не думание) – по существу современно, если основано на методологии права, предполагается коренное изменение всей сложившейся системы образования. В заключение хочется отметить, что авторы статьи правильно критикуют марксистское отношение к власти и другим институтам общества. Однако надо сказать, что их позиция в этом вопросе по существу совпадает с мировоззрением К.Маркса. Только он сделал акцент не на политико-правовом, а политико-экономическом пространстве, что в его время было неизбежным и необходимым. Таким образом, в данном случае взгляды Маркса дополняются положением вещей, отражающих более развитое целое. И это нужно было бы подчеркнуть авторам. В статье весь материал подчинен основной идее, и она, на мой взгляд, достаточно убедительна. Дискуссия вокруг ее содержания поможет уточнить некоторые ее положения и завершить работу монографией, чего и желаю авторам. З. Мукашев, доктор философских наук, профессор ОБ АНАЛИЗЕ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО ПРОСТРАНСТВА И ЮРИДИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ (Заметки на полях рукописи) Статья В.Г. Марачи и А.А. Матюхина, подготовленная по итогам их научной деятельности в 1993–1999 гг., посвященной исследованию проблемы подхода к общественным явлениям в плане преподавания политико-правовых дисциплин, затрагивает ряд моментов, которые хотелось бы отметить. Позитивным в познавательном плане представляется использование емких по содержанию терминов для характеристики области политико-правовых явлений и их функционирования (пространство, сфера и т.д.), идеи о комплексном и системном подходах к изучаемым явлениям, о параллельности развития некоторых институтов. Применение авторами популярного в настоящее время термина “виртуальная реальность” (разд. 2.4) для обозначения политико-правового пространства, думается, может оттенить некоторые новые грани правотворчества, правореализации, соотношения теории и практики права, права и сознания, фиктивного и реального в праве, реальности и возможности в праве и политике и т.д. Интересен тезис о том, что комплекс политико-правовых дисциплин претендует на свою особую точку зрения на общество в целом, а не только на его часть. Можно было бы пожелать авторам более обстоятельно обосновать данный тезис, а также в связи с этим точнее определить соотношение политико-правового пространства и общества (разд. 1.1). Несомненно полезным и в культурном, и в практическом отношении является утверждение о том, что в основе освоения общественно-гуманитарных дисциплин должно лежать преподавание права и логики. Право обладает мощным культурным, организующим и интегрирующим потенциалом, необходимым для гуманитарного образования при условии современного и эффективного преподавания права. В противном случае догматическое и скучное навязывание юридических знаний может вызвать негативное отношение к праву и способствовать формированию новой волны правового нигилизма среди гуманитариев. Замысел и его реализация должны рассматриваться в единстве, и в объективном смысле, как принципиальный подход к гуманитарному образованию, данная идея может оказаться продуктивной. Но как практическая установка на воплощение в учебных планах, программах, их содержании, пропорциях объемов изучаемых дисциплин, она нуждается в серьезном организационном, материально-техническом и кадровом обеспечении. Преподавание права для всех, очевидно, должно иметь интересную внешнюю форму и жизненное содержание, и в то же время правовому образованию необходимо внутреннее единство, системность, согласованность с другими составными элементами гуманитарного образования, адаптированность к конкретной специальности. Авторы правы, утверждая, что избежать отрицательных уроков можно лишь осмыслив ситуацию в образовании и систему образования в динамике, т.е. как историческую (разд. 1.1). Авторы статьи обсуждают процесс становления новой концепции юридического образования. Сложность анализируемой ситуации, находящейся в движении и не завершившей свое становление, объясняет некоторую объективную неопределенность анализа. Но, с другой стороны, возможность влиять на эволюционный процесс в сфере юридического образования составляет научную ценность такого исследования. В статье сочетаются элементы анализа ситуации, прогнозирование ее динамики и предлагаемые решения по воздействию на данное движение социального организма и эволюцию сознания. Представляется весьма перспективным подход к исследованию права и государства, политико-правового пространства как средствам, формам, ступеням реализации, материализации, организации, функционирования общественного сознания различного уровня (общечеловеческого, национального, классового, профессионального, группового, индивидуального и т.д.). Психологические теории государства и права, некоторые философско-правовые методы предлагают в этом отношении весьма плодотворные идеи. Отдельные методологические аспекты проблемы соотношения политико-правовой сферы и сознания намечены и в рассматриваемой нами статье. В частности, авторы обсуждают вопрос об исследовании роли сознания в становлении и функционировании политико-правовых институтов (разд. 2). Политико-правовые институты могут рассматриваться как воплощенные в общественных отношениях, опредмеченные, материализовавшиеся идеи, концепции, теоретические конструкции. Разумеется, в данном процессе существует обратная связь между теорией и практикой. Теоретические конструкции, воплощенные в реальности, есть в определенном смысле ее обобщения, совершенствующиеся и проверяющиеся на основе социального опыта. Но нельзя забывать и о том, что теория и практика в ином отношении – различные и не только взаимосвязанные ступенчатые, но и прямые непосредственные формы реализации сознания как способа универсального моделирования и конструирования мира, сознания, общества, человека. И в этом смысле подход авторов статьи весьма серьезен и чужд упрощенческих вариантов объяснения политико-правового пространства в отрыве от сознания. Политико-правовые институты могут рассматриваться как способы разделения, специализации сфер общественного сознания, как система идей и ценностей общественного сознания конкретной определенной области общественной жизни, общественного управления и самоуправления, как способы самоорганизации и внешней координации жизни и эволюции социального организма. Они могут рассматриваться и как относительно застывшие, хотя и находящиеся в определенной динамике и получившие признание и поддержку общественных сил, формы и направления деятельности, их смысл и ценности, опредмеченные, институционализированные идеи и концепции. Общественное сознание, информационное поле применительно к политикоправовому пространству актуализируется в структуре и механизме организации функционирования общества и его подсистем. В прочной и многоплановой связи политико-правовых институтов с общественным сознанием заключен один из глубинных “порядков сущности” (природы, смысла) данных явлений. Роль сознания, ранее недооценивавшаяся, в настоящее время изучена еще незначительно. Не в этом ли направлении возможно наиболее существенное продвижение в познании государства и права в XXI веке? Интересны интерпретации авторов значимости правовых институтов в реализации политических отношений, институционального опосредования состязательного правосудия; суда как “мыслящего института”, объединяющего несколько слоев мышления; судебного процесса как включающего несколько слоев процесса осмысления анализируемой ситуации, версий, доказательств, прав и свобод, их соизмеримости с действующими нормативными критериями и моделями социального и индивидуального поведения. По мнению авторов, мысль, слово опосредуют правосудие и политику. Не в реализации ли разумного начала в частных и общих вопросах в конечном счете и заключается смысл правотворчества, правореализации, правосудия и политики? С этой точки зрения ценными и фундаментальными для правопонимания являются отсылки к разумным основам права, чаще встречающиеся в гражданском (хозяйственном) и международном частном праве, – менее политизированных и идеологизированных частях права и наиболее чувствительных к собственно правовому началу. Представляется не вполне точной трактовка авторами статьи концепций естественного права как возникающих “на гребне смены феодальных отношений капиталистическими и противостоящими церковному праву, а также аристократизму сословного общества” (разд. 2.3 и 3.3). Можно согласиться с тем, что классические, теоретически более развитые концепции естественного права появились именно как революционные действительно начиная с предреволюционных и революционных эпох, переживаемых народами разных стран особенно в XVII–XIX веках. Однако идеи и даже концепции естественного права имеют значительно более древнюю, если не сказать вечную историю. Как системы идей о естественном праве они развивались уже в Древней Индии (в частности, закон “риты” в ведах) и Древнем Китае (например, в даосизме), в Древней Греции (у софистов, киников и др.) и Древнем Риме (в том числе Цицероном и римскими юристами). Идеи естественного права были распространены и посвоему глубоко разработаны и в эпоху средневековья (вспомним хотя бы теологическую теорию права Ф.Аквинского). Революционную роль они играли далеко не всегда. Скорее, в более глубоком смысле познавательная и политико-организационная роль теорий естественного права связана с поиском критерия и масштаба для критики, изменения, соизмерения права, которая может вписываться и в спокойные эволюционные, и в бурные революционные эпохи. Не случайно поэтому теории естественного права могли быть элементом и революционных, и либеральных учений, а в некоторых случаях отвергались революционными тоталитарными учениями как либеральные идеи, чуждые идеям диктатуры и произвола. Можно отметить еще один момент в статье, не имеющий, возможно, принципиального значения, но позволяющий обратить внимание на обстоятельство, связанное с одной из закономерностей развития политико-правовой мысли. Для представителей теорий естественного права не обязательно признание только идеи “войны всех против всех” в естественном состоянии, изначально определяющей необходимость сдерживания и подавления людских страстей, преступного поведения. Издревле в истории мысли можно проследить две тенденции в подходе к политико-правовой сфере, к объяснению возникновения и эволюции государства и права как форм организации человеческого общежития. Одна позиция связана с признанием доминирования добра в человеке, другая – с признанием приоритета зла в его природе. Последняя тенденция и воплощена в идее “войны всех против всех” в естественном состоянии и необходимости существования закона и государства для сдерживания и предотвращения такой войны. Иная историческая линия развития мысли исходит из того, что человек добр и в таком случае: а) в этатистской интерпретации – государство соответствует его природе как позволяющее еще лучше объединить, организовать и реализовать позитивный потенциал человека, общества и человечества; б) в другой – анархистской интерпретации – признание преобладания добра в природе человека (в тех анархистских теориях, которые признают это) позволяет сделать вывод о возможности обходиться вообще без государства как института, привносящего зло в общество, разрушающего добрую сущность человека; отсюда вывод, что доброй природе человека соответствует устранение из общества источника зла и пороков – государства и законов и утверждение свободного самоуправляющегося и самоорганизующегося общества. И в либеральных, и в анархических учениях (кстати, не всегда революционных), как правило, присутствуют концепции естественного права. Видимо, вопрос, затронутый авторами статьи, может стать предметом специального исследования. С отмеченной особенностью развития политико-правовой мысли связано наличие двух противоположных линий в истории политических и правовых учений по вопросу о соотношении нравственности и политики. Одна из них, идущая через творчество Каутильи в Древней Индии, Макиавелли в эпоху Возрождения, тоталитарные теории XX века, признает невозможность в принципе совпадения политики и нравственности и отсутствие необходимости нравственного поведения для политиков. Другая тенденция, берущая начало от древнейших идей ненасилия в Древней Индии, отчасти от Конфуция и до Махатмы Ганди в XX веке, признает возможность и необходимость нравственной политики. Плодотворным в рассматриваемой статье представляется признание актуальности исследования “технологии производства событий” в политико-правовой сфере и роли в этом современных средств массовой информации. Влияние средств массовой информации на возникновение, формирование, “лепку” образов, ценностных и иных установок и внедрение идей в массовое сознание, значение всего этого для политики и права, границ свободы, их осознания, конструирования, реализации, переосмысления и реформирования, для стимулирования или, наоборот, для блокирования функционирования определенных норм и институтов, для контроля за сознанием и манипулирования им – весьма существенно и недостаточно изучено. Интересны соображения о консервативной роли в настоящее время сообщества юристов в целом и юридического мышления (за исключением некоторых “продвинутых правоведов”) (разд. 3.1), об отчуждении воли, объективной необходимости этого, путях и содержании (разд. 3.2), о постепенном преодолении чрезмерного сциентизма, накатывавшегося волнами в XIX–XX веках (разд. 3.4). Исследование многих вопросов, поднятых авторами, требует комплексного подхода – юридического, философского, социологического, психологического и т.д. В.Г.Марача и А.А.Матюхин предлагают на суд читателей любопытный опыт теоретического видения некоторых актуальных вопросов. Их подход оригинален, не прост, возможно, не для всех приемлем и не всеми будет принят, но, думается, он позволяет по-новому взглянуть на затрагиваемые проблемы политики и права – их познание, структуры, механизмы организации и функционирования. С. Ударцев, доктор юридических наук, профессор