Ответы по русской литературе 20 века
advertisement
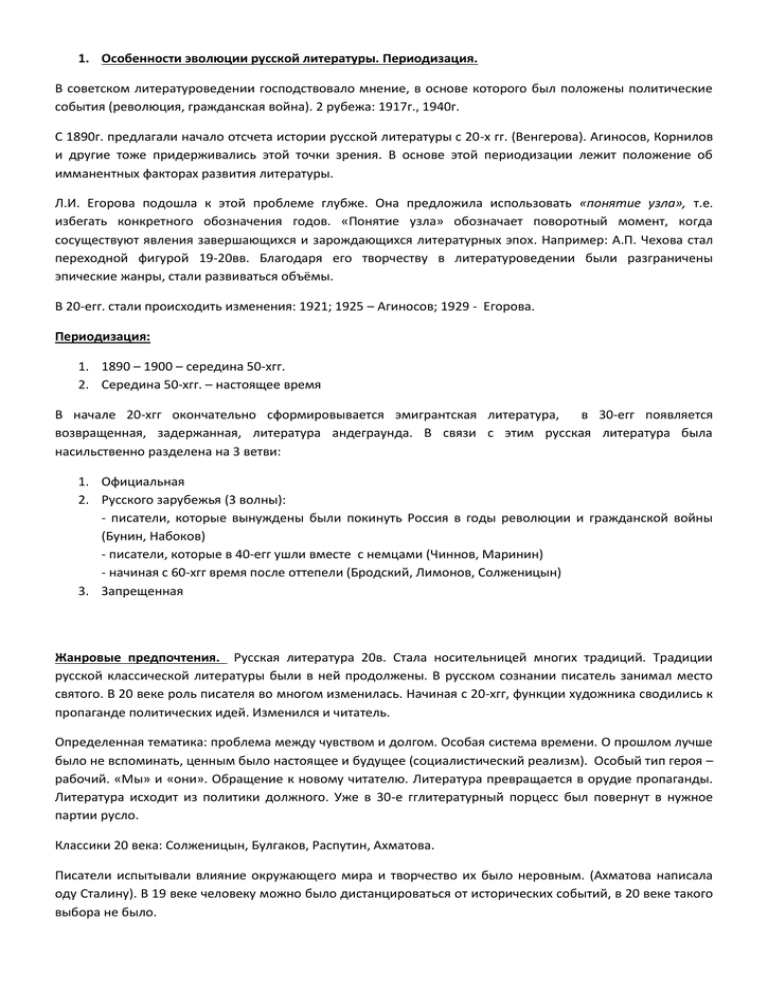
1. Особенности эволюции русской литературы. Периодизация. В советском литературоведении господствовало мнение, в основе которого был положены политические события (революция, гражданская война). 2 рубежа: 1917г., 1940г. С 1890г. предлагали начало отсчета истории русской литературы с 20-х гг. (Венгерова). Агиносов, Корнилов и другие тоже придерживались этой точки зрения. В основе этой периодизации лежит положение об имманентных факторах развития литературы. Л.И. Егорова подошла к этой проблеме глубже. Она предложила использовать «понятие узла», т.е. избегать конкретного обозначения годов. «Понятие узла» обозначает поворотный момент, когда сосуществуют явления завершающихся и зарождающихся литературных эпох. Например: А.П. Чехова стал переходной фигурой 19-20вв. Благодаря его творчеству в литературоведении были разграничены эпические жанры, стали развиваться объёмы. В 20-егг. стали происходить изменения: 1921; 1925 – Агиносов; 1929 - Егорова. Периодизация: 1. 1890 – 1900 – середина 50-хгг. 2. Середина 50-хгг. – настоящее время В начале 20-хгг окончательно сформировывается эмигрантская литература, в 30-егг появляется возвращенная, задержанная, литература андеграунда. В связи с этим русская литература была насильственно разделена на 3 ветви: 1. Официальная 2. Русского зарубежья (3 волны): - писатели, которые вынуждены были покинуть Россия в годы революции и гражданской войны (Бунин, Набоков) - писатели, которые в 40-егг ушли вместе с немцами (Чиннов, Маринин) - начиная с 60-хгг время после оттепели (Бродский, Лимонов, Солженицын) 3. Запрещенная Жанровые предпочтения. Русская литература 20в. Стала носительницей многих традиций. Традиции русской классической литературы были в ней продолжены. В русском сознании писатель занимал место святого. В 20 веке роль писателя во многом изменилась. Начиная с 20-хгг, функции художника сводились к пропаганде политических идей. Изменился и читатель. Определенная тематика: проблема между чувством и долгом. Особая система времени. О прошлом лучше было не вспоминать, ценным было настоящее и будущее (социалистический реализм). Особый тип героя – рабочий. «Мы» и «они». Обращение к новому читателю. Литература превращается в орудие пропаганды. Литература исходит из политики должного. Уже в 30-е гглитературный порцесс был повернут в нужное партии русло. Классики 20 века: Солженицын, Булгаков, Распутин, Ахматова. Писатели испытывали влияние окружающего мира и творчество их было неровным. (Ахматова написала оду Сталину). В 19 веке человеку можно было дистанцироваться от исторических событий, в 20 веке такого выбора не было. Достаточно мощно представлен второй ряд писателей: Гумилев, Пришвин, Заболоцкий. Заметно и жанровое предпочтение: расцвет детской литературы в 30-егг. Многие писатели, которым было тесно в рамках соц.реализма обращались к детской литре. Хорошо представлено сатирическое направление. Характерно жанровое разнообразие. Появился новый жанр: роман-эпопея («Тихий Дон», «Красное Колесо»). Широко представлена лирика. Характерно сосуществование различных направлений: модернизм и реализм. Они были взаимодополняемы. До 90-хгг литература в Росси играла особую роль. Наша страна была литературоцентричной. Не читать было стыдно. С 90-х ситуация меняется, жизнь становиться более насыщенной. Существенно ускорился темп жизни. Повлияло западное мировоззрение. Чтение стало развлечением и писатели стали на это ориентироваться (Акунин). Высокий статус русской литры почти утрачен. Активно развивается религиозное литературоведение (М.М. Дунаев «Русская литература и православие») 2(5). Характеристика литературных направлений: реализм и модернизм 3(6). Литература русского зарубежья. Литература русского зарубежья – ветвь русской литературы, возникшей после 1917 и издававшейся вне СССР и России. Различают три периода или три волны русской эмигрантской литературы. Первая волна – с 1918 до начала Второй мировой войны, оккупации Парижа – носила массовый характер. (Бунин, Набоков) (1918–1940) Вторая волна возникла в конце Второй мировой войны (И.Елагин, Д. Кленовский, Л. Ржевский, Н. Моршен, Б. Филлипов, Чиннов, Маринин). (1940-е – 1950-е годы) Третья волна началась после хрущевской «оттепели» и вынесла за пределы России крупнейших писателей (А.Солженицын, И.Бродский, С.Довлатов, Лимонов). (1960–1980-е годы) Наибольшее культурное и литературное значение имеет творчество писателей первой волны русской эмиграции. ПЕРВАЯ ВОЛНА ЭМИГРАЦИИ (1918–1940) Положение русской литературы в изгнании. Понятие «русское зарубежье» возникло и оформилось после Октябрьской революции 1917, когда Россию массово начали покидать беженцы. После 1917 из России выехало около 2-х миллионов человек. В центрах рассеяния – Берлине, Париже, Харбине – была сформирована «Россия в миниатюре», сохранившая все черты русского общества. За рубежом выходили русские газеты и журналы, были открыты школы и университеты, действовала Русская Православная Церковь. Но несмотря на сохранение первой волной эмиграции всех особенностей русского дореволюционного общества, положение беженцев было трагическим. В прошлом у них была потеря семьи, родины, социального статуса, рухнувший в небытие уклад, в настоящем – жестокая необходимость вживаться в чуждую действительность. Надежда на скорое возвращение не оправдалась, к середине 1920х стало очевидно, что России не вернуть и в Россию не вернуться. Боль ностальгии сопровождалась необходимостью тяжелого физического труда, бытовой неустроенностью; большинство эмигрантов вынуждено было завербоваться на заводы «Рено» или, что считалось более привилегированным, освоить профессию таксиста. Россию покинул цвет русской интеллигенции. Больше половины философов, писателей, художников были высланы из страны или эмигрировали. Русская литература, откликнувшаяся на события революции и гражданской войны, запечатлевшая рухнувший в небытие дореволюционный уклад, оказывалась в эмиграции одним из духовных оплотов нации. Национальным праздником русской эмиграции стал день рождения Пушкина. В то же время, в эмиграции литература была поставлена в неблагоприятные условия: отсутствие массового читателя, крушение социально-психологических устоев, бесприютность, нужда большинства писателей должны были неизбежно подорвать силы русской культуры. Но этого не произошло: с 1927 начинается расцвет русской зарубежной литературы, на русском языке создаются великие книги. В 1930 Бунин писал: «Упадка за последнее десятилетие, на мой взгляд, не произошло. Из видных писателей, как зарубежных, так и «советских», ни один, кажется, не утратил своего таланта, напротив, почти все окрепли, выросли. А, кроме того, здесь, за рубежом, появилось и несколько новых талантов, бесспорных по своим художественным качествам и весьма интересных в смысле влияния на них современности». Утратив близких, родину, всякую опору в бытии, поддержку где бы то ни было, изгнанники из России получили взамен право творческой свободы. Это не свело литературный процесс к идеологическим спорам. Атмосферу эмигрантской литературы определяла не политическая или гражданская неподотчетность писателей, а многообразие свободных творческих поисков. В новых непривычных условиях («Здесь нет ни стихии живого быта, ни океана живого языка, питающих работу художника», – определял Б.Зайцев) писатели сохранили не только политическую, но и внутреннюю свободу, творческое богатство в противостоянии горьким реалиям эмигрантского существования. Развитие русской литературы в изгнании шло по разным направлениям: писатели старшего поколения исповедовали позицию «сохранения заветов», самоценность трагического опыта эмиграции признавалась младшим поколением (поэзия Г.Иванова, «парижской ноты»), появились писатели, ориентированные на западную традицию (В.Набоков, Г.Газданов). «Мы не в изгнаньи, мы в посланьи», – формулировал «мессианскую» позицию «старших» Д.Мережковский. «Отдать себе отчет в том, что в России или в эмиграции, в Берлине или на Монпарнасе, человеческая жизнь продолжается, жизнь с большой буквы, по-западному, с искренним уважением к ней, как средоточию всего содержания, всей глубины жизни вообще…», – такой представлялась задача литератора писателю младшего поколения Б.Поплавскому. «Следует ли напоминать еще один раз, что культура и искусство суть понятия динамические», – подвергал сомнению ностальгическую традицию Г.Газданов. Старшее поколение писателей-эмигрантов. Стремление «удержать то действительно ценное, что одухотворяло прошлое» (Г.Адамович) – в основе творчества писателей старшего поколения, успевших войти в литературу и составить себе имя еще в дореволюционной России. К старшему поколению писателей относят: Бунина, Шмелева, Ремизова, Куприна, Гиппиус, Мережковского, М.Осоргина. Литература «старших» представлена преимущественно прозой. В изгнании прозаиками старшего поколения создаются великие книги: Жизнь Арсеньева (Нобелевская премия 1933), Темные аллеи Бунина; Солнце мертвых, Лето Господне, Богомолье Шмелева; Сивцев Вражек Осоргина; Путешествие Глеба, Преподобный Сергий Радонежский Зайцева; Иисус Неизвестный Мережковского. Куприн выпускает два романа Купол святого Исаакия Далматского и Юнкера, повесть Колесо времени. Значительным литературным событием становится появление книги воспоминаний Живые лица Гиппиус. Среди поэтов, чье творчество сложилось в России, за границу выехали И.Северянин, С.Черный, Д.Бурлюк, К.Бальмонт, Гиппиус, Вяч.Иванов. В историю русской поэзии в изгнании они внесли незначительную лепту, уступив пальму первенства молодым поэтам – Г.Иванову, Г.Адамовичу, В.Ходасевичу, М.Цветаевой, Б.Поплавскому, А.Штейгеру и др. Главным мотивом литературы старшего поколения стала тема ностальгической памяти об утраченной родине. Трагедии изгнанничества противостояло громадное наследие русской культуры, мифологизированное и поэтизированное прошедшее. Темы, к которым наиболее часто обращаются прозаики старшего поколения, ретроспективны: тоска по «вечной России», события революции и гражданской войны, русская история, воспоминания о детстве и юности. Смысл обращения к «вечной России» получили биографии писателей, композиторов, жизнеописания святых: Ив. Бунин пишет о Толстом (Освобождение Толстого), М.Цветаева – о Пушкине (Мой Пушкин), В.Ходасевич – о Державине (Державин), Б.Зайцев – о Жуковском, Тургеневе, Чехове, Сергии Радонежском (одноименные биографии). Создаются автобиографические книги, в которых мир детства и юности, еще не затронутый великой катастрофой, видится «с другого берега» идиллическим и просветленным: поэтизирует прошлое Ив. Шмелев (Богомолье, Лето Господне), события юности реконструирует Куприн (Юнкера), последнюю автобиографическую книгу русского писателя-дворянина пишет Бунин (Жизнь Арсеньева), путешествие к «истокам дней» запечатлевают Б.Зайцев (Путешествие Глеба) и Толстой (Детство Никиты). Особый пласт русской эмигрантской литературы составляют произведения, в которых дается оценка трагическим событиям революции и гражданской войны. Эти события перемежаются со снами, видениями, уводящими в глубь народного сознания, русского духа в книгах Ремизова Взвихренная Русь, Учитель музыки, Сквозь огонь скорбей. Скорбной обличительностью насыщены дневники Бунина Окаянные дни. Роман Осоргина Сивцев Вражек отражает жизнь Москвы в военные и предвоенные годы, во время революции. Шмелев создает трагическое повествование о красном терроре в Крыму – эпопею Солнце мертвых, которую Т.Манн назвал «кошмарным, окутанным в поэтический блеск документом эпохи». Осмыслению причин революции посвящен Ледяной поход Р.Гуля, Зверь из бездны Е.Чирикова, исторические романы примкнувшего к писателям старшего поколения Алданова (Ключ, Бегство, Пещера), трехтомный Распутин В.Наживина. Противопоставляя «вчерашнее» и «нынешнее», старшее поколение делало выбор в пользу утраченного культурного мира старой России, не признавая необходимости вживаться в новую действительность эмиграции. Это обусловило и эстетический консерватизм «старших»: «Пора бросить идти по следам Толстого? – недоумевал Бунин. – А по чьим следам надо идти?». Младшее поколение писателей в эмиграции. Иной позиции придерживалось младшее «незамеченное поколение» писателей в эмиграции (термин писателя, литературного критика В.Варшавского), поднявшееся в иной социальной и духовной среде, отказавшееся от реконструкции безнадежно утраченного. К «незамеченному поколению» принадлежали молодые писатели, не успевшие создать себе прочную литературную репутацию в России: В.Набоков, Г.Газданов, М.Алданов, М.Агеев, Б.Поплавский, Н.Берберова, А.Штейгер, Д.Кнут, И.Кнорринг, Л.Червинская, В.Смоленский, И.Одоевцева, Н.Оцуп, И.Голенищев-Кутузов, Ю.Мандельштам, Ю.Терапиано и др. Их судьба сложилась различно. Набоков и Газданов завоевали общеевропейскую, в случае Набокова, даже мировую славу. Алданов, начавший активно печатать исторические романы в самом известном эмигрантском журнале «Современные записки», примкнул к «старшим». Практически никто из младшего поколения писателей не мог заработать на жизнь литературным трудом: Газданов стал таксистом, Кнут развозил товары, Терапиано служил в фармацевтической фирме, многие перебивались грошовым приработком. Характеризуя положения «незамеченного поколения», обитавшего в мелких дешевых кафе Монпарнаса, В.Ходасевич писал: «Отчаяние, владеющее душами Монпарнаса… питается и поддерживается оскорблениями и нищетой.… За столиками Монпарнаса сидят люди, из которых многие днем не обедали, а вечером затрудняются спросить себе чашку кофе. На Монпарнасе порой сидят до утра потому, что ночевать негде. Нищета деформирует и само творчество». Наиболее остро и драматично тяготы, выпавшие на долю «незамеченного поколения», отразились в бескрасочной поэзии «парижской ноты», созданной Г.Адамовичем. Предельно исповедальная, метафизическая и безнадежная «парижская нота» звучит в сборниках Поплавского (Флаги), Оцупа (В дыму), Штейгера (Эта жизнь, Дважды два – четыре), Червинской (Приближение), Смоленского (Наедине), Кнута (Парижские ночи), А.Присмановой (Тень и тело), Кнорринг (Стихи о себе). Если старшее поколение вдохновлялось ностальгическими мотивами, то младшее оставило документы русской души в изгнании, изобразив действительность эмиграции. Жизнь «русского монпарно» запечатлена в романах Поплавского Аполлон Безобразов, Домой с небес. Немалой популярностью пользовался и Роман с кокаином Агеева. Широкое распространение приобрела и бытовая проза: Одоевцева Ангел смерти, Изольда, Зеркало, Берберова Последние и первые. Роман из эмигрантской жизни. Исследователь эмигрантской литературы Г.Струве писал: «Едва ли не самым ценным вкладом писателей в общую сокровищницу русской литературы должны будут признаны разные формы нехудожественной литературы – критика, эссеистика, философская проза, высокая публицистика и мемуарная проза». Младшее поколение писателей внесло значительный вклад в мемуаристику: Набоков Другие берега, Берберова Курсив мой, Терапиано Встречи, Варшавский Незамеченное поколение, В.Яновский Поля Елисейские, Одоевцева На берегах Невы, На берегах Сены, Г.Кузнецова Грасский дневник. Набоков и Газданов принадлежали к «незамеченному поколению», но не разделили его судьбы, не усвоив ни богемно-нищенского образа жизни «русских монпарно», ни их безнадежного мироощущения. Их объединяло стремление найти альтернативу отчаянию, изгнаннической неприкаянности, не участвуя при этом в круговой поруке воспоминаний, характерной для «старших». Медитативная проза Газданова, технически остроумная и беллетристически элегантная была обращена к парижской действительности 1920 – 1960-х. В основе его мироощущения – философия жизни как формы сопротивления и выживания. В первом, в значительной степени автобиографическом романе Вечер у Клэр Газданов давал своеобразный поворот традиционной для эмигрантской литературы теме ностальгии, заменяя тоску по утраченному реальным воплощением «прекрасного сна». В романах Ночные дороги, Призрак Александра Вольфа, Возвращение Будды спокойному отчаянию «незамеченного поколения» Газданов противопоставил героический стоицизм, веру в духовные силы личности, в ее способность к преображению. Своеобразно преломился опыт русского эмигранта и в первом романе В.Набокова Машенька, в котором путешествие к глубинам памяти, к «восхитительно точной России» высвобождало героя из плена унылого существования. Блистательных персонажей, героев-победителей, одержавших победу в сложных, а подчас и драматичных, жизненных ситуациях, Набоков изображает в своих романах Приглашение на казнь, Дар, Ада, Подвиг. Торжество сознания над драматическими и убогими обстоятельствами жизни – таков пафос творчества Набокова, скрывавшийся за игровой доктриной и декларативным эстетизмом. В эмиграции Набоков также создает: сборник рассказов Весна в Фиальте, мировой бестселлер Лолита, романы Отчаяние, Камера обскура, Король, дама, валет, Посмотри на арлекинов, Пнин, Бледное пламя и др. В промежуточном положении между «старшими» и «младшими» оказались поэты, издавшие свои первые сборники до революции и довольно уверенно заявившие о себе еще в России: Ходасевич, Иванов, Цветаева, Адамович. В эмигрантской поэзии они стоят особняком. Цветаева в эмиграции переживает творческий взлет, обращается к жанру поэмы, «монументальному» стиху. В Чехии, а затем во Франции ей написаны Царь-девица, Поэма Горы, Поэма Конца, Поэма воздуха, Крысолов, Лестница, Новогоднее, Попытка комнаты. Ходасевич издает в эмиграции вершинные свои сборники Тяжелая лира, Европейская ночь, становится наставником молодых поэтов, объединившихся в группу «Перекресток». Иванов, пережив легковесность ранних сборников, получает статус первого поэта эмиграции, выпускает поэтические книги, зачисленные в золотой фонд русской поэзии: Стихи, Портрет без сходства, Посмертный дневник. Особое место в литературном наследии эмиграции занимают мемуары Иванова Петербургские зимы, Китайские тени, его известная поэма в прозе Распад атома. Адамович публикует программный сборник Единство, известную книгу эссе Комментарии. Центры рассеяния. Основными центрами рассеяния русской эмиграции явились Константинополь, София, Прага, Берлин, Париж, Харбин. Первым местом беженства стал Константинополь – очаг русской культуры в начале 1920-х. Здесь оказались бежавшие с Врангелем из Крыма русские белогвардейцы, которые затем рассеялись по Европе. В Константинополе в течение нескольких месяцев издавался еженедельник «Зарницы», выступал А.Вертинский. Значительная русская колония возникла и в Софии, где выходил журнал «Русская мысль». В начале 1920-х литературной столицей русской эмиграции стал Берлин. Русская диаспора в Берлине до прихода к власти Гитлера составляла 150 тысяч человек. С 1918 по 1928 в Берлине было зарегистрировано 188 русских издательств, большими тиражами печаталась русская классика – Пушкин, Толстой, произведения современных авторов – Бунина, Ремизова, Берберовой, Цветаевой, был восстановлен Дом искусств (по подобию петроградского), образовалось содружество писателей, музыкантов, художников «Веретено», работала «Академия прозы». Существенная особенность русского Берлина, – диалог двух ветвей культуры – зарубежной и оставшейся в России. В Германию выезжают многие советские писатели: М.Горький, В.Маяковский, Ю.Тынянов, К.Федин. «Для нас нет в области книги разделения на Советскую Россию и эмиграцию», – декларировал берлинский журнал «Русская книга». Когда надежда на скорое возвращение в Россию стала угасать и в Германии начался экономический кризис, центр эмиграции переместился в Париж, с середины 1920-х – столицу русского зарубежья. К 1923 в Париже обосновались 300 тысяч русских беженцев. В Париже живут: Бунин, Куприн, Ремизов, Гиппиус, Мережковский, Ходасевич, Иванов, Адамович, Газданов, Поплавский, Цветаева и др. С Парижем связана деятельность основных литературных кружков и групп, ведущую позицию среди которых занимала «Зеленая лампа». «Зеленая лампа» была организована в Париже Гиппиус и Мережковским, во главе общества встал Г.Иванов. На заседании «Зеленой лампы» обсуждались новые книги, журналы, обсуждались работы русских литераторов старшего поколения. «Зеленая лампа» объединяла «старших» и «младших», в течение всех предвоенных лет была наиболее оживленным литературным центром Парижа. Молодые парижские литераторы объединились в группу «Кочевье», основанную ученым-филологом и критиком М.Слонимом. С 1923 по 1924 в Париже собиралась также группа поэтов и художников «Через». Парижские эмигрантские газеты и журналы представляли собой летопись культурной и литературной жизни русского зарубежья. В дешевых кафе Монпарнаса разворачивались литературные дискуссии, создавалась новая школа эмигрантской поэзии, известная как «парижская нота». Литературная жизнь Парижа сойдет на нет с началом Второй мировой войны, когда, по словам Набокова, «станет на русском Парнасе темно». Русские писатели-эмигранты останутся верны приютившей их стране, оккупированному Парижу. Термин «Сопротивление» возникнет и приживется в среде русских эмигрантов, многие из которых окажутся его активными участниками. Адамович запишется добровольцем на фронт. Писательница З.Шаховская станет сестрой в военном госпитале. Мать Мария (поэтесса Е.Кузьмина-Караваева) погибнет в немецком концлагере, Газданов, Оцуп, Кнут примкнут к Сопротивлению. Бунин в горькие годы оккупации напишет книгу о торжестве любви и человечности (Темные аллеи). Восточные центры рассеяния – Харбин и Шанхай. Молодой поэт А.Ачаир организует в Харбине литературное объединение «Чураевка». Его собрания включали до 1000 человек. За годы существования «Чураевки» в Харбине было выпущено более 60 поэтических сборников русских поэтов. В харбинском журнале «Рубеж» печатались поэты А.Несмелов, В.Перелешин, М.Колосова. Существенное направление харбинской ветви русской словесности составит этнографическая проза (Н.Байков В дебрях Маньчжурии, Великий Ван, По белу свету). С 1942 литературная жизнь сместится из Харбина в Шанхай. Научным центром русской эмиграции долгое время была Прага. В Праге был основан Русский народный университет, там бесплатно учились 5 тысяч русских студентов. Сюда же перебрались многие профессора и преподаватели вузов. Важную роль в сохранении славянской культуры, развитии науки сыграл «Пражский лингвистический кружок». С Прагой связано творчество Цветаевой, которая создает в Чехии лучшие свои произведения. До начала Второй мировой войны в Праге выходило около 20 русских литературных журналов и 18 газет. Среди пражских литературных объединений – «Скит поэтов», Союз русских писателей и журналистов. Русское рассеяние затронуло и Латинскую Америку, Канаду, Скандинавию, США. Писатель Г.Гребенщиков, переехав в 1924 в США, организовал здесь русское издательство «Алатас». Несколько русских издательств было открыто в Нью-Йорке, Детройте, Чикаго. Основные события жизни русской литературной эмиграции. Одним из центральных событий жизни русской эмиграции станет полемика Ходасевича и Адамовича, продолжавшаяся с 1927 по 1937. В основном полемика разворачивалась на страницах парижских газет «Последние новости» (печатался Адамович) и «Возрождение» (печатался Ходасевич). Ходасевич полагал главной задачей русской литературы в изгнании сохранение русского языка и культуры. Он ратовал за мастерство, настаивал на том, что эмигрантская литература должна наследовать величайшие достижения предшественников, «привить классическую розу» к эмигрантскому дичку. Вокруг Ходасевича объединились молодые поэты группы «Перекресток»: Г.Раевский, И.Голенищев-Кутузов, Ю.Мандельштам, В.Смоленский. Адамович требовал от молодых поэтов не столько мастерства, сколько простоты и правдивости «человеческих документов», возвышал голос в защиту «черновиков, записных книжек». В отличие от Ходасевича, противопоставившего драматическим реалиям эмиграции гармонию пушкинского языка, Адамович не отвергал упадническое, скорбное мироощущение, а отражал его. Адамович – вдохновитель литературной школы, вошедшей в историю русской зарубежной литературы под именем «парижской ноты» (А.Штейгер, Л.Червинская и др.). К литературным спорам Адамовича и Ходасевича присоединилась эмигрантская пресса, виднейшие критики эмиграции А.Бем, П.Бицилли, М.Слоним, а также В.Набоков, В.Варшавский. Споры о литературе шли и в среде «незамеченного поколения». Статьи Газданова, Поплавского о положении молодой эмигрантской литературы внесли свою лепту в осмысление литературного процесса за рубежом. В статье «О молодой эмигрантской литературе» Газданов признавал, что новый социальный опыт и статус покинувших Россию интеллигентов, делает невозможным сохранение иерархического облика, искусственно поддерживаемой атмосферы дореволюционной культуры. Отсутствие современных интересов, заклинание прошлого превращает эмиграцию в «живой иероглиф». Эмигрантская литература стоит перед неизбежностью освоения новой реальности. «Как жить? – спрашивал Поплавский в статье «О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции». – Погибать. Улыбаться, плакать, делать трагические жесты, проходить, улыбаясь на огромной глубине, в страшной нищете. Эмиграция – идеальная обстановка для этого». Страдания русских эмигрантов, которыми должна питаться литература, тождественны откровению, они сливаются с мистической симфонией мира. Изгнаннический Париж, по мнению Поплавского, станет «зерном будущей мистической жизни», колыбелью возрождения России. На атмосферу русской литературы в изгнании значительным образом повлияет полемика сменовеховцев и евразийцев. В 1921 в Праге вышел сборник Смена вех (авторы Н.Устрялов, С.Лукьянов, А.Бобрищев-Пушкин – бывшие белогвардейцы). Сменовеховцы призывали принять большевистский режим, во имя родины пойти на компромисс с большевиками. В среде сменовеховцев зародится идея национал-большевизма и использования большевизма в национальных целях. Трагическую роль сменовеховство сыграет в судьбе Цветаевой, муж которой С.Эфрон работал на советские спецслужбы. В том же 1921 в Софии был выпущен сборник Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждения евразийцев. Авторы сборника (П.Савицкий, П.Сувчинский, князь Н.Трубецкой, Г.Флоровский) настаивали на особом промежуточном положении России – между Европой и Азией, видели Россию как страну с мессианским предназначением. На евразийской платформе выходил журнал «Версты», в котором печатались Цветаева, Ремизов, Белый. Литературно-общественные издания русской эмиграции. Одним из самых влиятельных общественнополитических и литературных журналов русской эмиграции были «Современные записки», издававшиеся эсерами В.Рудневым, М.Вишняком, И.Бунаковым (Париж, 1920–1939, основатель И.ФондаминскийБуняков). Журнал отличался широтой эстетических взглядов и политической терпимостью. Всего вышло 70 номеров журнала, в которых печатались наиболее известные писатели русского зарубежья. В «Современных записках» увидели свет: Защита Лужина, Приглашение на казнь, Дар Набокова, Митина любовь и Жизнь Арсеньева Бунина, стихотворения Иванова, Сивцев Вражек Осоргина, Хождение по мукам Толстого, Ключ Алданова, автобиографическая проза Шаляпина. Журнал давал рецензии на большинство вышедших в России и за рубежом книг практически по всем отраслям знаний. С 1937 издатели «Современных записок» стали выпускать также ежемесячный журнал «Русские записки» (Париж, 1937– 1939, ред. П.Милюков), который печатал произведения Ремизова, Ачаира, Газданова, Кнорринг, Червинскую. Основным печатным органом писателей «незамеченного поколения», долгое время не имевших своего издания, стал журнал «Числа» (Париж, 1930–1934, ред. Оцуп). За 4 года вышло 10 номеров журнала. «Числа» стали рупором идей «незамеченного поколения», оппозицией традиционным «Современным запискам». «Числа» культивировали «парижскую ноту» и печатали Иванова, Адамовича, Поплавского, Блох, Червинскую, Агеева, Одоевцеву. Поплавский так определял значение нового журнала: «Числа» есть атмосферическое явление, почти единственная атмосфера безграничной свободы, где может дышать новый человек». В журнале публиковались также заметки о кино, фотографии, спорте. Журнал отличало высокое, на уровне дореволюционных изданий, качество полиграфического исполнения. Среди наиболее известных газет русской эмиграции – орган республиканско-демократического объединения «Последние новости» (Париж, 1920–1940, ред. П.Милюков), монархическое выражавшее идею белого движения «Возрождение» (Париж, 1925–1940, ред. П.Струве), газеты «Звено» (Париж, 1923– 928, ред. Милюков), «Дни» (Париж, 1925–1932, ред. А.Керенский), «Россия и славянство» (Париж, 1928– 1934, ред. Зайцев) и др. Судьба и культурное наследие писателей первой волны русской эмиграции – неотъемлемая часть русской культуры 20 в., блистательная и трагическая страница в истории русской литературы. ВТОРАЯ ВОЛНА ЭМИГРАЦИИ (1940-е – 1950-е годы) Вторая волна эмиграции, порожденная второй мировой войной, не отличалась таким массовым характером, как эмиграция из большевистской России. Со второй волной СССР покидают военнопленные, перемещенные лица – граждане, угнанные немцами на работы в Германию. Большинство эмигрантов второй волны селились в Германии (преимущественно в Мюнхене, имевшем многочисленные эмигрантские организации) и в Америке. К 1952 в Европе насчитывалось 452 тысячи бывших граждан СССР. 548 тысяч русских эмигрантов к 1950 прибыло в Америку. Среди писателей, вынесенных со второй волной эмиграции за пределы родины оказались И.Елагин, Д.Кленовский, Ю.Иваск, Б.Нарциссов, И.Чиннов, В.Синкевич, Н.Нароков, Н.Моршен, С.Максимов, В.Марков, Б.Ширяев, Л.Ржевский, В.Юрасов и др. На долю выехавших из СССР в 1940-е выпали тяжелые испытания. Это не могло не сказаться на мироощущении литераторов: самыми распространенными темами в творчестве писателей второй волны становятся лишения войны, плен, ужасы большевистского террора. В эмигрантской поэзии 1940–1950-х преобладает политическая тематика: Елагин пишет Политические фельетоны в стихах, антитоталитарные стихи публикует Моршен (Тюлень, Вечером 7 ноября). Виднейшим поэтом второй волны критика наиболее часто называет Елагина. Основными «узлами» своего творчества он называл гражданственность, беженскую и лагерную темы, ужас перед машинной цивилизацией, урбанистическую фантастику. По социальной заостренности, политическому и гражданскому пафосу стихи Елагина оказывались ближе советской поэзии военного времени, нежели «парижской ноте». К философской, медитативной лирике обратились Иваск, Кленовский, Синкевич. Религиозные мотивы звучат в стихах Иваска. Принятие мира – в сборниках Синкевич Наступление дня, Цветение трав, Здесь я живу. Оптимизмом и гармоничной ясностью отмечена лирика Д.Кленовского (книги Палитра, След жизни, Навстречу небу, Прикосновение, Уходящие паруса, Певучая ноша, Теплый вечер, Последнее). Значителен вклад в эмигрантскую поэзию и Чиннова, Т.Фесенко, В.Завалишина, И.Буркина. Герои, не сжившиеся с советской действительностью, изображены в книгах прозаиков второй волны. Трагична судьба Федора Панина в романе Юрасова Параллакс. С.Марков полемизирует с шолоховской Поднятой целиной в романе Денис Бушуев. К лагерной теме обращаются Б.Филиппов (рассказы Счастье, Человеки, В тайге, Любовь, Мотив из «Баядерки»), Л.Ржевский (повесть Девушка из бункера (Между двух звезд)). Сцены из жизни блокадного Ленинграда изображает А.Даров в книге Блокада, об истории Соловков пишет Ширяев (Неугасимая лампада). Выделяются книги Ржевского Дина и Две строчки времени, в которых повествуется о любви пожилого человека и девушки, о преодолении непонимания, жизненного трагизма, барьеров в общении. Большинство писателей второй волны эмиграции печатались в выходившем в Америке «Новом журнале» и в журнале «Грани» ТРЕТЬЯ ВОЛНА ЭМИГРАЦИИ (1960–1980-е годы) С третьей волной эмиграции из СССР преимущественно выезжали представители творческой интеллигенции. Писатели-эмигранты третьей волны, как правило, принадлежали к поколению «шестидесятников», немаловажную роль для этого поколения сыграл факт его формирования в военное и послевоенное время. «Дети войны», выросшие в атмосфере духовного подъема, возлагали надежды на хрущевскую «оттепель», однако вскоре стало очевидно, что коренных перемен в жизни советского общества «оттепель» не сулит. Началом свертывания свободы в стране принято считать 1963, когда состоялось посещение Н.С.Хрущевым выставки художников-авангардистов в Манеже. Середина 1960-х – период новых гонений на творческую интеллигенцию и, в первую очередь, на писателей. Первым писателем, высланным за границу, становится в 1966 В.Тарсис. В начале 1970-х СССР начинает покидать интеллигенция, деятели культуры и науки, в том числе, писатели. Из них многие были лишены советского гражданства (А.Солженицын, В.Аксенов, В.Максимов, В.Войнович и др.). С третьей волной эмиграции за границу выезжают: Аксенов, Ю.Алешковский, Бродский, Г.Владимов, В.Войнович, Ф.Горенштейн, И.Губерман, С.Довлатов, А.Галич, Л.Копелев, Н.Коржавин, Ю.Кублановский, Э.Лимонов, В.Максимов, Ю.Мамлеев, В.Некрасов, С.Соколов, А.Синявский, А.Солженицын, Д.Рубина и др. Большинство писателей эмигрирует в США, где формируется мощная русская диаспора (Бродский, Коржавин, Аксенов, Довлатов, Алешковский и др.), во Францию (Синявский, Розанова, Некрасов, Лимонов, Максимов, Н.Горбаневская), в Германию (Войнович, Горенштейн). Писатели третьей волны оказались в эмиграции в совершенно новых условиях, они во многом были не приняты своими предшественниками, чужды «старой эмиграции». В отличие от эмигрантов первой и второй волн, они не ставили перед собой задачи «сохранения культуры» или запечатления лишений, пережитых на родине. Совершенно разный опыт, мировоззрение, даже разный язык мешали возникновению связей между поколениями. Русский язык в СССР и за границей за 50 лет претерпел значительные изменения, творчество представителей третьей волны складывалось не столько под воздействием русской классики, сколько под влиянием популярной в 1960-е американской и латиноамериканской литературы, а также поэзии М.Цветаевой, Б.Пастернака, прозы А.Платонова. Одной из основных черт русской эмигрантской литературы третьей волны станет ее тяготение к авангарду, постмодернизму. Вместе с тем, третья волна была достаточно разнородна: в эмиграции оказались писатели реалистического направления (Солженицын, Владимов), постмодернисты (Соколов, Мамлеев, Лимонов), антиформалист Коржавин. Русская литература третьей волны в эмиграции, по словам Коржавина, это «клубок конфликтов»: «Мы уехали для того, чтобы иметь возможность драться друг с другом». Два крупнейших писателя реалистического направления, работавшие в эмиграции – Солженицын и Владимов. Солженицын создает в изгнании роман-эпопею Красное колесо, в котором обращается к ключевым событиям русской истории 20 в. Владимов публикует роман Генерал и его армия, в котором также касается исторической темы: в центре романа события Великой Отечественной войны, отменившие идейное и классовое противостояние внутри советского общества. Судьбе крестьянского рода посвящает свой роман Семь дней творенья В.Максимов. В.Некрасов, получивший Сталинскую премию за роман В окопах Сталинграда, после выезда публикует Записки зеваки, Маленькую печальную повесть. Творчество Аксенова, лишенного советского гражданства в 1980, отражает советскую действительность 1950–1970-х, эволюцию его поколения. Роман Ожог дает панораму послевоенной московской жизни, выводит на авансцену героев 1960-х – хирурга, писателя, саксофониста, скульптора и физика. В роли летописца поколения Аксенов выступает и в Московской саге. В творчестве Довлатова – редкое, не характерное для русской словесности соединение гротескового мироощущения с отказом от моральных инвектив, выводов. Его рассказы и повести продолжают традицию изображения «маленького человека». В своих новеллах он передает стиль жизни и мироощущение поколения 1960-х, атмосферу богемных собраний на ленинградских и московских кухнях, советскую действительность, мытарства русских эмигрантов в Америке. В написанной в эмиграции Иностранке Довлатов иронически изображает эмигрантское существование. 108-я улица Квинса, изображенная в Иностранке, – галерея шаржей на русских эмигрантов. Войнович за рубежом пробует себя в жанре антиутопии – в романе Москва 2042, в котором дана пародия на Солженицына и изображена агония советского общества. Синявский публикует в эмиграции Прогулки с Пушкиным, В тени Гоголя. К постмодернистской традиции относят свое творчество Соколов, Мамлеев, Лимонов. Романы Соколова Школа для дураков, Между собакой и волком, Палисандрия являются изощренными словесными структурами, в них отразилась постмодернистская установка на игру с читателем, смещение временных планов. Маргинальность текста – в прозе Мамлеева, в настоящий момент вернувшего себе российское гражданство. Наиболее известные произведения Мамлеева – Крылья ужаса, Утопи мою голову, Вечный дом, Голос из ничто. Лимонов имитирует соцреализм в повести У нас была прекрасная эпоха, отрицает истэблишмент в книгах Это я – Эдичка, Дневник неудачника, Подросток Савенко, Молодой негодяй. Видное место в истории русской поэзии принадлежит Бродскому, получившему в 1987 Нобелевскую премию за «развитие и модернизацию классических форм». В эмиграции он публикует стихотворные сборники и поэмы. Оказавшиеся в изоляции от «старой эмиграции» представители третьей волны открыли свои издательства, создали альманахи и журналы. Один из известнейших журналов третьей волны, «Континент», был создан Максимовым и выходил в Париже. В Париже также издавался журнал «Синтаксис» (М.Розанова, Синявский). Наиболее известные американские издания – газеты «Новый американец» и «Панорама», журнал «Калейдоскоп». В Израиле был основан журнал «Время и мы», в Мюнхене – «Форум». В 1972 в США начинает работать издательство «Ардис», И.Ефимов основывает издательство «Эрмитаж». Вместе с этим, свои позиции сохраняют такие издания, как «Новое русское слово» (Нью-Йорк), «Новый журнал» (Нью-Йорк), «Русская мысль» (Париж), «Грани» (Франкфурт-на-Майне). 4(20). Антитоталитарная тема в современной литературе. В 20-е г. возникли и функционировали жестокие идеологические ограничения , превращавшие худ. лит. в «винтик» тоталитарного государства и лишавшего её статуса искусства. Некоторые писатели в своих произведениях противостояли этому. Замятин в своей антиутопии под знаменательным названием «Мы» (1920) предостерегал от посягательств на право отдельного человека, от попыток противопоставления коллектива индивидууму. Это сатирическая антиутопия, разоблачающая сладкие иллюзии, которые сознательно вводили человека и общество в опасные заблуждения относительно завтрашнего дня. Последователем Замятина в жанре антиутопии стал Платонов ,который в романе «Чевенгур» показал, как в сознании чел. повсеместно и настойчиво внедрялись готовые стереотипы о классовой непримиримости, коллективизме, оптимизме и др. , девальвирующие ценность слова .В этих условиях личность теряет свою индивидуальность , растворяется в толпе. В повести «Котлован» выражена сущность—эпоха великого перелома. Отразились коллективизация и индустриализация. Символом осуществляемых в стране преобразований Платонов изобразил проектирование и строительство «общепролетарского Дома». В 1-й ч. Пов. Рассказано о бригаде землекопов , кот. роют котлован под фундамент «вечного дома», предназначенного для переселения трудящихся целого города из частных домов. Во 2-й ч. Действие переносится в деревню ,подвергнутую сплошной коллективизации. Здесь аналогом общего дома является «Оргдвор» , где собираются лишённые имущества , вступившие в колхоз крестьяне. В 1943 г. Шварц написал пьесу «Дракон» , где изобразил тоталитарное общ—во в кот. долгое время правил дракон, люди так привыкли к насилию, что оно стало казаться нормой жизни. Поэтому, когда странствующий рыцарь Санселот сразил дракона, народ оказался не готов к свободе. С ром. «Новое назначение» А. Бек замахнулся на основу основ тоталитарного Государства—административно-командную систему. Много писал на антитоталитарную Тему Солженицын («Один день Ивана Денисовича», «В круге первом» , «Архипелаг ГУЛАГ») В 30-ег. ,когда репрессии обрели массовый характер , были арестованы муж и сын Ахматовой .Это вылилось в поэму «Реквием» --страдание матери . Так же на эту тему писал А. Рыбаков «Дети Арбата» , Д. Гранин «Зубр». 5(7). Литературное движение 1920-30-хгг: феномен соц.реализма. В 1932 г. возникло понятие «основного метода советской литературы» - «социалистического реализма». Задним числом, но небезосновательно к нему были отнесены и многие более ранние произведения начиная с «Матери» Горького. Первоначально некоторые критики стремились сделать это понятие предельно широким и как бы адогматичным, отнюдь не сводимым к одному методу и стилю. А. Луначарский (доклад «Социалистический реализм», 1933): «Социалистический реализм есть широкая программа, она включает много различных методов, которые у нас есть, и такие, которые мы еще приобретаем...» А. Лежнев (из книги «Об искусстве», 1936): «Социалистический реализм не является стилем в том ограниченном смысле, в каком является им символизм или футуризм. Это - не школа с разработанным до мелочей художественным кредо, обладательница чудодейственного секрета, исключительная и нетерпимая по своей природе. Это широкая, открытая в большую даль времени установка, способная совместить в себе целую радугу школ и оттенков. Ее следует сравнить скорее с искусством Ренессанса, которое, при общности основных устремлений, являло огромное разнообразие манер и направлений». Но этих критиков не послушались. Опальный Луначарский умер в том же году, а Лежнева через два года после выхода его книги «Об искусстве» расстреляли. Социалистический реализм - не выдумка Сталина. Он действительно существовал и действительно был реализмом, основанным на социально-историческом детерминировании развития всего общества, а не только судеб отдельных людей или даже больших социальных групп и народов. Это более детерминистское искусство, чем классический реализм, а не менее (как полагали теоретики, выводившие соцреализм из скрещения реализма и «революционного романтизма»), человек в нем активен и порой даже могуч, но постольку, поскольку этот человек выражает то, что считалось общественно-историческими закономерностями, и ими направляется. В соцреализме изначально был немалый элемент утопизма. Но свои элементы утопизма были и в реализме XIX века. Соцреализм оставался реализмом, пока идеализировал несуществующее будущее (это по-своему делали и «критические» реалисты от Гоголя до Чехова), но с 30-х годов стал превращаться в откровенный нормативизм и иллюстрирование политических лозунгов, сталинского заявления о том, что «жить стало лучше, жить стало веселей». Идеализация далеко не идеальной реальности не могла быть реализмом, но соответствующая литература сохранила прежнее наименование - литературы социалистического реализма. Иногда так же назывались произведения, чья принадлежность к соцреализму даже в его собственно реалистической ипостаси довольно сомнительна, например «Тихий Дон» и «Василий Теркин». Но к нему относятся «Жизнь Клима Самгина» и уж во всяком случае «Дело Артамоновых» М. Горького, ранние произведения А. Фадеева, Л. Леонова и др., «Петр Первый» А.Н. Толстого, первая книга «Поднятой целины» (хотя и сочетающая реализм характеров и частных обстоятельств с нормативным утверждением обстоятельств глобально-исторических) и «Судьба человека» М. Шолохова, «За далью - даль» и даже «задержанная» поэма «По праву памяти» А. Твардовского. Выродившийся же соцреализм, т.е. нормативизм и идеологизированная иллюстративность, дал в основном антиискусство. От него серьезная литература фактически отказалась «на рубеже 60-х годов. Отказалась дружно и резко, потому что резко изменилась жизнь...» Но Е. Сидоров справедливо назвал позднейшие романы П. Проскурина и А.Н. Иванова «агонией соцреализма». Его «эстетические нормы уцелели и после краха «единственно верной» идеологии, например, в одном из романов П. Алешкина - о восстании антоновцев на Тамбовщине: «Написано, как положено, в пользу белых, а не красных, но качество текста - самое соцреалистическое. Жестокий Тухачевский изготовлен тем же способом, каким раньше изображались враги советской республики, со всей классовой ненавистью автора к образованности, вымытости, к игре на скрипке». Традиционность реалистической манеры А. Солженицына побудила современного эмигрантского писателя Б. Хазанова объявить представителем социалистического реализма того, кто более других способствовал краху псевдореализма, а заодно Г. Владимова, В. Максимова и, с оговоркой, В. Гроссмана - автора романа «Жизнь и судьба». 6(11). Литература периода Великой Отечественной войны. Поэзия. Тематика лирики резко изменилась с первых же дней войны. Ответственность за судьбу родины, горечь поражений, ненависть к врагу, стойкость, верность Отчизне, вера в победу отлились в неповторимые стихотворения, баллады, поэмы, песни. Лейтмотивом поэзии стали строки из стихотворения А.Твардовского «Партизанам Смоленщины»: «Встань, весь мой край поруганный, на врага!». Одические стихи, выразившие гнев и ненависть народа. Были присягой верности отчизне («Присягаем победой» А.Суркова). Поэты глубже постигают образ материРодины. Они обращаются к ее героическому прошлому, проводят большие исторические параллели: «Слово о России» М.Исаковского, «Русь» Д.Бедного. В ряде стихов передается чувство любви солдата к своей «малой родине», где он оставил часть своей души, свою боль и радость («Родина» К.Симонова). Проникновенные строки посвящались женщине-матери. Проза. Крупнейшие мастера слова – А.Толстой, Л.Леонов, М.Шолохов – стали и выдающимися публицистами. Важный вклад в публицистику внесли А.Фадеев, В.Вишневский, Н.Тихонов. Глубочайший оптимизм, несокрушимая вера в победу. Проза первоначально освещалась в очерковом, нередко информативно-описательном батальном варианте (1942). Позже фронтовая действительность постигается писателями в сложной диалектике героического и повседневного. Среди жанров особой популярностью пользовалась повесть, в частности героическая и романтическая («Русская повесть» П.Павленко, «Народ бессмертен» В.Гроссмана). В 1942-43 гг. появляются новеллы, циклы рассказов («Рассказы Ивана Сударева» А.Толстого, «Март-апрель» В.Кожевникова, «Морская душа» Л.Соболева). Первое крупное произведение – «Дни и ночи» К.Симонова. В 1943-44 гг. происходит углубление историзма, расширение временных и пространственных горизонтов. Одновременно шло и укрупнение характеров («Оборона Семидворья» А. Платонова, «взятие Великошумска» Л.Леонова). К концу войны ощутимо тяготение прозы к широкому эпическому осмыслению действительности («Они сражались за Родину» М.Шолохова, «Молодая гвардия» А.Фадеева). 7(14). Литература в годы «оттепели» 8(16). Литература в 60-80-егг. Та фаза в развитии литературы, которая охватывает более полутора десятков лет (с конца 1960-х до середины 1980-х) представляет собой относительно целостный историко-литературный период, который мы условно называем "семидесятые годы". В семидесятые годы литература поднялась на новый качественный уровень - в ней уже стали обретать зрелость те художественные тенденции, которые только пускали робкие ростки в годы "оттепели". В этот период создали свои наиболее совершенные произведения Юрий Трифонов и Чингиз Айтматов, Василь Быков и Виктор Астафьев. В это время выросли и утвердились дарования Василия Шукшина, Александра Вампилова, Василия Белова, Валентина Распутина. При всем значительном многообразии литературных явлений - при почти демонстративном разномыслии художников и активнейшем поиске новых художественных путей была некая общая, базовая основа, которая питала это разномыслие и эти поиски. Углубляющийся с каждым годом тотальный духовный кризис определил одно общее качество художественного сознания семидесятых драматизм: драматизм как сознание того, что так дальше жить нельзя, драматизм как ситуация выбора, драматизм как мучительное состояние принятия решений. Не случайно на 1970-е годы приходится явный подъем драматургии. Показателен такой факт. Ленинская тема, входившая в обязательный "ассортимент" советской литературы, стала теперь значительно реже привлекать писателей (и это несмотря на столетний юбилей вождя, который с огромным размахом отмечался в 1970 году). Однако то, что все-таки было создано, приобрело, в отличие от периода "оттепели", не лирический, а драматургический вид. В 1970-е годы публицистическая мысль, которая стремилась найти легальные пути к своему читателю, облачилась в театральные одежды. Родилось целое явление так называемая "производственная драма". Это были пьесы-диспуты. Нередко само сюжетное действие строилось как сцена дискуссии - например, заседания парткома (А. Гельман "Протокол одного заседания"). Часто динамика сюжетного действия и его разрешение являлись иллюстрацией к полемике, которую ведут между собой герои (И. Дворецкий "Человек со стороны"). Случалось, что одна "производственная пьеса" воспринималась как ответ на другую - например, в пьесе Г. Бокарева "Сталевары" видели полемику с "Человеком со стороны". Спор шел, казалось бы, о сугубо производственных проблемах (как добиться плановой себестоимости, как заставить людей работать на совесть и т. п.), но всегда у этих проблем обнаруживалась нравственная составляющая - либо как причина, либо как следствие. Авторы "производственных пьес", независимо друг от друга, вскрыли новое драматическое противоречие - они обнаружили, что сложившиеся в социалистическом производстве (хозяйстве в целом) правила, критерии, нормы, традиции вступили в острейшее противоречие с нравственными законами, с правдой, с достоинством человека. Остросоциальная "производственная драма" с обличением социального абсурда и поиском рецептов исправления жизни вернула зрителей в театральные залы. Потом в ней стал глуше первоначальный публицистический пафос, зато усилился анализ психологических аспектов отношений человека с социальным абсурдом. Пример тому - эволюция А. Гельмана от пьесы-диспута "Протокол одного заседания" к остросюжетной социально-психологической драме "Мы - нижеподписавшиеся" и к чистому психологическому эксперименту ("Скамейка"). А рядом набирала силу собственно "интеллектуальная" драма (Г. Горин, Э. Радзинский, Ю. Эдлис). В таком пестром переплетении разнородных влияний и формировался дар Вампилова. В этой ситуации обнаружилось, что соцреалистическая парадигма слабо конкурентоспособна. Она еще держится, но явно теряет былую силу. И вырождается - то в претендующую на монументальную величественность "народную эпопею" (А. Иванов "Вечный зов", П. Проскурин "Судьба", Г. Марков "Строговы", Г. Коновалов "Истоки"), то сползает в масскульт, превращая историю народа и трагические события эпохального значения в беллетристическую интригу или детективные сюжеты (исторические романы В. Пикуля, политические детективы Ю. Семенова). Зато оказались востребованными художественные системы, более тяготеющие к модернистской парадигме. Видимо, нарастающее осознание социального (и метафизического) хаоса находило в них более адекватные формы выражения. Как раз на семидесятые годы приходится рождение русского постмодернизма. Активизируются процессы взаимопроникновения разных художественных парадигм. В высшей степени показательны для этого времени "мовистские" эксперименты Валентина Катаева, соединяющего опыт реалистического проникновения в "диалектику души" с модернистским ощущением онтологического хаоса и постмодернистским скепсисом. Деревенская проза "Деревенская проза" стала существенным звеном литературного процесса. Ее создатели были первыми, кто на рубеже 1960 - 1970-х годов остро почувствовал надвинувшуюся беду - дефицит духовности, кто первым оценил ее как главную тенденцию времени. Деревенская жизнь и деревенский человек в их книгах ценны не столько как социологические феномены, сколько как емкие художественные образы, в которых наиболее явственно выразились сдвиг, сбой, чувство распутья, переживаемые всем нашим обществом, всеми его слоями. Не умиление народом, а тревога за его духовное здоровье пронизывает книги мастеров "деревенской прозы". В своих деревенских жителях они открывают не легендарную успокоительную цельность, а реальный драматический надрыв, разлом, проходящий через душу. Они не описывают "готовый" народный характер, берут его не в статике, а в динамике, которая оказывается процессом мучительного самопреодоления стихийного, "нутряного" существования. И приводят они своих героев не в президиумы торжественных заседаний и не на благостные литургии, а на совестный суд, где сам человек выносит себе беспощадный нравственный приговор. Они же, мастера "деревенской прозы", первыми начали активный поиск путей преодоления дефицита духовности. Успех их ждал на путях исследования глубинных основ нравственности, когда открылась корневая связь между философским постижением мира человеком и принципами его поведения в мире: нормами отношений его с другими людьми, со своим народом, с человечеством. "Деревенская проза" выработала особую поэтику, ориентированную на поиск этих глубинных опор духовного существования. Доминирующим принципом этой поэтики явилось стремление прозреть в непосредственно данном жизненном материале символы Вечного. И писатели-деревенщики действительно находят эти символы. Парадоксально, но именно установка на реалистически подробную пластичность письма, насыщенность самого изображения лирическим пафосом стала способом проявления этих символов в мозаике деревенской жизни. Субъективно создатели "деревенской прозы" ищут религиозные устои жизни, т.е. те основы, на которых держится духовный мир отдельного человека и народа в целом - понятия Бога, святости, духовного подвига, поклонения, паломничества, служения и т. п. Но эти символы чаще всего обретают плоть в микро- и макрообразах предметного мира. у Астафьева это, например, маленький северный цветок со льдинкой на дне чашечки и Енисей как мифологическая "река жизни"; у Шукшина - веточка малины с пылью на ней и образы простора и покоя; у Распутина - баня в "Последнем сроке" и Царский листвень в "Прощании с Матерой"; у Белова - "крупные чистые заячьи горошины на чистом же белом снегу" и "понятная земля" с "бездонным небом". Во всех этих образах прямо или косвенно актуализуется связь с мифопоэтической традицией, причем в дохристианском, языческом изводе. Фактически эти образы становятся воплощением мистического пласта народного сознания - того, что можно назвать национальным коллективным-бессознательным, а именно системы рационально невыраженных, но интуитивно принятых верований, чувствований и идеалов, которые в течение многих столетий определяли нравственный кодекс народной жизни. Следуя демократической традиции русской литературы, связывающей понятие идеала с народом, творцы "деревенской прозы" тоже видят в народе носителя идеала, но носителя именно нравственных ценностей, тех, которые вырастают не на почве классовой идеологии и умозрительных социальных доктрин, а на почве бытия, житейского опыта, труда на земле, в непосредственном контакте с природой. Такое представление об эстетическом идеале отстаивалось всем массивом "деревенской прозы". И это было ново и свежо по сравнению с соцреалистическим идеалом. "Простой советский человек" потерял эпитет "советский", его образ стал определяться не идеологическими, а бытийственными координатами - землей, природой, семейными заботами, устоями деревенского уклада. Но чем значительнее были достижения "деревенской прозы", тем шире расходилась волна инерции. Незаметно стал складываться некий стереотип произведения о "малой родине". Его обязательные элементы: радужные картины деревенского детства, солнечного, ласкового, босоногого, годы войны - вечное чувство голода, "жмых, будто из опилок", "скорбно-зеленые лепешки из кобыляка", трагическое и высокое сознание общей беды, стянувшей воедино весь деревенский мир, и - годы семидесятые, мирное сытное время, когда на дороге можно увидеть и кем-то брошенную белую булку, когда память потерь начинает казаться обременительной обузой жадным до сиюминутных радостей жизни молодым выходцам из деревни. И все это "озвучено" элегическим голосом повествователя (чаще всего - лирического героя), который с тоской вспоминает минувшее, порицает забывчивость и эгоизм современников и сам томится чувством вины перед своим истоком, хиреющим, возможно, как раз оттого, что потомку стало недосуг позаботиться о нем. Инерция "деревенской прозы" обрела и свой жанровый каркас. Почти все произведения о "малой родине" представляют собой явно или неявно выраженные новеллистические циклы, они нередко так и обозначаются: "повесть в рассказах", "повесть в воспоминаниях" и т. п. Новеллистический цикл весьма податливый жанр, его конструкция не сопротивляется авторской субъективности, образ исторического прошлого выстраивается здесь по воле прихотливо текущих ассоциаций рассказчика. Авторы иных "повестей в воспоминаниях" в пылу полемики с тем, что называли потребительской философией, словно бы набрасывают идиллический флер на жестокие тридцатые и "сороковые, фронтовые". Точнее - на очень непростой мир народной жизни в эти годы. Причем историческая действительность, приглаженная избирательной памятью автора-повествователя, выглядит весьма достоверной, тем более что она "заверена" автобиографическими метами и окрашена искренним лирическим чувством. Так в литературу вошел еще один художественный миф - миф о "деревенской Атлантиде". Военная проза Панорамный роман («Живые и мертвые» К.Симонова, «Блокада» А.Чаковского). «Живые и мертвые» К.Симонова. Широкая панорама военных действий, в которых учувствуют многочисленные персонажи. С публицистической точностью передан ход военных действий, быт штабов и офицерской среды, воссозданы батальные картины. Анализируются факторы, приведшие советский народ к победе: его высокий моральный дух, стойкость, готовность к защите Отечества. «Блокада» А.Чаковского. Воссоздана история героических и трагических дней беспримерного подвига ленинградцев. Сплав документа и художественного вымысла, публицистики и драматизированного повествования. Развитие документальной прозы, жанра мемуаров и воспоминаний (Жуков, Василевский, Рокоссовский). Развитие фронтовой темы шло по линии не только панорамирования, но и вхождения в микрокосм войны, в сферу размышлений и эмоций солдата. Война как предельное испытание человеческого духа («Убиты под Москвой» К.Воробьева, «На войне как на войне» В.Курочкина). Характерные черты этой прозы: психологизм, углубленное проникновение во внутренний мир отдельного человека, суровый драматизм и трагизм ситуаций. 9(23). Общая характеристика русского постмодернизма. Постмодернизм как движение в литературе, искусстве, философии, а позднее - практически во всех гуманитарных дисциплинах возникает на Западе в конце 1960-х - начале 1970-х годов. Этот термин объединяет широкий спектр разнообразных культурных процессов, таких, например, как поиски синтеза между "высоким модернизмом" и массовой культурой, критическое отношение ко всякого рода глобальным идеологиям и утопиям, внимание к маргинальным социальным группам и культурным практикам (вообще - децентрализация культуры), отказ от модернистского и авангардистского культа новизны - постмодернистский текст никогда не скрывает своей цитатной природы, оперируя уже известными эстетическими языками и моделями. На рубеже 1960 - 1970-х годов - т. е. фактически одновременно с первыми манифестами постмодернизма на Западе - в русской литературе появляются произведения Андрея Битова, Венедикта Ерофеева, Саши Соколова, Иосифа Бродского и некоторых других авторов, которые впоследствии (в конце 1980-х) были оценены как первые шаги русского постмодернизма, во многом предопределившие его дальнейшую динамику. По-видимому, рождение постмодернизма объясняется иными причинами, чем постиндустриальная экономика и компьютеризация. Выделим важнейшие характеристики "постмодернистской ситуации" в России: 1. Кризис утопических идеологий. Если "оттепель" во многом была вдохновлена идеей "очищения" коммунистической утопии от грехов тоталитаризма, то поражение "оттепели", политические процессы над Синявским и Даниэлем, Бродским, первыми диссидентами, живо напомнившие процессы 1930-х годов, а в особенности подавление силой оружия "Пражской весны", все эти события конца 1960 - начала 1970-х годов явственно доказывали неразделимость коммунистической утопии и тоталитарного насилия, а следовательно, и фиктивность веры в коммунизм как в высшую форму социального прогресса, как в наиболее разумную и управляемую фазу истории человечества. В более широком смысле девальвация ценностей коммунистической утопии, принимающая в 1970-е годы уже лавинообразный характер, была воплощением кризиса ценностей Разума и Прогресса, важнейших ценностей всей культуры Нового времени. 2. Чем глубже идеологизировано общественное сознание, тем радикальнее открытие глобальной лжи, подмены жизни идеологическими фантомами, сопровождающее кризис господствующей идеологии. Кризис ценностно-идеологических оснований общества, стремительная инфляция прежних мифов и верований приводит к эффекту исчезновения реальности. Мир при таком подходе воспринимается как огромный многоуровневый и многозначный текст, состоящий из беспорядочного и непредсказуемого сплетения различных культурных языков, цитат, перифразов. Это открытие в высшей степени характерно и для советской цивилизации, даже в большей степени, чем для западной, поскольку культура соцреализма и государственный контроль над всеми средствами массовой информации лишали все явления, не вписывающиеся в модель "реального социализма", права на существование. Поэтому исчезновение религиозной веры в коммунистическую утопию приводит к распаду всей советской картины мира: лишаясь своего стержня, она превращается в хаотический набор фикций, фантомов, "симулякров", за которыми уже не ощущается никакой иной реальности. Постмодернизм отвергает реалистическое представление о характере и обстоятельствах, представляя и то и другое как воплощение тех или иных, а чаще сразу же нескольких, культурных моделей. Интертекстуальность - т. е. соотнесенность текста с другими литературными источниками приобретает в постмодернизме значение центрального принципа миромоделирования. Каждое событие, каждый факт, изображаемый писателем-постмодернистом, оказывается скрытой, а чаще явной цитатой. И это логично: если реальность "исчезла" под напором продуктов идеологии, симулякров, то цитирование литературных и культурных текстов оказывается единственной возможной формой восприятия реальности. Соответственно дискредитируется в постмодернизме и такое важнейшее философское понятие реалистической эстетики, как правда. В мире-тексте, а точнее, хаотическом конгломерате множества текстов - мифологий, идеологий, традиций, стереотипов и т. п. - не может быть единой правды о мире. Ее заменяет множественность интерпретаций и, шире, множественность одновременно существующих "правд" - абсолютных в пределах своего культурного языка, но фиктивных в сопоставлении со множеством других языков. В реалистическом тексте носителем правды был всезнающий автор ("Романист знает все", - декларировал Теккерей). В постмодернистском произведении методически подрывается претензия автора на всезнание, автор ставится в один ряд с заблуждающимися и ошибающимися героями, в то время как герои присваивают себе многие черты автора (не случайно постмодернистский роман всегда насыщен сочинениями персонажей, а постмодернистский лирик, как правило, носит какую-то культурно-мифологическую маску или сразу несколько масок одновременно). Правда "автора", а точнее, представляющего его персонажа, который к тому же нередко носит имя биографического автора, выступает как одна из возможных, но далеко не безусловных версий. Русский постмодернизм во многом продолжает искусственно прерванную динамику модернизма и авангарда - и стремление "вернуться" в Серебряный век или, точнее, возродить его определяет многие специфические отличия русской модели этого направления от западной. Однако по мере своего развития русский постмодернизм все осознаннее отталкивается от такой важнейшей черты модернистской и авангардистской эстетики, как мифологизация реальности. В модернизме и авангарде создание индивидуального поэтического мифа, всегда опирающегося на некие авторитетные архетипы и модели, означало создание альтернативной реальности, а точнее, альтернативной вечности преодолевающей бессмыслицу, насилие, несвободу и Миф представлял высшую и лучшую форму бытия еще и потому, что он был создан свободным сознанием художника и тем самым становился материализацией индивидуальной концепции свободы. Постмодернизм нацелено разрушает любые мифологии, понимая их как, идеологическую основу власти над сознанием, навязывающей ему единую, абсолютную и строго иерархическую модель истины, вечности, свободы и счастья. Однако, разрушая существующие мифологии, постмодернизм стремится перестроить их осколки в новую, неиерархическую, неабсолютную, игровую мифологию, так как писатель-постмодернист исходит из представления о мифе как о наиболее устойчивом языке культурного сознания. Таким образом, стратегию постмодернизма по отношению к мифу правильнее будет определить не как разрушение, а как деконструкцию, перестраивание по иным, контрмифологическим, принципам. В конечном счете важнейшая из постмодернистских стратегий может быть определена как диалог с хаосом. В принципе, постмодернизм продолжает искания модернизма. Но если в модернизме хаосу жизни был противопоставлен космос творчества, искусства, культуры, то постмодернизм начинается с убеждения в том, что любая, даже самая возвышенная, модель гармонии мира не может не быть утопией. А утопия неизбежно стремится трансформировать реальность с помощью идеала и идеологии, и следовательно, порождает симуляцию реальности: пример коммунистической утопии не оставлял никаких иллюзий на этот счет. Симуляция же уничтожает реальность, оставляя взамен пустоту и хаос. Но хаос симулякров состоит из осколков различных языков культуры, языков гармонии, которые звучат вразнобой, перекрывая друг друга, и с которыми писатель-постмодернист вступает в диалогические отношения. Более конкретным выражением этой стратегии является ориентация постмодернистов на создание неустойчивых, нередко внутренне конфликтных и даже взрывных, гибридов, компромиссных образований между как эстетическими, так и онтологическими категориями, которые традиционно воспринимаются как антитетичные и несовместимые. Это могут быть парадоксальные компромиссы между смертью и жизнью (Битов, Вен. Ерофеев, Соколов), фантазией и реальностью (Толстая, Пелевин), памятью и забвением (Шаров), законом и абсурдом (Вик. Ерофеев, Пьецух), личным и безличным (Пригов, Евг. Попов, Кибиров), архетипом и пошлым стереотипом (Сорокин). Поиск онтологических сращений заставляет писателя-постмодерниста строить свою поэтику на неустойчивых эстетических компромиссах между низменным и возвышенным, глумлением и патетикой, целостностью и фрагментарностью и т. п. Оксюморон становится главным структурообразующим принципом постмодернистской поэтики в той же мере, в какой (по Р. Я. Якобсону) романтизм и модернизм опираются на метафору, а реализм - на метонимию. 11(25). Творческий путь Л. Андреева Андреев Леонид Николаевич (1871, Орел – 1919, д. Нейвала, Финляндия) – прозаик, драматург, публицист. Новеллистическое наследие Андреева включает в себя около девяноста рассказов. Большая их часть (свыше пятидесяти) создана в первый период творчества – с 1898 по 1904 гг. В новеллистике, отмеченной бурными художественными поисками, произошло становление писателя как мастера, здесь наметился круг его постоянных образов и тем. Начиная с 1905 г., Андреев работает и как прозаик, и как драматург. Постепенно театр занимает все большее место в творчестве Андреева; на протяжении десяти лет он создает оригинальные театральные системы. Во второй половине 1900-х гг. и в 1910-е гг. Андреев написал примерно равное число рассказов: около двадцати в каждый период. При этом неуклонно растет количество драм: одиннадцать пьес создал Андреев в годы первой революции и годы реакции, семнадцать – в десятые годы. В своих ранних рассказах Андреев продолжает традиции «шестидесятников» с типичной для их прозы «правдой без всяких прикрас» (Н. Г. Чернышевский), стихией бытописания, скрупулезной, не всегда художественно мотивированной детализацией. Но в лучших из них – «Баргамот и Гараська» (1898), «Петька на даче» (1899), «Ангелочек» (1899) – отчетливо проступают и социальные приметы героев, и противоречия времени, и сочувственно-сострадательное отношение автора к «униженным и оскорбленным», и авторская ирония. 5 апреля 1898 г. в «Курьере» был напечатан рассказ «Баргамот и Гараська», по словам одного из критиков, открывший «триумфаторский бег колесницы Леонида Андреева». М. Горький выразил свое мнение по поводу этого рассказа так: «Черт знает, что такое… Я довольно знаю писательские штуки, как вогнать в слезу читателя, а сам попался на удочку: нехотя слеза прошибла. Место действия рассказа Андреева – окраина губернского города Орла, населенная «пушкарями», чей быт и нравы с детства были хорошо знакомы писателю. В пасхальную ночь городовой Иван Акиндыч Бергамотов, прозванный «пушкарями» Баргамотом, гроза Пушкарной улицы, вдруг разжалобился и привел к себе домой разговляться безродного босяка Гараську. Описание мирной беседы за пасхальным столом полицейского держиморды с босяком без роду, без племени дается в умильно идиллическом ключе: «Утро. У открытого окошка сидят за столом Баргамот и Герасим Андреич и кушают спрохвала чай… Разговор идет степенный. Баргамот, пережевывая слова, излагает свой взгляд на ремесло огородника, являясь, видимо, одним из его приверженцев. Вот пройдет неделька, и за копанье гряд можно будет приняться. А спать пока что Герасим Андреич может и в чуланчике. Время к лету идет. —Еще чашечку выкушайте, Герасим Андреич! —Благодарствуйте, Иван Акиндыч, уже достаточно. —Кушайте, кушайте, мы еще самоварчик подогреем». Этот вариант рассказа, напечатанный в «Курьере», определенно не понравился Горькому, который написал Андрееву: «Лучший ваш рассказ «Баргамот и Гараська» - сначала длинен, в середине превосходен, а в конце вы сбились с тона». Л. Андреев прислушался к мнению М. Горького и изменил конец рассказа, что заставляет по другому посмотреть на пасхальное «происшествие» в приходе Михаила Архангела, т.е. совсем не умиленными глазами. …На приглашение жены Баргамота: «Кушайте, Герасим Андреич», из Гараськиной груди «вырывается снова тот жалобный и грубый вой, который так смутил Баргамота… Баргамот с растерянной и жалкой миной смотрит на жену: . Ну, чего вы Герасим Андреич! Перестаньте, - успокаивает та беспокойного гостя. . По отчеству… как родился, никто по отчеству… не называл…». Итак, под видом умильного пасхального рассказа Андреев преподнес читателю страшную историю человека, лишенного имени человеческого. Автор как бы показывает, что «за выдуманной жизнью течет своя безрадостная жизнь» («Курьер», 1900, № 356, 24 декабря). И делает он это главным образом посредством тонкой иронии, которая сопровождает его рассказ и о жизни пушкарей, и о судьбе Гараськи, и о стремлении Баргамота попользоваться даровым трудом босяка. «В заключительных строках, в трагической оглядке пьянчужки на свою жизнь мелькнуло, скользнуло что-то серьезное, глубокое, совсем непривычное для пасхального наброска, вильнула и спряталась трагически-тревожная мысль, почудилась тень чьего-то вдумчивого, умиленного и скорбного лица», писал об андреевском рассказе критик А. Измайлов . В рассказе «Ангелочек» для Ивана Саввича, бывшего статистика, отца Сашки ангелочек - это мечта о чистой любви и счастье со Свечниковской барышней, мечта, служащая для героя разрывом «круга железного предначертания», куда он попал под воздействием «рока», но и не без собственных усилий. Для Сашки в ангелочке сосредоточилась не только и не столько иллюзия счастья, сколько «бунт», несогласие «с нормой» жизни. В рассказе «Петька на даче» Петька, как и взрослые, воспринимает в качестве нормы жизни прозябание в парикмахерской. Дача для него – та же иллюзия, только временный разрыв кольца. Но, как и для Сашки ангелочек, она – не только мгновение, озарение, случай; она – реальность, естественность, желанное, противоречащее норме и закону. Образ ребенка как носителя «естественного» начала в рассказах Андреева. И в Сашке и в Петьке, и в других детях есть энергия чувства, ненависть, протест, жизнь. В Андрее Николаевиче («У окна»), Иване Саввиче, Хижнякове («В подвале») остались призраки, тени жизни. Вместе с тем дальнейшее творческое развитие Андреева предопределило не только его верность реализму и гуманистическим заветам русской классики. Он тяготеет и к созданию отвлеченноаллегорических образов, выражающих по преимуществу авторскую субъективность, «одно голое настроение», как отозвался М. Горький в письме к Е. Чирикову о «Набате» (1901). Набат, разрывающий зловещую тишину ночи, окрашенной заревом горящих помещичьих усадеб, становится символом творчества Андреева – мятежного, насыщенного возмущением и протестом. «Звуки были явны и точны и летели с безумной быстротой, как рой раскаленных камней. Они не кружились в воздухе, как голуби тихого вечернего звона, они не расплывались – они летели прямо, как грозные глашатаи бедствия, у которых нет времени оглянуться назад и глаза расширены от ужаса… И было в них так много отчаяния, словно это не медный колокол звучал, а в предсмертных судорогах колотилось сердце самой многострадальной земли». Одно «голое» сомнение в способности человека преодолеть внешние обстоятельства составило содержание притчи «Стена» (1901). Хотя вера Андреева в поступательное движение человечества, в прогресс и обнаруживает себя в рассказе, как и в других произведениях, но путь к нему, по его мнению, всегда трагичен и зачастую не прям. Призыв к борьбе в конце рассказа не встречает сочувствия и единодушия, «прокаженные повернулись к глашатаю своими «равнодушными, усталыми» спинами («Горе!.. Горе!.. Горе!..»). Накануне Революции 1905 г. в творчестве Андреева нарастают бунтарские мотивы. Жизнь Василия Фивейского в одноименном рассказе (1904) – это бесконечная цепь суровых, жестоких испытаний его веры. Утонет его сын, запьет с горя попадья – священник, «скрипнув зубами» громко повторяет: «Я – верю». У него сгорит дом, умрет от ожогов жена – он непоколебим! Но вот в состоянии религиозного экстаза он подвергает себя еще одному испытанию – хочет воскресить мертвого. «Тебе говорю, встань!» - трижды обращается он к покойнику, но «холодно-свирепым дыханием смерти отвечает ему потревоженный труп». Отец Василий потрясен: «Так зачем же я верил? Так зачем же ты дал мне любовь к людям и жалость? Так зачем же всю жизнь мою ты держал меня в плену, в рабстве, в оковах?». Сюжет рассказа «Жизнь Василия Фивейского» восходит к библейской легенде об Иове, но у Андреева она наполнена богоборческим пафосом, в то время как у Ф. М. Достоевского в «Братьях Карамазовых» эта же легенда символизирует непоколебимую веру в Бога. «Жизнь Василия Фивейского» дышит стихией бунта и мятежа, - это дерзостная попытка поколебать самые основы любой религии – веру в «чудо», в промысел божий, в «благое провидение». Мятежная повесть Андреева, с такой силой замахнувшегося на вековые «святыни», современниками писателя было воспринята как произведение, предвещающее революцию. Дух возмущения и протеста, клокочущий в повести Л. Андреева, радостно отозвался в сердцах тех, кто жаждал революционной бури. Однако в «Жизни Василия Фивейского» ощущаются и чувства недоумения и неудовлетворенности. Отрицая «благое провидение» и божественную целесообразность как глупую преднамеренную выдумку, оправдывающую страдания, ложь, угнетение, реки слез и крови, Л. Андреев вместе с тем изображает человека игрушкой злых и бессмысленных сил, непонятных, враждебных, непреодолимых. «Над всей жизнью Василия Фивейского, - пишет Л. Андреев, - тяготел суровый и загадочный рок. Рассказы Леонида Андреева 1910-х гг., прежде всего, - феномен творческого пути яркой художественной индивидуальности. В то же время своеобразие этих произведений не отменяет во многих случаях их типологическую перекличку с явлениями современной литературы. Стремление к объединению социально-психологического и философского аспектов изображения отличало в эпоху между двух революций творчество писателей-реалистов. Универсализация темы, выявление соответствий между бытовой стороной происходящего и его общечеловеческим смыслом вызывало использование аналитической многоаспектности повествования, активных композиционных приемов (построение рассказа, основанное на принципах лейтмотива и контрапункта, контраста и диссонанса. Все это характеризовало такие высокие достижения реализма нового времени, как «Братья» и «Господин из Сан-Франциско» И. Бунина, «Пески» А. Серафимовича. В своих творческих поисках Андреев был близок этому направлению литературного развития и в то же время принадлежал ему далеко не всецело. Наряду со стремлением к глубинному осмыслению социально-исторического кризиса эпохи в творчестве Андреева ощутима тяга к мифологизации действительности, изображению «вечных» образов и ситуаций, что диктовалось подходом к проблемам человеческой деятельности и сознания как проблемам извечным. Это дает объективные основания соотносить творчество Андреева с творчеством писателей-символистов, в частности рассказами В. Брюсова и Ф. Сологуба. Повесть «Бездна» (1902), задуманная Андреевым «в целях всестороннего и беспристрастного освещения подлецки-благородной человеческой природы» созвучна Достоевскому. Человек предстает в ней рабом низменных, животных инстинктов. Андреев был и до сих пор считается мастером психологического анализа, хотя характер его формальных приемов в трактовке психологической тематики ускользает от однозначного определения. Несмотря на то, что при появлении первых произведений Андреева его приветствовали как писателя-реалиста, очень в скором времени стало понятно, что Андреевский психологизм не вписывается в рамки традиционной реалистической «диалектики души». Фабула рассказа проста. Студента Немовецкого и девушку Зиночку, увлекшихся во время прогулки за городом романтическими разговорами о силе и красоте любви, застает темнота. Их идиллию грубо нарушает пьяная компания: хулиганы избивают студента и совершают насилие над девушкой. Когда Немовецкий наконец приходит в себя, уже глубокая ночь, он принимается искать Зиночку и, найдя ее без сознания, полураздетую, насилует ее, будучи не в силах побороть в себе неукротимое животное желание. Постепенное развитие «внутреннего» действия передается прежде всего через пейзаж: солнечный, теплый и золотой в начале рассказа, угрюмо-свинцовый, угрожающий при встрече с хулиганами, мрачный, безлюдный в эпилоге. В этом произведении пространство превращается в психологическую эманацию, которая не только преображает пейзаж, но и предопределяет участь героев («чувствовали угрюмую враждебность тусклых неподвижных глаз». Одушевление природы передает внутреннее состояние героев и нависающую над ними опасность. Важнейшим композиционным приемом в прозе Андреева является построение по принципу контраста, что соответствует биполярности его мировоззрения, постоянно колеблющегося между антиномиями: жизнь и смерть, свет и тьма, реальное и ирреальное. Важным не только литературным, но и общественным событием стало появление антивоенной повести «Красный смех» (1904). Ее тематическая основа – события русско-японской войны, но сюжетно-копозиционный центр произведения составило потрясенное, болезненно галлюцинирующее сознание участника кровавой бойни: «Это красный смех. Когда земля сходит с ума, она начинает так смеяться… она стала круглая, гладкая и красная, как голова, с которой содрали кожу». Ключом к пониманию главной идеи повести являются слова одного из братьев, от имени которого ведется повествование в «Красном смехе»: «…ведь нельзя же безнаказанно десятки и сотни лет учить жалости, уму, логике – давать сознание. Можно стать безжалостным, потерять чувствительность, привыкнуть к виду крови, и слез, и страданий – как вот мясники, или некоторые доктора, или военные; но как возможно, познавши истину, отказаться от нее?.. Миллион людей, собравшись в одно место и стараясь придать правильность своим действиям, убивают друг друга, и всем одинаково больно, и все одинаково несчастны, - что же это такое, ведь это сумасшествие?». Андреев показывает воздействие войны на сознание ее участников и людей, которые не были на войне, но потрясены судьбой десятков тысяч ее несчастных жертв. В драме «К звездам» (1906), самом оптимистическом своем произведении, автор утверждает социальную ценность подвига, и научного, и революционного. Андреев выводит на сцену представителей лучшей части современного человечества – ученых, для которых работа есть повседневный подвиг, и революционеров, для которых героизм есть жизнь. В пьесе разграничены «верх» и «низ». «Верх» - это те, кто приблизился «к звездам», к вечности, бессмертию, совершенству. Где-то «внизу» обитают те, кто страдает, ищет, но еще не знает путей наверх. «Савва» - это социально-философское художественное произведение «о трагическом в жизни», «тоске о светлом», алкание раскрепощения человека. Ее идейно-художественная задача, как ее понимал автор, «дать синтез российского мятежного духа в различных крайних его проявлениях». Пессимистичен по своей оценке перспектив революционных восстаний рассказ «Так было» (1906). Рассказ «Так было» и драма «Савва» не кончаются полной и торжествующей победой. Но победы нет ни в повести «Губернатор», ни в пьесе «К звездам». «Физической» победы революции у Андреева никогда и не могла быть даже в самых светлых его вещах («К звездам», «Из рассказа, который никогда не будет окончен», «Иван Иванович»), она могла быть и была только духовной. И тогда она свидетельствовала и о демократической направленности творчества Андреева, и о его романтической увлеченности, и об органической симпатии к революции. Трусливыми обывателями предстают в повести «Иуда Искариот и другие» (1907) не только толпа, глумящаяся над Христом, но и его ученики. Обречен на смерть человек в драме «Жизнь человека» (1907). Некто в сером неустанно напоминает ему, что он лишь «покорно совершает круг железного предназначения». В силу особенностей своего литературного дарования и творческой личности Андреев оказался восприимчивым к разным художественным тенденциям и совместил в своем творчестве явления нескольких направлений литературы начала века. 12(26). И.Бунин «Господин из Сан-Франциско» Господин из Сан-Франциско, который в рассказе ни разу не назван по имени, так как, замечает автор, имени его не запомнил никто ни в Неаполе, ни на Капри, направляется с женой и дочерью в Старый Свет на целых два года с тем, чтобы развлекаться и путешествовать. Он много работал и теперь достаточно богат, чтобы позволить себе такой отдых. В конце ноября знаменитая «Атлантида», похожая на огромный отель со всеми удобствами, отправляется в плавание. Жизнь на пароходе идет размеренно: рано встают, пьют кофе, какао, шоколад, принимают ванны, делают гимнастику, гуляют по палубам для возбуждения аппетита; затем — идут к первому завтраку; после завтрака читают газеты и спокойно ждут второго завтрака; следующие два часа посвящаются отдыху — все палубы заставлены длинными камышовыми креслами, на которых, укрытые пледами, лежат путешественники, глядя в облачное небо; затем — чай с печеньем, а вечером — то, что составляет главнейшую цель всего этого существования, — обед. Прекрасный оркестр изысканно и неустанно играет в огромной зале, за стенами которой с гулом ходят волны страшного океана, но о нем не думают декольтированные дамы и мужчины во фраках и смокингах. После обеда в бальной зале начинаются танцы, мужчины в баре курят сигары, пьют ликеры, и им прислуживают негры в красных камзолах. Наконец пароход приходит в Неаполь, семья господина из Сан-Франциско останавливается в дорогом отеле, и здесь их жизнь тоже течет по заведенному порядку: рано утром — завтрак, после — посещение музеев и соборов, второй завтрак, чай, потом — приготовление к обеду и вечером — обильный обед. Однако декабрь в Неаполе выдался в этом году неудачный: ветер, дождь, на улицах грязь. И семья господина из Сан-Франциско решает отправиться на остров Капри, где, как все их уверяют, тепло, солнечно и цветут лимоны. Маленький пароходик, переваливаясь на волнах с боку на бок, перевозит господина из Сан-Франциско с семьей, тяжко страдающих от морской болезни, на Капри. фуникулер доставляет их в маленький каменный городок на вершине горы, они располагаются в отеле, где все их радушно встречают, и готовятся к обеду, уже вполне оправившись от морской болезни. Одевшись раньше жены и дочери, господин из СанФранциско направляется в уютную, тихую читальню отеля, раскрывает газету — и вдруг строчки вспыхивают перед его глазами, пенсне слетает с носа, и тело его, извиваясь, сползает на пол, Присутствовавший при этом другой постоялец отеля с криком вбегает в столовую, все вскакивают с мест, хозяин пытается успокоить гостей, но вечер уже непоправимо испорчен. Господина из Сан-Франциско переносят в самый маленький и плохой номер; жена, дочь, прислуга стоят и глядят на него, и вот то, чего они ждали и боялись, совершилось, — он умирает. Жена господина из СанФранциско просит хозяина разрешить перенести тело в их апартаменты, но хозяин отказывает: он слишком ценит эти номера, а туристы начали бы их избегать, так как о случившемся тут же стало бы известно всему Капри. Гроба здесь тоже нельзя достать — хозяин может предложить длинный ящик из-под бутылок с содовой водой. На рассвете извозчик везет тело господина из Сан-Франциско на пристань, пароходик перевозит его через Неаполитанский залив, и та же «Атлантида», на которой он с почетом прибыл в Старый Свет, теперь везет его, мертвого, в просмоленном гробу, скрытого от живых глубоко внизу, в черном трюме. Между тем на палубах продолжается та же жизнь, что и прежде, так же все завтракают и обедают, и все так же страшен волнующийся за стеклами иллюминаторов океан. В рассказе "Господин из Сан-Франциско" И.А.Бунин раскрывает своё отношение к капиталистическому обществу. Рассказ построен на обобщениях и противопоставлениях. Пароход "Атлантида" - это как бы модель капиталистического общества. Совсем разной жизнью живут трюм и верхняя палуба. "Глухо грохотали исполинские топки, пожиравшие груды раскалённого угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми едким, грязным потом и по пояс голыми людьми, багровыми от пламени; а тут, в баре, беззаботно закидывали ноги на ручки, курили, цедили коньяк и ликёры..." Подробно описывается роскошная жизнь на "Атлантиде", где всё время занято едой или подготовкой к поглощению пищи. Пассажиры едят, пьют, и забывают о Боге, о смерти, о покаянных мыслях. Они не думают о страшном океане, ходившем за стенами корабля, веселятся под "бесстыдно-грустную музыку", обманывают себя лживой любовью и за всем этим не видят истинного смысла жизни. На примере судьбы самого господина из Сан-Франциско (Бунин даже не дал ему имени) автор говорит о пустоте, бесцельности, никчёмности жизни типичного представителя капиталистического общества. Даже перед смертью герою рассказа не приходит просветление, мысль о Боге, покаянии, грехах. Его смерть как бы предвещает гибель всего несправедливого мира "господ из Сан-Франциско", который для Бунина лишь одна из форм проявления "всеобщего зла" . 13(32). Художественный мир поэмы А.Блока «12» В январе 1918 года поэма «Двенадцать». Написана за 3 дня – с 27 по 29 января. «Сегодня я гений». Блок написал текст, где попытался выразить саму ситуацию времени – изменение нар. духа, внешние катаклизмы. Написав поэму о революции, Блок стал центром полемики. Оценка была отрицательна; большевики взяли всего два лозунга. Писатели и читатели Блока: «Я не мог и не хотел верить верить, что Блок … стал петь похабные частушки о том, как Ванька с Катькой сидят в кабаке» («Белогвардейская газета» 1919 г.) Гиппиус перестала здороваться с Блоком. Гумилев сказал, что Блок «вторично распял Христа и расстрелял государя». К нападкам Блок относился с удовлетворением – это доказало, что он смог опрокинуть представление, о чем надо писать. Поэму интерпретируют многие, все находят что-то свое, но все отмечают гармонию содержания и формы. Гаспаров: «12» - театр марионеток, где перед сценами происходит выход актеров. И все это на фоне задника (по обычаю – в красно-белых тонах), Блок следует традиции театра марионеток, но и вводит новые голоса – голоса Эпохи. Они словно неупорядочены – гул голосов проступает из 1-й главы. Многие считают, что это лирич. герой Блока так изменился, что говорит разухабистые частушки. Но это революция Блоком воспринимается как гул голосов, хаос сословий, точек зрений, голосов. Многие вообще загадочны и таинственны. «Подходи, поцелуемся!» - целование на Пасху, перед появлением Ис.Х (который появится в конце). Черная злоба. Настроене – тревога, опасность рядом, «гляди в оба». Другая глава начинается так, будто 1-й не было. Появились герои, которые существуют в той же системе координат, что и стихия – они тоже несут хаос. Все многоголосие в начале главы стихает. Чередование ритмически упорядоченных и неупорядоченных несет свой смысл: ритмичная сила, связанная с 12-тью и сила хаоса – сила созидания и разрушения, которая существует внутри самих 12-ти. Сторонний наблюдатель должен видеть в 12-ти ритмич. созидательную силу, но понимает, что ее нет. Это сбор хулиганов, деклассированных элементов, каторжники (примятый картуз, бубновый туз, цигарка) – с винтовками. Они заняты чем угодно, только не революцией. Но они – «стражи революции», которые говорят неизвестно о чем. Голос, который связывается с 12-тью, задает им программу действий. Но 12-ть переиначивают «глас» на свой манер, понятный себе – и он теряет ритм, принимает другой смысл. Со стороны они смотрятся ритмически, а внутри – хаотично. В 3-й главе 12-ть получают право петь – и рассказывают сваю историю. Они пошли служить в красную армию, чтобы «сложить буйну голову», а не ради революции и новой жизни. Возможно, они дезертиры («рваное пальтишко, австрийское ружье» ), но это Блоку неважно. Они ставят себе задачу – раздуть мировой пожар. «Господи, благослови!» - не наполняется смыслом, это как элемент их речи. Но если придать этому смысл, то становится виден хаос, внутри 12-ти, с которым они не могут разобраться. Театр: Пьеро – Петруха; Коломбина – Катька, Арлекино – Ванька. Как и в театре де Лиарта: искушение, отдача искушению, расплата за искушение. Еще неизвестно, кого искушают, но уже видна ситуация искушения. Подчеркнутое неправильное произнесение слов указывает на то, что наблюдатель – один из 12-ти, а не сторонний наблюдатель. В последних строчках герой доходит до самого важного для себя – до описывания Катьки, соответств. традициям фольклора, романов и т д. Но ее по шаблону описать невозможно, у него к ней личное чувство и он ищет слово, чтобы показать ее индивидуальность, и находит – «толстоморденькая». В этом слове он выражает свою любовь и свою личность. Революция – смена формы выражения, и любовь выражается в новом, не употреблявшемся раньше слове. Интеллигенты любят народ, но не дают им выражать эмоции так, как им близко. Шоколад миньон – конкретная историческая деталь: он входил в солдатский паек и они расплачивались им за различные услуги в том числ и с проститутками. 6-я глава: - облава на Ваньку, который соблазнил Катьку. Это убийство не первое (Помнишь, Катя, офицера — // Не ушел он от ножа...). Катька погибает, становится «падалью». (Что, Катька, рада?— Ни гу-гу...// Лежи ты, падаль, на снегу!). Но заканчивается хаос призывом – «революционный держите шаг». В 7-й главе – состояние отхода от аффекта. Петруху уже называют «убийцей», он не один из многих, он «один». Сначала он испытывает оторопь, обращается к другим за поддержкой и находит себе действо, которое поможет ему отойти от стресса. Петруха – выделяется от всех, идет впереди всех, получает имя Петра, узнаем его биографию, он несет бремя убийцы, но «потяжелее будет бремя» и это приносит ему утешение. Выход тоски в грабеже и разбое - трагическое веселье. 8-я глава: Блок показывает разгул, но он не приносит облегчения. Снова слышен ритм, но это ритм разбойничьей песни. Этот ритм тоже нарушается – кризис 12-ти. В сознании 12-ти, Петрухи есть вина буржуев. Он обращается к религ. сознанию – «упокой, господи, душу рабы твоея…», но закончить все словами «скучно», обрывая, так как разбой утешения не принес. Герой перестрадал, понял бессмысленность бунта, но появляется новое бремя. В условносимволическом мире поэмы буржуй оказывается за героями, перестает играть значимую роль в их жизни. В 11 главе меняется пространство и время: ветер теперь бьет в лицо (он против них); то, что позади – не важно, но что-то происходит впереди. Они говорят о боге, который не упас их от убийства, о враге, который рождается впереди. И они двигаются вперед и дальше. Читатель должен с нетерпением ждать развязки – хаос или ритм? 14(34). «Доктор Живаго» Б.Пастернака В романе "Доктор Живаго" Борис Пастернак передает свое мироощущение, свое видение событий, потрясших нашу страну в начале XX столетия. Известно, что отношение Пастернака к революции было противоречивым. Идеи обновления общественной жизни он принимал, но писатель не мог не видеть, как они оборачивались своей противоположностью. Так и главный герой произведения Юрий Живаго не находит ответа на вопрос, как ему жить дальше: что принимать, а что нет в новой жизни. В описании духовной жизни своего героя Борис Пастернак выразил сомнения и напряженную внутреннюю борьбу своего поколения. В романе "Доктор Живаго" Пастернак возрождает идею самоценности человеческой личности. Личное преобладает в повествовании. Жанру этого романа, который условно можно определить как прозу лирического самовыражения, подчинены все художественные средства. В романе существует как бы два плана: внешний, повествующий об истории жизни доктора Живаго, и внутренний, отражающий духовную жизнь героя. Автору важнее передать не события жизни Юрия Живаго, а его духовный опыт. Поэтому главная смысловая нагрузка в романе переносится с событий и диалогов героев на их монологи. В романе отражена жизненная история сравнительно небольшого круга лиц, нескольких семей, соединенных отношениями родства, любви, личной близости. Их судьбы оказываются прямо связаны с историческими событиями нашей страны. Большое значение имеют в романе отношения Юрия Живаго с женой Тоней и с Ларой. Искренняя любовь к жене, матери его детей, хранительнице домашнего очага, -это природное начало в Юрии Живаго. А любовь к Ларе сливается с любовью к самой жизни, со счастьем существования. Образ Лары -- это одна из граней, отражающих отношение самого писателя к миру. Основной вопрос, вокруг которого движется повествование о внешней и внутренней жизни героев, -- это их отношение к революции, влияние переломных событий в истории страны на их судьбы. Юрий Живаго не был противником революции. Он понимал, что у истории свой ход и его нельзя нарушить. Но Юрий Живаго не мог не видеть ужасные последствия такого поворота истории: "Доктор вспомнил недавно минувшую осень, расстрел мятежников, детоубийство и женоубийство Палых, кровавую колошматину и человекоубоину, которой не предвиделось конца. Изуверства белых и красных соперничали по жестокости, попеременно возрастая одно в ответ на другое, точно их перемножали. От крови тошнило, она подступала к горлу и бросалась в голову, ею заплывали глаза". Юрий Живаго не воспринимал революцию в штыки, но и не принимал ее. Он был где-то между "за" и "против". Герой стремится прочь от схватки и в конце концов уходит из рядов сражающихся. Автор не осуждает его. Он расценивает этот поступок как попытку оценить, увидеть события революции и гражданской войны с общечеловеческой точки зрения. Судьба доктора Живаго и его близких -- это история людей, чья жизнь выбита из колеи, разрушена стихией революции. Семьи Живаго и Громеко уезжают из обжитого московского дома на Урал искать убежище "на земле". Юрия захватывают красные партизаны, и он вынужден против своей воли участвовать в вооруженной борьбе. Его родные высланы новой властью из России. Лара попадает в полную зависимость от сменяющих друг друга властей, а под конец повествования она пропадает без вести. Видимо, она была арестована на улице или погибла "под каким-нибудь безымянным номером в одном из неисчислимых общих или женских концлагерей севера". Самого Юрия Живаго понемногу покидают жизненные силы. И жизнь вокруг него становится все беднее, грубее и жестче. Сцена смерти Юрия Живаго, внешне ничем не выделяясь из общего хода повествования, несет в себе тем не менее важный смысл. Герой едет в трамвае и у него начинается сердечный приступ. Он рвется на свежий воздух, но "Юрию Андреевичу не повезло. Он попал в неисправный вагон, на который все время сыпались несчастья..." Живаго так и умирает у трамвайных колес. Жизнь этого человека, задыхавшегося в духоте замкнутого пространства страны, потрясенной революцией, обрывается... Пастернак говорит нам, что все происходившее в те годы в России, было насилием над жизнью, противоречило ее естественному ходу. Еще в одной из первых глав романа Пастернак пишет: "...очнувшись, мы уже больше не вернем утраченной памяти. Мы забудем часть прошлого и не будем искать небывалому объяснения. Наставший порядок обступит нас с привычностью леса на горизонте или облаков над головой. Он окружит нас отовсюду. Не будет ничего другого". Эти глубоко пророческие слова, мне кажется, как нельзя лучше говорят о последствиях тех далеких лет. Отказ от прошлого оборачивается отказом от вечного, от нравственных ценностей. И этого нельзя допускать. Стихотворения Юрия Живаго в романе Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго». Свидетельство Юрия Живаго о своем времени и о себе — это стихи, которые были найдены в его бумагах после его смерти. В романе они выделены в отдельную часть. Перед нами не просто небольшой сборник стихотворений, но цельная книга, имеющая собственную строго продуманную композицию. Открывается она стихотворением о Гамлете, который в мировой культуре стал образом, символизирующим раздумья над характером собственной эпохи. «Гамлет» Шекспира — один из шедевров переводческого искусства Пастернака. Одно из важнейших изречений принца датского в пастернаковском переводе звучит так: «Порвалась дней связующая нить. / Как мне отрывки их соединить!» Гамлету Юрий Живаго вкладывает в уста слова Иисуса Христа из молитвы в Гефсиманском саду, в которой он просит Отца своего об избавлении его от чаши страданий. Завершается эта поэтическая книга стихотворением, которое так и называется — «Гефсиманский сад». В нем звучат слова Христа, обращенные к апостолу Петру, защищавшему мечом Иисуса от тех, кто пришел его схватить и предать мучительной смерти. Он говорит, что «спор нельзя решать железом», и потому Иисус приказывает Петру: «Вложи свой меч на место, человек». Перед нами, в сущности, оценка Юрием Живаго тех событий, которые происходят в его стране и во всем мире. Это отказ «железу», оружию в возможности решить исторический спор, установить истину. И в этом же стихотворении присутствует мотив добровольного самопожертвования во имя искупления человеческих страданий и мотив будущего Воскресения. Таким образом, открывается книга стихотворений темой предстоящих страданий и сознанием их неизбежности, а заканчивается темой добровольного их принятия и искупительной жертвы. Центральным же образом книги (и книги стихотворений Юрия Живаго, и книги Пастернака о Юрии Живаго) становится образ горящей свечи из стихотворения «Зимняя ночь», той свечи, с которой начался Юрий Живаго как поэт. Образ свечи имеет в христианской символике особое значение. Обращаясь к своим ученикам в Нагорной проповеди, Христос говорит: «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного». Книга стихотворений Юрия Живаго — это его духовная биография, соотнесенная с его земной жизнью, и его «образ мира, в слове явленный». 15(35). М.Шолохов «Тихий Дон», «Судьба Человека» Тихий Дон На деле Шолохов не был апологетом ни белых, ни красных. В "Тихом Доне" мы уже не видим того сугубо классового критерия в оценке героев, который еще давал о себе знать в "Донских рассказах". Роман свободен от давления политической идеи, и его автор вопреки некоторым современным трактовкам не зависел от "императивов классовой идеологической предубежденности". Эпиграфом к нашей трактовке романа можно поставить строку поэта - М.Волошина - "Молюсь за тех и за других", ибо события гражданской войны оцениваются в нем с общечеловеческих позиций. Это было давно ясно для зарубежной критики. Как заметил авторитетный на Западе славист Э. Симмонс, "поведение и красных, и белых с их жестокостью, безобразием, обманом, а иногда и благородством описано честно... Шолохов был слишком большим художником, чтобы пожертвовать действительностью ради идеологических соображений" (30; 51). Именно из-за таких формулировок статья Симмонса не была опубликована в начале 60-х г.г., и журнал "Вопросы литературы" смог поместить ее на своих страницах только в 1990 г. Разумеется, мысль об общечеловеческом, а не узкоклассовом звучании романа потаенно жила в сознании истинных шолоховедов, так что в изменившейся общественно-политической ситуации она была высказана сразу. П.Палиевский заметил, что если Солженицын так же понимает красных, как, скажем, Николай Островский белых, то Шолохов одинаково понимает и красных, и белых. В.Чалмаев, говоря, что если в других произведениях советской литературы герои "косят" белых как бы нечто чужое, не народное", то в "Тихом Доне" смерть любого героя, скажем, есаула Калмыкова (или самоубийство Каледина - Л.Е.) убывание народа, умаление и уничтожение России. Заметим также, что образ большевика в "Тихом Доне" далек от канона положительного героя, будь то Штокман, принимающий участие в расстрелах без суда и следствия, или Подтелков, которому власть хмелем ударяет в голову. Негативное авторское отношение к сценам насилия и жестокости проявляется в "нейтральности" авторской интонации. Что же касается Бунчука, откомандированного в Ростовский ревтрибунал, то эти эпизоды (V; 20) трактуются автором как драма героя, отдававшего приказания о ежедневных расстрелах чугунно-глухими словами. "За неделю он высох и почернел, словно землей подернулся. Провалами зияли глаза, нервно мигающие веки не прикрывали их тоскующего блеска". При всем том, что герой искренне убежден в правоте своих карательных акций ("Сгребаю нечисть!.."), он не может остаться равнодушным к человеческой судьбе, не видеть, как в кровавую мясорубку попадают и казаки-труженики, чьи ладони проросли сплошными мозолями. И это ставит его на грань безумия. Объективное отношение и к красным, и к восставшим казакам Шолохов выражает устами деда Гришаки (VI, 46, 65). Мелехова старик урезонивает словами, что по божьему указанию все вершится, а всякая власть от Бога: "Хучь она и анчихристова, а все одно Богом данная... Поднявший меч бранный от меча да погибнет". В речь героя органично вплетаются соответствующие библейские тексты. (В отличие от философской прозы, где превалирует непосредственно выраженная авторская мысль, опирающаяся на библейский миф или развивающая его, в эпической прозе Шолохова авторская позиция выражена предметностью словесной живописи, когда библейская мифология служит укрупнению характера героя. Слова священного писания, адресованные озверевшему Кошевому погибающим дедом Гришакой, теперь неотделимы от его образа). Оценка происходящего с общечеловеческих позиций проявляется в романе не только в объективном отношении к противоборствующим лагерям, но и в рассмотрении отдельного человека в его "текучести", непостоянстве душевного облика. Шолохов раскрывает человеческое в человеке, казалось бы, дошедшего в своей моральной опустошенности до последней черты. В критике обращается внимание на то, что у писателя порой проявляется не близкая ему традиция Достоевского: бесконечен человек и в добре, и в зле, даже если речь идет не о борьбе этих двух начал, а о некой их примиренности. Ужасен сподвижник Фомина Чумаков, бесстрастно повествующий о своих "подвигах": "А крови-то чужой пролили - счету нету... И зачали рубить всех подряд (кто служил советской власти - Л.Е.) и учителей, и разных там фельдшеров, и агрономов. Черт-те кого только не рубили!" (Историческая правда жизни проявилась в том, что в романе, как и в "Несвоевременных мыслях" Горького, "Окаянных днях" Бунина, показано, что большевики в большой мере опирались на людей, тяготеющих к анархизму и преступлениям: ведь банда Фомина имела своим истоком Красную армию). Но и у Чумакова проявилось подлинное сострадание к умирающему Стерлядникову, когда, сгорая в антоновом огне, тот просит скорее предать его смерти (VIII, 25). Выхваченная из жизни и уже запечатленная в "Разгроме" Фадеева и "Конармии" Бабеля сцена поднята Шолоховым на предельную высоту гуманистического звучания. Это заметно и в авторской интонации, с какой описано ожидание смерти бандитом, причастным к большой крови, о которой шла речь выше: "Только опаленные солнцем ресницы его вздрагивали, словно от ветра, да тихо шевелились пальцы левой руки, пытавшиеся зачем-то застегнуть на груди обломанную пуговицу гимнастерки". Это чувствуется и по реакции Григория: "Выстрела он ждал с таким чувством, как будто ему самому должны были всадить пулю между лопатками... Выстрела ждал и сердце отсчитывало каждую секунду, но когда сзади резко, отрывисто громыхнуло - у него подкосились ноги... Часа два они ехали молча" Шолоховский герой может быть всяким, но идущая от Достоевского тенденция "найти в человеке человека" превалирует в романе, где нет резкого разграничения героев на положительных и отрицательных. Михаила Кошевого относили то к тем, то к другим. Да, Кошевой - не Григорий, который после убийства матросов бьется в припадке: "Нет мне прощения..." (Кошевой не только оттолкнул Григория, усугубив трагизм его положения, на его счету такие сцены убийств, погромов и поджогов (VIII; 65), которые не могут вызвать к нему симпатии ни у автора, ни у читателей. Они поданы, как правило, в бесстрастной манере, но однажды автор поднимается до патетики, ибо герой воспринимается как безумец: "Рубил безжалостно! И не только рубил, но и "красного кочета" пускал под крыши куреней в брошенных повстанцами хуторах. А когда, ломая плетни горящих базов, на проулки с ревом выбегали обезумевшие от страха быки и коровы, Мишка в упор расстреливал их из винтовки". И все же не зря смягчается сердце Ильиничны, жалеет она больного и высохшего Михаила, тем более, что видит в его глазах теплоту и ласку к маленькому Мишатке. Глубоко символично, что она отдает ему рубашку Григория. Ильиничну писатель делает, как справедливо отмечала А.Минакова, "суровым и справедливым судьей в сложнейших социально-нравственных конфликтах. Значимость этого образа укрупняется и скорбными образами матерей Бунчука, Кошевого, безымянных матерей. Казачка, проводившая повстанцам мужа и трех сыновей, ждет от Григория ответа, когда "будет замирение": "И чего вы с ними сражаетесь? Чисто побесились люди". Общечеловеческий смысл романа достигает кульминации в скорбном, хватающем за сердце параллелизме: "Молодые, лет по шестнадцати-семнадцати парнишки, только что призванные в повстанческие ряды, шагают по теплому песку, скинув сапоги и чиричонки. Им неведомо от чего радостно... Им война - в новинку, вроде ребячьей игры..." И вот щелкнутое красноармейской пулей "лежит этакое большое дитя с мальчишески крупными руками, с оттопыренными ушами и зачатком кадыка на тонкой невозмужалой шее. Отвезут его на родной хутор схоронить на могилах, где его деды и прадеды истлели, встретит его мать, всплеснув руками и долго будет голосить по мертвому, рвать из седой головы космы волос. А потом, когда похоронят и засохнет глина на могилке, станет, состарившаяся, пригнутая к земле материнским неусыпным горем, ходить в церковь, поминать своего "убиенного" Ванюшку либо Семушку (...) И где-либо в Московской или Вятской губернии, в каком-нибудь селе великой Советской России мать красноармейца, получив извещение о том, что сын "погиб в борьбе с белогвардейщиной за освобождение трудового народа от ига помещиков и капиталистов...", запричитает, заплачет... Горючей тоской оденется материнское сердце, слезами изойдут тусклые глаза, и каждодневно, всегда, до смерти будет вспоминать того, которого некогда носила в утробе, родила в крови и бабьих муках, который пал от вражьей руки где-то в безвестной Донщине". Болью писателя стали муки матерей. Но не легче и горькая старость Пантелея Прокофьевича (он из оставленного амбара "вышел будто от покойника") и Мирона Коршунова. Казалось, и сама мать-земля протестует против братоубийственной войны: "... Заходило время пахать, боронить, сеять; земля кликала к себе, звала неустанно день и ночь, а тут надо было воевать, гибнуть в чужих хуторах от вынужденного безделья, страха, нужды и скуки". Тот, якобы объективизм, в котором обвиняла писателя большевистская критика, подразумевая под этим сочувствие "не большевикам", и был проявлением высокой человечности. ГРИГОРИЙ МЕЛЕХОВ КАК ТРАГИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР Трактовка событий гражданской войны с общечеловеческих позиций обусловила неповторимое своеобразие образа Григория Мелехова, не поддававшегося узкоклассовым меркам литературоведов. Образ Григория интерпретировался и как образ середняка, искавшего третьего пути в революции (концепция исторического заблуждения), как человека, утратившего связь с народом - "отщепенца", и как казачьего сепаратиста. Вопреки ставшей общепринятой концепции "отщепенства" Григория с середины 60х годов стала складываться новая интерпретация образа Мелехова (работы И.Ермакова, А.Хватова, Ф.Бирюкова, А.Бритикова, А.Минаковой, Е.Костина и др.). Но прежде чем подойти к ее рассмотрению, следует подчеркнуть, что социально-этические аспекты образа воздействуют на читателя в силу его высокой художественности, глубокого проникновения во внутренний мир незаурядной личности. Г.Шенгели справедливо задавался вопросами, чем интересен образ Григория Мелехова: тем, что показан "казак-середняк в обстановке гражданской войны?" его брат Петр такой же казак-середняк, но они абсолютно не похожи; "человек, не нашедший пути"? Тогда почему нам интересно, как он удит рыбу и любит Аксинью? Не вернее ли просто: человек с богатой внутренней жизнью - "этим и интересен" (41; 329). Каждый читатель найдет в сюжетной линии Григория эпизоды и картины особенно ему, читателю, близкие: захватившее Григория чувство отцовства, когда он берет на руки детей... "Целуя их поочередно, улыбаясь, долго слушал веселое щебетанье. Как пахнут волосы у этих детишек! Солнцем, травою, теплой подушкой и еще чем-то бесконечно родным. И сами они - эта плоть от плоти его, - как крохотные степные птицы... Глаза Григория застилала туманная дымка слез..." Волнует неистовая любовь Григория к труду земледельца, его привязанность к земле, когда даже от мысли о пахоте теплело на душе, "хотелось убирать скотину: метать сено, дышать увядшим запахом донника, пырея, пряным душком навоза" (V, 13). Прекрасна верность старой дружбе, преодолевшая социальное противостояние: когда Григорий узнает об аресте Кошевого и Котлярова, он, бросив свою дивизию, мчится, загоняя коня, на выручку и тяжело переживает, что не успел. И как не разделить отчаяние человека, навсегда потерявшего свою единственную любовь, увидевшего над ее могилой "ослепительно черный диск солнца" (VIII, 17). Все это читатель не просто знает, как знает, быть может, и почти аналогичные житейские ситуации: он все это видит, слышит, осязает, сопереживает благодаря могучему таланту Шолохова, благодаря высокому мастерству словесно-художественного воплощения общечеловечески значимых ситуаций. Потрясающая сила образа Григория Мелехова в том, что общечеловеческие мотивы поведения и поступки героя неотрывны от конкретной исторической реальности гражданской войны на Дону. Григорий правдоискатель в самом высоком, завещанном русской классикой смысле, и при этом образ человека из народа в эпоху великого разлома истории, ставшего "на грани двух начал, отрицая оба их". Писатель показывает нравственные императивы выбора пути: "Неправильный у жизни ход, и, может, и я в этом виноватый",- раздумывает Григорий,- и, главное, невозможность выбора. Вспоминая старую сказку, Григорий говорит, что и перед ним - "три дороги, и ни одной нету путевой... Деваться некуда". Его трагедия в осознании необходимости гражданского мира и единения народа "без красных и белых" и практической невозможности этого. Григорий понимает, что близкие ему люди: Мишка Кошевой и Котляров "тоже казаки, а насквозь красные. Тянуло к большевикам - шел, других вел за собой, а потом брало раздумье, холодел сердцем". Не только жестокость красного террора, нежелание властей понять специфику казачества оттолкнуло его от большевиков, но и прозрение: "Комиссара видал, весь в кожу залез, и штаны, и тужурка, а другому и на ботики кожи не хватает,- говорит Григорий.- Да ить это год ихней власти прошел, а укоренятся они - куда равенство денется?" Отсюда и метания между враждебными станами, необходимость убивать недавних союзников и муки совести. Мелехов завидует Кошевому и Листницкому: "Им с самого начала все было ясное, а мне и до се все неясное. У них, у обоих свои, прямые дороги, свои концы, а я с семнадцатого года хожу по вилюткам, как пьяный качаюсь". Но он понимает и узость позиций каждого из героев-антиподов, не находя нравственной правды ни на той, ни на другой стороне в ее борьбе за власть. Не находит он ее даже в среде повстанцев (сцена, когда Григорий выпускает из тюрьмы иногородних заложников). Кстати, трудно согласиться с нередко встречающимися утверждениями, что Григорий только человек действия, что ему чужда рефлексия. Другое дело, что она не облекается в формы, знакомые нам по образу, например, Андрея Болконского, она предопределена чисто народным миросозерцанием, но от этого не становится менее впечатляющей. В своих духовных поисках Григорий выступает как alter ego автора, выражая его тревоги и его прозрения. Вот почему авторские отступления в романе: "Степь родимая! Горький ветер, оседающий на гривах косячных маток и жеребцов. На сухом конском храпе от ветра солоно, и конь, вдыхая горько-соленый запах, жует шелковистыми губами и ржет, чувствуя на них привкус ветра и солнца. Родимая степь под низким донским небом! Вилюжины балок, суходолов, красноглинистых яров, ковыльный простор с затравевшим гнездоватым следом конского копыта, курганы в мудром молчании, берегущие зарытую казачью славу.. Низко кланяюсь и по-сыновьи целую твою пресную землю, донская, казачьей, не ржавеющей кровью политая степь", - выдержаны в стилевой тональности страниц о Григории Мелехове, соединяя общечеловеческую позицию автора с правдоискательством героя. Как уже было замечено, сознание Григория является семантическим ключом ко всем уровням текста (27, 147). В конечном счете трагедия Мелехова - это не только трагедия одиночки-правдоискателя, но и трагедия казачества (и шире - всего народа), попавшего под пресс складывающегося тоталитарного режима. Вот почему Григорий Мелехов, оставшийся на родине, оказался сопричастным трагической сцене прощания казаков, которых ждала эмиграция, с родной землей. Шедший в Новороссийск обоз, в котором находился еще не оправившийся от болезни Григорий, обогнала темной ночью казачья конница (VII, 28): "И вдруг впереди, над притихшей степью, как птица взлетел мужественный грубоватый голос запевалы: Ой, как на речке было, братцы, на Камышинке, На славных степях, на саратовских.. И многие сотни голосов мощно подняли старинную казачью песню, и выше всех всплеснулся изумительной силы и красоты тенор подголоска. Покрывая стихающие басы, еще трепетал где-то в темноте звенящий, хватающий за сердце тенор, а запевала уже выводил: Там жили, проживали казаки люди вольные, Все донские, гребенские да яицкие... Словно что-то оборвалось внутри Григория... Внезапно нахлынувшие рыдания потрясли его тело, спазма перехватила горло. Глотая слезы, он жадно ждал, когда запевала начнет, и беззвучно шептал вслед за ним знакомые с отроческих лет слова: Атаман у них Ермак, сын Тимофеевич, Есаул у них - Асташка, сын Лаврентьевич... Как только зазвучала песня,- разом смолкли голоса разговаривавших на повозках казаков, утихли понукания, и тысячный обоз двигался в глубоком, чутком молчании; лишь стук колес да чавканье месящих грязь конских копыт слышались в те минуты, когда запевала, старательно выговаривая, выводил начальные слова. Над черной степью жила и властвовала одна старая, пережившая века песня. ... Полк прошел. Песенники, обогнав обоз, уехали далеко. Но еще долго в очарованном молчании двигался обоз, и на повозках не слышалось ни говора, ни окрика на уставших лошадей. а из темноты издалека плыла, ширилась просторная, как Дон в половодье, песня: Они думали все думушку единую... Уж и песенников не стало слышно, а подголосок звенел, падал и снова взлетал. За ним следили все с тем же напряженным и мрачным молчанием". Реквием по казачеству - так можно назвать эти скорбно-величавые страницы романа. Так поставлена последняя точка в истории казачьего Дона. Кто ушел в эмиграцию, кто остался, как Григорий, возмущенный безразличным и даже враждебным отношением к казакам эмигрирующих деникинцев. Оставшимся не было иной дороги, кроме как перейти на сторону красных в надежде, как говорит Григорий, что "всех не перебьют", но и его сомнения и тревогу выдают (спустя некоторое время) его "дрожащие руки". В унисон этому настроению звучит и обращенный к Григорию вопрос Ермакова: "Давай за нашу погибель выпьем?", вопрос, который вспомнит читатель, прощаясь с Григорием в финале романа. На пороге отчего дома, ждала героя его последняя надежда: "... Вот и сбылось то немногое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына... Это было все, что осталось у него в жизни, что пока роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром". И хотя в "Тихом Доне" нет картин последующих репрессий (это лишь намечается в активности Кошевого и деятельности Вешенского политбюро), неопределенность - открытость - финала убеждает в предопределенности трагической судьбы героя. Еще в пору работы Шолохова над романом предпринимались попытки (особенно усердствовали Фадеев и Панферов) заставить писателя сделать Григория "нашим". После выхода заключительной части в свет эмигрант Р.Иванов-Разумник так откликнулся на ее финал: "Я очень уважаю автора-коммуниста за то, что он в конце романа отказался от мысли, предписываемой ему из Кремля, сделать своего героя, Григория Мелехова, благоденствующим председателем колхоза" (13а; 11). Социальная и экзистенциальная проблематика романа, выраженная посредством психологического анализа внутреннего мира героя такого масштаба, как Мелехов, делает произведение Шолохова крупнейшим явлением в реализме ХХ века. Образ Григория - это подлинно художественное открытие Шолохова, и если других героев, чем-то похожих на Штокмана и Бунчука, на Кошевого, на белого офицера Евгения Листницкого и т.д., можно встретить в других произведениях о революции - в "Разгроме", в "Белой гвардии", и в романах Петра Краснова, то образ Григория стал вечным образом, наряду с другими творениями величайших мастеров мировой литературы. ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА И ПОЭТИКИ Получивший мировое признание роман "Тихий Дон" - эпопея, и его типологические особенности свидетельствуют, что их предопределила "память жанра" и традиции русской классики - "Войны и мира" Л.Толстого. Масштабное воссоздание эпохальных в жизни народа событий, глобальный охват исторического времени, подчинение им многочисленных сюжетных линий, раскрытие судеб не только главных героев, их семей, но и больших человеческих коллективов, групп (военных отрядов, повстанцев банды Фомина), значимость образующих "хоровое" (по определению Л.И.Киселевой) начало массовых сцен и так называемых второстепенных, подчас безымянных персонажей (а их, повторяем, более 700) определяют жанровое своеобразие шолоховского романа - полифонию голосов, несущих свою правду понимания мира. П.Палиевский заметил, что самые лучшие влиятельные книги о гражданской войне "выглядят в сравнении с Шолоховым только частями, голосами внутри его создания" (26, 173). Л.Киселева, характеризуя "Тихий Дон" как произведение "большого стиля", как один из великих романов первой половины ХХ века, отмечает, что он создает вокруг себя огромное "силовое поле", куда вошли многие другие из признанных и возвращенных романов различных этапов и типов (16а; 10). Народ в "Тихом Доне" - не объект стороннего наблюдения, а субъект бытия, и авторская точка зрения совпадает с народной, ибо события изображаются "изнутри" происходящего. В этом новизна реализма Шолохова. Известно, что Л.Толстой предсказывал появление таких произведений. Он видел в развитии русской литературы две линии. Первая - Пушкин, Лермонтов, Гоголь, к этой линии он причислял и свое поколение. Другая линия "пошла в изучении народа и выплывет, бог даст". Не видя пока больших художественных достижений в этом плане, Толстой тем не менее замечал: "Счастливы те, кто будут участвовать в выплывании". "Счастливым" оказался талант Шолохова, чей роман стал художественной энциклопедией жизни донского казачества, у которого несобственно-прямая речь пронизана интонациями не только главных героев, но и народным многоголосьем. Как известно, структура эпоса "выявляет важнейшие закономерности бытия и человека в нем, движение социума и стремление личности, движение времени, соотношение прошлого, настоящего и будущего, специфику национального пространства" (23; 23). Автор и герои "Тихого Дона" судят о происходящем с ними в масштабах и координатах целого мира (7; 229-230), и стоящий на краю мелеховский курень, описанием которого начинается и заканчивается роман, становится важнейшей частью мироздания. Исторический и литературный хронотоп в романе (а каждое литературное произведение представляет собой целую систему пространственно-временных единств (Д.Сегал) в "Тихом Доне" коррелируются максимально. Главное в романе - пласт художественного вымысла, в котором крупным планом выделено несколько семей - Мелеховы, Коршуновы, Астаховы, Кошевые. Воссозданный могучим воображением писателя хутор Татарский становится центром художественной вселенной, живущей во времени конкретно-историческом, а не бытовом, философском. Характерно, что художественное время в "Тихом Доне" связано с четырьмя календарями: григорианским, юлианским, церковным, народным. Это показывает, что ход времени в разных социальных слоях воспринимается по-разному. В романе выявляются глубинные слои народной психологии (См. тексты молитв - III, 6). Приведем ставший хрестоматийным пример, предвещающий начало Первой мировой войны: "Ночами густели над Доном тучи, лопались сухо и раскатисто громовые удары, но не падал на землю, пышущую горячечным жаром, дождь, вхолостую палила молния, ломая небо на остроугольные голубые краюхи. По ночам над колокольней ревел сыч. Зыбкие и страшные висели над хутором крики, а сыч с колокольни перелетал на кладбище, ископыченное телятами, стонал над бурыми, затравевшими могилами. - Худому быть,- пророчили старики, заслышав с кладбища сычиные выголоски. - Война пристигнет". Но монументальное произведение Шолохова содержит в себе многочисленные разновидности и эпоса, и романа; происходит активное и многостороннее включение иностилей, прежде всего внутренних монологов, несобственно-прямой речи в идиостиль писателя. Социально-бытовое оборачивается вечными темами, образами, мотивами. Организацию огромного, казалось бы, разнородного материала определяют как "пульсацию", подразумевая под ней повторяемость ситуации и коллизий (при различных выходах из них и исходах), разнообразие форм соотнесения "концов" и "начал" (16а; 18, 20). Историческое, социальное сопрягается у Шолохова с природным - "степным космосом". Эпическое время и эпическое пространство в первой книге "Тихого Дона" шолоховеды вслед за Бахтиным определяют как "идиллический хронотоп", когда жизнь казачества подана в ее естественных, близких природе проявлениях, а бытовой уклад жизни неразрывно связан с природным циклом. В последующих книгах социальные катаклизмы взрывают казачью идиллию, патриархальный мир гибнет, но на своем крестном пути он не раз повернется к читателю своими поэтическими сторонами. Отсюда происходит важнейшая композиционная роль фольклорных реминисценций и даже целых текстов, ибо они раскрывают народное сознание, миросозерцание, органически связанное с фольклорной стихией. Такова же роль описаний казачьего быта и природы Донщины, их поэтизация, возведенные к универсуму, основополагающей сущности бытия. Историко-философские воззрения писателя соотнесены с народно-патриархальными представлениями о циклическом движении жизни с солярным мифом, о чем говорили А.Лосев, А.ТахоГоди, А.Минакова. В композиции и поэтике романа, как показано А.М.Минаковой (24), важна роль традиционных мотивов, связанных с образами природных начал - земли, огня, воды, воздуха (степного марева), а также дома и дороги (обернувшиеся столбовой дорогой истории). Они становятся реалистическими, т.е. не утрачивающими объективную данность изображенных явлений символами. Это особенно заметно в художественной трактовке Дона как символического пути народа и отдельного человека, в картинах крушения мелеховского и коршуновских подворий, в самой характеристике деформированного гражданской войной степного пространства: "Скрип колес, конское ржанье, людские окрики, топот множества копыт, блеяние овец, детский плач - все это наполняло спокойные просторы неумолчным и тревожным шумом". Следуя традиции русской классики, Шолохов, начиная с названия, художественно интерпретирует образы природы как первооснову реальности. Человек у Шолохова - часть природы (отсюда столь весомые символические параллели из жизни героев и мира природы). Отношения с нею, как правило, гармоничны. Но порой стихия природы, особенно по весне, разрушительно отзывается в человеческих судьбах: в разлив едва не утонул Григорий, в ледоход пытается покончить с собой Наталья, а в конце романа, "как выжженная черными палами степь, черна стала жизнь Григория". Новизна шолоховских пейзажей в авторской экспрессии ("Навзничь под солнцем лежала золотисто-бурая степь. По ней шарили сухие ветра, мяли шершавую траву, сучили пески и пыль"), и это позволяет выявить авторское отношение к изображаемому в звуках, красках, запахах. "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" В 1957 г. Шолоховым написан рассказ "Судьба человека", вошедший в золотой фонд произведений о борьбе народа с немецко-фашистскими захватчиками. Рассказ посвящен Е.Левицкой. Принципиально новым в рассказе Шолохова было то, что писатель показал как положительного героя времени человека, прошедшего немецкий плен. (Кстати, таким был путь и лейтенанта Герасимова в "Науке ненависти"). Люди такой трагической судьбы долгое время подвергались репрессиям, им не было места на страницах литературных произведений. Поэтому, повстречавшись еще в 1946 г. с тем, кто стал прототипом образа Андрея Соколова, Шолохов не мог реализовать свой замысел. Он не принадлежал к тому типу писателей, кто мог заведомо писать "в стол", не надеясь на публикацию. Он выступил со своим рассказом на страницах "Правды" только в период "оттепели" - после ХХ съезда партии, положившего конец культу личности Сталина и связанной с ним системой запретов. Частная жизнь главного героя Андрея Соколова включена в конкретное время реальных исторических событий; герой (он родился в 1900 г.) - ровесник ХХ века, принявший на свои плечи все его социальные катаклизмы. Он выстоял в трагических испытаниях - немецкий плен, гибель семьи - которые послала ему судьба. КОМПОЗИЦИЯ И ЖАНР Самая заметная композиционная особенность "Судьбы человека" - построение по принципу "рассказа в рассказе". Оно связано с наличием в произведении двух субъектов сознания и речи, последовательно излагающих его художественные события: собственно повествователя, персонально не обозначенного, и героя - Андрея Соколова. В основе структуры рассказа лежит прием композиционного обрамления: исповедь героя заключена в рамки речи повествователя. Рассказ Соколова выделен в особое художественное единство несколькими способами. Он отличен от речи повествователя по своей внешней форме, поскольку последняя представляет из себя типичный Ich-Erzahlung, а слово героя дано как сказ. Речь Соколова маркирована стилистически, его рассказ относится к прошлому, имеет иной объект изображения, ритм и тональность. В силу такой подчеркнутой выделенности рассказ Соколова получает особую значимость, он становится текстом в тексте, произведением в произведении, приобретает иное измерение, превращается в смысловой центр шолоховского творения. Поэтому каждое слово получает в исповеди героя особую весомость. Помещение же рассказа Соколова внутрь другого рассказа создает между ними сложные отношения: герой и его жизнь становятся объектом эмоционального осмысления со стороны повествователя, в которое включается и читатель. Мотивировка рассказа Соколова носит очерковый характер, повествователь сообщает читателю то, что он услышал от героя во время их случайной встречи на берегу реки, когда Соколов принял писателя за "своего брата" шофера. Разумеется, функция этого приема у Шолохова сложнее. Соколов видит в слушателе человека и своего поколения, и своей судьбы. Это определяет естественность, предельную откровенность и полифункциональность его монолога. Зарубежная критика обратила внимание на то, что в "Судьбе человека" сочетаются исповедальность как элемент стиля и исповедь как жанр (13, 123-129). Речь Соколова становится исповедью, обращенной к повествователю и к себе. Это диалог с собой, раздумье о своей жизни и жизни вообще, в которых нужно разобраться. Это рассказ о своем горе и душевном мучении, от которого нужно освободиться, стремление и показать себя, и утвердиться в своей правоте. В процессе рассказа происходит в какой-то мере освобождение Соколова от тяжелых душевных мук. Местами монолог Соколова превращается в суд героя над собой. Таким образом он двунаправлен: обращен к повествователю, у которого Соколов ищет поддержки, понимания, и к самому себе, становясь осмыслением своей судьбы. Пользуясь термином М.М.Бахтина, его можно назвать диалогическим монологом. Характерно и то, что рассказ Соколова идет почти без всяких пояснений, комментариев с его стороны: он считает, что повествователю все понятно, что их жизненный опыт и сознание едины. Специфична в шолоховском творении и форма сказа. Он сохраняет все свои признаки, воссоздавая безыскусную, естественную речь героя и подавая ее именно как чужую индивидуальную речь, как изображенное слово. И в то же время это хоровой, многоголосый сказ, не ограниченный сугубо профессиональной или диалектной лексикой. По своей стилистической организации исповедь Соколова двойственна. В этих кульминационных моментах речь героя приближена к авторской речи, сливается с ней. То, что речь героя выстроена автором, проявляется и в насыщенности рассказа Соколова раздумьями-отступлениями, и в постепенном включении в речь героя высоких литературных слов и правильных синтаксических конструкций. Происшествия, о которых рассказывает герой, можно разделить на два типа: на события, которые происходят помимо его воли (эпизод расставания, сцена пленения, гибель семьи, смерть сына и др.), и на события, которые являются следствием самостоятельных действий Соколова, его инициативных поступков. К ним можно отнести сцену убийства предателя, эпизод с комендантом лагеря, побег из плена и др. Примечательно, что те и другие эпизоды чередуются, но если вначале преобладают события первого типа, "удары судьбы", (Б.Ларин), то по мере приближения к финалу рассказа Соколов превращается в человека, творящего наперекор року свою судьбу, проявляющего жизненную и социальную активность, становящегося личностью. При этом композиция повествования о жизни героя подчинена принципу чередования беглого и развернутого описаний. Развернутое описание возводит происшествия в ранг события, повышает его значение, отмечает самые важные в идейном смысле эпизоды. Но в тексте используется еще один способ усиления значимости тех или иных сцен: сообщение о них носит прерывистый характер, наполнено паузами, обозначаемыми многоточием. Важен повтор ряда эпизодов, выражений, фраз, мыслей. Повторяется описание жены Соколова в сцене прощания, осуждение героем себя за свое поведение во время отъезда на фронт. События, составляющие жизнь Андрея Соколова, объединены общностью своей функции, роли в жизни персонажа. Все они - испытание героя: плен, события, в которые он вовлекается в плену (отношение к предателю, эпизод с Мюллером и др.), смерть близких, полное одиночество. События в рассказе нагнетаются по степени их драматичности. В жизни героя беда накладывается на беду, горе на горе. События имеют свою логику: они последовательно отъединяют Соколова от мира, разрывают его связи с ним, ведут героя к одиночеству. Тем большее значение приобретает последний, завершающий поступок героя - усыновление сироты Ванюшки. Соколов действует наперекор судьбе, логике событий, он сам устанавливает связь с миром, с людьми, начиная жизнь как бы сначала. Развертывание судьбы героя как цепи испытаний роднит шолоховский рассказ с произведениями устного народного творчества, подключает его к могучим фольклорным традициям, прежде всего к сказкам, где мотив испытания всегда был одним из ведущих сюжетных приемов. Исходной ситуацией в судьбе Соколова выступает ситуация равновесия, счастливой семейной жизни - типичная исходная ситуация сказки, которая по Проппу "служит контрастным фоном для последующей беды". В исходной ситуации шолоховского произведения присутствует и случайность, трагическое последствие которой не предусмотрено героем: "Только построился я неловко. Отвели мне участок... неподалеку от авиазавода". Завязка событий в рассказе драматична. Война обрушивается на Соколова внезапно, как обрушивается беда на героя в сказке. Со сказкой соотносятся мотивы потери и поисков семьи. Ядро сюжета рассказа составляют оппозиции герой / враждебная сила и жизнь / смерть. В основе ряда ситуаций и мотивов рассказа лежит, как отметили многие исследователи, принцип троичности. Так для судьбы Соколова характерны три главных беды: плен, гибель жены и дочерей, гибель сына; в эпизоде с Мюллером герою трижды предлагают стакан шнапса, у него трое детей, в сюжете рассказа на берегу реки встречаются три человека. Элементы народной поэтики присущи и стилистике рассказа Андрея Соколова (поговорки, присказки, речевые обороты и сравнения, свойственные фольклорным произведениям - характерно словоупотребление "белый свет" - элементы плача). Они проявляются и ритмическом рисунке наиболее эмоциональных фрагментов его рассказа, и в синтаксической организации его речи. Достаточно вспомнить описание жизни в плену: "И кулаками били, и ногами топтали, и резиновыми палками били, и всяческим железом, какое под руку попадется, не говоря уже про винтовочные приклады и прочее дерево. Били за то, что ты - русский, за то, что на белый свет еще смотришь, за то, что на них, сволочей, работаешь". Описание построено на основе синтаксического параллелизма и воспринимается как поэтическая формула - обобщение судьбы русского и вообще советского человека в неволе, фашистском плену, рожденное народным сознанием, народным поэтическим талантом. Фольклорные элементы поэтики "Судьбы человека" внешне мотивированы тем, что Соколов - выходец из трудового народа - носитель его сознания. Но их "густота", частота, а главное - разножанровость превращают его частный, личный голос в голос всего народа. В его рассказе выражается народное отношение к труду, семье, чужому горю, плену, предательству, родине, смерти (т.е. ко всем основным категориям бытия) и нравственный кодекс народной жизни: "На то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы все вынести, все снести, если к этому нужда позвала". Примечательной особенностью рассказа Соколова является также его устремленность в будущее. Жизнь героя вытянута в одну линию, события движутся хроникально, в естественной последовательности. Бытие Андрея Соколова предстает как движение в историческом времени и пространстве, причем последнее выступает в рассказе как социальное пространство. Отсюда важная роль в "Судьбе человека" пространственных мотивов: дома, дороги, пути. Герой постоянно перемещается, движется, мотив движения - центральный тематический мотив рассказа, и движение постепенно получает в произведении широкий смысл, становясь наполнением, символом жизни Андрея Соколова. Все сюжетные эпизоды стянуты вокруг фигуры героя так, что соотношение героя и мира становится центром произведения. Не случайно диалог героя и повествователя вынесены на природу, происходит в мире: "... Но уже иным показался мне,- говорит повествователь,- в эти минуты скорбного молчания безбрежный мир, готовящийся к великим свершениям весны, к вечному утверждению живого в жизни". Итак, герой шолоховского произведения, самый рядовой и обычный советский человек, рассказывающий повествователю о своем жизненном пути, своем счастье и горе, предстает перед нами многомерным, неоднозначным. Андрей Соколов,. И творение Шолохова вполне можно прочесть как рассказ о жизни одного человека в типичной для военного времени ситуацией. Но Соколов выступает в рассказе не только как личность, значимая своей частной судьбой. Он близок к фольклорным образам, олицетворяющим целый коллектив, он сродни эпическому герою (7; 227). Шолоховский герой - это носитель народной нравственности, воплощение народного характера и поведения. Рассказ называется "Судьба человека", в нем художественно решаются такие проблемы, как сущность человека, смысл его жизни, осознание им своего долга перед собой и обществом, его отношение к судьбе, истории обществу. Меняется в рассказе и осмысление судьбы. Судьба - это не только то, что происходит с человеком помимо его воли, на что он обречен неумолимым ходом событий, судьба - это и деяние человека, его противостояние ходу событий. Так в принципах поэтики Шолохова выражается новая концепция личности, присущая реализму ХХ века. Обобщающий характер носят и заключительные размышления повествователя: судьба Андрея Соколова и его приемного сына осмысляется им во всеобщих категориях бытия, через которое обычно интерпретируется место человека в мире: "Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы..." Герои снова выведены в мировое пространство, в историю, и их судьба, таким образом, перерастает рамки частной жизни. Сюжетно рассказ завершен, закончены и слово героя и слово повествователя. Но события в жизни героя не завершены. Его судьба разомкнута в общий ход жизни, выходит за пределы текста. Создается впечатление, что перед нами фрагмент живой реальности, подлинной и бесконечной. Рассказ лишен счастливого финала. Повествователь спрашивает сам у себя: "Что-то ждет их впереди?"- и продолжает: "И хотелось бы думать, что этот русский человек выдюжит и около плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина". Рассказ Андрея Соколова, трудности, беды, которые он вынес, не утраченная им любовь к людям убеждают нас, что он выдюжит. Читатель понимает, что герой находится перед новым циклом испытаний, но теперь он не одинок, ребенок - это символ будущего, знак обретения героем личностного смысла бытия. Произведения Нобелевского лауреата, великого русского писателя Михаила Александровича Шолохова внесли достойный вклад не только в национальную, но и мировую литературу. Шолохова часто сопоставляют с гордостью американцев - У.Фолкнером, который не знал себе равных в литературе США 1930-1940-х г.г. по видению органической связи микромира отдельного человека и макромира. Сошлемся на высказывание современного исследователя, профессора Джона Пилкингтона: "Высшее достижение романного искусства как раз и пришлись на период до середины 50 г.г. После этого появилось немало хороших мастеров, но ни одного гиганта, во всяком случае, писателя уровня Шолохова или Фолкнера... Они создавали литературу, которая в одно и то же время была и специфически региональной, и глубоко национальной, и мировой. И вот что еще интересно: многие современные им писатели оставили свой след в литературе, разрабатывая тот или иной аспект бытия - трагедию "потерянного поколения", фрейдистские комплексы, отчуждение маленького человека в большом городе и так далее,: но эти два гиганта писали "просто" о человеке и поэтому о каждой из названных проблем написали глубже других" . 18(41). М.Горький «На Дне» В начале 900-х г.г. ведущей в творчестве Горького стала драматургия: одна за другой были созданы пьесы "Мещане" (1901), "На дне" (1902), "Дачники" (1904), "Дети солнца" (1905), "Варвары" (1905), "Враги" (1906). Социально-философская драма "На дне" задумана Горьким еще в 1900 г., впервые опубликована в Мюнхене в 1902г., а 10 января 1903 г. состоялась премьера пьесы в Берлине. Спектакль был сыгран 300 раз подряд, а весной 1905 года отмечалось 500-е представление пьесы. В России "На дне" вышла в издательстве "Знание" в 1903 году. Впервые была поставлена на сцене Малого Художественного театра в Москве 18 декабря 1902 года и имела феноменальный успех. "Первое представление этой пьесы было сплошным триумфом,- вспоминала актриса, ставшая впоследствии гражданской женой Горького, М.Ф.Андреева.- Публика неистовствовала. Вызывала автора несчетное число раз...". Газета "Русское слово" так отзывалась о премьере: "По окончании пьесы овация приняла прямо небывалые размеры. Горький был вызван всем театром более 15 раз. Нечто неподдающееся описанию произошло, когда Горький, наконец, вышел на вызовы один. Такого успеха драматурга мы не запомним..." (5; 7, 613). ДИСКУССИИ ВОКРУГ ОБРАЗА ЛУКИ Центральным образом пьесы стал Лука, и с самого начала он воспринимался критиками и рецензентами противоречиво. Одни считали, что старик "вызвал к свету все хорошее, что раньше дремало беспробудно". Было высказано даже мнение, что Лука "не кто иной, как Данко, которому приданы лишь реальные черты" (Э.А.Старк). Другие принимали противоположную сторону и утверждали, что "более язвительной сатиры на "ложь с благонамеренной целью", чем роль Луки, нельзя написать" (А.В.Амфитеатров). Сам Горький в трактовке образа Луки скорее сближался с Амфитеатровым. Известны многие его высказывания, относящиеся, как к дореволюционному, так и к послереволюционному периоду. В конце 1910 г. в одной из бесед Горький дал такую характеристику главному персонажу: "Лука - жулик. Он, собственно, ни во что не верит. Но он видит, как страдают и мечутся люди. Ему жаль этих людей. Вот он им и говорит разные слова - для утешения". В 1912 г. Горький писал Льву-Рогачевскому: "...Убейте одно давнее недоразумение, очень неприятное для меня: Развенчайте Луку: это отнюдь не положительный характер...". Он же признавался А.В.Луначарскому: "Лука - это поистине лукавый человек... Лука умеет приложить пластырь лжи ко всякому больному месту. Его дело, найдя человека с вырванным клоком сердца, создать в награду для восстановления равновесия какую-то по мерке сделанную и подходящую ложь, - утешительный обман...". Порой Горький высказался о Луке еще резче: "Подлый он старикашка, Лука! (...) Обманывает сладкой ложью людей и этим кормится (...) С самого начала задумал я странника пройдохой, жуликом... (5; 7, 621-622). В статье "О пьесах" Горький еще раз возвращался к образу старика: "Утешители этого ряда - самые умные, знающие и красноречивые. Они же поэтому и самые вредоносные. Именно таким утешителем должен был быть Лука в пьесе "На дне", но я, видимо, не сумел сделать его таким...". Такой же взгляд на Луку установился и в советском литературоведении. Правда, на рубеже 60-х-70-х г.г. была сделана попытка трактовать этот образ как проявление традиций народной нравственности и добрых начал человеческой натуры (И.Кузьмичев, Е.Сидоров и др). Но в официальном горьковедении побеждало определение Б.Бялика: Лука - лицемерный лгун, сознательно играющий на страданиях людей. Эта же тенденция сохраняется и поныне. Так, Л.А. Смирнова, пытаясь раскрыть суть отношения автора к своему персонажу на основе его публицистических высказываний, пишет: "Для писателя Лука был неприемлем, потому что он тормозил своей ложью прозрение, мешал изживанию ошибок, насаждал пассивизм" (29; 64) С этих позиций уважаемый ученый и подходит к трактовке образа странника, в результате чего появляются суждения и оценки более частного характера: "На основе такого убеждения - все образуется само собой рождается пассивное ожидание Луки"; "старика не занимают перспективы роста отдельной личности", "Лука приспосабливается", он ночлежникам "предлагает иллюзорный выход"; почти каждый из обитателей ночлежки " получает опасную игрушку - ложную надежду на спасение"; "без устали "творит" варианты для успокоения заблудших"; Лука "приходит в ночлежку с давно сложившейся уверенностью в необходимость выжидательной позиции и уходит, вернее, убегает от попавших в беду людей с тем же убеждением"; "милосердие же Луки, обращенное будто к конкретным лицам, на деле равнодушное и унифицированное" (29; 64-71). Однако понятийно-логическая автоинтерпретация далеко не всегда соответствует художественному прозрению писателя. Горьковские оценки образа Луки, на которые опирается Л.А.Смирнова,- именно такой случай. Больше того "комплекс Луки" с его "золотыми снами", "возвышающим обманом", "темной загадочной ненавистью к истине" в творчестве и жизненном поведении Горького отмечаются многими исследователями и мемуаристами: М.Агурским, В.Ходасевич, Ю.Данзас и другими (34; 14). С.И.Сухих считает, что только в "Жизни Клима Самгина" "Горький навсегда расстался со своим любимым и вечным спутником - Лукой" (34; 19). С явной симпатией, однозначно положительной оценкой представляют Луку методические журналы: "Старик свято верует, что жалость, сострадание, милосердие, даже просто внимание к человеку, уважение к нему - это те ступени, по которым даже заблудшую душу можно поднять на человеческую высоту... Лука приходит не для того, чтобы расставить силки лжи и испытать их прочность, не для того, чтобы поманить неизвестно куда и покинуть на бездорожье,- он приходит, чтобы людям, потерявшим себя, напомнить, что они люди" (28; 23).. И мнение это не единичное (25; 217). Обычно критика упрекает Луку в том, что он лжет. Даже обитатели подвала воспринимают его как вруна, сказочника. Бубнов говорит по этому поводу: "Вот - Лука, примерно... много он врет..." Пепел обращается к нему со словами: "Врешь ты хорошо... Сказки говоришь приятно! Ври! ничего..." Да и сам автор воспринимал речи старика своеобразной сиреной, которая "поет ложь из жалости к людям, она знает, что правда - молот, удары ее эти люди не выдержат, и она хочет все-таки обласкать их, сделать им хоть чтонибудь хорошее, дать хоть каплю меда и - лжет" (5; 7, 603). Однако правы те, кто утверждает, что в пьесе нет ни одного момента, когда Луку можно поймать на откровенной, вредоносной лжи (28; 22 и 9; 47). Но если быть принципиальным до конца, если буквально и прямолинейно следовать букве текста пьесы, то отыщутся в словах старца места, к которым можно придраться: с материалистической точки зрения, естественно, ложными выглядят речи о предстоящей Анне райской жизни; притчу о праведной земле Лука повествует не как легенду, а как быль: "Был, примерно, такой случай: знал я одного человека, который в праведную землю верил..." И все же, несмотря на эти факты, думается, можно присоединиться к суждению Г.Ребель о том, что Лука в пьесе ни разу вредоносно не лжет. Что же касается распространенного до сих пор мнения об обмане Актера сказкой о бесплатных лечебницах для алкоголиков, то о наличии их в дореволюционной России - в Казани, Москве, Киеве - было сказано Вс. Троицким еще в 1980 г. и повторено другими исследователями Н.Жегаловым, П.Долженковым, Е.Поповой. Глубже других проблему лжи в пьесе затрагивает П.Н.Долженков и трактует ее так: "Надежда в своем пределе - это Ложь" (9; 47). Исследователь приходит к выводу, что "Лука не врет в прямом смысле этого слова, но, по Горькому, он врет в принципе" (9; 48), потому что вселяет беспочвенные надежды. Как видим, проблема переходит в иную плоскость и приходится уже отвечать на другие вопросы: были ли беспочвенными советы Луки? нужно ли вообще вселять в людей надежду? Второй вопрос представляется риторическим, и потому, опуская его, переходим к первому. И здесь, думается, стоит прислушаться к мнению исследователей, уже процитированных нами: Н.Жегалов, например, считает, что Лука "в каждой конкретной ситуации выступает как самый трезвый, деловой консультант. Его практические советы - это своеобразная программа-минимум для обитателей ночлежки..." (10; 5). Е.Попова, оспаривая тезис "сеятеля иллюзий" применительно к Луке, эмоционально вопрошает: "Что же иллюзорного в том, что Актеру надо искать лечебницу, которая реально существовала? А для Пепла с его клеймом вора, которое вовек не снять в этом городе, разве иллюзия Сибирь, где с его удалью и силой можно жить по-человечески?" (25; 216). Эту же линию продолжает развивать П.Н.Долженков: "Скорее всего Сибирь - то место, где Пеплу легче всего начать новую жизнь, порвав навсегда связи со своей средой. Во-первых, малоосвоенная Сибирь для сильного человека, а Пепел таков, представляла довольно богатые возможности устроить свою жизнь. А главное ведь в том, что Пепел, как он сам говорил, начал воровать потому прежде всего, что за всю жизнь никто его иным именем, кроме как "вор", "воров сын", не называл. Поэтому Сибирь место, где его никто не знает и вором не назовет, идеальное для Пепла... Актер, Пепел, Наташа тяжело переживают свое существование на дне жизни, и Лука стремится помочь им изменить свою судьбу. Не к примирению, а к действию призывает он их. "Лукавый старец" будит в сожителях надежду на то, что чаемое ими осуществимо и залог тому наличествует в действительности: есть больница для Актера, Сибирь для Пепла и Наташи" (9; 47) Как видим, исследователи не находят советы Луки ни иллюзорными, ни ложными, наоборот, подчеркивается их практичность, возможность претворения их в жизнь. Здесь же можно вспомнить и о Савеле Пильщике из рассказа Горького "Отшельник", который признавался: "... и в Сибири был, там большие деньги заработал..." Таким образом, вопрос о том, лжет Лука или нет, сеет иллюзии или несбыточные надежды, думается, можно снять. Но при этом остаются другие, не менее важные вопросы: почему же не оправдались эти надежды, если они столь хороши и практичны? Почему ни один из советов странника не был претворен в жизнь? Почему, в конце концов, столь трагичен финал: Наташа после больницы скорей всего покидает не только ночлежку, но и город, Пепел - в тюрьме, Актер кончает жизнь самоубийством? В обычной практике критика сводит эти вопросы опять же к образу Луки: случившееся выступает в качестве неоспоримых доказательств вредоносности и шарлатанства старика. Имея в виду эту "цепную реакцию трагедий" в финале пьесы, Л.А.Смирнова приходит к заключению: "Трудно представить другой столь же сильный исход опасной деятельности Луки" (29; 228). Нам остается лишь повторить слова оппонента подобной точки зрения: "Но если бы истинным виновником этих драм был один человек!" (25; 218). Н.Жегалов придерживается того мнения, что практические советы Луки, полученные Актером, Васькой Пеплом и Наташей, не были реализованы "не потому, что советы были плохие, а потому, что обитателям "дна" не хватало энергии и воли для их претворения в жизнь" (10; 6). РОЛЬ ЛУКИ В РАЗВИТИИ СЮЖЕТА В свете непрекращающихся споров, возможно, не лишне еще раз вернуться и более детально рассмотреть взаимоотношения Луки с некоторыми из ночлежников. Начнем с Актера. Небезынтересно выявить, каким был этот персонаж до появления старца в подвале и какие затем произошли в нем перемены. Актер впервые представляется читателю в заключении авторской ремарки, открывающей пьесу: "На печке, невидимый, возится и кашляет Актер". Он не сразу включается в будничную суматоху подвальной жизни и словесную перебранку между обитателями ночлежки. Одними из первых слов, произносимых им с гордостью, являются: "Мне вредно дышать пылью. Мой организм отравлен алкоголем..." На протяжении лишь трех страниц эта же фраза, варьируясь, повторяется Актером трижды. Он же, выводя Анну в сени, говорит Костылеву: "... видишь - больные идут?.." Значительны и авторские ремарки, характеризующие состояние Актера: "задумывается, сидя на нарах", "тоскливо осмотревшись вокруг..." В этом ряду фактов символическим содержанием, предвосхищающим трагический финал, наполняется фраза Актера: "Офелия! О... помяни меня в твоих молитвах!..." Не об обреченности ли героя с самого начала говорит все это? В 1902 г. Горький писал И.А.Тихомирову: "В будущей моей пьесе я очень буду просить Вас играть роль спившегося актера-босяка. Это человек, который в первом акте с гордостью говорит: "М-мой организм отравлен алкоголем!" - потому говорит с гордостью, что хоть этим хочет выделить себя из среды серых, погибших людей. В этой фразе - остатки его чувства человеческого достоинства" (5; 7, 603). Уж что за человек, у которого только и осталось "достоинств", что отравленный алкоголем организм?.. Одно званье - Актер. Даже по имени никто его не зовет. Он забыл не только любимое стихотворение (а "в любимом вся душа"), но и то, что было у него когда-то сценическое имя - Сверчков-Заволжский... Потерять имя для впечатлительного Актера равносильно смерти. По его мнению, "Без имени нет человека". Неслучайно он оговаривается, когда умерла Анна: "Я иду, скажу... потеряла имя!.." Одним словом, остался от человека один облик, или, пользуясь терминологией Бубнова, "один голый человек". Но вот эта погибшая душа сталкивается со странником и, возможно, за долгое время пребывания в ночлежке ему впервые захотелось продекламировать куплеты покладистому, незлобивому, внимательному к окружающим старику. Но... он забыл стихотворение. Он напрягает память, в волнении он потирает лоб, осознает насколько это плохо, но... тщетно. "Пропил я душу, старик... я, брат, погиб..."грустно признается он страннику без какого-либо расчета на сочувствие или соучастие. Но старик живо откликается на его беду: "Ну, чего? Ты... лечись! От пьянства нынче лечат, слышь! Бесплатно, браток, лечат... такая уж лечебница устроена для пьяниц... чтобы, значит, даром их лечить (...) Ну-ка, вот, валяй! Иди..." Состояние Актера на протяжении разговора передают ремарки: "Задумчиво", "улыбаясь", "смеется", "вдруг, как бы проснувшись", "свистит". "Н-да... Снова? Ну... да! Я могу!? Ведь могу, а?"- встрепенулась его душа, но сам он еще не верит в такую возможность, в счастливый исход, но уходит повеселевший, ободренный. Мы не знаем, чем он занимался во время отсутствия, вероятно, пил. Но можем утверждать наверняка, что возбужденное состояние его не покидало и что, вдобавок к тому, началась внутренняя духовная работа. Свидетельством тому является то, что он за это время восстановил в памяти забытые любимые стихи. И вот ему уже не терпится прочитать их Луке. Прямо с порога, даже не затворив за собой двери, придерживаясь руками за косяки, он весело кричит: "Старик, эй! Ты где? Я - вспомнил... слушай". И, шатаясь, приняв позу декламатора, читает... С этого момента начинается пробуждение в Актере Человека. Перестав пить, он начал мести улицу, зарабатывая деньги на дорогу в больницу. Эти факты интересны не столько сами по себе, сколько по тому, как приоткрывают душевное состояние героя: "Я - иду! Я сегодня - работал, мел улицу... а водки - не пил! Каково? Вот они - два пятиалтынных, а я - трезв!" Воистину, не всегда важно, что говорят, но всегда: как. Обратим внимание, сколько восклицательных знаков в небольшой фразе! Актер говорит с гордостью, и эта гордость уже не вызывает иронии. В нем ощущается уже не напускное, а истинное чувство собственного достоинства, правда, иной раз расцвечиваемое высокопарными фразами, но это уже от былой профессии, ставшей второй натурой. Такая резкая перемена в Актере происходит почти в конце третьего акта, а в финале пьесы мы узнаем, что он удавился. В чем причина? Думается, есть необходимость вернуться ко второму акту. После обретения надежды на выздоровление и решения ехать в больницу ("Кончено и решено! Старик, где город..."), радужное настроение Актера наталкивается на холодный скептицизм Сатина: "Фата-моргана! Наврал тебе старик... Ничего нет! Нет городов, нет людей... ничего нет!" Спор, начавшийся между Актером и Сатиным во втором акте, продолжается и в третьем: "Чепуха! Никуда ты не пойдешь... все это чертовщина!- резко остужает Сатин взбудораженные мысли Актера и обращается к Луке: - Старик! Чего ты надул в уши этому огарку?" По поводу же заработанных на дорогу денег тот же Сатин цинично заявляет: "Дай, я пропью... а то проиграю..." В четвертом акте сарказм Сатина еще более усиливается. Когда Настя с остервенением говорит о том, что все ей в ночлежке опротивело и она уйдет куда-нибудь, хоть на край света, Сатин, со свойственным ему ехидным благодушием в присутствии Актера замечает: "Пойдешь, - так захвати с собой Актера... Он туда же собирается... ему известно стало, что всего в полуверсте от края света стоит лечебница для органонов..." В позиции Сатина проявляется полное неверие в человеческие возможности, бессмысленность и бесперспективность борьбы против существующего порядка вещей. Достойно удивления то, что в общем-то слабохарактерный Актер достаточно долго упорствовал в решении найти лечебницу, не поддаваясь скептицизму Сатина. Характерно, что в четвертом акте, когда идет нищий пир (на столе бутылка водки, три бутылки пива, ломоть черного хлеба), Актер не принимает в нем участия. Он все также возится и кашляет на печи, где его и настигает ирония и сарказм Сатина. Актер огрызается, он все еще упорствует: "Да! Он - уйдет! Он уйдет... увидите!" Но в ряд восклицательных знаков уже вкрапляется многоточие, как бы намекающее, что Актер спорит больше из принципа, нежели из твердой убежденности в возможность счастливого исхода. В последующей фразе густо "заселенные" многоточия уже со всей очевидностью приоткрывают внутренние сомнения персонажа, назревающий душевный кризис: "... Вы увидите - он уйдет! (...) Он - найдет себе место... где нет... нет..." "Ничего нет, сэр?"- ерничает безалаберный Барон, придавая не оформившейся мысли Актера конкретное направление, и артистическая натура последнего, возможно, еще до конца не осмыслив трагического содержания бароновой подсказки, подхватывает и придает ей логическое завершение: "Да! Ничего! "Яма эта... будет мне могилой..." После этого произойдет окончательный надлом в душе героя. И тогда он попросит татарина помолиться за него, выпьет водки и почти бегом кинется в сени, будто боясь, что кто-то остановит и помешает свершиться задуманному. Самоубийство Актера было осознанным шагом, на что указывает последнее слово, произнесенное им в пьесе: "Ушел!" Только потом мы поймем, что, слезая с печи, он уже знал, что пойдет по адресу, подсказанному Бароном... Подчеркнем еще раз: Актер был обречен с самого начала, но логический его конец ускорили Сатин и Барон, вольно ли, невольно ли, но к петле Актера подвели они. (П.Н.Долженков считает, что "смерть Актера - полностью заслуга Сатина, разубедившего его в существовании лечебниц для алкоголиков" (9; 49). Роковому его шагу способствовала и общая атмосфера совершенной апатии, царившей в ночлежке, общее неверие в человеческие силы, в возможность как-либо воздействовать или изменить обычный круг жизненных явлений, незаинтересованность, равнодушие и безразличие к судьбе товарища. За исключением Луки, не нашлось ни одного, кто поддержал бы, ободрил Актера в его намерении, кто отвел бы от него язвительные реплики Сатина или просто ослабил их сокрушительное влияние на героя. Один только Лука заметил Сатину: "А ты - почто его с толку сбиваешь?" Причины смерти Актера видят и в пробудившемся чувстве человеческого достоинства и в осознании невозможности стать достойным человеком, бессилии перед судьбой и нежелании жить ничтожным (25; 215-216). Верность такой трактовки подкрепляется одними из последних слов Актера, обращенных к ночлежникам: "Зачем вы живете? Зачем?" Действительно, "реанимация души оказалась смертельной для тела при парализованной долгими годами пьянства воле и под давлением мрачных подвальных сводов. У Актера уже не было сил бороться с собой, с обстоятельствами, с судьбой, он беспомощен без наставника и поводыря, но у него достало мужества добровольно отказаться от бессмысленного, скотского существования" (28; 224). Пепел - человек с характером. Воздействовать на него не так просто, как на Актера. Но, несмотря на сопротивляемость "материала", Лука не остается безучастным. Понаблюдав перепалку между Медведевым и Пеплом, выслушав их взаимные угрозы, Лука скорей всего почувствовал, что рано или поздно Пепел закончит тюрьмой, тем более, что опыт пребывания в местах не столь отдаленных у того уже был. И старик ненавязчиво советует ему: "... отойти бы тебе, парень, прочь с этого места" и тут же называет конкретный адрес: "... в Сибирь!" Для вора Пепла Сибирь в первую очередь ассоциируется с острогами да каторгами и, естественно, что слова Луки воспринимаются им в этой плоскости: "Эге! Нет, уж я погожу, пока пошлют меня в Сибирь эту на казенный счет..." Лука не унимается: "А ты слушай, иди-ка! Там ты себе можешь путь найти... Там таких надобно!" Но Пепел уверен в своем пути, обозначенном еще родителем-вором, и отводит слова Луки как неприемлемые для него. Каким же желанием добра нужно обладать, чтобы и после этого, в третий раз, настаивать на своем: "А хорошая сторона - Сибирь! Золотая сторона! Кто в силе да в разуме, тому там - как огурцу в парнике!" Но Пепел - скептик. Он воспринимает речь старика как очередную сказку, вранье ("Там у тебя хорошо, здесь хорошо... ведь - врешь!") и остается при своих убеждениях. Но и после этого Лука не уступает. Более того, он спасает Пепла от непоправимого шага еще во втором акте, когда тот в порыве гнева чуть не убивает Костылева. Не завозись Лука вовремя на печи, еще не известно, насколько раньше угодил бы Пепел в тюрьму. О том, что действия Луки в этот момент не были случайностью, а продуманной тактикой, говорят его же слова: "... Жарко мне стало... на твое сиротское счастье... И - опять же - смекнул я, как бы, мол, парень-то не ошибся... не придушил бы старичка-то..." О вероятности такого исхода свидетельствует и последующая реплика самого Пепла: "Да... я это мог..." После этого случая для Луки стало еще очевидней, что свободный век Пепла не столь долог, и он еще раз настойчиво повторяет свое: "Ты слушай: которая тут тебе нравится, бери ее под руку да отсюда - шагом марш! - уходи! Прочь уходи..." Непривычный к вниманию и заботе Пепел даже сразу не может поверить, что все это бескорыстно, по доброте души. Красноречива в этом плане его фраза, обращенная к старику: "Нет, ты скажи - зачем ты все это...", которую он произносит, беря странника за плечо. Авторская ремарка показывает, что Пепел тронут, он искренне недоумевает, он уже готов предположить, что старик просто добр к нему без всякого расчета... Думается, здесь берет начало та внутренняя работа, которая незримо для читателя начинает происходить в воре. Результат же этой работы обнаружит себя уже в третьем акте, когда Пепел твердо и убежденно говорит Наташе: "Я сказал - брошу воровство! Ей богу - брошу! Коли сказал - сделаю! Я - грамотный... буду работать... Вот он говорит - в Сибирь-то по своей воле надо идти... Едем туда, ну?.. Ты думаешь - моя жизнь не претит мне? (...) Я - не каюсь... в совесть я не верю... Но - я одно чувствую: надо жить... иначе! Лучше надо жить! Надо так жить... чтобы самому себя можно мне было уважать..." "Это прозрение,- как справедливо говорит один из критиков.- В своей решимости Пепел подошел к порогу, от которого можно ждать переворота в его судьбе, но..." (25; 216). Лука говорит о Пепле: "... парень - крепкий..." Читатель и сам ощущает, что у этого героя слова с делом не разойдутся, если что он задумал - добьется. В отличие от Актера, поводыря ему не нужно, ему нужен смысл, ради чего переиначивать уже "обозначенный" путь. Этот смысл для Пепла заключен в любви к Наташе и в убеждении, что надо жить, уважая себя. Таким образом, смысл был обретен, Наташа после колебаний и раздумий все же склоняется разделить его судьбу, но... Нравственно-этические функции свои по отношению к Пеплу и Наташе (которые, кстати сказать, кроме собственного человеколюбия, никто на него не налагал) Лука выполнил. А то, что следует после классического "но...", ему просто не подвластно. Лука не может распоряжаться поведением всех людей, мотивами их поступков. И когда Костылев и Василиса начинают избивать Наташу и опрокидывают на нее горячий самовар, что мы можем требовать от старца в преклонных годах помимо того, что он счел нужным сделать: позвать Пепла, который смог бы защитить Наташу? Даже в этом эпизоде чуткость и забота о других не только не изменяют старику, но проявляются еще обостренней: он первый почувствовал неладное в квартире Костылевых и "беспокойно" отреагировал: "Наташа? Она кричит? а? Ах ты...", а в последующей фразе, которую он произносит "суетясь", обнаруживается искреннее страдание от своей беспомощности: "Василия бы... позвать бы Васю-то... ах, господи! Братцы... ребята..." Ситуация, как принято говорить теперь, вышла из-под контроля: Пепел в ярости убивает Костылева и попадает в тюрьму, обваренная кипятком Наташа выходит из больницы и исчезает из города... Все так, но в чем же Лука-то виноват? В том, что "незаметно исчезает" в тяжелую для ночлежников минуту? Мы уже отмечали, что изменить сложившуюся ситуацию Лука не мог, а, во-вторых, независимо от счастливого или трагического финала Лука уже собирался покидать ночлежку. В сцене на пустыре он трижды говорит об этом: "Ну, ребята!.. живите богато! Уйду скоро от вас..." Затем на вопрос Костылева "Уходишь, говорят", утвердительно отвечает: "Пора...", а после стычки с Василисой снова убежденно повторяет: "Сегодня в ночь - уйду..." И это все до трагедии Пепла и Наташи. Не из-за страха или безответственности перед своей "паствой", как обычно трактуют его поведение, уходит Лука, а потому, с одной стороны, что настал срок, а с другой - он все равно никак не мог повлиять на ход событий. Уход Луки - это не бегство с тонущего корабля. Путь этого "корабля" был обозначен еще задолго до прихода Луки в ночлежку. Конечно, для нравственного облика Луки было бы выигрышней, если бы ушел он попозже, если бы мы стали свидетелями того, как он сокрушается о случившемся, но, повторимся еще раз, это не изменило бы истинного положения вещей. Итак, Лука ушел. Но присутствие его в ночлежке ощущается даже после его реального ухода. Этот факт уже сам по себе говорит о значительности фигуры старика, о неординарности его личности. Яркий, хотя и неоднозначный след оставил он в судьбах если не всех обитателей ночлежки, то многих из них. Потому-то и разгорается столь страстный, а порой и пристрастный спор о нем. ЛУКА И САТИН В недавнем прошлом Сатин, "представитель истинного гуманизма", противопоставлялся Луке, которому отводилась роль сторонника "ложного гуманизма", хотя еще Луначарский в статье "М.Горький" сближал проповеди Луки и Сатина. Эти две фигуры действительно противостоят, но в иной плоскости, а в той, где их обычно ставили друг против друга, они скорей являются союзниками. Рассмотрим проблему подробней. В статье П.Н.Долженкова "Существует только человек", где дается характеристика основным персонажам пьесы, занимает свое особое место и Сатин. Приведем здесь некоторые отзывы о нем: "Просто "обременяет землю" прежде всего сам Сатин", "Он барственно равнодушен к людям", "Сатин проповедует презрение к нравственным ценностям", "Отуманивая людей громкой фразой, он подсовывает им оправдание аморальности", "Ставя в центр своей философии понятие "свободный человек", доводимое до крайности: "свободный от всего",- он становится идеологом "дна", то есть утверждает "дно" как норму существования, единственно достойную настоящего человека", "Он растлевает ночлежников, он препятствует их попыткам уйти со дна жизни", "Отнимите у Сатина его монологи, и останется Сатана" (9; 49). Возможно, оценки Долженкова грешат крайностью, возможно, они в чем-то преувеличены, но, думается, суть их в общем-целом можно принять "за основу", тем более, что к каждому тезису можно найти подкрепляющие примеры в тексте пьесы. И такая фигура, естественно, резко противостоит мягкому, внимательному, заботливому образу Луки. Но в споре о человеке, где эти герои противопоставлялись друг другу, они скорее союзники, нежели противники. Во всяком случае, точек соприкосновения у них можно обнаружить немало: "Человек! Это звучит гордо! Это великолепно! Не жалеть, не унижать его жалостью, а уважать человека надо!.."- восклицает Сатин. Но в отличие от этого персонажа, устремленного к идеалу Человека, Лука любил и уважал вполне конкретных людей. "Любить живых надо... живых",- говорил он и добавлял: "Человек должен уважать себя",- что смыкается с призывом Сатина. Г.М.Ребель одна из первых заметила эту взаимосвязь. "Монолог этот (о Человеке Сатина - П.Ч.),- пишет она,- навеян Лукой, во многом продиктован Лукой, и даже, когда Сатин спорит со стариком, он, в сущности, соглашается с ним". Приводя же слова Сатина о том, что не нужно унижать человека жалостью, учительница продолжает: "Слова эти обычно трактуются как опровержение, даже ниспровержение одного из главных постулатов Луки: "Жалеть людей надо!" Между тем именно Лука настойчиво внушал ночлежникам идею уважения к человеку. Что же касается жалости, то Сатин делает неслучайное и очень существенное уточнение: "Не жалеть... не унижать жалостью..." Но унижает презрительная жалость, а так, по-доброму, искренне, как Лука, "человека пожалеть" - "хорошо бывает" (28; 24). Вера Луки в человека и его возможности была велика. "Кто ищет - найдет...- говорил он о лучшей жизни.Кто крепко хочет - найдет!" А в другом месте: "Тюрьма добру не научит, и Сибирь не научит... а человек научит!... да! Человек может добру научить... очень просто!"- говорил он и проповедовал добро в силу своих возможностей. Сам Сатин, признавался, что Лука подействовал на него, как кислота на старую монету, то есть очищающе. Можно ли найти пример более благотворного воздействия на человека? Отсюда его стремление защитить Луку: "Молчать! Вы - все - скоты! Дубье... молчать о старике!.. Старик - не шарлатан!.. Человек - вот правда! Он это понимал..." Протест Сатина против утешительной лжи нельзя противопоставлять поведению Луки. Этот протест направлен по другому адресу - сугубо социальному: протест против лжи, которая, подобно смертоносной паутине, опутывает все общество. Поэтому в конце ХХ века, когда обозначилось крушение тоталитарной системы и стало ясно, что проблемы жизни людей "дна" на деле не были сняты советской властью. Повторим сказанное: "Сатинская формула: "Ложь - религия рабов и хозяев... Правда - бог свободного человека!" ныне звучит столь же своевременно, как и восемь десятилетий назад" 19(43). Творческая судьба Твардовского. А. Т. Твардовский - русский поэт и общественный деятель. Член КПСС с 1940. Депутат Верховного Совета РСФСР 2, 3, 5, 6-го созывов. На XIX съезде партии (1952) избран членом Центральной Ревизионной Комиссии, на XXII (1961) - кандидатом в члены ЦК КПСС. В 195054 и 1958-70 - главный редактор журнала «Новый мир». Сын кузнеца, «человека грамотного и даже начитанного по-деревенски», Твардовский рано приобщился к чтению. Учился в сельской школе, позднее в Смоленском педагогическом институте, на филологическом факультете Московского института истории, философии и литературы, который окончил в 1939 г. Детство и юность Твардовского прошли в пореволюционной деревне, которая, по его определению, «...была охвачена жизнедеятельным порывом...» По-своему отразилось это и в судьбе Твардовского, начавшего писать стихи с раннего детства, селькора с 1924, корреспондента смоленских газет в пору коллективизации. Судьба крестьянина в эти годы стала темой ранних произведений Твардовского: поэм «Путь к социализму» (1931) и «Вступление» (1933), «Сборника стихов. 1930 - 1935» (1935). Но с подлинной художественной силой и наибольшим реализмом тема коллективизации воплотилась в поэме «Страна Муравия» (1936; Государственная премия, 1941). Герой поэмы Никита Моргунок не только наблюдает во время своих странствий картины крестьянской жизни в пору «великого перелома», но и сам воплощает драму нелёгкого расставания с прежними иллюзиями. Язык поэмы простой, разговорный и в то же время красочный, богатый образами. В лирике 30-х гг., составившей сборники «Дорога» (1938), «Сельская хроника» (1939) и «Загорье» (1941), Твардовский стремился уловить изменения человеческих характеров в колхозной деревне, создать образы её людей. Участие Твардовского в освобождении Западной Белоруссии в 1939 и в финской кампании в качестве корреспондента военной печати подготовило его обращение к образу воина, в котором лучшие черты национального характера обогащены влиянием новых идеалов. В образе Василия Тёркина, героя «Книги про бойца» (1941-45; Государственная премия, 1946), автор воплотил значительность, многообразие мыслей и чувств своих соотечественников, «...присущую всем суровую и сосредоточенную думу о судьбах родины, пережившей величайшие испытания». Эта книга, писал Твардовский в автобиографии, была «моей лирикой, моей публицистикой, песней и поучением, анекдотом и присказкой, разговором по душам и репликой к случаю». «Это поистине редкая книга, - писал И. А. Бунин. - Какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всём и какой необыкновенный народный солдатский язык - ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова!» Ответившая на живейшую потребность миллионов людей осознать смысл происходящих событий - «смертного боя» с фашизмом, ярко выразившая моральные идеалы народа, книга Твардовского получила огромную известность, вызвала многочисленные подражания, стихотворные продолжения, инсценировки и т.д. Помимо неё Твардовский в 1941-45 создал многочисленные стихи, объединённые во «Фронтовую хронику», очерки, корреспонденции. В послевоенном творчестве Твардовский во многом по-новому, всё глубже и разностороннее осмысливает исторические судьбы народа, «...мир большой и трудный...» В поэме «Дом у дороги» (1946; Государственная премия, 1947) с огромной трагической силой изображена судьба солдата Андрея Сивцова и его семьи, угнанной при отступлении врагом. «Счастье - не в забвеньи!» таков морально-этический пафос этой поэмы и многих лирических стихов Твардовского послевоенных лет. Широким по охвату лирико-публичистическим произведением явилась поэма Твардовского «За далью даль» (1950-60; Ленинская премия, 1961). Путевой дневник поэта перерастает здесь в исповедь сына века, современника, которого «две дали... влекут к себе одновременно»: сложнейший, полный героики и трагизма период, пережитый народом, и - будущее, богатое новыми замыслами и свершениями. Книга Твардовского многосторонне и многокрасочно отобразила общественное умонастроение 50-х годов, когда «...в дела по-новому вступил его, народа, зрелый опыт и вместе юношеский пыл.» Высказанные в поэме остро полемические суждения Твардовского об искусстве, долге художника во многом перекликаются с его сатирической поэмой «Тёркин на том свете» (1954-63), где создан своеобразный гротескный образ «потустороннего мира», представлены, по словам автора, «...в сатирических красках те черты нашей действительности - косность, бюрократизм, формализм, - которые мешают нашему продвижению вперёд...» Чертами лирической летописи, запечатлевшей перемены, происходящие в жизни народа, характеризуются сборники Твардовского «Стихи из записной книжки» (1961) и «Из лирики этих лет, 1959 - 1967» (1967; Государственная премия, 1971). Напряжённые раздумья о жизни, времени, людях характерны и для прозы Твардовского. Вдумчивым критиком, верным традициям классической литературы, проявил себя Твардовский в книгах «Статьи и заметки о литературе» (1961) и др. Своей организационно-редакторской деятельностью, примером собственного творчества, общественнолитературного поведения Твардовский достойно продолжал традиции русской литературы. Его помощь и поддержка ощутимо сказалась в творческой биографии многих писателей. В своём творчестве Твардовский правдиво и страстно запечатлел важнейшие, ключевые этапы жизни народа, общества. Народность, демократизм, доступность его поэзии достигаются богатыми и разнообразными средствами художественной выразительности. Простой, лишённый орнаментальных украшений народный слог органически сплавляются в его поэзии с высокой языковой культурой, идущей от русской классики, от традиций Пушкина и Некрасова, и с современной лексикой. Реалистическая чёткость образа, интонационная гибкость, богатство и смелое варьирование строфического построения стихов, умело и с тонким чувством меры применяемая звукопись, аллитерации и ассонансы всё это сочетается в стихах Твардовского экономно и гармонично, делая его поэзию одним из самых выдающихся явлений литературы. Переводил стихи белорусских, украинских и других поэтов. Произведения Твардовского переведены на многие иностранные языки. 20(45). Творчество А.Солженицина. Проблематика и поэтика История жизни Александра Исаевича Солженицына (11.XII.1918, Кисловодск) - это история бесконечной борьбы с тоталитаризмом. Уверенный в абсолютной нравственной правоте этой борьбы, не нуждаясь в соратниках, не страшась одиночества, он всегда находил в себе мужество противостоять советской системе - и победил в этом, казалось бы, совершенно безнадежном противостоянии. Его мужество было выковано всем опытом жизни, пришедшейся на самые драматические изломы советского времени. Те обстоятельства русской социально-исторической действительности 30-50-х годов, которые ломали и крушили твердые, как сталь, характеры профессиональных революционеров и бравых красных комдивов, лишь закалили Солженицына и приготовили его к главному делу жизни. Скорее всего и литературу он избрал как орудие борьбы - она отнюдь не самоценна для него, а значима постольку, поскольку дает возможность представительствовать перед миром от лица всех сломленных и замученных системой. Окончание физико-математического факультета Ростовского университета и вступление во взрослую жизнь пришлось на 1941 г. 22 июня, получив диплом, Солженицын приезжает на экзамены в Московский институт истории, философии, литературы (МИФЛИ), на заочных курсах которого учился с 1939 г. Очередная сессия совпала с началом войны. В октябре мобилизован в армию, вскоре зачислен в офицерскую школу в Костроме. Летом 1942 г. - звание лейтенанта, а в конце - фронт: Солженицын командует «звукобатареей» в артиллерийской разведке. Офицером-артиллеристом он проходит путь от Орла до Восточной Пруссии, награждается орденами. 9 февраля 1945 г. капитана Солженицына арестовывают на командном пункте его начальника, генерала Травкина, который спустя год после ареста дает своему бывшему офицеру характеристику, где перечисляет, не побоявшись, все его заслуги - в том числе ночной вывод из окружения батареи в январе 1945 г., когда бои шли уже в Пруссии. После ареста - лагеря: в Новом Иерусалиме, в Москве у Калужской заставы, в спецтюрьме № 16 в северном пригороде Москвы (Марфинская «шарашка», описанная в романе «В круге первом», 1955-1968). С 1949 г. - лагерь в Экибастузе (Казахстан). С 1953 г. Солженицын - «вечный ссыльнопоселенец» в глухом ауле Джамбульской области, на краю пустыни. В 1956 г. - реабилитация и сельская школа в поселке Торфопродукт недалеко от Рязани, где недавний зэк учительствует, снимая комнату у Матрены Захаровой, ставшей прототипом хозяйки «Матрениного двора» (1959). В 1959 г. Солженицын «залпом», за три недели, создает повесть, при публикации получившую название «Один день Ивана Денисовича», которая после долгих хлопот А.Т. Твардовского и с благословления самого Н.С. Хрущева увидела свет в «Новом мире» (1962. № 11). С середины 50-х годов начинается наиболее плодотворный период творчества писателя: создаются романы «Раковый корпус» (1963-1967) и «В круге первом» (оба публикуются в 1968 г. на Западе), идет начатая ранее работа над «Архипелагом ГУЛАГ» (19581968; 1979) и эпопеей «Красное колесо» (работа над большим историческим романом «Р-17», выросшим в эпопею «Красное колесо», начата в 1964 г.). В 1970 г. Солженицын становится лауреатом Нобелевской премии; выезжать из СССР он не хочет, опасаясь лишиться гражданства и возможности бороться на родине, - поэтому личное получение премии и речь нобелевского лауреата пока откладываются. В то же время его положение в СССР все более ухудшается: принципиальная и бескомпромиссная идеологическая и литературная позиция приводит его к исключению из Союза писателей (ноябрь 1969 г.), в советской прессе разворачивается кампания травли писателя. Это заставляет его дать разрешение на публикацию в Париже книги «Август четырнадцатого» (1971) - первого «Узла» эпопеи «Красное колесо». В 1973 г. в парижском издательстве ИМКА-Пресс увидел свет первый том «Архипелага ГУЛАГ». В феврале 1974 г. на пике разнузданной травли, развернутой в советской прессе, Солженицына арестовывают и заключают в Лефортовскую тюрьму. Но его ни с чем не сравнимый авторитет у мировой общественности не позволяет советскому руководству просто расправиться с писателем, поэтому его лишают советского гражданства и высылают из СССР. В ФРГ, первой стране, принявшей изгнанника, он останавливается у Генриха Белля, после чего поселяется в Цюрихе (Швейцария). В 1975 г. опубликована автобиографическая книга «Бодался теленок с дубом» - подробный рассказ о творческом пути писателя от начала литературной деятельности до второго ареста и высылки и очерк литературной среды 60-70-х годов. В 1976 г. писатель с семьей переезжает в Америку, в штат Вермонт. Здесь он работает над полным собранием сочинений и продолжает исторические исследования, результаты которых ложатся в основу эпопеи «Красное колесо». Солженицын всегда был уверен в том, что вернется в Россию, - даже тогда, когда сама мысль об этом казалась невероятной. Но уже в конце 80-х годов возвращение стало постепенно осуществляться. В 1988 г. Солженицыну было возвращено гражданство СССР, а в 1990 г. в «Новом мире» публикуются романы «В круге первом» и «Раковый корпус». В 1994 г. писатель вернулся в Россию. С 1995 г. в «Новом мире» публикуются новый цикл - «двучастные» рассказы, миниатюры «Крохотки». В творчестве А.И. Солженицына при всем его многообразии можно выделить три центральных мотива, тесно связанных друг с другом. Сконцентрированные в первой опубликованной его вещи «Один день Ивана Денисовича», они развивались, подчас обособленно друг от друга, но чаще взаимопереплетаясь. «Вершиной» их синтеза стало «Красное колесо». Условно эти мотивы можно обозначить так: русский национальный характер; история России XX века; политика в жизни человека и нации в нашем столетии. Темы эти, разумеется, вовсе не новы для русской реалистической традиции последних двух столетий. Но Солженицын, человек и писатель, почти панически боящийся не только своего участия в литературной группировке, но и любой формы литературного соседства, смотрит на все эти проблемы не с точки зрения писателя того или иного «направления», а как бы сверху, самым искренним образом направления игнорируя. Это вовсе не обеспечивает объективность, в художественном творчестве, в сущности, невозможную, - Солженицын очень субъективен. Такая открытая литературная внепартийность обеспечивает художественную независимость - писатель представляет только себя и высказывает только свое личное, частное мнение; станет ли оно общественным - зависит не от поддержки группы или влиятельных членов «направления», а от самого общества. Мало того, Солженицын не подлаживается и под «мнение народное», прекрасно понимая, что оно вовсе не всегда выражает истину в последней инстанции: народ, как и отдельный человек, может быть ослеплен гордыней или заблуждением, может ошибаться, и задача писателя - не потакать ему в этих ошибках, но стремиться просветлить. Солженицын вообще никогда не идет по уже проложенному кем-то пути, прокладывая исключительно собственный путь. Ни в жизни, ни в литературе он никому не льстил - ни политическим деятелям, которые стремились, как Хрущев, сделать его советским писателем, бичующим пороки культа личности, но не посягающим на коренные принципы советской системы, ни политикам прошлого, ставшим героями его эпоса, которые, утверждая спасительные пути, так и не смогли их обеспечить. Он был даже жесток, отворачиваясь и разрывая по политическим и литературным соображениям с людьми, которые переправляли его рукописи за границу часто с серьезным риском для себя или же стремились помочь ему опубликовать свои вещи здесь. Один из самых болезненных разрывов, и личных, и общественных, и литературных, - с В.Я. Лакшиным, сотрудником Твардовского по «Новому миру», критиком, предложившим одно из первых прочтений писателя и сделавшим много возможного и невозможного для публикации его произведений. Лакшин не принял портрета А.Т. Твардовского в очерках литературной жизни «Бодался теленок с дубом» и не был, разумеется, согласен с трактовкой собственной роли в литературной ситуации 60-х годов, как она складывалась вокруг «Нового мира». Другой разрыв, столь же болезненный и жестокий, - с Ольгой Карлайл. В 1978 г. она выпустила в США книгу «Солженицын и тайный круг», в которой рассказывала о той роли, что принадлежала ей в организации тайных путей переброски на Запад рукописей «Архипелага ГУЛАГ» и «В круге первом» и о жестокости, с которой Солженицын отозвался о ней в «Теленке...». Все это многим и на родине, и на Западе дало основания для обвинений Солженицына в эгоцентризме и элементарной человеческой неблагодарности. Но дело здесь глубже отнюдь не в личных особенностях характера. Это твердая жизненная позиция писателя, лишенного способности к компромиссу, единственно и дающая ему возможность выполнить свою жизненную предназначенность. Смысл ее Солженицын отчасти объясняет притчей о Китоврасе в романе «Раковый корпус»: «Жил Китоврас в пустыне дальней, а ходить мог только по прямой. Царь Соломон вызвал Китовраса к себе и обманом взял его на цепь, и повели его камни тесать. Но шел Китоврас только по своей прямой, и когда его по Иерусалиму вели, то перед ним дома ломали - очищали путь. И попался по дороге домик вдовы. Пустилась вдова плакать, умолять Китовраса не ломать ее домика убогого - и что ж, умолила. Стал Китоврас изгибаться, тискаться, тискаться - и ребро себе сломал. А дом - целый оставил. И промолвил тогда: мягкое слово кость ломит, а жесткое гнев воздвигает». Эта притча моделирует отношение к жизни самого Солженицына. Для того, чтобы практически в одиночку победить в поединке с партией, чтобы после лагерей и ссылки иметь право говорить от лица миллионов замученных, нужно обладать несгибаемостью Китовраса и ходить только по прямой - не идти ни на какие компромиссы. Но тем, кто рядом с ним, очень трудно. «Всякий раз, как Солженицын применяет принцип Китовраса, - пишет женевский профессор Жорж Нива, - он тяжко оскорбляет людей чувствительных и честных, но втянутых в компромисс с действительностью». Суть в том, что Солженицын воспринимает свою жизнь не как частный человек, которому даровано право распоряжаться ею по своему усмотрению. Этого естественного и, казалось бы, неотъемлемого права он сознательно себя лишает. Такой перелом наступил после чудесного выздоровления от неизлечимого, как думали врачи, рака. Именно этот период в жизни писателя дал материал для «Ракового корпуса». Выздоровление было воспринято как Божий дар («При моей безнадежно запущенной острозлокачественной опухоли это было Божье чудо, я никак иначе не понимал. Вся возвращенная мне жизнь с тех пор - не моя в полном смысле, она имеет вложенную цель») - и с этих пор писатель полагает, что время ему отпущено не для частного бытия, но для реализации неподъемного замысла: свидетельствовать о русской истории XX века, участником которой он был, понять ее и разобраться в ее тайных и явных пружинах. С этого момента жизнь его подчинена единой цели, от которой он не уклоняется ни на шаг, не позволяя себе естественных, казалось бы, вещей: даже приглашение Твардовского посидеть в ресторане воспринимается с удивлением - откуда у них на это время? «Архипелаг ГУЛАГ» посвящен «всем, кому не хватило жизни об этом рассказать. И да простят они мне, что я не все увидел, не все вспомнил, не обо всем догадался». В посвящении выражена творческая и человеческая позиция Солженицына: он пишет не от себя, а от лица миллионов замученных и убитых людей, от имени тех, «кому не хватило жизни об этом рассказать». Литературное и исследовательское его дело - далеко не частное, но оно принадлежит тем, кому уже не дано сделать ничего. От их лица повествует Солженицын, их представителем он мыслит себя в русской культуре. Это и дает ему силы на жесткость и бескомпромиссность, которую он проявляет в общении со всеми - со слабыми и сильными мира сего. Когда, например, Рональд Рейган, тогда еще президент США, пригласил для встречи русских эмигрантов, диссидентов, то из всего огромного числа приглашенных отказ прислал один лишь Солженицын, мотивируя его тем, что не может встречаться с президентом, чьи генералы всерьез обдумывают тактику избирательного уничтожения русского народа посредством направленных ядерных ударов (речь шла о командующем объединенной группой начальников штабов Тейлоре и физикеядерщике Гертнере). Не льстил и не боготворил он и народ, не впадая в тон наивного умиления перед «простым человеком», которому якобы изначально открыта некая абсолютная истина в силу его органичной принадлежности к народной среде. Народный характер обычно связывается литературно-критическим сознанием с образом «простого человека», представителя крестьянской среды. Такие характеры, естественно, есть и у Солженицына. Это праведница Матрена («Матренин двор»), дворник Спиридон («В круге первом»), Иван Денисович Шухов («Один день Ивана Денисовича», 1959). Но Солженицын трактует народный характер намного шире, включая сюда представителей и других слоев общества, людей иной культурной среды, приобщенных к высшим достижениям русской и мировой цивилизации: это и повествователь из «Матрениного двора», и Костоглотов («Раковый корпус»), и Нержин, герой романа «В круге первом». Мало того, значимые грани русского народного характера представляют и герои, враждебные автору, на слабости или подлости которых и держится тоталитарный режим (Русанов из романа «Раковый корпус», Яконов, герой «В круге первом»). Да, и без этих героев, по Солженицыну, народ не полный. Он включает в себя праведников и отвернувшихся от правды, и прозревших, как дипломат Володин («В круге первом»), и вставших на путь предательства и злодеяний. Именно таким путем писателю удается совместить проблематику русского национального характера с исследованием русской истории, вина за трагические повороты которой ложится не на плечи скверных политических деятелей, но всего народа, пошедшего по тому пути, который нам известен сейчас, не услышавшего голоса истины и предостережения в августе четырнадцатого, в марте и апреле семнадцатого. Солженицын никогда не был склонен идеализировать народный характер, в этом смысле он избежал соблазна 60-х годов, когда литература и критика, мучительно вспоминая после полувекового забвения национальную идею, почти неизбежно впала в тон сентиментальной идеализации «простого человека». (Он вспоминал об этом в «Теленке»). Народный характер противоречив и включает в себя не одну только добродетель. Исследованию этой противоречивости посвящен рассказ «Случай на станции Кочетовка» (1962). В главном герое, молоденьком лейтенанте Васе Зотове, воплощены лучшие человеческие черты: интеллигентность, распахнутость навстречу фронтовику или окруженцу, вошедшему в комнату линейной комендатуры, искреннее желание помочь в любой ситуации. Два женских образа, лишь слегка намеченные писателем, оттеняют его глубинную непорочность, и даже мысль об измене жене, оказавшейся в немецкой оккупации, невозможна для него. Своей детской открытостью и доверчивостью герой напоминает читателю Петю Ростова, его разговор со взрослыми офицерами, своими кумирами, когда он обнаруживает любовь к сладкому и предлагает им изюм. Петины интонации звучат в речи Зотова: «Вы знаете, я вижу, как вы любите курить, забирайте-ка эту пачку всю себе! Я все равно для угощения держу. И на квартире еще есть. Нет уж, пожалуйста, положите ее в вещмешок, завяжите, тогда поверю!..» Композиционный центр рассказа составляет встреча Зотова с отставшим от своего эшелона окружением, который поражает его своей интеллигентностью и мягкостью. Все - слова, интонации голоса, мягкие жесты этого интеллигентного человека, способного даже в надетой на него чудовищной рванине держаться с достоинством и мягкостью, привлекает Зотова: ему «была на редкость приятна его манера говорить; его манера останавливаться, если казалось, что собеседник хочет возразить; его манера не размахивать руками, а как-то легкими движениями пальцев пояснить свою речь». Он раскрывает перед ним свои полудетские мечты о бегстве в Испанию, рассказывает о своей тоске по фронту и предвкушает несколько часов чудесного общения с интеллигентным, культурным и знающим человеком - актером до войны, ополченцем без винтовки - в ее начале, недавним окружением, чудом выбравшимся из немецкого «котла» и теперь вот отставшим от своего поезда - без документов, с ничего не значащим догонным листом, в сущности, и не документом. И здесь автор показывает борьбу двух начал в душе Зотова: естественного, человеческого и злого, подозрительного, бесчеловечного. Уже после того, как между Зотовым и Тверитиновым пробежала искра человеческого понимания, возникшая некогда между маршалом Даву и Пьером Безуховым, спасшая тогда Пьера от расстрела, в сознании Зотова возникает циркуляр, перечеркивающий симпатию и доверие, которые еще не успели выстыть на войне. «Лейтенант надел очки и опять смотрел в догонный лист. Догонный лист, собственно, не был настоящим документом, он составлен был со слов заявителя и мог содержать в себе правду, а мог и ложь. Инструкция требовала крайне пристально относиться к окруженцам, а тем более - одиночкам». И случайная обмолвка Тверитинова (он спрашивает всего лишь, как раньше назывался Сталинград) оборачивается неверием в юной и чистой душе Зотова, уже отравленной ядом подозрительности: «И - все оборвалось и охолонуло в Зотове... Значит, не окруженец. Подослан! Агент! Наверно, белоэмигрант, потому и манеры такие». То, что спасло Пьера, не спасло несчастного и беспомощного Тверитинова - молоденький лейтенант «сдает» только что полюбившегося и так искренне заинтересовавшего его человека в НКВД. И последние слова Тверитинова: «Что вы делаете! Что вы делаете! Ведь этого не исправишь!!» подтверждаются последней, аккордной, как всегда у Солженицына, фразой: «Но никогда потом во всю жизнь Зотов не мог забыть этого человека...» Наивная доброта и жестокая подозрительность - два качества, несовместимые с общечеловеческой точки зрения, но обусловленные советской эпохой 30-х годов, сочетаются в душе героя. В свое время М. Горький точно охарактеризовал народный характер: «Люди пегие - хорошие и дурные вместе». Именно эту «пегость», сочетание светлого и темного, доброго и дурного в русской душе показывает Солженицын. Иногда эта противоречивость предстает своими страшными сторонами, как в «Случае на станции Кочетовка» или в «Матренином дворе», иногда комическими - как в рассказе «ЗахарКалита»(1965). Этот небольшой рассказ построен на противоречиях, и в этом смысле он характерен для поэтики писателя. Его нарочито облегченное начало как бы пародирует расхожие мотивы исповедальной или лирической прозы 60-х годов, явно упрощающие проблему национального характера («Поддубенские частушки», «Дело было в Пенькове» С. Антонова, «Владимирские проселки» В. Солоухина). «Друзья мои, вы просите рассказать что-нибудь из летнего велосипедного?» - этот зачин, настраивающий на нечто летнее-отпускное и необязательное, контрастирует с содержанием рассказа, где на нескольких страницах воссоздается картина сентябрьской битвы 1380 г. Но и оборачиваясь на шесть столетий назад, Солженицын не может сентиментально и благостно, в соответствии с «велосипедным» зачином, взглянуть на обремененное историко-графичной торжественностью событие, пусть и поворотное, русской истории: «Горька правда истории, но лучше выслушать ее, чем таить: не только черкесов и генуэзцев привел Мамай, не только литовцы с ним были в союзе, но и князь рязанский Олег.... Для того и перешли русские через Дон, чтобы Доном ощитить свою спину от своих же, от рязанцев: не ударили бы, православные». Противоречия, таящиеся в душе одного человека, характерны и для нации в целом - «Не отсюда ли повелась судьба России? Не здесь ли совершен поворот ее истории? Всегда ли только через Смоленск и Киев роились на нас враги?». Так от противоречивости национального сознания Солженицын делает шаг к исследованию противоречивости национальной жизни, приведшей уже значительно позже к другим поворотам русской истории. Но если повествователь может поставить перед собой такие вопросы и осмыслить их, то главный герой рассказа, самозванный сторож Куликова поля Захар-Калита воплощает в себе почти инстинктивное желание сохранить утраченную было историческую память. Толку от его постоянного, дневного и ночного пребывания на поле нет никакого - но сам факт существования смешного чудаковатого человека значим для Солженицына. Перед тем, как описать его, он останавливается в недоумении и даже сбивается на сентиментальные, почти карамзинские интонации, начинает фразу со столь характерного междометия «Ах», а заканчивает вопросительными и восклицательными знаками (да и в самом деле, герой такого масштаба мог реализоваться скорее в сентиментальной литературе). Но, с одной стороны. Смотритель Куликова Поля со своей бессмысленной деятельностью смешон, как и его уверения дойти в поисках только ему известной правды до Фурцевой, тогдашнего министра культуры. Повествователь не может удержаться от смеха, сравнивая его с погибшим ратником, рядом с которым, правда, нет ни меча, ни щита, а вместо шлема затасканная кепка да около руки мешок с подобранными бутылками. С другой стороны, совершенно бескорыстная и бессмысленная, казалось бы, преданность Полю как зримому воплощению русской истории заставляет видеть в этой фигуре нечто настоящее - скорбь. Авторская позиция не прояснена - Солженицын как бы балансирует на грани комического и серьезного, видя одну из причудливых и незаурядных форм русского национального характера. Комичны при всей бессмысленности его жизни на поле (у героев даже возникает подозрение, что таким образом ЗахарКалита увиливает от тяжелой сельской работы) претензия на серьезность и собственную значимость, его жалобы на то, что ему, смотрителю Поля, не выдают оружия. И рядом с этим - совсем уж не комическая страстность героя доступными ему способами свидетельствовать об исторической славе русского оружия. И тогда «сразу отпало все то насмешливое и снисходительное, что мы думали о нем вчера. В это заморозное утро встающий из копны, он был уже не Смотритель, а как бы Дух этого поля, стерегущий, не покидавший его никогда». Разумеется, дистанция между повествователем и героем огромна: герою недоступен тот исторический материал, которым свободно оперирует повествователь, они принадлежат разной культурной и социальной среде - но сближает их истинная преданность национальной истории и культуре. В рассказах 50-60-х годов и в романах «Раковый корпус» и «В круге первом» Солженицын далек от нарочитой героизации народного характера. Напротив, он стремится увидеть высокое, праведное и даже героическое в самой, казалось бы, негероической обстановке. Здесь возникает новая тенденция для всей советской литературы, которая стремилась видеть героическое именно в исключительной ситуации - на поле боя или в тылу врага, на строительстве или производстве, исключительная сложность которого требовала от личности именно героической самореализации. Солженицын противопоставляет этой тенденции иное понимание не только героического, но и вообще возвышенного в человеке. В ситуации, когда тоталитарная культура утверждает пангероическое общество, когда героизм становится явлением повседневным и общедоступным, а не элитарным, когда в самой обыденной жизни советский человек совершает подвиги и творит чудеса (что, разумеется, противоречит реалистически понимаемой правде), Солженицын одновременно с Шолоховым утверждает новую концепцию героического. Как героизм шолоховского Андрея Соколова показан не на поле битвы, а в ситуации совершенно негероической, ситуации плена, так и Иван Денисович Шухов реализует свой личностный потенциал в лагере, т.е. там, где, казалось бы, человек вообще лишен возможности реализовать себя как личность. Героическое в этом образе состоит в том, что он сумел в античеловеческих условиях лагеря сохранить человеческое в себе. И здесь нам приходится говорить о новой концепции личности, предложенной литературе Солженицыным. Его герои, такие, как Матрена, Иван Денисович, дворник Спиридон, - люди не рефлексирующие, живущие некими природными, как бы данными извне, заранее и не ими выработанными представлениями. И, следуя этим представлениям, важно выжить физически в условиях, вовсе не способствующих физическому выживанию, но не ценой потери собственного человеческого достоинства. Потерять его - значит погибнуть, т.е., выжив физически, перестать быть человеком, утратить не только уважение других, но и уважение к самому себе, что равносильно смерти. Объясняя эту, условно говоря, этику выживания, Шухов вспоминает слова своего первого бригадира Куземина: «В лагере вот кто подыхает: кто миски лижет, кто на санчасть надеется да кто к куму ходит стучать». С образом Ивана Денисовича в литературе утвердилась новая этика, выкованная в лагерях, через которые прошла немалая часть общества. (Исследованию этой этики будут посвящены многие страницы «Архипелага ГУЛАГ»). Шухов, не желая потерять человеческое достоинство, вовсе не склонен принимать на себя все удары лагерной жизни - иначе просто не выжить. «Это верно, кряхти да гнись, - замечает он. - А упрешься - переломишься». В этом смысле писатель отрицает общепринятые романтические представления о гордом противостоянии личности трагическим обстоятельствам, на которых воспитала литература поколение советских людей 30-х годов. И в этом смысле интересно противопоставление Шухова и кавторанга Буйновского, героя, принимающего на себя удар, но часто, как кажется Ивану Денисовичу, бессмысленно и губительно для самого себя. Наивны протесты кавторанга против утреннего обыска на морозе только что проснувшихся после подъема, дрожащих от холода людей: «Буйновский - в горло, на миноносцах своих привык, а в лагере трех месяцев нет: - Вы права не имеете людей на морозе раздевать! Вы девятую статью уголовного кодекса не знаете!.. Имеют. Знают. Это ты, брат, еще не знаешь». Чисто народная, мужицкая практичность Ивана Денисовича помогает ему выжить и сохранить себя человеком - не ставя перед собой вечных вопросов, не стремясь обобщить опыт своей военной и лагерной жизни, куда он попал после плена (ни оперативники, допрашивавшие Шухова, ни он сам так и не смогли придумать, какое именно задание немецкой разведки он выполнял). Ему, разумеется, вовсе не доступен уровень историко-философского обобщения лагерного опыта как грани национально-исторического бытия XX столетия - то, что мы увидим в «Архипелаге ГУЛАГ». Так в «Иване Денисовиче» перед Солженицыным встает творческая задача совместить две точки зрения автора и героя, точки зрения не противоположные, а схожие идеологически, но различающиеся уровнем обобщения и широтой материала. Эта задача решается почти исключительно стилевыми средствами, когда между речью автора и персонажа существует чуть заметный зазор, то увеличивающийся, то практически исчезающий. Поэтому Солженицын обращается не к сказовой манере повествования, более естественной, казалось бы, для того, чтобы дать Ивану Денисовичу полную возможность речевой самореализации, но к синтаксической структуре несобственно-прямой речи, которая позволяла в какие-то моменты дистанцировать автора и героя, совершить прямой вывод повествования из «авторской шуховской» в «авторскую солженицынскую» речь. Сдвинув границы шуховского жизнеощущения, автор получил возможность увидеть и то, чего не мог увидеть его герой, то, что находится вне шуховской компетенции, при этом соотношение авторского речевого плана с планом героя может быть сдвинуто и в обратном направлении - их точки зрения и их стилевые маски тотчас же совпадут. Таким образом, «синтаксикостилистический строй повести сложился в результате своеобразного использования смежных возможностей сказа, сдвигов от несобственно-прямой к несобственно-авторской речи», в равной степени ориентированных на разговорные особенности русского языка. И герою, и автору (здесь, вероятно, несомненное основание их единства, выраженного и в речевой стихии произведения) доступен тот специфически русский взгляд на действительность, который принято называть взглядом «природного», «естественного» человека. Именно опыт чисто «мужицкого» восприятия лагеря как одной из сторон русской жизни XX века и проложил путь повести к читателю «Нового мира» и всей страны. Солженицын так вспоминал об этом в «Теленке...»: «Не скажу, что такой точный план, но верная догадка-предчувствие у меня в том и была: к этому мужику Ивану Денисовичу не могут оставаться равнодушны верхний мужик Александр Твардовский и верховой мужик Никита Хрущев. Так и сбылось: даже не поэзия и даже не политика решили судьбу моего рассказа, а вот эта его доконная мужицкая суть, столько у нас осмеянная, потоптанная и охаянная с Великого Перелома, да и поранее». В опубликованных в конце 50-х-в 60-е годы рассказах Солженицын не подошел еще к одной из самых важных для него тем - теме сопротивления антинародному режиму. Она станет доминирующей в «Архипелаге» и в «Красном колесе». Пока писателя интересовал народный характер и его существование «в самой нутряной России - если такая где-то была, жила», - в той России, которую ищет повествователь в рассказе «Матренин двор». Но он находит не нетронутый смутой XX века островок естественной русской жизни, а народный характер, сумевший в этой смуте себя сохранить. «Есть такие прирожденные ангелы, писал в статье «Раскаяние и самоограничение» писатель, как бы характеризуя и Матрену, - они как будто невесомы, они скользят как бы поверх этой жижи, нисколько в ней не утопая, даже касаясь ли стопами ее поверхности? Каждый из нас встречал таких, их не десятеро и не сто на Россию, это - праведники, мы их видели, удивлялись («чудаки»), пользовались их добром, в хорошие минуты отвечали им тем же, они располагают, - и тут же погружались опять на нашу обреченную глубину». В чем суть праведности Матрены? В жизни не по лжи, скажем мы теперь словами самого писателя, произнесенными значительно позже. Она вне сферы героического или исключительного, реализует себя в самой что ни на есть обыденной, бытовой ситуации, испытывает на себе все «прелести» советской сельской нови 50-х годов: проработав всю жизнь, вынуждена хлопотать пенсию не за себя, а за мужа, пропавшего с начала войны, отмеривая пешком километры и кланяясь конторским столам. Не имея возможности купить торф, который добывается везде вокруг, но не продается колхозникам, она, как и все ее подруги, вынуждена брать его тайком. Создавая этот характер, Солженицын ставит его в самые обыденные обстоятельства сельской колхозной жизни 50-х годов с ее бесправием и надменным пренебрежением обычным, несановным человеком. Праведность Матрены состоит в ее способности сохранить человеческое достоинство и в таких, казалось бы, столь недоступных для этого условиях. Но кому противостоит Матрена, иными словами, в столкновении с какими силами проявляется ее сущность? В столкновении с Фаддеем, черным стариком, представшим перед повествователем, когда он появился второй раз (теперь - с униженной просьбой к матрениному жильцу) на пороге ее избы? В первый раз Фаддей, тогда молодой и красивый, оказался перед дверью Матрены с топором - не дождалась его невеста с войны, вышла замуж за брата. «Стал на пороге, - рассказывает Матрена. - Я как закричу! В колена б ему бросилась!.. Нельзя... Ну, говорит, если б то не брат мой родной - я бы вас порубал обоих!» Вряд ли, однако, этот конфликт может организовать повествование. В. Чалмаев, современный исследователь творчества Солженицына, справедливо видит конфликт в другом - в противостоянии человечности Матрены античеловеческим условиям действительности, окружающей и ее, и повествователя. «Подлинный «антипод» Матрены - с ее кроткой добротой, даже смирением, жизнью не во лжи - совсем не здесь, не в Таль-нове. Надо вспомнить: откуда пришел герой-повествователь в этот двор посреди неба? Как, после каких обид, родилась в нем воля к идеализации Матрены, никого не обидевшей?» Уже в самом конце рассказа, после смерти Матрены, Солженицын перечисляет негромкие ее достоинства: «Не понятая и брошенная даже мужем своим, схоронившая шесть детей, но не нрав свой общительный, чужая сестрам, золовкам, по-глупому работающая на других бесплатно, - она не скопила имущества к смерти. Грязно-белая коза, колченогая кошка, фикусы... Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша». И трагический финал рассказа (Матрена погибает под поездом, помогая Фаддею перевозить бревна ее же собственной избы) придает концовке совершенно особый, символический смысл: ее ведь больше нет, стало быть, не стоит село без нее? И город? И вся земля наша? Новые творческие возможности открывал перед Солженицыным романный жанр, но он же поставил перед писателем и новые творческие проблемы. Солженицын несколько раз высказывал недоверие к романному жанру с его обширной системой персонажей, разветвленной сюжетной структурой, значительной временной протяженностью. Он говорил, что в его прозе должно быть тесно, имея в виду сжатость художественного времени как бы под высоким давлением, что дает возможность большего идеологического и художественного насыщения малой формы. В жанровых определениях своих произведений автор стремится «умалить» жанр: повесть «Один день Ивана Денисовича» он называет рассказом, роман «Раковый корпус» - повестью. Такая жанровая трактовка объясняется особенностью художественного мира Солженицына. В самом названии, «Одного дня...», например, проявляется принцип сжатия художественного времени: в одном дне лагерного зека Солженицыну удается показать чуть ли не всю его жизнь, в которой отразилась одна из граней национальной жизни середины XX века. Размышляя о сжатии времени и пространства, автор вспоминал о возникновении этого замысла: «Как это родилось? Просто» был такой лагерный день, тяжелая работа, я таскал носилки с напарником и подумал, как нужно бы описать весь лагерный мир одним днем. Конечно, можно описать вот свои десять лет лагеря, там, всю историю лагерей, - а достаточно в одном дне все собрать, как по осколочкам, достаточно описать только один день одного среднего, ничем не примечательного человека с утра и до вечера. И будет все... Попробую-ка я написать один день одного зека. Сел, и как полилось! со страшным напряжением! Потому что в тебе концентрируется сразу много этих дней. И только чтоб чего-нибудь не пропустить». Твардовский предложил Солженицыну назвать рассказ повестью - для весу. «Зря я уступил, - говорил в «Теленке...» сам автор, вспоминая знакомство с редколлегией «Нового мира». - У нас смываются границы между жанрами и происходит обесценение форм. «Иван Денисович» - конечно рассказ, хотя и большой, нагруженный. Мельче рассказа я бы выделял новеллу - легкую в построении, четкую в сюжете и мысли. Повесть - это то, что чаще всего у нас гонятся называть романом: где несколько сюжетных линий и даже почти обязательна протяженность во времени. А роман (мерзкое слово! нельзя ли иначе?) отличается от повести не столько объемом и не столько протяженностью во времени (ему даже пристала сжатость и динамичность), сколько - захватом множества судеб, горизонтом огляда и вертикалью мысли». Этот же принцип временного (и жанрового) сжатия применен Солженицыным и в его романе «В круге первом»: размышляя о марфинской шарашке, своего рода научно-исследовательском институте, где живут и работают заключенные «враги народа», писатель вспоминал: «Я там жил три года. Описывать эти три года? Вяло, надо уплотнять. Очевидно, страсть к такому уплотнению сидит и во мне, не только в материале. Я уплотнил - там, пишут, четыре дня или даже пять, - ничего подобного, там даже нет трех полных суток, от вечера субботы до дня вторника. Мне потом неуютно, если у меня просторно слишком. Да может быть, и привычка к камерной жизни такова. В романе я не могу, если у меня материал слишком свободно располагается». Такое нарочитое сжатие временных рамок необходимо писателю прежде всего для того, чтобы в одном произведении совместить два столь необходимых ему аспекта жанрового содержания: романический, связанный с изображением частной жизни, и национально-исторический, показывающий судьбу нации в критический и трагический момент ее развития. На художественном уровне это проявляется прежде всего в том, что частные судьбы героев Солженицына даны в контексте глобальных исторических процессов, калечащих и разрушающих эти частные судьбы, мешающих реализации насущных человеческих устремлений, прежде всего любви и семьи, т.е. того, что и является самым естественным предметом изображения в романном жанре. Жорж Нива отметил, что художественный мир Солженицына - по преимуществу мужской мир, в нем мало женского начала. Но ведь в этом-то и состоит как раз главная трагедия его героев - режим, лишая их свободы, лишает в первую очередь женской любви. Одна из самых драматических коллизий романа «В круге первом» - разлука заключенных с женами и любимыми, жертвенная готовность мужчины на развод с женой с тем, чтобы она не несла на себе клеймо жены «врага народа». Так романическая частная коллизия совмещается в романе с коллизией всеобщей: с трагической разделенностью нации колючей проволокой, проходящей и через семью, разрывающей самые, казалось бы, естественные природные связи между мужем и женой, отцом и сыном. Мало того, сугубо романные отношения оказываются подчинены неестественной логике общегосударственных отношений, вторгающихся в самые интимные связи между людьми. Не строго романный, но общественно-политический сюжет дает Солженицыну возможность представить «В круге первом» буквально все слои советского общества, ввести туда и вершину социальной пирамиды, начиная со Сталина и Абакумова, показать тех, кто оказывается в самой середине ее, таких, как полковник Яконов или дипломат Володин, и в самом ее основании - заключенных марфинской шарашки, научноисследовательского института, где работают «враги народа». Завязкой сюжета служит звонок молодого преуспевающего дипломата Иннокентия Володина в посольство США в Москве. С очевидным риском для жизни он сообщает накануне европейского Рождества сытому и сонному чиновнику посольства (здесь одно из первых обвинений Солженицына Западу), с трудом понимающему по-русски, о передаче американским ученым советскому агенту секрета ядерной бомбы - звонок, так и не повлекший никаких последствий, но ставший роковым для Володина. Теперь, когда литературно-критическое сознание освобождается от некритического и даже исключительно панегирического восприятия Солженицына, в современной критике говорится о явной слабости этого сюжета, о психологической немотивированности образа Володина, совершившего путь от удачливого в дипломатической карьере и вполне легкомысленного молодого человека до героя, жертвующего собой во имя интересов своей страны и человечества. «Солженицын натужно героизирует Володина, - размышляет современный исследователь его творчества, - и сюжет сразу же заходит в тупик. Начинается не психоанализ, а сооружение подпорок. Требовалось явное насилие или психологическое равнодушие, чтобы этого Володина, стандартную деталь привилегированного схематичного мира, сделать... своего рода Софьей Перовской, бомбометателем 50-х годов! Сделать это на почве психологии, потока сознания, летописи души, видимо, было невозможно» . Трудно не согласиться с В. Чалмаевым, но для нас важнее обратить внимание на то, что такой пусть и схематический психологически немотивированный сюжет давал возможность Солженицыну соподчинить в одном романическом пространстве сюжетные линии, которые не могли бы сойтись иначе. Как на страницах романа могли бы встретиться Рубин, Нержин, Сологдин, Герасимович, дворник Спиридон, Сталин, Абакумов, Яконов, вельможный чиновник Макарыгин, придворный писатель Галахов, в образе которого явно проявляются черты биографии К. Симонова? Звонок Володина дает повод сюжетно соединиться и сойтись в нравственном противостоянии героям, встреча которых иначе была бы просто немыслима. Солженицын и сам понимал натужность этой сюжетной конструкции. Мало того, желая хоть как-то увеличить шансы романа на публикацию, писатель в 1964 г. изменил сюжет романа, заимствовав его из расхожего фильма конца 40-х годов: его герой, врач, нашедший лекарство от рака, передавал его французским врачам и обвинялся за это в измене родине. Так вот, в «облегченном» варианте Иннокентий звонил не в американское посольство, а этому врачу, желая предупредить его о грозящей опасности. Уже потом, в последней, восстановленной, редакции 1968 г., герой позвонил туда, куда действительно звонил его прототип. Так на самом деле и было, свидетельствовал потом автор. Но этот психологически немотивированный сюжет дает писателю возможность представить глубокие психологические типы, соединив их в непримиримом нравственном поединке. Перед нами идеалистмарксист Рубин, празднующий в силу своего наивного интернационализма с пленными немцами Рождество и верящий в верность единственно верного учения несмотря на то, что разворачивается на его глазах и самым страшным образом прошлось по его собственной судьбе - теперь зэка. Это полковник Яконов, переживший мучительное для него нравственное падение и вполне осознающий свою жизненную неправоту, что делает его образ воистину трагическим. Сам бывший зэк, арестованный в 1932 г. и проведший в тюрьме шесть лет, сейчас Яконов носит полковничьи погоны и о его прошлом не знает почти никто: «Только центральная картотека МГБ знала, что под мундирами МГБ порой скрывались бывшие зэки». Но тем сильнее страх второго ареста, от которого, впрочем, не застрахован никто. После страшного разноса у Абакумова Яконов, гуляя по Москве, вспоминает девушку, в которую был влюблен двадцать два года назад и на которой собирался жениться. Ее звали Агния, «по несчастью для себя она была утончена и требовательна больше той меры, которая позволяет человеку жить». В разговоре с ней он, размышляя об исторических событиях многовековой давности, формирует свое жизненное кредо, которому и будет следовать всю жизнь: «...после нашествия митрополит Кирилл первым из русских пошел на поклон к хану просить охранную грамоту для духовенства. Татарским мечом! - вот чем русское духовенство оградило земли свои, холопов и богослужение! И, если хочешь, митрополит Кирилл был прав, реальный политик. Так и надо. Только так и одерживают верх». После того, как Антон совершил первый из своих незначительных, казалось бы, компромиссов, Агния вернула ему подаренное золотое кольцо с надписью: «Митрополиту Кириллу». И Яконов понял, что тот компромисс был первым шагом к нравственному падению. Этот образ разработан психологически четко и глубоко. Показывая безысходность его страданий, возможность осознать глубину своего падения и все же готовность жертвовать всем ради двух родных ему существ, двух девочек восьми и девяти лет, «с кем проводил один только час в сутки, но единственно для кого извивался, боролся и тиранил остальные часы бодрствования», писатель ставит его в положение жестокого надсмотрщика над заключенными «шарашки» - и Яконов искренне стремится сыграть эту роль так, чтобы угодить другим надсмотрщикам, стоящим выше него. Звонок Володина завязывает сюжет романа: его диалог с праздным чиновником посольства записывается на магнитофонную ленту, и скоро перед заключенными шарашки ставится научная задача - определить, чей голос звучал на ленте. При этом и Рубин, и Нержин, и Сологдин, и Герасимович прекрасно знают, ради чего они работают: чтобы еще один человек оказался рядом с ними, в неволе. И если Рубин в силу своей безоглядной и бездумной веры в торжество социализма старательно ищет Володина по голосу (слушает в наушниках запись рокового разговора и сравнивает голос говорившего с голосами еще пятерых подозреваемых, то верит ушам, то отчаивается им верить и переходит к фиолетовым извивам звуковидов, напечатанным по всем разговорам, берется за свой альбом с образцами звуковидов, классифицированных то по звукам - «фонемам», то по «основному тону» различных мужских голосов), то Герасимович, небольшой человек с тщедушной фигурой, с суженным худощавым лицом, несмотря на страшную мольбу жены, которая ждет его второй срок: «ну изобрети им что-нибудь», отвечает «брюхастому вислошекому тупорылому выродку в генеральской папахе, какие на беду не ушли по среднерусскому большаку: - Нет! Это не по моей специальности! - звеняще пискнул он. - Сажать людей в тюрьму - не по моей специальности! Я - не ловец человеков! Довольно, что нас посадили...» Звонок Володина оборачивается роковым кругом, который описывает «Победа» на Лубянской площади перед зданием МГБ, «словно делая прощальный круг и давая Иннокентию возможность увидеть в последний раз этот мир». Это лишь один из символов круга, реализованных в романе. Словно обращаясь к опыту Данте, который поместил языческих мудрецов не в рай, но в первый круг ада, Солженицын описывает мир шарашки как первый дантов круг. «Шарашку придумал, если хотите, Данте. Он разрывался куда ему поместить античных мудрецов? Долг христианина повелевал кинуть этих язычников в ад. Но совесть возрожденца не могла примириться, чтобы светлоумных мужей смешать с прочими грешниками и обречь телесным пыткам. И Данте придумал для них в аду особое место». Символ круга появляется перед Иннокентием Володиным, когда тот размышляет о том, кого он предает своим звонком, пытаясь понять соотношение родины и человечества, правительства, режима и интересов других людей во всем мире. «Вот видишь - круг?» - размышляет он, вычеркивая палочкой на сырой земле, к которой вдруг приблизился, выбравшись из министерских кабинетов и блестящих московских гостиных за город, концентрические окружности. «Это - отечество. Это - первый круг. А вот - второй. - Он захватил шире. - Это человечество. И кажется, что первый входит во второй? Нич-чего подобного! Тут заборы предрассудков. Тут даже - колючая проволока с пулеметами. Тут ни телом, ни сердцем почти нельзя прорваться. И выходит, что никакого человечества - нет. А только отечества, отечества, и разные у всех...» Заслуга романиста - в умении создать такую композиционную структуру, найти такой сюжетный ход, который давал бы возможность совместить «круги» этого мира, в принципе, казалось бы, несводимые в одном сюжете: высшие круги МГБ, заключенных марфинской шарашки, дврника Спиридона, писателя Галахова, жен, безнадежно ждущих своих мужей из заключения, высшую советскую номенклатуру, чиновников МИДа. Более простая сюжетно-композиционная структура романа «Раковый корпус» открывала перед писателем те же возможности. Болезнь Олега Костоглотова приводит его, вечно ссыльного, в корпус больницы № 13 в раковый корпус. Страшная болезнь не делает различий между высокопоставленным советским вельможей Павлом Николаевичем Русановым, милым мальчиком Демкой, молодым и фанатично преданным своей науке геологом Вадимом Зацырко. Все герои этой повести уже в силу своего обитания в раковом корпусе находятся в крайней, пограничной ситуации - между жизнью и смертью, - и именно эта пограничная ситуация дает автору возможность выявить характеры наиболее рельефно. Как бы у последней черты сходятся герои с принципиально противоположным жизненным опытом - зэка, партаппаратчика, медсестры затерянного в бескрайних степях городка, вдумчивых врачей, лечащих и почеловечески с состраданием принимающих всех. Но для автора важнее всего оказывается не просто возможность столкнуть в одной палате людей, соединение которых, даже чисто сюжетное, было бы в иной ситуации невозможно. Не столь важным было даже и исследование национального характера советской эпохи: Костоглотов и Русанов являют две грани национального характера: один потерял молодость, жизнь, любовь в заключении, другой всей своей жизнью способствовал тому, чтобы места заключений все более ширились и наполнялись. Но ведь не только русский характер исследуется здесь: нашу общую национальную судьбу разделила немка Поволжья врач Вера Гангарт, старый узбек, колхозный сторож Мурсалимов, казах чабан Егенбердиев. Но в этой повести писатель приближается скорее к проблематике бытийной, экзистенциальной. Главный идейно-композиционный стержень произведения составляет рассказ о двух несостоявшихся историях любви Олега Костоглотова - к медсестре Зое, веселой, современной и отчасти легкомысленной девушке, переживающей индийские фильмы тех лет как высшую эстетическую реальность, и к Вере Гангарт, Веге, красивой, стройной, одинокой, воплощающей высшую, почти идеальную чистоту и верность. Почему не состоялась любовь? Почему сердца Веги и Олега так и не прошли длинный и мучительный путь друг к другу? Солженицын объясняет это болезнью Олега Костоглотова - лечение от рака, убивая болезнь, наносит подчас непоправимый удар здоровью человека и ставит под сомнение его способность создать семью. Но все точки в повести вовсе не расставлены, и сам герой мыслит себя человеком, способным к любви и жаждущим любви. Что же вынуждает сделать бесповоротный шаг и не вернуться к Веге, отказаться от того, что, казалось бы, даровано ему судьбой? Выжженность сердца, неверие в себя, в свои силы для жизни с другим человеком, страшная лагерная привычка к одиночеству. Раковый корпус - опыт частной судьбы Солженицына, он видел, как ломаются или выпрямляются люди перед лицом неизлечимой болезни. Сам автор во многом был прототипом Олега Костоглотова, но вылечился от рака окончательно, впрочем, Олег тоже покидает клинику здоровым в отличие от Русанова, который уезжает на своем «Москвиче» в ложной уверенности в выздоровлении. И в этом почти мистическом выздоровлении героя, пришедшего в клинику умирать, тоже есть некая метафизическая, экзистенциальная идея. Не имея сил на другого человека, даже такого тонкого и глубокого, как Вега, герой (как и автор когда-то) несет в себе идею исполнения некоего жизненного предназначения. Отсутствие его, глубокий жизненный крах и бессилие его преодолеть делает человека уязвимым перед болезнью. Именно об этом писал Солженицын, размышляя о смерти от рака А.Т. Твардовского, лишенного своего любимого детища - журнала «Новый мир»: «Рак - это рок всех отдающихся жгучему, желчному, обиженному подавленному настроению. В тесноте люди живут, а в обиде гибнут. Так погибли многие уже у нас: после общественного разгрома, смотришь - и умер. Есть такая точка зрения у онкологов: раковые клетки всю жизнь сидят в каждом из нас, а в рост идут, как только пошатнется... - скажем, дух». 21(46). «Архипелаг «ГУЛАГ»» А.Солженицина как «опыт художественного исследования Дух нужен был Солженицыну для выполнения своей самой важной жизненной задачи - рассказать о русской истории XX в. и о страданиях миллионов ее жертв - в советских лагерях Архипелага, в мясорубке двух мировых войн. Для этого была нужна новая эстетика - традиционная художественность не могла вынести такой непомерной содержательной нагрузки. «Архипелаг ГУЛАГ» нельзя назвать романом - это, скорее, совершенно особый жанр художественной документалистики, основным источником которой является память автора и людей, прошедших ГУЛАГ и пожелавших вспомнить о нем и рассказать. В определенном смысле, это произведение во многом основано на фольклоре нашего столетия, аккумулировавшем страшную память о палачах и жертвах. Жанр «Архипелага» Солженицын определяет как «Опыт художественного исследования». Говоря о том, что путь рационального, научно-исторического исследования такого явления советской действительности, как Архипелаг ГУЛАГ, ему был попросту недоступен, Солженицын размышляет о преимуществах художественного исследования над исследованием научным: «Художественное исследование, как и вообще художественный метод познания действительности, дает возможности, которых не может дать наука. Известно, что интуиция обеспечивает так называемый «туннельный эффект», другими словами, интуиция проникает в действительность как туннель в гору. В литературе так всегда было. Когда я работал над «Архипелагом ГУЛАГом», именно этот принцип послужил мне основанием для возведения здания там, где не смогла бы этого сделать наука. Я собрал существующие документы. Обследовал свидетельства двухсот двадцати семи человек. К этому нужно прибавить мой собственный опыт в концентрационных лагерях и опыт моих товарищей и друзей, с которыми я был в заключении. Там, где науке недостает статистических данных, таблиц и документов, художественный метод позволяет сделать обобщение на основе частных случаев. С этой точки зрения художественное исследование не только не подменяет собой научного, но и превосходит его по своим возможностям». «Архипелаг ГУЛАГ» и «Красное колесо» - два совершенно особых произведения в русской художественной литературе, жанровое своеобразие которых лишь подчеркивается сопоставлением с книгами, хоть отчасти близкими им - по авторской задаче, по стремлению максимально уйти от художественного вымысла, приблизиться к документальности, исследовать действительность не на условных коллизиях, но на самых реальных. Это «Былое и думы» Герцена и «Остров Сахалин» Чехова. Не вступая в полемику с критиками о превосходстве книг Солженицына (исторический опыт XIX или начала XX века несопоставим с опытом его середины), подчеркнем, что нас интересует некоторое жанровое сходство и обусловленная им композиционная структура. Этот специфический художественно-публицистический жанр предполагает отсутствие сюжетной канвы, выдвижение образа автора в центр повествования, возможность прямого выражения авторской позиции. Композиционное единство книги обусловливается не развитием событийного сюжетного ряда, но последовательностью и логикой авторской мысли, которая прямо декларируется читателю. Функции образа автора необыкновенно вырастают: он и комментатор событий, и герой, способный выразить авторскую оценку происходящего, и аналитик, выступающий с позиций ученого - историка, социолога; он и политик, осмысляющий свой жизненный опыт и опыт других с точки зрения социально-политической и исторической; ему доступно свободное передвижение во времени, полемика с реальными историческими лицами начала и середины века. Подобная эстетическая система неизбежно требовала не только воплощения в художественной практике, но и теоретического обоснования. Это осуществил Солженицын в рассыпанных по страницам «Красного колеса» и «Архипелага» публицистических отступлениях. Но потребность в новой эстетике была столь очевидной для литературы, которую условно можно назвать лагерной и которая предметом изображения делает трагический исторический и частный опыт миллионов, что с ее обоснованием выступил не только Солженицын. Своего рода теорию «новой прозы» предложил Варлам Шаламов. Русская действительность XX века, ставшая предметом изображения в прозе Солженицына и Шаламова, была столь страшна, что требовала не традиционного эстетического преображения, но, скорее, эстетического изживания. Писатель мыслит себя не столько художником, сколько свидетелем, и отношение к литературе у него иное: он ставит перед собой задачи не эстетические, а нравственные, для него «овладение материалом, его художественное преображение не является чисто литературной задачей - а долгом, нравственным императивом». Известно, что Солженицын предлагал Шаламову проделать огромный и, казалось бы, едва посильный одному труд по созданию «Архипелага» вместе, - Шаламов отказался. Его взгляд на литературу и на человека в крайних, запредельных, нечеловеческих состояниях откровенно пессимистичен; Солженицын, как это ни парадоксально, оптимист. Его интересуют не только бездны человеческого падения, но и высоты сопротивления, пассивного или активного. Солженицына более интересуют именно устоявшие, нашедшие в себе силы к сопротивлению той чудовищной машине, сломить которую, казалось бы, просто невозможно. «Так не вернее ли будет сказать, что никакой лагерь не может растлить тех, у кого есть устоявшееся ядро, а не та жалкая идеология «человек создан для счастья», выбиваемая первым ударом нарядчикова дрына?» «Архипелаг ГУЛАГ» композиционно построен не по романическому принципу, но по принципу научного исследования. Его три тома и семь частей посвящены разным островам архипелага и разным периодам его истории. Именно как исследователь Солженицын описывает технологию ареста, следствия, различные ситуации и варианты, возможные здесь, развитие «законодательной базы», рассказывает, называя имена лично знакомых людей или же тех, чьи истории слышал, как именно, с каким артистизмом арестовывали, как дознавались мнимой вины. Достаточно посмотреть лишь названия глав и частей, чтобы увидеть объем и исследовательскую дотошность книги: «Тюремная промышленность», «Вечное движение», «Истребительно-трудовые», «Душа и колючая проволока», «Каторга»... 22(48). Нравственно-художественное осмысление войны в романе В.Гроссмана «Жизнь и Судьба» и его художественное воплощение. 1. Великая Отечественная война обострила внимание к гуманистическим основам бытия, поскольку дала примеры, с одной стороны, чудовищного насилия над личностью, а с другой - обнаружила высокие нравственные и духовные ценности личности, массовые взлеты героизма и самоотвержения. Так же, как в "Горячем снеге" Юрия Бондарева, в романе "Жизнь и судьба" центральным эпизодом является битва за Сталинград. Эта битва показала: борьба за правое дело непременно приведет к победе нельзя покорить страну, народ которой не пожелал смириться. Герои Василия Гроссмана /Крымов, Ершов/ верят, что эта очистительная война принесет советским людям новое, свободное дыхание: "Почти все верили, что добро победит в войне и честные люди, не жалевшие своей крови, смогут строить хорошую, справедливую жизнь". 2. Но послевоенное десятилетие было отмечено крутыми сталинскими мерами, желанная свобода не наступила. Писателя волнует антигуманистическое содержание репрессий. Честно и прямо говорятся в романе о губительных чертах культа личности. 3. В центре романа - народ, его судьба, его героическая самоотверженность, его созидательное начало. Последовательно развертывается в романе вывод о народной победе. Окружение армии Паулюса оказалось возможным благодаря великой стойкости защитников города: "Солдаты, отбивавшие на волжском откосе напор дивизий Паулюса, были стратегом сталинградского наступления". Командующий фронтом генерал Ерёменко "чувствовал, что народная война больше, чем его умение, его власть и воля". Утверждая народный характер войны, народные истоки победы, Гроссман не мог не обратиться к национальному характеру, национальному достоинству, национальным традициям. В невыносимых условиях концлагеря один из героев романа майор Ершов сумел сохранить "тепло души" - "такое простое, всем нужное тепло исходит от русской печи, в которой горят березовые дрова". Приверженность русским традициям ощущается в характерах Викторова, Даренского, Новикова. У своего любимого героя академика Чепыжина писатель показывает широкий круг увлечений всем русским: русской природой, русскими художниками-пейзажистами, старинными народными песнями. Но возросшее национальное чувство вызвало у автора не только патриотическую гордость - оно пробудило и его тревогу за послевоенную судьбу народа. Использовав национальный подъем, Сталин принялся после войны внедрять "идеологи государственного национализма", и Гроссман болезненно ощутил в этом начало многих деформаций, которые сейчас преодолевает наше общество. Писатель убежден, что национальное сознание проявляется как могучая и прекрасная сила в дни народных бедствий. 4. С неколебимой гуманистической и интернационалистской позиции изображена в "Жизни и судьбе" трагедия еврейского народа в годы войны, в годы фашистского истребления еврейской нации. Потрясает судьба Анны Семеновны Штрум, погибшей в немецком лагере уничтожения, её письмо звучит тем более пронзительно, что и мать Василия Гроссмана погибла в оккупации и писатель словно слышал дошедший к нему из небытия материнский голос. Писатель-интернационалист говорит о праве каждого народа жить свободно и достойно в содружестве всех наций. 5. Свободный народ - это единство свободных личностей. Вот полковник Новиков. Смелый, порывистый, искренний человек, талантливый полководец. Именно действия корпуса, которым он командовал, воплощают высокое мастерство и духовный порыв всех войск, осуществляющих окружение группировки Паулюса. Проницательно оценивает своих трех комбригов Новиков: Белов идеален для стремительного броска, Карпов чересчур осторожен и нетороплив. Показаны в романе и такие члены партии, которые вступили в нее ради жизненных благ, карьеры (Гетманов, Неудобнов). Роман В. Гроссмана раскрывает правду о войне и первых послевоенных годах. 23(49). Человек и природа в книге В.Астафьева «Царь-рыба» и его место в творчестве писателя. Экология души: повествование в рассказе "Царь-рыба" Второй новеллистический цикл Астафьева "Царь-рыба" увидел свет в 1976 году. В отличие от "Последнего поклона", здесь писатель обращается к другой первооснове человеческого существования к связи "Человек и Природа". Причем эта связь интересует автора в нравственно-философском аспекте: в том, что еще Есенин называл "узловой завязью человека с миром природы", Астафьев ищет ключ к объяснению нравственных достоинств и нравственных пороков личности, отношение к природе выступает в качестве "выверки" духовной состоятельности личности. "Царь-рыба" имеет жанровое обозначение "повествование в рассказах". Тем самым автор намеренно ориентировал своих читателей на то, что перед ними цикл, а значит, художественное единство здесь организуется не столько сюжетом или устойчивой системой характеров (как это бывает в повести или романе), сколько иными "скрепами". И в циклических жанрах именно "скрепы" несут очень существенную концептуальную нагрузку. Каковы же эти "скрепы"? Прежде всего, в "Царь-рыбе" есть единое и цельное художественное пространство - действие каждого из рассказов происходит на одном из многочисленных притоков Енисея. А Енисей - "река жизни", так он и назван в книге. "Река жизни" - этот емкий образ, уходящий корнями в мифологическое сознание: у некоторых древних образ "река жизни", как "древо жизни" у других народов, был наглядно-зримым воплощением всего устройства бытия, всех начал и концов, всего земного, небесного и подземного, то есть целой "космографией". Такое, возвращающее современного читателя к космогоническим первоначалам, представление о единстве всего сущего в "Царь-рыбе" реализуется через принцип ассоциаций между человеком и природой. Этот принцип выступает универсальным конструктом образного мира произведения: вся структура образов, начиная от образов персонажей и кончая сравнениями и метафорами, выдержана у Астафьева от начала до конца в одном ключе - человека он видит через природу, а природу через человека. Так, ребенок ассоциируется у Астафьева с зеленым листком, который "прикреплялся к древу жизни коротеньким стерженьком", а смерть старого человека вызывает ассоциацию с тем, как "падают в старом бору перестоялые сосны, с тяжелым хрустом и долгим выдохом". А образ матери и ребенка превращается под пером Астафьева в образ Древа, питающего свой росток: Вздрогнув поначалу от жадно, по-зверушечьи давнувших десен, заранее напрягшись в ожидании боли, мать почувствовала ребристое, горячее нёбо младенца, распускалась всеми ветвями и кореньями своего тела, гнала по ним капли живительного молока, и по раскрытой почке сосца оно переливалось в такой гибкий, живой, родной росточек. Зато о речке Опарихе автор говорит так: "Синенькая жилка, трепещущая на виске земли". А другую, шумную речушку он напрямую сравнивает с человеком: "Бедовый, пьяный, словно новобранец с разорванной на груди рубахой, урча, внаклон катился поток к Нижней Тунгуске, падая в ее мягкие материнские объятия". Этих метафор и сравнений, ярких, неожиданных, щемящих и смешливых, но всегда ведущих к философскому ядру книги, в "Царь-рыбе" очень и очень много. Подобные ассоциации, становясь принципом поэтики, по существу, вскрывают главную, исходную позицию автора. Астафьев напоминает нам, что человек и природа есть единое целое, что все мы – порождение природы, ее часть, и, хотим или не хотим, находимся вместе с законами, изобретенными родом людским, под властью законов куда более могущественных и непреодолимых - законов природы. И поэтому самое отношение человека и природы Астафьев предлагает рассматривать как отношение родственное, как отношение между матерью и ее детьми. Отсюда и пафос, которым окрашена вся "Царь-рыба". Астафьев выстраивает целую цепь рассказов о браконьерах, причем браконьерах разного порядка: на первом плане здесь браконьеры из поселка Чуш, "чушанцы", которые буквально грабят родную реку, безжалостно травят ее; но есть и Гога Герцев браконьер, который вытаптывает души встречающихся ему на пути одиноких женщин; наконец, браконьерами автор считает и тех чиновников государственного масштаба, которые так спроектировали и построили на Енисее плотину, что загноили великую сибирскую Реку. Дидактизм, который всегда в той или иной мере присутствовал в астафьевских произведениях, в "Царь-рыбе" выступает с наибольшей очевидностью. Собственно, те самые "скрепы", которые обеспечивают цельность "Царь-рыбы" как цикла, становятcя наиболее значимыми носителями дидактического пафоса. Так, дидактика выражается прежде всего в однотипности сюжетной логики всех рассказов о попрании человеком природы - каждый из них обязательно завершается нравственным наказанием браконьера. Жестокого, злобного Командора постигает трагический удар судьбы: его любимицу-дочку Тайку задавил шофер - "сухопутный браконьер", "нажравшись бормотухи" ("У Золотой Карги"). А Грохотало, "мякинное брюхо" и неудержимый рвач наказуется в чисто гротескном, буффонадном виде: ослепленный удачей, он хвастает пойманным осетром перед человеком который оказывается инспектором. . . рыбнадзора ("Рыбак Грохотало"). Наказание неминуемо настигает человека даже за давние злодеяния - таков смысл кульминационного рассказа из первой части цикла, давшего название всей книге. Сюжет о том, как наиболее осмотрительный и вроде бы самый порядочный из браконьеров Игнатьич был стянут в воду гигантской рыбой, приобретает некий мистико-символический смысл: оказавшись в пучине, превратившись в пленника собственной добычи, почти прощаясь с жизнью, Игнатьич вспоминает давнее свое преступление - как он еще безусым парнем, "молокососом", пакостно отомстил своей "изменщице", Глашке Куклиной, и навсегда опустошил ее душу. И то, что с ним сейчас произошло, сам Игнатьич воспринимает как божью кару: "Пробил крестный час, пришла пора отчитаться за грехи. . . " Авторская дидактика выражается и в соположении рассказов, входящих в цикл. Не случайно по контрасту с первой частью, которую целиком заняли браконьеры из поселка Чуш, зверствующие на родной реке, во второй части книги на центральное место вышел Акимка, который духовно сращен с природой-матушкой. Его образ дается в параллели с "красногубым северным цветком", причем аналогия проводится через тщательную изобразительную конкретизацию: Вместо листьев у цветка были крылышки, тоже мохнатый, точно куржаком охваченный, стебелек подпирал чашечку цветка, в чашечке мерцала тоненькая, прозрачная ледышка. (Видно, не шибко сладким было детство у этих северных цинготных Акимок, да все равно детство. ) Рядом с Акимом появляются и другие персонажи, что, как могут, пекутся о родной земле, сострадают ее бедам. А начинается вторая часть рассказом "Уха на Боганиде", где рисуется своего рода нравственная утопия. Боганида - это крохотный рыбацкий поселок, "с десяток кособоких, до зольной плоти выветренных избушек", а вот между его обитателями: изувеченным войной приемщиком рыбы Кирягой-деревягой, бабами-резальщицами, детишками - существует какая-то особая добрая приязнь, прикрываемая грубоватым юмором или вроде бы сердитой воркотней. Апофеозом же этой утопической этологии становится ритуал - с первого бригадного улова "кормить всех ребят без разбору рыбацкой ухой". Автор обстоятельно, смакуя каждую подробность, описывает, как встречают боганидские ребятишки лодки с грузом, как помогают рыбакам, и те их не то что не прогоняют, а "даже самые лютые, нелюдимые мужики на боганидском миру проникались благодушием, милостивым настроением, возвышающим их в собственных глазах", как совершается процесс приготовления ухи. И, наконец, "венец всех дневных свершений и забот - вечерняя трапеза, святая, благостная", когда за общим артельным столом рядом с чужими отцами сидят чужие дети и согласно, дружно едят уху из общего котла. Эта картина есть зримое воплощение авторского идеала - единения людей, разумно живущих в сообществе, в ладу с природой и между собой. Наконец, дидактический пафос в "Царь-рыбе" выражается непосредственно через лирические медитации Автора, выступающего в роли героя-повествователя. Так, в рассказе "Капля", который стоит в начале цикла, большая лирическая медитация начинается с такого поэтического наблюдения: На заостренном конце продолговатого ивового листа набухла, созрела продолговатая капля и, тяжелой силой налитая, замерла, боясь обрушить мир своим падением. И я замер. <. . . > "Не падай! Не падай!" - заклинал я, просил, молил, кожей и сердцем внимая покою, скрытому в себе и в мире. Вид этой капли, замершей на кончике ивового листа, вызывает целый поток переживаний Автора мысли о хрупкости и трепетности самой жизни, тревогу за судьбы наших детей, которые рано или поздно "останутся одни, сами с собой и с этим прекраснейшим и грозным миром", и душа его "наполнила все вокруг беспокойством, недоверием, ожиданием беды". Правда, эта тревожная медитация завершается на мажорной ноте: А капля? Я оглянулся и от серебристого крапа, невдали переходящего в сплошное сияние, зажмурил глаза. Сердце мое трепыхнулось и обмерло в радости: на каждом листке, на каждой хвоинке, травке, в венцах соцветий, на дудках дедюлек, на лапах пихтарников, на необгорелыми концами высунувшихся из костра Дровах, на одежде, на сухостоинах и на живых стволах деревьев, даже на сапогах спящих ребят мерцали, светились, играли капли, и каждая роняла крошечную блестку света, но, слившись вместе, эти блестки заливали сиянием торжествующей жизни все вокруг, и вроде бы впервые за четверть века, минувшего с войны, я, не зная, кому в этот миг воздать благодарность, пролепетал, а быть может, подумал: "Как хорошо, что меня не убили на войне, и я дожил до этого утра". Именно в лирических медитациях Автора, в его взволнованное переживаниях то, что происходит здесь и сейчас, в социальной и бытовой сферах, переводится в масштабы вечности, соотносится с великими и суровыми законами бытия, окрашиваясь в экзистенциальные тона. Однако, в принципе, дидактизм в искусстве выступает наружу, как правило, тогда, когда художественная реальность, воссозданная автором, не обладает энергией саморазвития. А это значит, что "всеобщая связь явлений" еще не видна. На таких фазах литературного процесса оказывается востребованной форма цикла, ибо в ней удается запечатлеть мозаику жизни, а вот скрепить ее в единую картину мира можно только архитектонически: посредством монтажа, при помощи весьма условных - риторических или чисто фабульных - приемов (не случайно в ряде последующих изданий "Царь-рыбы" Астафьев переставлял местами рассказы, а некоторые даже исключал). Все это свидетельствует о гипотетичности концепции произведения и об умозрительности предлагаемых автором рецептов. Сам писатель рассказывал, с каким трудом у него "выстраивалась" "Царь-рыба": Не знаю, что тому причиной, может быть, стихия материала, которого так много скопилось в душе и памяти, что я чувствовал себя буквально им задавленным и напряженно искал форму произведения, которая вместила бы в себя как можно больше содержания, то есть поглотила бы хоть часть материала и тех мук, что происходили в душе. Причем все это делалось в процессе работы над книгой, так сказать "на ходу", и потому делалось с большим трудом . В этих поисках формы, которая бы соединяла всю мозаику рассказов в единое целое, выражали себя муки мысли, пытающей мир, старающейся постигнуть справедливый закон жизни человека на земле. Не случайно на последних страницах "Царь-рыбы" Автор обращается за помощью к вековой мудрости, запечатленной в Священной книге человечества: "Всему свой час, и время всякому делу под небесами. Время родиться и время умирать. <. . . > Время войне и время миру". Но эти уравновешиваюшие всё и вся афоризмы Екклезиаста тоже не утешают, и кончается "Царь-рыба" трагическим вопрошанием Автора: "Так что же я ищу, отчего я мучаюсь, почему, зачем? - нет мне ответа". Искомая гармония между человеком и природой, внутри самого народного "мiра" не наступила. Да и наступит ли когда-нибудь? 24(51). Повесть В.Распутина «Прощание с Матёрой»: сюжет и система персонажей. В своей повести "Прощание с Матерой" В. Распутин исследует национальный мир, его систему ценностей и его судьбу в кризисном ХХ веке. С этой целью писатель воссоздает переходную, пограничную ситуацию, когда еще не наступила смерть, но и жизнью это назвать уже нельзя. Фабульно произведение нам рассказывает об острове Матера, который должен затонуть в связи с построением новой ГЭС. А вместе с островом должна будет исчезнуть и та жизнь, которая складывалась здесь в течение трехсот лет, то есть сюжетно эта ситуация изображает гибель старой патриархальной жизни и воцарение жизни новой. Вписанность Матеры (острова) в бесконечность природного миропорядка, ее нахождение "внутри" него дополняется включенностью Матеры (деревни) в движение исторических процессов, не столь согласованных, как природные, но наряду с ними являющихся органической частью человеческого существования в этом мире. Триста с лишним лет Матере (деревне), видела она казаков, плывших ставить Иркутск, видела ссыльных, арестантов и колчаковцев. Важно, что социальная история деревни (казаки, ставящие Иркутский острог, торговые люди, арестанты, колчаковцы и красные партизаны) обладает в повести длительностью, не столь протяженной как природный миропорядок, но предполагающей возможность существования человека во времени. Соединяясь, природное и социальное вводят в повесть мотив естественного существования Матеры в (острова и деревни) в едином потоке природного и исторического бытия. Этот мотив дополняется мотивом вечно повторяющегося, бесконечного и устойчивого в этой повторяемости круговорота жизни (образ воды). На уровне авторского сознания открывается момент прерывания вечного и естественного движения, а современность предстает как катаклизм, преодолеть который невозможно, как смерть прежнего состояния мира. Таким образом, затопление начинает означать не только исчезновение природного (Матеры-острова), но и этического (Матеры как системы родовых ценностей, рожденных и нахождением в природе, и нахождением в социуме). В повести можно выделить два плана: жизнеподобный (документальное начало) и условный. Ряд исследователей определяет повесть "Прощание с Матерой" как мифологическую повесть, в основе которой лежит миф о конце света (эсхатологический миф). Мифологический (условный) план проявляется в системе образов-символов, а также в сюжете повести (название острова и деревни, Листвень, хозяин острова, обряд проводов покойника, лежащий в основе сюжета, обряд жертвоприношения и т.д.). Наличие двух планов - реалистического (документально-публицистического) и условного (мифологического) является свидетельством того, что автор исследует не только судьбу конкретной деревни, не только социальные проблемы, но и проблемы бытия человека и человечества вообще: что может служить основой существования человечества, современное состояние бытия, перспективы (что ждет человечество?). Мифологический архетип повести выражает представления автора о судьбе "крестьянской Атлантиды" в современной цивилизации. В своей повести В. Распутин исследует прошлую национальную жизнь, прослеживает изменение ценностей во времени, размышляет над тем, какую цену заплатит человечество за утрату традиционной системы ценностей. Основные темы повести - темы памяти и прощания, долга и совести, вины и ответственности. Семья воспринимается автором как основа жизнедеятельности и сохранения родовых законов. В соответствии с этой идеей писатель выстраивает систему персонажей повести, которая представляет собой целую цепочку поколений. Автор исследует три поколения, родившихся на Матере, и прослеживает их взаимодействие между собой. Распутин исследует судьбу нравственных и духовных ценностей в разных поколениях. Наибольший интерес Распутин испытывает к старшему поколению, потому что именно оно является носителем и хранителем народных ценностей, которые цивилизация пытается уничтожить, ликвидировав остров. Старшее поколение "отцов" в повести - это Дарья, "самая старая из старых", старуха Настасья и ее муж Егор, старухи Сима и Катерина. Поколение детей - это сын Дарьи Павел, сын Катерины Петруха. Поколение внуков: внук Дарьи Андрей. Для старух неминуемая гибель острова - это конец света, так как они не мыслят ни себя, ни своей жизни без Матеры. Для них Матера - это не просто земля, но это часть их жизни, их души, часть общей связи с теми, кто ушел из этого мира и с теми, кто должен прийти. Эта связь и рождает у стариков ощущение того, что они - хозяева этой земли, а вместе с тем и ощущение ответственности не только за родную землю, но и за умерших, которые им эту землю доверили, а они не смогли ее сохранить. "Спросют: как допустила такое хальство, куда смотрела? На тебя, скажут, понадеялись, а ты? А мне и ответ держать нечем. Я ж тут была, на мне лежало доглядывать. И что водой зальет, навроде тоже как я виновата", - размышляет Дарья. Связь с предыдущими поколениями прослеживается и в системе нравственных ценностей. Материнцы относятся к жизни как к службе, как к некоему долгу, который нужно нести до конца и который они не вправе перекладывать на кого-либо другого. Существует у материнцев и своя особая иерархия ценностей, где на первом месте стоит жизнь в согласии с совестью, которую раньше "сильно отличали", не то, что в нынешнее время. Таким образом, основами такого типа народного сознания (онтологического миропонимания) становятся восприятие природного мира как одухотворенного, признание своего определенного места в этом мире и подчинение индивидуальных устремлений коллективной этике и культуре. Именно эти качества помогали нации продолжать историю и существовать в гармонии с природой. В. Распутин отчетливо осознает невозможность такого типа миропонимания в новой истории, поэтому он пытается исследовать и другие варианты народного сознания. Период тяжелых раздумий, смутного душевного состояния переживают не только старухи, но и Павел Пинигин. Его оценка происходящего неоднозначна. С одной стороны, он тесно связан с деревней. Приезжая в Матеру, он чувствует как за ним "смыкается время". С другой стороны, он не чувствует той боли за родной дом, которой переполнены души старух. Павел осознает неизбежность перемен и понимает, что затопление острова необходимо для всеобщего блага. Свои сомнения по поводу переселения он считает слабостью, ведь молодым "и в голову не приходит сомневаться". Этот тип мироощущения еще хранит в себе существенные черты онтологического сознания (укорененность в труде и доме), но в то же время смиряется с наступлением машинной цивилизации, принимая заданные ею нормы существования. В отличие от Павла, по мнению Распутина, молодые совсем потеряли чувство ответственности. Это можно увидеть на примере внука Дарьи Андрея, который уже давно покинул деревню, работал на заводе и теперь хочет попасть на строительство ГЭС. У Андрея своя концепция мира, согласно которой будущее ему видится исключительно за техническим прогрессом. Жизнь, с точки зрения Андрея, находится в постоянном движении и от нее нельзя отставать (стремление Андрея ехать на ГЭС - передовую стройку страны). Дарья же в техническом прогрессе видит гибель человека, так как постепенно человек будет подчиняться технике, а не управлять ей. "Маленький он, человек", - говорит Дарья. "Маленький", то есть не набравшийся мудрости, далекий от безграничного ума природы. Он еще не понимает, что не в его власти управлять современной техникой, которая раздавит его. В этом противопоставлении онтологического сознания Дарьи и "нового" сознания ее внука открывается оценка автором технократических иллюзий переустройства жизни. Симпатии автора, безусловно, на стороне старшего поколения. Однако не только в технике видит Дарья причину гибели человека, но, главным образом, в отчуждении, удалении его от дома, родной земли. Не случайно так обидел Дарью отъезд Андрея, который даже не взглянул ни разу на Матеру, не прошелся по ней, не простился с ней. Видя ту легкость, с которой живет молодое поколение, попадая в мир технического прогресса и забывая нравственный опыт предыдущих поколений, Дарья задумывается над истиной жизни, пытаясь найти ее, потому что чувствует свою ответственность и за молодое поколение. Эта истина открывается Дарье на кладбище и заключается она в памяти: "Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни". Старшее поколение в современном обществе видит размывание границ между добром и злом, соединение этих начал, несовместимых друг с другом, в единое целое. Воплощением разрушенной системы нравственных ценностей явились так называемые "новые" хозяева жизни, разрушители кладбища, которые расправляются с Матерой, как со своей собственностью, не признавая права стариков на эту землю, следовательно, не считаясь с их мнением. Отсутствие ответственности у таких вот "новых" хозяев просматривается и в том, как был построен поселок на другом берегу, который строили не с расчетом на удобство жизни для человека, но с расчетом быстрее закончить стройку. Маргинальные персонажи повести (Петруха, Воронцов, разрушители кладбища) - следующий этап деформации народного характера. Маргиналы ("архаровцы" в "Пожаре") - это люди, у которых нет почвы, нет нравственной и духовной укорененности, поэтому они лишены семьи, дома, друзей. Именно такой тип сознания, по мнению В. Распутина, рождает новая технологическая эра, завершающая позитивную национальную историю и означающая катастрофу традиционного уклада и его системы ценностей. В финале повести происходит затопление Матеры, то есть разрушение старого патриархального мира и рождение нового (поселок). 25(52). Герой и конфликты в рассказах В.Шукшина Разрушение цельности "простого человека" Начинал В. Шукшин (1927 - 1974) с горделивого любования сильным самобытным человеком из народа, умеющим лихо работать, искренне и простодушно чувствовать, верно следовать своему естественному здравому смыслу, сминая по пути все барьеры обывательской плоской логики. Очень точно определил существо концепции личности в новеллистике Шукшина первой половины его пути А. Н. Макаров. Рецензируя рукопись сборника "Там, вдали" (1968), критик писал о Шукшине: ". . . он хочет пробудить у читателя интерес к этим людям и их жизни, показать, как, в сущности, добр и хорош простой человек, живущий в обнимку с природой и физическим трудом, какая это притягательная жизнь, не сравнимая с городской, в которой человек портится и черствеет". Действительно, такое суммарное впечатление создавалось при чтении произведений, написанных Шукшиным на рубеже 1950 - 1960-х годов. И это впечатление - не без помощи критики - стало канонизироваться. Однако общий тон в работах Шукшина, написанных в последние годы его жизни, стал иным, здесь перевешивает новый поэтический пафос. Если раньше Шукшин любовался веской цельностью своих парней, то теперь, вспоминая жизнь дяди Ермолая, колхозного бригадира, и других таких же вечных тружеников, добрых и честных людей, герой-повествователь, очень близкий автору, задумывается: . . . что, был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том именно, как они ее прожили. Или не было никакого смысла, а была одна работа, работа?... Работали, да детей рожали. Видел же я потом других людей… Вовсе же не лодырей, нет, но… свою жизнь они понимали иначе. Да сам я ее понимаю теперь иначе! Но только, когда смотрю на эти холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее? Утверждение, некогда принимавшееся как аксиома, сменилось сомнением. Нет, геройповествователь, человек, видимо, современный, образованный, городской, не отдает предпочтения своему пониманию жизни перед тем, как жили дядя Ермолай, дед его, бабка. Он не знает, "кто из нас прав, кто умнее". Он самое сомнение делает объектом размышления, старается втянуть в него читателя. Герой зрелого Шукшина всегда на распутье. Он уже знает, как он не хочет жить, но он еще не знает, как надо жить. Классическая ситуация драмы. "Глагол "дран", от которого происходит "драма", обозначает действие как проблему, охватывает такой промежуток во времени, когда человек решается на действие, выбирает линию поведения и вместе с тем принимает на себя всю ответственность за сделанный выбор", - пишет В. Ярхо, известный исследователь античной драматургии. Содержание большинства рассказов Шукшина вполне укладывается в это определение. Но есть одно существенное уточнение: речь идет о решении не частного, не ситуативного, а самого главного, "последнего" вопроса: "Для чего, спрашивается, мне жизнь была дадена?" ("Одни"); ". . . Зачем дана была эта непосильная красота?" ("Земляки"); "Что в ней за тайна, надо ее жалеть, например, или можно помирать спокойно - ничего тут такого особенного не осталось?" ("Алеша Бесконвойный"). И так спрашивают у Шукшина все - мудрые и недалекие, старые и молодые, добрые и злые, честные и ушлые. Вопросы помельче их попросту не интересуют. Жизнь поставила героя шукшинского рассказа (или он сам себя, так сказать, "экспериментально" ставит) над обрывом, дальше - смерть. Доживает последние дни "залетный", помирает старик, оплакивает свою Парасковью дедушка Нечаев, подводят итоги большой жизни братья Квасовы и Матвей Рязанцев. А "хозяин бани и огорода", тот с "веселинкой" спрашивает: "Хошь расскажу, как меня хоронить будут?" - и впрямь принимается рассказывать. Восьмиклассник Юрка лишь тогда побеждает в споре деда Наума Евстигнеича, когда рассказывает про то, как умирал академик Павлов. Короче говоря, герой Шукшина здесь, на последнем рубеже, определяет свое отношение к самым емким, окончательным категориям человеческого существования - к бытию и небытию. Именно этот конфликт диктует форму. Драматизм шукшинского рассказа: "чудик" и его чудачества В рассказе Шукшина господствует диалог. Это и диалог в его классическом виде - как обмен репликами между персонажами ("Хозяин бани и огорода", "Охота жить!", "Срезал", "Космос, нервная система и шмат сала") или как пытание героем самого себя ("Думы", "Страдания молодого Ваганова"). Это и диалог в монологе - как явная или неявная полемика героя с чужим сознанием, представленным в голосе героя в виде зоны чужой речи ("Штрихи к портрету", "Алеша Бесконвойный"), или как разноголосье в речи самого героя, обнажающее противоречивость его собственного сознания ("Раскас", "Постскриптум", "Два письма", "Миль пардон, мадам!"), порой в одном рассказе переплетаются несколько форм диалога ("Верую!", "Письмо", "Земляки"). Всеохватывающая диалогичность шукшинского рассказа создает ощущение того, что речь идет о нашей общей мысли, которая живет в тугом узле позиций всех, кто явно или неявно участвует в философском споре. Истина где-то там, внутри общего размышления. Герою она никак не дается в руки. Больше того, чем увереннее судит какой-нибудь старик Баев или Н. Н. Князев, "гражданин и человек", о смысле жизни, тем дальше от этого смысла он отстоит. Любимые герои Шукшина, натуры сильные, нравственно чуткие, пребывают в состоянии жестокого внутреннего разлада. Ну и что? - сердито думал Максим. - Так же было сто лет назад. Что нового-то? И всегда так будет. Вон парнишка идет. Ваньки Малофеева сын… А я помню самого Ваньку, когда он вот такой же ходил, и сам я такой был. Потом у этих - свои такие же будут. А у тех - свои. . . И все? А зачем? ("Верую!"). И не находит Максим ответа. Не знает ответа и мудрый "попяра", у которого Максим просит совета. Популярная лекция попа - это скорее диспут с самим собою, это взвешивание "за" и "против" смысла человеческого существования. А его размышления о диалектике бытия лишь оглушают не привыкшего к философским прениям Максима Ярикова, который просит попа: "Только ты это. . . понятней маленько говори. . . " Так же было и в рассказе "Залетный": мудрые речи художника Сани, запоздало осознающего бесценную красоту жизни, вызывают у слушающих его мужиков одну реакцию: "Филя не понимал Саню и не силился понять", "Этого Филя совсем не мог уразуметь. Еще один мужик сидел, Егор Синкин, с бородой, потому что его в войну ранило в челюсть. Тот тоже не мог уразуметь". И повествователь, говорящий языком своего Фили, тоже втягивается в круг этих добрых людей, способных на искреннее сострадание, но не умеющих "уразуметь" бесконечность. В муках шукшинского героя, в его вопрошании миру выразилась незавершенность философского поиска, в который он сам вверг себя. Но мука эта - особая. Всеохватывающая и бесконечная диалогичность создает особую атмосферу - атмосферу думания, того мучительного праздника, когда душа переполняется тревогой, чует нестихающую боль, ишет ответа, но тревогой этой она выведена из спячки, болит оттого, что живо чувствует все вокруг, а в поисках ответа напрягается, внутренне ликует силой, сосредоточенностью воли, яркой жаждой объять необъятное. Старый Матвей Рязанцев, герой рассказа "Думы", называет это состояние "хворью". Но какой? "Желанной"! "Без нее чего-то не хватает". А когда Максим Яриков, "сорокалетний легкий мужик", жалуется, что у него "душа болит", то в ответ он слышит: ". . . душа болит? Хорошо. Хорошо! Ты хоть зашевелился, едрена мать! А то бы тебя с печки не стащить с равновесием-то душевным". Боль и тревога мысли - это самая человеческая мука, свидетельство напряженной жизни души, поднявшейся над прагматическими заботами. Люди, у которых душа не болит, кто не знает, что такое тоска, выбрасываются в рассказе Шукшина за черту диалога, с ними не о чем спорить. Рядом с "куркулями", что более всего радеют о своей бане и своем огороде, рядом со швеей (и по совместительству - телеграфисткой) Валей, меряющей все блага жизни рублем ("Жена мужа в Париж провожала"), рядом с "умницей Баевым" и его копеечными рацеями даже "пенек" Иван Петин, герой "Раскаса", выглядит симпатичнее: у него-то хоть "больно ныло и ныло под сердцем", когда жена ушла, а потом родилось слово - косноязычное, невнятное, как и сама его мысль, но оно было голосом души, которая хоть и не может, а все-таки хочет понять, что же такое происходит. Главная же мера духовности у Шукшина - это то расстояние, второе отделяет позицию героя, его миропонимание от объективного закона бытия, от самого смысла жизни. В шукшинском рассказе эту дистанцию вскрывает поступок, который герой совершает в соответствии со своей позицией. Это именно поступок: один-единственный шаг, даже жест, но такой шаг, которым взламывается вся судьба. Поступок шукшинского героя оказывается чудачеством. Порой оно бывает добрым и смешным, вроде украшения детской коляски журавликами, цветочками, травкой-муравкой ("Чудик"). Но далеко не всегда эти "чудачества" безвредны. В сборнике "Характеры" впервые отчетливо зазвучало предостережение писателя относительно странных, разрушительных возможностей, которые таятся в сильной натуре, не имеющей высокой цели. Шукшин дал начало разговору о последствиях духовного вакуума. Оказывается, нереализованная душа, неосуществленная личность придумывает иллюзии, выискивает суррогаты, которыми пытается заполнить духовный вакуум, компенсировать свою человеческую недостаточность и тем самым утвердить себя в собственных глазах и в общем мнении. В наиболее безобидном виде такая бесплодная деятельность души представлена в рассказе "Генерал Малафейкин": о старом добром маляре, придумавшем себе биографию "позначительнее" и чин "попрестижнее". Но куда опаснее, когда жажда достоинства, собственной вескости выливается в страшное - "ты моему нраву не перечь!". С психологической точностью и последовательностью показал Шукшин в рассказе "Крепкий мужик", как опьяняет бригадира Мурыгина чувство хоть маленькой, да власти, как сопротивление его неразумному приказу только подстегивает начальственный кураж, как стервенеет человек от слепой силы, которая получила вроде бы узаконенный выход. Не менее страшны последствия того, как неутоленное самолюбие приводит к злому желанию "срезать", обхамить человека, унизив другого, почувствовать подлую радость собственного возвышения над ним. В рассказах "Срезал" и "Обида" Шукшин как-то сумел уничтожить оболочку, всегда отделявшую переживание искусства от переживания факта, и здесь это имеет огромный нравственный смысл. Читая о том, как заносится в своем невежественном хамстве "деревенский краснобай" Глеб Капустин, как он берет на себя право свысока поучать всех и вся, демагогически прикрываясь авторитетом народа, как "хмурая тетя" из-за прилавка ни за что ни про что оскорбляет Сашку Ермолаева, как обрастает комом нелепое обвинение вокруг него, испытываешь неистовое желание как-то остановить происходящую на глазах позорную экзекуцию - и осознаешь собственное бессилие. Словно это все над тобой совершается или на твоих глазах. . . Образами своих "чудиков" писатель охватил широчайший спектр характеров, в которых пробудившиеся духовные потребности не организованы зрелым самосознанием. Энергия, бьющая наобум, - это бывает не только горько (от пустой траты души), но и страшно. Поступок шукшинского героя чаще всего демонстрирует, насколько же он далек от действительно высшего смысла. Потому-то он - "чудик": не чудак, живущий в идеальном мире и далекий от реальности, а именно чудик – человек из реальности, возжаждавший идеального и не знающий, где его искать, куда девать накопившуюся в душе силу. Драматургическая природа поступка в рассказе Шукшина не требует доказательств. Образуя единство с диалогом, реализуя диалог в действие, проверяя мысль результатом, чудачество становится особой стилевой метой шукшинского рассказа, его зрелищной, театральной экстравагантности. Но не только стилевой. Дело в том, что функция поступка-чудачества у Шукшина не ограничивается оценкой жизненной позиции героя. Через чудачество в рассказе Шукшина проявляется стихия народносмехового, карнавального ощущения мира как диалектического единства высокого и низкого, смеха и слез, рождения и смерти. Поступок шукшинского "чудика" карнавален в самом первородном значении этого слова: он жаждет творить добро, а приносит зло, его нелепый с точки зрения здравого смысла поступок оказывается мудрым и добрым (вспомните Серегу Духанина с сапожками), он ищет праздника, а приходит к беде, он занимается совершенно беспросветным делом, вроде изобретения вечного двигателя, а на самом деле живет радостной, веселой жаждой творчества. Прямым переносом карнавального значения в современность становится финал рассказа "Верую!". Свою "лекцию" о смысле жизни, о ее радости и горе, о том рае и аде, которыми она награждает и испытывает человека, поп кончает выводом: "Живи, сын мой, плачь и приплясывай". А потом, как и положено в "карнавальных" жанрах, философский посыл, заключенный в слове, реализуется в поступке: Оба, поп и Максим, плясали с такой с какой-то злостью, с таким остервенением, что не казалось и странным, что они - пляшут. Тут или плясать, или уж рвать на груди рубаху и плакать, и скрипеть зубами. Через танец, в котором спеклись воедино трагедия и комедия, хохот и слезы, радость и горе, герои рассказа "Верую!" приобщаются к мудрому народному чувству извечной противоречивости бытия. Это редкий в рассказе Шукшина случай "тематического завершения", столь явно выводящего к истине. Потому что очень немногие из его героев - разве что старики вроде "моего деда" ("Горе") или бабки Кандауровой ("Письмо") - мудро постигают закон бытия, живут в органическом согласии с миром и могут сказать, как сказала Кузьмовна: "да у меня же смысел был". Остальные герои Шукшина, его "чудики", как уже говорилось выше в большей или меньшей степени далеки от истины, точнее, целят куда-то вбок или вспять от нее. Но сама-то истина есть! Шукшин верит в нее, он ищет ее вместе со своими героями. И вся художественная реальность, окружающая диалог, подчинена этому поиску и помогает ему. Но как? Дума о жизни и образ мира Весь художественный мир в рассказах Шукшина связан с думой. И время он избирает такое, когда думается: Бывает летом пора: полынь пахнет так, что сдуреть можно. Особенно почему-то ночами. Луна светит, тихо. . . Неспокойно на душе, томительно. И думается в такие огромные, светлые, ядовитые ночи вольно, дерзко, сладко. Это даже - не думается, что-то другое: чудится, ждется, что ли. Притаишься где-нибудь на задах огородов, в лопухах, - сердце замирает от необъяснимой, тайной радости. Жалко, мало у нас в жизни таких ночей ("Горе"). И место тоже такое, где мысль человека раскрепощается от суеты: "Лично меня влечет на кладбище вполне определенное желание: я люблю там думать". Часто хронотоп шукшинского рассказа образуется картинами весны или осени, вечера или раннего утра, огонька в камельке охотничьей избушки, "светлых студеных ключей", над которыми "тянет посидеть". Шукшин скуп в описаниях: он лишь намечает фрагмент традиционной картины - остальное доделывает ассоциативная память читателя, который словно бы сам создает внутренний мир рассказа или, по меньшей мере, соучаствует в его создании. Такая "экономия" продуктивна вдвойне: с одной стороны, сохраняется "деловитость, собранность", которую Шукшин считает признаком хорошего рассказа, а с другой - читатель органично вживается в атмосферу, сам настраивается на философское раздумье. С философской думой сопряжены и самые привычные реалии деревенского быта, самые обыденные, на первый взгляд, житейские акты, которые занимают немало места в художественном мире рассказа Шукшина. Вот Костя Валиков, по прозвищу Алеша Бесконвойный, топит баню. И эта обыкновеннейшая, зауряднейшая процедура описывается с поразительным тщанием, отвечающим всей серьезности отношения героя к ней: . . . И пошла тут жизнь - вполне конкретная, но и вполне тоже необъяснимая - до краев дорогая и родная. Это поворотная фраза, открывающая философский смысл "банного" чудачества Алеши. В рассказе "Петька Краснов рассказывает" было нечто подобное: Ночь. Поскрипывает и поскрипывает ставенка - все время она так поскрипывает. Шелестят листвой березки. То замолчат - тихо, а то вдруг залопочут-залопочут, неразборчиво, торопливо. . . Опять замолчат. Знакомо все, а почему-то волнует. Что же такое необъяснимое воплотилось в конкретном, что волнует в знакомом? Да та самая неуловимая истина бытия. Приблизиться к ней может лишь тот, кто трепетно чуток к жизни во всех ее проявлениях. И когда Алеша любуется белизной и сочностью поленьев, когда с удовольствием вдыхает "дух от них - свежий, нутряной, чуть стылый, лесовой", когда он с волнением смотрит, как разгорается огонь в каменке, то через все это открывается высшее - по Шукшину - человеческое качество: умение замечать в малой малости, в самых заурядных подробностях быта красу бытия, и не просто замечать, а специально, намеренно, с чувством, толком, расстановкой постигать ее, наполняться ею. Сам этот процесс постижения бытия составляет главную радость Алеши ("Вот за что и любил Алеша субботу: в субботу он так много размышлял, вспоминал, думал, как ни в какой другой день"), и, проникнув через быт к бытию, войдя в него, Алеша обретает - пусть на считанные минуты, пока тянется банное блаженство, - то, ради чего кладут жизни многие другие герои Шукшина. Он обретает покой. Покой - это один из ключевых образов в художественном мире шукшинского рассказа. Он противостоит суете. Но покой здесь не имеет ничего общего с застоем, он означает внутренний лад, Уравновешенность, когда в душу человека вселяется "некая цельность, крупность, ясность - жизнь стала понятной". Такое чувство приходит к Алеше Бесконвойному. Покой приходит к тому, кто понял жизнь, кто добрался до ее тайны. Это очень важный момент в концепции личности у Шукшина. Его вовсе не умиляет герой, который жил бы, подобно Платону Каратаеву или деревенским старикам, в стихийном согласии с миром, интуитивно осуществляя закон бытия. Герой Шукшина - личность. Он чувствует себя свободным лишь тогда, когда осознает закон жизненной необходимости. Он обретает покой лишь тогда, когда сам, умом своим и сердцем, добирается до секретов бытия, и уже отсюда, от знания начал всего сущего опять-таки осознанно строит свои отношения с человечеством и мирозданием: Последнее время Алеша стал замечать, что он вполне осознанно любит. Любит степь за селом, зарю, летний день. . . То есть он вполне понимал, что он - любит. Стал случаться покой в душе - стал любить. Людей труднее любить, но вот детей и степь, например, он любил все больше и больше. А в рассказе "Земляки" будет: Хорошо! Господи, как хорошо! Редко бывает человеку хорошо чтобы он знал: вот - хорошо. . . Такова, по Шукшину, логика духовного возвышения: кто понял жизнь, тот постиг ее неизмеримую ценность, сознание ценности жизни рождает у человека чувство прекрасного, и он проникается любовью к миру и ко всему, что неискаженно наполнено жизнью. Как мы видели, к покою герой Шукшина идет "через думу" об окружающем его мире. Можно сказать так: покой во внутреннем мире героя наступает тогда, когда перед ним открывается вся глубь и ширь мира внешнего, его простор. Простор - это второй ключевой образ в художественном мире шукшинского рассказа. Он характеризует художественную реальность, окружающую героя. . . А простор такой, что душу ломит", - так можно сказать словами одного из героев о внутреннем мире шукшинского рассказа. И дело не только в неоглядной широте пространственного горизонта (хотя и это тоже очень важно), но и в том, что простором дышит у Шукшина каждый из предметов, которые он экономно вводит в свой "хронотоп". Здесь почетное место занимают крестьянский дом ("Одни"), баня ("Алеша Бесконвойный"), старая печь ("В профиль и анфас"). Эти бытовые образы предстают у Шукшина как символы многотрудной жизни крестьянских родов, устойчивых нравственных традиций, передающихся из поколения в поколение, чистоты и поэтичности честной жизни тружеников. Малые подробности шукшинского "хронотопа": "рясный, парной дождик", веточка малины с пылью на ней, божья коровка, ползущая по высокой травинке, и многие другие - тоже наполнены до краев жизнью, несут в себе ее аромат, ее горечь и сладость. На основе этих "мелочей" Шукшин нередко строит предельно обобщенный образ бытия: "А жизнь за шалашом все звенела, накалялась, все отрешеннее и непостижимее обнажала свою красу перед солнцем" ("Земляки"). В этот величавый простор вписана жизнь человеческая. Именно вписана, совершенно четко обозначена в своих пределах. В художественном мире Шукшина далеко не случайны такие "образные" пары: старик и ребенок, бабка и внук ("Космос, нервная система и шмат сала", "Сельские жители", "Критики"), не случайно и то, что подводя итоги жизни, шукшинские старики нет-нет да и вспомнят свое детство ("Земляки", "Думы"), и вовсе не случайно паромщик Филипп Тюрин перевозит на один берег свадьбу а на другой – похоронную процессию ("Осенью"). Эти "пары" и есть образы пределов. Как видим, художественный мир шукшинского рассказа представляет собой образную модель мироздания, не бытового или психологического, социального или исторического мира, а именно мироздания. Функция его двояка: он возбуждает мысль о бытии и сам же представляет собой воплощенный смысл бытия. И в принципе структура мирообраза в рассказе Шукшина парадоксальна. В центре мира - герой, ведущий философский спор (со своим оппонентом или с самим собой) о смысле жизни, а вокруг него - само мироздание, "построенное" по своему смыслу, воплощающее ту самую истину бытия, которую так мучительно ищет герой. Типичность такого состояния героя и мира акцентируется зачином и финалом, обрамляющими рассказ. "Чудик обладал одной особенностью: с ним постоянно что-нибудь случалось. Он не хотел этого, страдал, но то и дело влипал в какие-нибудь истории - мелкие, впрочем, но досадные. Вот эпизоды одной его поездки" - так начинается рассказ "Чудик". Подобным же образом начинаются рассказы "Горе", "Алеша Бесконвойный", "Миль пардон, мадам!". Причем зачины и финалы рассказов звучат раскованно-разговорно. И "казус" предстает как один из тех бесчисленных, похожих друг на друга случаев, о которых "бают", собравшись где-нибудь вечерком, сельские жители. А кончаются рассказы чаще всего некоей бытовой, какой-то "необязательной" фразой героя. Кончил Максим Думнов наказ своему племяннику, избранному председателем колхоза, уходит "и на крыльце громко прокашлялся и сказал сам себе: - Экая темень-то! В глаз коли. . . " ("Наказ"). Всё, разговор окончен, пора возвращаться к повседневности. Такое "разговорное" обрамление рассказа, конечно же, служит мотивировкой выбора какого-то одного фрагмента из потока жизни, но еще важнее, что оно устанавливает однородность этого Фрагмента со всей жизнью: казус вытащен разговором из потока повседневности, в нем обнажился напряженнейший драматизм самой повседневности, и он опять уходит в поток жизни, растворяясь в ней без остатка. Как единое целое, как завершенный образ мира шукшинский рассказ несет в себе поразительное по сложности содержание. Здесь драма в "ореоле" эпоса, драма, которая может разрешиться только в эпосе, она устремлена к эпосу, но так им и не становится. Ведь, кажется, достаточно герою, стоящему в центре своего "одомашненного", родного и близкого, космоса, внимательно осмотреться вокруг, вдуматься, и откроется истина бытия, человек осознает себя, найдет свое законное место в мироздании - вступит в эпическое со-бытие, со-гласие с жизнью. Словом, все произойду по методе "интересного попа" из рассказа "Верую! ": "Ты спросишь отчего болит душа? Я доходчиво рисую тебе картину мироздания, чтобы душа твоя обрела покой". Метод "попяры" не так-то плох. Но вот беда: не видит Максим Яриков картину мироздания, не собирается у него бытие в связь, в целое, в закон. И потому его неистовый порыв в со-бытие не имеет разрешения. До со-бытия надо добраться сознанием, отсеяв шелуху, поднявшись над суетой. Здесь нужна мудрость. А пока герой не возвысился до мудрости, он "чудит", жизнь его в противоположность желанному покою трагикомически сумбурна. И чем крупнее характер, чем сильнее его "заносит" в стихийном порыве, тем дороже та цена, которую он платит за свои "чудачества". Мудрость жизни и ее хранители Читая зрелые рассказы Шукшина и возвращаясь от них к ранним его работам, можно заметить, как писатель все настойчивее, все упорнее искал источники мудрости, искал он их в реальном, житейском и историческом опыте народа, в судьбах наших стариков. Вспоминается старый шорник Антип с его бессловесной любовью к балалайке, с вечной потребностью в красоте, которую не могли подавить ни голод, ни нужда ("Одни"). Вспоминается председатель колхоза Матвей Рязанцев, проживший достойную трудовую жизнь и все же сожалеющий о каких-то непрочувствованных радостях и горестях ("Думы"). Позже к ним присоединилась старуха Кандаурова, героиня рассказа "Письмо". Этот рассказ занял особое место в последних циклах Шукшина. В нем словно сконцентрированы и прояснены мысли писателя о связи порывов "массового человека" к какой-то другой, осмысленной жизни с выстраданной мудростью народного опыта. Письмо старухи Кандауровой дочери своей и зятю это итог большой крестьянской жизни, и это поучение - поучение в его древнем возвышенном смысле. Чему же учит старая Кузьмовна, ломанная тяжким трудом, неустанными заботами о хлебе насущном, горестями и бедами, которых немало досталось на веку русской крестьянке? А вот чему: Ну, работа работой, а человек же не каменный. Да если его приласкать, он в три раза больше сделает. Любая животина любит ласку, а человек – тем более. . . И трижды повторяется одна мечта, одно желание: Ты живи да радуйся, да других радуй. . . ", "Она мне дочь родная, у меня душа болит, мне тоже охота, чтоб она порадовалась на этом свете", и опять "Я хоть порадываюсь на вас". Так вот чему поучает старуха Кандаурова своих наследников. Она учит их умению чувствовать красоту жизни, умению радоваться и радовать других, она учит их душевной чуткости и ласке. Вот те высшие ценности жизни, к котором она пришла через тяжелый опыт. Мудрость старухи Кандауровой, передающей драгоценный опыт большой многотрудной жизни, справедливость ее нравственных поучений потомкам, эстетически согласуется с простором и покоем в окружающем мире: "Вечерело. Где-то играли на гармошке. . . ", "Гармонь все играла, хорошо играла. И ей подпевал негромко незнакомый женский голос"; "Теплый сытый дух исходил от огородов, и пылью пахло теплой, остывающей". "Господи, думала старуха, хорошо, хорошо на земле, хорошо". И простор понят, и красота его принята, и мудрость есть, и покой, кажется, приходит в душу. Но в шукшинском рассказе покой, если и достигается, то на миг. Он сменяется новыми тревогами. Эпическое равновесие здесь неустойчиво в принципе. Дело даже не в том, что мудрость не отворачивается от сознания предельности жизни человека. Это-то противоречие бытия, камень преткновения экзистенциализма, мудростью как раз "снимается". "Еще бы разок все с самого начала. . . - думает старуха Кандаурова. И тут же себя одергивает: - Гляди-ко, ишо раз жить собралась! Видали ее!" Здесь и светлая печаль, и усмешка, и мужество человека, трезво смотрящего в лицо мирозданию. Сплавом мудрости и мужества обладают у Шукшина матери. Мать в его рассказах - это самый высокий образ "человеческого мира". И если эпический образ мироздания, создающий пространственновременной горизонт рассказа, выступает опосредованной мерой выбора, совершенного героем, то образ матери: ее судьба, се слово, ее горе и слезы - это этический центр рассказа, куда стягиваются все горизонты мироздания, опосредующие ценности бытия, где даже законы жизни и смерти покорены нравственным чувством матери, которая сама дарует жизнь и собой оберегает от смерти. В рассказе "На кладбище" есть апокрифический образ "земной божьей матери". Но так можно назвать и мать непутевого Витьки Борзенкова ("Материнское сердце"), и мать Ваньки Тепляшина, героя одноименного рассказа, и бабку Кандаурову, и мать "длиннолицего" Ивана ("В профиль и анфас") - всех-всех шукшинских матерей. Все они - земные матери, проросшие жизнью, бытом повседневностью, все они каждым поворотом своей судьбы связаны с большой отечественной историей (история обязательно вводится Шукшиным в рассказы о матерях). От земли, от житейского и исторического опыта идет та самая абсолютная "божья" нравственная мера, которую они несут в себе. Но "земные божьи матери" Шукшина начисто лишены покоя. В свете своего мудрого понимания необходимости и возможности гармонии в "человеческая мире" они не могут не преисполняться тревогой за своих детей, живущих немудро и дисгармонично: ". . . жалко ведь вас, так жалко, что вот говорю, а кажное слово в сердце отдает", - это Витькина мать обращается не к Витьке, а к другому человеку, к милиционеру, но и он для нее "сынок" ("Материнское сердце"). Оказывается, что эпическая мудрость, которая вознаграждается покоем, сама взрывает свой покой, едва достигнув его. В образах матерей, в их мудром и мужественном отношении к жизни, в их тревоге, в их деянии во спасение детей своих с особой отчетливостью проявилась "обратная связь" между эпическим и драматическим началом в рассказе Шукшина. Эпос у него растревожен драмой, обращен к ней, старается помочь ей разрешиться. Суть шукшинского рассказа - в принципиальной нерасторжимости комизма и трагизма, драмы и эпоса, которые к тому же существуют в ореоле лирического сопереживания автора-повествователя. Вот почему крайне трудно каким-то одним коротким термином обозначить эту жанровую структуру, приходится обходиться описательным названием - "шукшинский рассказ". Одно совершенно ясно: жанровая форма рассказа Шукшина несет философскую концепцию человека и мира. Философия тут дана в самом устройстве художественного мира: все его повествовательные, сюжетные, пространственно-временные, ассоциативные планы конструктивно воплощают отношения человека непосредственно с мирозданием. *** "Мое ли это - моя родина, где родился и вырос? Мое. Говорю что с чувством глубокой правоты, ибо всю жизнь мою несу родину в душе, люблю ее, жив ею, она придает мне силы, когда случается трудно и горько <. . . >. Я не выговариваю себе это право, не извиняюсь за него перед земляками – оно мое, оно я". Именно с этой позиции Василий Шукшин сумел раньше других почувствовать сдвиг времени и главное - уловить этот исторический сдвиг в духовном мире своего героя, рядового человека, носителя массового сознания. В этом герое Шукшин обнаружил острейший внутренний драматизм, который явился свидетельством "кризиса веры" так называемого "простого советского человека": он, лубочный персонаж официальной пропаганды, образец несокрушимой цельности и "правильности", испытал смертную муку бездуховности, не компенсируемой никакими материальными благами, он ощутил первостепенную важность в своей жизни иных - вечных ценностей, бытийных ориентиров. В рассказах Шукшина "массовый человек" сам поставил себя перед мирозданием, сам требовательно спросил с себя ответственное знание смысла своей жизни, ее ценностей. Поиски ответа мучительны и сложны. Подмена подлинных духовных ценностей потребительскими псевдоценностями, нравственная "некомпетентность" оборачиваются фарсом или трагедией, а то и тем и другим одновременно. Но в драматическом раздумье и выборе своем герой Шукшина тянется к эпической цельности: к деянию в полном согласии с вечными законами жизни, с нравственными идеалами народа. Эту цельность он хочет понять, вступить в нее вполне осознанно. За пульсацией драмы и эпоса в рассказах Шукшина стоит понимание жизни человека как беспокойного поиска покоя, как жажды гармонии, нарушаемой сознанием дисгармонии и неистовым желанием победить ее. Вот что открыл Василий Шукшин в своем народе, в "массовом человеке", современнике и соучастнике бесславного финала семидесятилетней эпохи псевдосоциалистической тоталитарной антиутопии. 26. Поэтическая судьба В.Высотского Владимир Семенович Высоцкий (25.1.1938, Москва - 25.VII.1980, Москва) - выдающийся русский поэт и актер, стихи-песни которого в его собственном исполнении получили поистине всенародное признание, хотя при жизни его произведения на родине практически не издавались. Раннее детство и годы юности Высоцкого связаны с Москвой. Отец его - Семен Владимирович - кадровый офицер, прошедший всю Великую Отечественную войну от начала и до последнего дня. Мать Нина Максимовна работала переводчиком. В 1941-1943 годах Володя с матерью был в эвакуации в Оренбургской области, после войны, вместе с отцом и его второй женой Евгенией Степановной, два года жил в Германии и в 1949 г. возвратился в Москву. Большую роль в формировании интересов, проявлении и реализации актерского и поэтического призвания Высоцкого уже в школьные и последующие годы сыграл круг его общения - близкие друзья, в число которых входили такие незаурядные и выдающиеся творческие личности, как Л. Кочарян, А. Макаров, В. Абдулов, А. Тарковский, В. Шукшин и другие, регулярно встречавшиеся в доме «на Большом Каретном». В 1955 г. Владимир заканчивает среднюю школу и поступает в Московский инженерно-строительный институт, но, проучившись там полгода, уходит из института и вскоре становится студентом Школы-студии МХАТ, по окончании которой в 1960 г. работает в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, снимается в эпизодических ролях в кинофильмах «Карьера Димы Горина», «713-й просит посадку», «Живые и мертвые» и др. В 1964 г. Высоцкий поступает в Московский театр драмы и комедии на Таганке, с которым связана вся его дальнейшая актерская деятельность. Он играет сначала в эпизодах, а затем и в заглавных ролях в спектаклях «Добрый человек из Сезуана», «Десять дней, которые потрясли мир», «Антимиры», «Павшие и живые», «Послушайте», «Пугачев», «Жизнь Галилея», «Гамлет» и др. В те же годы он создает ряд ярких кинематографических образов в фильмах «Служили два товарища» «Хозяин тайги», «Место встречи изменить нельзя» «Маленькие трагедии», «Короткие встречи», «Интервенция». Два последних, снятые еще в 1967-1968 годах, надолго были положены «на полку» и вышли на экран десятилетия спустя, во второй половине 80-х годов. Параллельно с работой в театре и кино, нередко в непосредственной связи с нею В. Высоцкий ярко раскрывает свое поэтическое дарование, создает многочисленные и получившие широчайшую известность стихи-песни, отвечавшие духовным запросам людей, потребностям времени. О рождении нового жанра «авторской песни», своеобразии этого художественного феномена у Высоцкого свидетельствуют его собственные слова, а также высказывания и характеристики современников. В своих выступлениях Высоцкий неоднократно подчеркивал отличие авторской песни от эстрадной, а с другой стороны - от «самодеятельной», считая, что в основе первой всегда лежит собственное, оригинальное поэтическое творчество, неотделимое от сугубо индивидуального, авторского, «живого» исполнения, выявляющего тончайшие смысловые и музыкально-ритмические оттенки стихов. В 1980 г. на одном из концертов он говорил: «...когда я услышал песни Булата Окуджавы, я увидел, что можно свои стихи усилить еще музыкой, мелодией, ритмом. Вот я и стал тоже сочинять музыку к своим стихам». Что же касается специфики песенного творчества В. Высоцкого, то, по верному замечанию. Р. Рождественского, он создавал «песни-роли», органически вживаясь в образы персонажей - героев его стихотворений. Может быть, одно из самых удачных определений этой специфики принадлежит перу актрисы Театра на Таганке Аллы Демидовой: «Каждая его песня - это моноспектакль, где Высоцкий был и драматургом, и режиссером, и исполнителем». И - надо непременно добавить: прежде всего - поэтом. Судьба поэтического наследия В. Высоцкого складывалась очень непросто. Несмотря на поистине всенародную известность и широчайшую популярность его песенного творчества в нашей стране и за ее пределами, на миллионные «тиражи» записей его песен в «магнитиздате», переполненные залы на его концертах, - при жизни поэта в Союзе было издано одно-единственное стихотворение «Из дорожного дневника» в сборнике «День поэзии 1975» и всего несколько песен появилось на мини-дисках в грамзаписи. О том, какие трудности приходилось преодолевать поэту, наталкивавшемуся на глухое сопротивление разного рода официальных «инстанций», стоявших на его пути к читателю, слушателю, зрителю, пишет Марина Влади в книге «Владимир, или Прерванный полет», построенной как обращение, разговор, письмо к любимому человеку: «Твои концерты отменяются иногда прямо перед выходом на сцену, чаще всего под предлогом твоей болезни, что приводит тебя в бешенство: тебе не только запрещают петь, но сваливают на тебя же вину за сорванный концерт. Твои песни для фильмов, прошедшие цензуру, все же «не пускают» как раз перед премьерой, и картина становится увечной. Тексты, неустанно посылаемые в Главлит, неизменно отсылаются обратно с преувеличенно вежливыми сожалениями. На нескольких маленьких пластинках, появившихся за двадцать лет работы, записаны самые безобидные песни, отобранные из более чем 700 текстов. Полное молчание по радио, телевидению и в газетах, а между тем в стране нет, пожалуй ни одного дома, где почти каждый день не слушали бы Высоцкого» . Уже после смерти поэта одна за другой стали появляться публикации его произведений в периодике, а затем и отдельные книги: «Нерв» (два издания: 1981 и 1982), «Кони привередливые» (1987), «Избранное» (1988), «Четыре четверти пути» (1988), «Поэзия и проза» (1989), «Сочинения: В 2-х т.» (с 1990 по 1995 выдержало семь изданий) и ряд других. В 1993 г. начало выходить Собрание сочинений в 5-ти томах. За последние два десятилетия опубликован ряд книг Высоцкого за рубежом - в Польше, Болгарии, Чехословакииии, Германии, Франции, США и других странах. Так, первое трехтомное собрание сочинений было издано в 1988 г. в Нью-Йорке, а в 1994 г. в Германии вышло собрание его сочинений в семи томах, восьми книгах. И если при жизни, еще в 60-е годы Высоцкому приходилось встречать в печати предвзятые и несправедливые оценки его произведений (характерны названия статей в «Комсомольской правде» и других центральных и периферийных газетах: «Что за песней?», «О чем поет Высоцкий?», «С чужого голоса» и т.п.), то после его смерти, за исключением отдельных печально известных, крайне недоброжелательных выступлений авторов журнала «Наш современник», творчество поэта находит объективное и разностороннее освещение. В сфере мемуаристики, несомненно, важное место заняли воспоминания родителей поэта, друзей его юности, товарищей по работе в театре и кино. Среди них особенно значимы и интересны книги Аллы Демидовой, Валерия Золотухина, Вениамина Смехова, ряд коллективных сборников. О творчестве поэта, вслед за статьями Ю. Карякина, С. Кормилова, Н. Крымовой, В. Толстых, появились содержательные книги Вл. Новикова и Н. Рудник, сборники научных статей (см. Библиографию в конце главы). Общая тенденция в литературе о поэте: от первых эмоциональных и критических откликов, попыток осмыслить феномен Высоцкого - к углубленному, научному, филологическому изучению его творчества в различных аспектах эстетики и поэтики, особенностей художественной речи и стиха. Поэтическое творчество В. Высоцкого заметно эволюционировало от первых стихотворных опытов, ранних песен-стилизаций к зрелым и самобытным произведениям второй половины 60-х, а затем и 70-х годов, отражая потребности времени и вписываясь в контекст общественно-литературного развития, более того, определяя его характерные и ведущие тенденции. В 1971 г. в одном из выступлений Высоцкий говорил: «Я давно очень пишу, с восьми лет, там всякие вирши, детские стихи, про салют писал... А потом, когда я был немножко постарше, я писал пародии всевозможные. Среди них так называемые «стилизации под блатные песни», за что я до сих пор и расхлебываюсь. Я писал эти песни, от них никогда не отказываюсь, они мне принесли пользу в смысле поисков формы, простоты языка, лексики простой» (Живая жизнь. С. 276). Высоцкому не нравилось, когда о его ранних песнях говорили, как о блатных, дворовых, он предпочитал связывать их с традицией городского романса. Выбор им на раннем этапе именно этой формы и жанра представляется совсем не случайным, а совершенно естественным и осмысленным. Вот его слова: «Начинал я с песен, которые многие почему-то называли дворовыми, уличными. Это была такая дань городскому романсу, который в то время был совершенно забыт. И у людей, вероятно, была тяга к такому простому, нормальному разговору в песне, тяга к не упрощенной, а именно простой человеческой интонации. Они были бесхитростны, эти первые песни, и была в них одна, но пламенная страсть: извечное стремление человека к правде, любовь к его друзьям, женщине, близким людям». В стихах-песнях раннего периода (1961-1964): «Татуировка», «Я был душой дурного общества...», «Наводчица», «Городской романс» и др. - сам язык может порой показаться слишком грубым, упрощеннопримитивным. Криминально-жаргонная лексика, вульгарные и блатные словечки типа «суки», «фраера», «падла», «стерва», «зараза», «шалава», «паскуда» и пр., несомненно, могут шокировать утонченный слух. Конечно, в этих песнях есть элементы стилизации, особенно ощутимые в воссоздании уличного колорита, а в других случаях - мелодики городского или цыганского романса. Но главное в них - обращение к живому, невыхолощенному слову, взятому из жизни, из разговорной речи. Существенным качеством стиля Высоцкого, уже на раннем этапе, было погружение в народную (бытовую и фольклорную) речевую стихию, ее творческая обработка, свободное владение ею. Именно это качество дало ему возможность уже в первой половине 60-х годов, особенно ближе к их середине, создать такие замечательные образцы песенного творчества, как «Серебряные струны», «На Большом Каретном», «Штрафные батальоны», «Братские могилы». Собственно, последние две песни уже как бы открывают следующий большой и важный период в творческой эволюции поэта. В середине и второй половине 60-х годов заметно расширяется тематика и разнообразятся жанры стиховпесен Высоцкого. Вслед за песнями военного цикла, куда вошли еще «Песня о госпитале», «Все ушли на фронт», появляются «спортивные» («Песня о сентиментальном боксере». «Песня о конькобежце на короткие дистанции, которого заставили бежать на длинную»), «космические» («В далеком созвездии Тау Кита»), «альпинистские» («Песня о друге», «Здесь вам не равнина», «Прощание с горами»), «сказочные» («Про дикого вепря», «Песня-сказка о нечисти»), «морские» («Корабли постоят - и ложатся на курс...», «Парус. Песня беспокойства»), пародийно-сатирические («Песня о вещем Олеге», «Лукоморья больше нет. Антисказка»), лирические («Дом хрустальный...») и многие, многие другие. Особенно плодотворным оказался для Высоцкого конец 60-х годов. Именно тогда он пишет великолепные, созданные на пределе эмоции и выразительности песни «Спасите наши души», «Моя цыганская» («В сон мне - желтые огни...»), «Банька по-белому», «Охота на волков», «Песня о Земле», «Сыновья уходят в бой», «Человек за бортом». Относительно «Баньки...» и «Охоты на волков», в которых, говоря словами Л. Абрамовой, чувствуются «выходы за пределы» и, быть может, прорывы в гениальность, следует добавить, что они были написаны в 1968 г., во время съемок кинофильма «Хозяин тайги» на Енисее, в селении Выезжий Лог, и не случайно В. Золотухин назвал этот период «болдинской осенью» В. Высоцкого. В 70-е годы песенное творчество Высоцкого развивается вширь и вглубь. Обогащаясь все новыми приметами живой жизни, штрихами и черточками почерпнутых непосредственно из нее характеров и ситуаций, не утрачивая проникновенного лиризма, оно приобретает качество углубленной философичности, раздумий о главных вопросах бытия. В очень разных стихах, написанных в самом начале десятилетия («Нет меня - я покинул Расею...», «Бег иноходца», «О фатальных датах и цифрах»), осмысляется собственная судьба и творчество, судьбы великих предшественников и поэтов-современников. А в конце 70-х («Райские яблоки», 1978) и в первой половине 1980 г., в том числе в самых последних стихах - «И снизу лед и сверху - маюсь между...», «Грусть моя, тоска моя» (авторская фонограмма 14 июля 1980 г.), - поэт обращается к раздумьям о трагических судьбах народа и еще раз - о самом себе, с полным основанием приходя к выводу: «Мне есть что спеть, представ перед всевышним, / Мне есть чем оправдаться перед ним». Но несомненно, самый яркий взлет в последнее десятилетие творческой деятельности Высоцкого приходится на 1972-1975 годы. Именно тогда им были написаны трагические песни-баллады «Кони привередливые», «Натянутый канат», «Мы вращаем Землю», «Тот, который не стрелял», сатирические зарисовки «Милицейский протокол», «Жертва телевиденья», «Товарищи ученые», жанровые картинки «Диалог у телевизора», «Смотрины», автобиографическая «Баллада о детстве», лирико-философские «Песня о времени», «Баллада о Любви», «Купола», «Две судьбы» и др. Поэтическое творчество Высоцкого многогранно и не исчерпывается стихами, которые были положены им на музыку и составляли песенный репертуар его выступлений. Среди опубликованных стихов немало понастоящему значительных, как, например, «Мой Гамлет» (1972), «Когда я отпою и отыграю...» (1973), «Мой черный человек в костюме сером...» (1979-1980) и др. В архиве Высоцкого сохранился и еще ряд произведений в различных жанрах, в частности, незаконченная детская шуточная поэма «...про Витьку Кораблева и друга закадычного Ваню Дыховичного» (1970- 1971), повесть «Жизнь без сна (Дельфины и психи)» (1968), сценарий «Как-то так все вышло...» (1969-1970) и также незаконченный «Роман о девочках», над которым он работал в конце 70-х годов. Все эти опыты свидетельствуют о богатом и не до конца раскрывшемся творческом потенциале этого разносторонне одаренного человека. Говоря об основных темах и мотивах стихов-песен Высоцкого, о чем уже шла речь в связи с творческой эволюцией поэта, следует еще раз подчеркнуть проблемно-тематический диапазон его произведений, остроту постановки в них насущных социальных вопросов дня и проблем века. В одном из последних выступлений-концертов в 1980 г. Высоцкий говорил: «И расчет в авторской песне только на одно - на то, что вас беспокоят так же, как и меня, какие-то проблемы, судьбы человеческие, что нас с вами беспокоят одни и те же мысли и точно так же вам рвут душу или скребут по нервам какие-то несправедливости, горе людское» (Живая жизнь. С. 302). Песни Высоцкого, особенно зрелого периода, всегда отличаются глубиной и своеобразием художественного решения «вечных» философских вопросов бытия. И здесь небезинтересно привести суждение на этот счет трех профессионалов высокого класса - поэта, деятеля театра и философа. Так, Давид Самойлов видит творческую эволюцию Высоцкого в направлении все большей значимости и глубины художественно решаемых им социальных и философских проблем: «В серьезных разговорах о явлениях и событиях жизни он вырабатывал позицию и черпал темы для своих песен. Уже не «были московского двора» питали его вдохновение, а серьезные взгляды на устройство мира» . Ту же динамику внутреннего роста подчеркивает Михаил Ульянов: «...только он мог на таком смертельном пределе вложить всего себя в песню - несмотря на порой непритязательный текст, несмотря на подчас уличную мелодию, песня Высоцкого становилась горьким, глубоким, философским раздумьем о жизни... В его песнях, особенно в последних, были не только чувство и страсть, но горячая мысль, мысль, постигающая мир, человека, самую суть их». Наконец, характерно свидетельство Валентина Толстых, отметившего слияние в творчестве поэта быта и бытия, лирики и философии: «Высоцкий говорит о любви и ненависти, о времени и борьбе, о рождении и смерти, поднимаясь в своих лирических излияниях до философского осмысления житейски близких, узнаваемых тем и проблем». Говоря о песенном творчестве Высоцкого как о своеобразной художественно-философской и поэтической системе, о путях объединения отдельных стихотворений-песен в тематические группы, о путях циклизации, следует особо остановиться на стихах военного цикла и своеобразии решения им этой темы. Выступая на вечере 21 февраля 1980 г., поэт подчеркивал: «...я пишу о войне не ретроспекции, а ассоциации. Если вы в них вслушаетесь, то увидите, что их можно сегодня петь, что люди - из тех времен, ситуации - из тех времен, а в общем, идея, проблема - наша, нынешняя. А я обращаюсь в те времена просто потому, что интересно брать людей, которые находятся в самой крайней ситуации, в момент риска, которые в следующую секунду могут заглянуть в лицо смерти...» (Живая жизнь. С. 304). То, что Высоцкий писал о людях, находящихся в самой крайней ситуации, заглядывающих в лицо смерти, нередко становящихся бессмысленными жертвами войны, и при этом особо подчеркивал, что это «проблема - наша, нынешняя», - говорит о многом. Очевидно, он уже тогда, особенно в начале 1980 г., когда только что был осуществлен ввод войск в Афганистан, остро чувствовал, предощущал, что война еще долго будет оставаться нашей национальной трагедией. В одном из ключевых стихотворений военного цикла «Он не вернулся из боя» (1969) трагическая смерть одного из бесчисленных рядовых Великой войны осмысляется как обыденный факт, приобретающий символическое звучание. Горечь утраты, кровная связь живых и погибших по контрасту оттеняются здесь картиной столь безмятежной на фоне людской трагедии вечной и прекрасной природы: Нынче вырвалась, словно из плена, весна. По ошибке окликнул его я: «Друг, оставь покурить!» - а в ответ - тишина... Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, Наши павшие - как часовые... Отражается небо в лесу, как в воде, И деревья стоят голубые. Природа и прежде всего сама Земля всегда предстает в стихах Высоцкого живой и одушевленной. В «Песне о Земле» (1969) заглавный образ раскрывается как синоним души человеческой. Отсюда - проходящие рефреном строки-олицетворения: «... кто сказал, что Земля умерла? / Нет, она затаилась на время... / Кто поверил, что Землю сожгли? / Нет, она почернела от горя.../ Обнаженные нервы Земли / неземное страдание знают... / Ведь Земля - это наша душа, / сапогами не вытоптать душу». В поэзии Высоцкого крупные и общие планы тесно связаны между собой. Жестокая правда войны, грубая реальность изображаемого («Как прикрытье используем павших... Животом - по грязи, дышим смрадом болот...») призваны утвердить высокую меру подвига всех и каждого в стихотворении «Мы вращаем Землю» (1972). В стихах военного цикла поэт достигает особой емкости и проникновенного лиризма в создании поэтического образа. Таков оживающий на наших глазах и наполняющийся новым предметноощутимым смыслом символ Вечного огня в стихотворении «Братские могилы», которое впервые прозвучало в кинофильме «Я родом из детства» (1966) и которым обычно Высоцкий открывал свои выступления-концерты - вплоть до самых последних 1980 г. А в Вечном огне - видишь вспыхнувший танк, Горящие русские хаты, Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, Горящее сердце солдата. Помимо военной, или, быть может, точнее - антивоенной темы важное место в творчестве поэта занимает тема Родины-России, взятая в ее сегодняшнем дне и далеком историческом прошлом. Русские, российские мотивы и образы - сквозные в произведениях Высоцкого, но есть среди них такие, где они выразились с особой отчетливостью. В «Песне о Волге» («Как по Волге-матушке, по реке-кормилице...») все напоено свежестью источников народно-поэтического творчества. Мерное ритмико-интонационное движение, вкрапления архаической лексики, создающие временной колорит («все суда с товарами, струги да ладьи»), специфические глагольные формы («не надорвалася», «не притомилася»), характерные инверсии в сочетании эпитета с определяемым словом («города старинные», «стены древние», «молодцы былинные») - это дает возможность прикоснуться к истокам нынешнего дня не только великой русской реки, но и самой Родиныматери. В написанной в 1975 г. для кинофильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», в котором Высоцкий играл главную роль Ибрагима Ганнибала, песне «Купола» (вариант названия: «Песня о России») возникает сугубо земной, подчеркнуто реалистический и вместе с тем - таинственный и загадочный образ Родины, от судьбы которой поэт не отделяет собственную жизнь. Как засмотрится мне нынче, как задышится?! Воздух крут перед грозой, крут да вязок. Что споется мне сегодня, что услышится? Птицы вещие поют - да все из сказок. ............. Я стою, как перед вечною загадкою, Пред великою да сказочной страною Перед солоно- да горько-кисло-сладкою, Голубою, родниковою, ржаною. Смешанные чувства радости и печали, тоски и надежды, очарован-ности тайной и предвестья будущего воплощают возникающие в этом стихотворении вещие птицы из древнегреческих мифов, христианских русских и византийских легенд и апокрифов: Сирин, Алконост, Гамаюн. В подаваемой ими надежде и, главное, в синем небе России, в ее медных колоколах и куполах церквей, крытых чистым золотом, видит поэт путь своего духовного исцеления и возвышения. И это выразительно передано в структуре каждой строфы - средствами звуковой организации стиха, умело использованными анафорами, внутренними рифмами, разнообразными созвучиями: ассонансами, аллитерациями и пр. Особенно характерна в этом плане заключительная строфа стихотворения: Душу, сбитую утратами и тратами, Душу, стертую перекатами, Если до крови лоскут истончал, Залатаю золотыми я заплатами Чтобы чаще Господь замечал! Будучи всегда остро современным и глубоко историчным, творчество Высоцкого неизменно обращено к «вечным» темам лирики - природе, жизни и смерти, судьбе человеческой, искусству, времени... В «Песне о времени» (1975) поэт вспоминает «о походах, боях и победах», о тайнах и легендах прошлого, воскрешая такие вечные чувства и понятия, как любовь, дружба, честь, правда, добро, свобода. В этом разгадка его последовательного обращения к опыту минувшего: Чистоту, простоту мы у древних берем, Саги, сказки - из прошлого тащим, Потому что добро остается добром В прошлом, будущем и настоящем! Что касается любовной лирики, то Высоцкому принадлежат великолепные ее образцы, созданные на разных этапах его творческого пути и в самых различных формах. Достаточно назвать «Дом хрустальный» (1967), «Песню о двух красивых автомобилях» (1968), «Здесь лапы у елей дрожат на весу...» (1970), «Люблю тебя сейчас...» (1973) и др. Одна из программных в этом перечне - написанная для кинофильма «Стрелы Робин Гуда», но не вошедшая туда «Баллада о Любви» (1975) с ее афористически звучащим рефреном: Я поля влюбленным постелю Пусть воют во сне и наяву!.. Я дышу, и значит - я люблю! Я люблю, и значит - я живу! Важно отметить жанровое многообразие, специфику форм и модификаций стихов-песен Высоцкого. В его собственных жанровых обозначениях нередко фигурируют слова «песня», «песенка», и, пожалуй, чаще других в их названиях возникает слово «баллада». В одном из выступлений 1976 г. поэт говорил о своем опыте написания «песен-баллад» и «лирических песен». Оборотной стороной его лирики была сатира, по словам А. Демидовой - «резкая, бьющая, неистовая, страстная». Сам Высоцкий всегда выделял эпическую, сюжетно-повествователь-ную основу своего песенного творчества: «Я вообще все песни стараюсь писать как песни-новеллы - чтобы там что-то происходило». А с другой стороны, вслед за слушателями, он обращал внимание на лирическую, исповедальную ноту своих произведений, в то же время подчеркивая, что их исполнение предполагает непременный контакт и взаимодействие с теми, кому они адресованы. Так, в одном из выступлений 1979 г. поэт говорил: «Я думаю, что, может быть, эти песни люди принимают, как будто бы это о них, - потому что я вроде как бы от себя лично их пою. И эти песни называются песнимонологи, и даже на пластинках пишут: монологи. Ну, как хотят, пусть это монологи. Для меня каждая моя песня - это не монолог, а наоборот - диалог с людьми, которым я ее пою...». Очевидно, трудно было бы выделить в песенном творчестве Высоцкого какую-то жанровую доминанту. И если в нем порою преобладают песни-монологи (от своего имени, от лица реальных и условных персонажей), то и в них естественно входит сюжетно-повествовательное («Дорожная история») или разговорно-диалогическое начало, иногда становящееся организующим («Диалог у телевизора»). Стремясь вступить в диалог с людьми, которым адресована песня, Высоцкий подчас использовал традиционную форму лирического, иронического, сатирического письма-обращения к различным адресатам. Таковы, например, «Письмо к другу, или Зарисовка о Париже», «Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное - невероятное» из сумашедшего дома с Канатчиковой дачи», «Письмо рабочих тамбовского завода китайским руководителям» и др. Нередко Высоцкий обращался к фольклорным жанрам и создавал в этом ключе собственные оригинальные произведения: сказки («Песня-сказка о нечисти», «Песня-сказка про джинна», «Сказка о несчастных сказочных персонажах»), притчи («Притча о Правде и Лжи), частушки («Частушки к свадьбе» и др.). И при всей, быть может, размытости жанровых границ многих произведений Высоцкого его жанровотематические циклы складываются в художественное целое, в сложный и целостный художественный мир. Откликаясь в своих песнях на «злобу дня», поэт видел и осмыслял ее масштабно, исторично и даже космически: Земля и небо, природные стихии, время, вечность, мирозданье - живут в его стихах, нынешний день нерасторжим в них с историей, сиюминутное - с вечным, Отсюда - пространственновременная распахнутость, широта и масштабность его поэтического мира. Не случайно Высоцкий подчеркивал в одном из поздних выступлений: «Прежде всего, мне кажется, должно быть свое видение мира» (Живая жизнь. С. 314). При этом он выдвигал на первый план именно «личность, индивидуальность» художника, его «чувство страдания за людей». Вот почему мировидение, мироощущение поэта носит глубоко личностный и трагедийный характер. Отсюда его особое внимание к сложным, трагическим судьбам великих поэтов (,0 фатальных датах и цифрах») и своих современников героев его стихов («Тот, который не стрелял», «Банька по-белому» и др.). Важное место в песнях-монологах Высокого занимают так называемые,ролевые герои», от имени которых ведется повествование. Вместе с тем в его стихах всегда присутствует лирический герой - выразитель четкой социальной и нравственной позиции поэта, его общественного и эстетического идеала. В соотнесенности между собой лирического и «ролевых» героев стихов-песен Высоцкого раскрывается их сложная художественная, образно-стилевая структура, в их органической связи реализуется глубочайшая человечность его таланта, его саморастворение «в народном вздохе миллионном» (А. Вознесенский). Поэт никогда не отделял себя от своих героев, остро ощущал и как бы перекладывал на свои плечи сложную запутанность их судеб, боль и горечь переживаний. Его песни - своего рода самопознание народной души. Относительно художественного метода и стиля Высоцкого-поэта следует отметить, что при всем многообразии и, быть может, пестроте для него характерны прежде всего реалистическая конкретность, романтическая обобщенность и сатирическая направленность в создании и творческой интерпретации художественных образов и самой действительности. При этом житейская конкретность воспроизводимых ситуаций не исключала и самых необычных, вымышленных, сказочных условно-фантастических обстоятельств, в которые поэт помещал своих героев, а естественная доверительность разговора или рассказа непосредственно смыкалась с неудержимой экспрессией в передаче его мыслей и чувств. Для Высоцкого характерно особое ощущение обстоятельств быта, деталей человеческого поведения и психологии, чувств и переживаний, жестов и поступков, а главное - предельная достоверность воссоздания живой разговорной речи многочисленных персонажей его стихов-песен. Каждый раз все это мотивировано конкретным образом, характером, душевным складом, состоянием действующего лица песни-монолога и находит выражение в неповторимом лексическом, фразеологическом, интонационно-синтаксическом строе речи. Примеры оттенков живой разговорной интонации, определяющей синтаксические особенности высказывания, находим в обрывистой речи «Разведки боем» («Кто со мной? С кем идти? / Так, Борисов... Так, Леонов...») и мягкой раздумчивости «Горной лирической» («А день, какой был день тогда? / Ах да среда!..»), в сатирическом звучании восклицаний и вопросов «Диалога у телевизора» («- Ой Вань, глядикось, попугайчики! / Нет, я, ей-богу, закричу!.. / А это кто в короткой маечке? / Я, Вань, такую же хочу»), в экспрессивных обращениях программного стихотворения «Натянутый канат»: Посмотрите - вот он без страховки идет. Чуть правее наклон упадет, пропадет! Чуть левее наклон все равно не спасти... Но замрите, - ему остается пройти не больше четверти пути! Что касается особенностей поэтики и стиля, то для Высоцкого характерна тенденция к взаимодействию и синтезу различных стилевых начал: реалистичности и романтики, сказочной условности и фантастики, естественной простоты и вместе - предельной напряженности, экспрессивности в использовании художественно-изобразительных, речевых, стиховых средств. Поиски художественного синтеза реализуются, вбирая опыт смежных искусств. Как неоднократно отмечалось, Высоцкий был одновременно поэтом и композитором, автором стихов и музыки, режиссером-постановщиком и актером-исполнителем своих произведений перед зрителями и слушателями. В творчестве В. Высоцкого нашли продолжение и развитие разнообразные классические и фольклорные традиции - от древнейших истоков литературы и до городского романса XIX-XX веков. В числе его любимых писателей были прежде всего Пушкин и Гоголь, Булгаков и Маяковский, Есенин и Пастернак. Он хорошо знал творчество Бабеля, Гумилева, Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама. Из поэтов-современников был лично знаком и высоко ценил Б. Окуджаву, А. Галича, А. Межирова, Б. Слуцкого, Д. Самойлова, А. Вознесенского, Б. Ахмадулину, И. Бродского, который, в частности, один из немногих отметил и неоднократно подчеркивал в своих выступлениях и интервью невероятную одаренность Высоцкого, его абсолютное языковое чутье, замечательные, феноменальные рифмы и, таким образом, его роль в развитии языка русской поэзии и современного стиха. Владимир Высоцкий прожил недолгую, но яркую творческую жизнь. Несомненны то место и значение, которые принадлежат ему в общественно-литературном и художественно-поэтическом процессе второй половины XX столетия, его неповторимый вклад в искусство театра и кинематографа. В 1987 г. ему была посмертно присуждена Государственная премия за создание образа Жеглова в фильме «Место встречи изменить нельзя» и авторское исполнение песен. Создан Государственный культурный центр-музей «Дом Высоцкого». Жаль только, что эти официальные знаки внимания и признательности пришли для него слишком поздно.