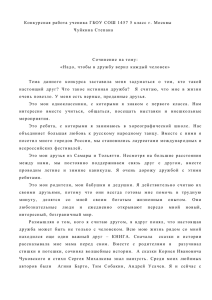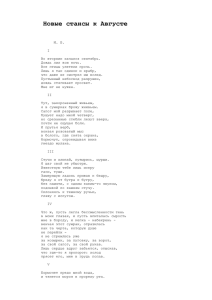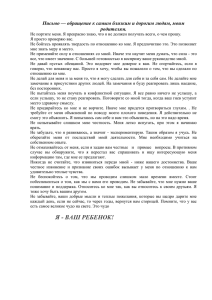Генерал, граф Эрнест фон Валь (1878 – 1949)
advertisement
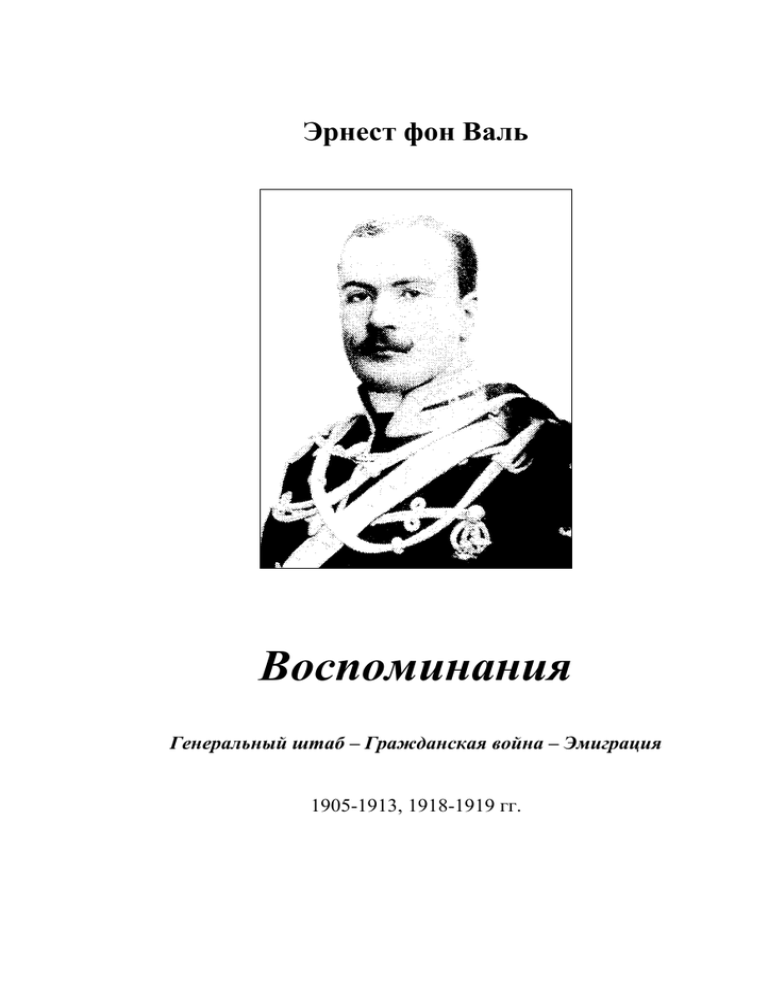
Эрнест фон Валь Воспоминания Генеральный штаб – Гражданская война – Эмиграция 1905-1913, 1918-1919 гг. Эрнест-Карл-Вольдемар Георгиевич фон Валь Биографическая справка Граф Эрнест-Карл-Вольдемар фон Валь родился 26 декабря 1878 г. в имении Ассик Лифляндской губернии. Окончил Николаевский кадетский корпус (1897) и Николаевское кавалерийское училище (1899). Из училища был выпущен корнетом (09.08.1899) в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, спустя 3 года произведён в поручики (09.08.1903). В 1905 году окончил Николаевскую академию Генштаба по первому разряду, произведён в штабс-ротмистра гвардии с переименованием в Капитаны Генштаба (28.05.1905). Окончил годовой курс Офицерской кавалерийской школы (1906). Цензовое командование эскадроном отбывал в лейб-гвардии Гродненском гусарском полку (07.01.1907-12.01.1909, 5-й эскадрон). С 23 января 1909 г. ст. адъютант штаба 23-й пехотной дивизии, подполковник (06.12.1911). С 6 декабря 1912 г. штаб-офицер для поручений при штабе 24-го армейского корпуса. Участник Первой мировой войны, полковник (06.12.1914). С 14 мая 1915 г. старший адъютант отделения генерал-квартирмейстера штаба 11-й армии, затем начальник штаба 12-й кавалерийской дивизии. С 19 июля 1916 г. командир 3-го уланского Смоленского полка, генерал-майор (12.1917). Имел награды: орден Святого Станислава 3-й степени, орден Святого Станислава 2-й степени с мечами, орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом. В Белом движении участия практически не принимал, считая его обречённым на поражение. С 1918 г. жил в Крыму, в 1919 г. уехал в Париж, где успешно учился в школе изобразительных искусств, в 1920 г. перебрался в Эстонию. Издал ряд военно-исторических трудов, писал и продавал картины, участвовал в художественных выставках. Умер в г. Фаллингбоштель (Германия) 10 октября 1949 г. Был женат на Клеопатре Александровне Шидловской (18851914, 3-е детей: …, Наталья, Ольга), Софье Дмитриевне Щербачёвой (1894-1989, дочь Марина) и Бените фон Нолькен (1896-1982, 2 сына). Сочинения: Кавалерийские обходы генерала Каледина. 1914-1915 гг. – Таллинн, 1933. К истории Белого движения. Деятельность генерал-адъютанта Щербачёва. – Таллинн, 1935 Действия 12-й кавалерийской дивизии в период командования ею Свиты Е.В. генерал-майора барона Маннергейма. - Таллинн, 1936; Война белых и красных в Финляндии в 1918 г. – Таллинн, 1936. Значение и роль Украины в вопросе освобождения России от большевиков на основании опыта 1918-1920 гг. - Таллинн, 1937. Как Пилсудский погубил Деникина. - Таллинн, 1938. Wahl, Ernest von: Zwei Gegner im Osten, Polen als Widersacher Russlands. — Dortmund: Volksschaft-verlag. 1939. (Дополненный немецкий перевод книги "Как Пилсудский погубил Деникина"). Воспоминания переданы Архиву Русской Эмиграции Мариной Эрнестовной Драшусовой, урожденной фон Валь. Воспоминания <1. Генштаб. 1905-1914 гг.> Весной 1905 года всех причисленных к Генеральному Штабу повезли в Царское Село в Александровский дворец. Государь вышел к нам и поздравил со следующим чином. (Я был ½ года поручиком.) Обходя нас, он каждого спрашивал, кто куда поступает. Хотя велись переговоры о мире, было всё же прислано 20 вакансий на Дальний Восток; первые двадцать разобрали их. Один из первых двадцати, однако, был болен, и я как 21-ый мог поехать в Манчжурию. Это стало мне известно, когда я уже делал шаги, чтобы пойти по военной агентуре. Поэтому я доложил Государю: «иду по военной агентуре»; а следующий за мной, вследствие моего пропуска, опять шёл на Дальний Восток. Вышло неловко, как будто я отказываюсь идти на войну. Государь, отойдя шагов 10, повернулся и посмотрел на меня, как будто что-то собираясь сказать или желая запомнить моё лицо, но потом он пошёл дальше. Особенность его лица, опухшие, толстые, выдающиеся веки мне врезались в память. Для движения по военной агентуре я использовал своё положение в свете; мне было разрешено работать в главном управлении Генерального Штаба, вопреки закону и существующему обычаю. Устроил мне это генерал Ермолов, брат министра и отчим Суровцовых. В тогдашнем седьмом отделении мне дали сделать сводку наших сведений по Китаю. В качестве кого? Просто потому, что в России по протекции всё было возможно. На моё несчастье, в VII отделении начальником был генерал Адабаш, человек, обжуливший богатейшего домовладельца Смирнова. В этом доме жил Оскар Алексеевич фон Валь, брат моего отца, которому хорошо была известна проделка Адабаша. Адабаш знал, что его история часто комментировалась моим дядей, имевшим с ним личное столкновение. На моё несчастье, Адабаш, не имея данных, здорово живёшь, написал статью о Китае. Основательная разработка материала привела меня к выводам, обратным сделанным им. Эти причины заставили Адабаша не давать хода моей работе под предлогом, что он её должен предварительно просмотреть, раньше чем отдать в типографию. Я неожиданно, при первых же шагах, ещё не будучи офицером Генерального Штаба, а лишь прикомандированным, нарвался на врага. Это тем более была для меня неприятная случайность, что я лично ничего против Адабаша не имел, и его воображение, что тут появился для него опасный человек, ни на чём не было основано. При корректуре я попросил князя Волконского, офицера VII отделения, помочь мне. Он для того приглашал меня в свой особняк на Сергиевской, ближе к Литейному. Волконский был мил со мной, но возмущался моим стилем. Это послужило причиной тому, что я многие годы после этого не писал, полагая, что этого недостатка я не могу исправить. Стиль той работы был плох, главным образом, потому, что многое в ней представляло собой дословный перевод с донесений, написанных на иностранных языках. Чем ближе к тексту перевод, тем хуже стиль. Я же боялся приводить донесения в изменённом виде. Как бы то ни было, стиль мой при неудаче, постигшей всё это начинание, не сыграл никакой роли, так как Адабаш, получивший первую корректуру, уложил всю работу в свой письменный стол, закрыл его на ключ и уехал на три месяца за границу. За это время Ермолов ушёл, а на его место был назначен генерал Алексеев (впоследствии Начальник Штаба Государя и основатель Добровольческой армии). Просить Алексеева меня держать при главном управлении Генерального Штаба я не мог, потому что до перевода в Генеральный Штаб надо было по закону откомандовать ротой, а если я хотел идти по кавалерии, то до командования эскадроном ещё отбыть целый год в офицерской кавалерийской школе. Я не сомневаюсь, что даже это можно было с моими связями обойти и стать в совершенно незаконное положение, но я был вполне удовлетворён тем, что мог оставаться ещё на год в Петербурге в Кавалерийской школе, «а там видно будет». В этом, собственно, заключалась вся сущность моих планов, поэтому, не дожидаясь возвращения Адабаша, я поступил в офицерскую школу. Полагалось по окончании академии до командования ротой или офицерской школы отбыть лагерный сбор при штабе своего округа. Я по закону должен был поехать в Варшаву. Но одним звонком по телефону меня прикомандировали к Петербургскому округу, что считалось по существу и на практике невозможным. Мало того, Штаб округа был предупреждён Ермоловым, что я буду в Красное Село выезжать, лишь когда у меня будет время, так как у меня срочная работа в Главном управлении Генерального Штаба. Всё это укрепило во мне убеждение, что я могу всегда и всюду делать что мне вздумается, и что правила существуют для всех, кроме меня. Я в этом был так уверен, что не сомневался, что потом сам себя буду назначать на должности по Генеральному Штабу. Теперь это кажется наивным. Тогда же прошедшее и настоящее подтверждало такое заблуждение. Участвуя в манёврах, я мог убедиться, как при ведении частей, так и при разборке действий по окончании манёвра, что старшие начальники никакого понятия о военном деле не имели. Почти все, за немногими исключениями, с таким же правом могли быть адмиралами флота. По нынешним временам военное дело сложно. Лишь люди с выдающимися качествами и способностями могут выполнить задачи старших начальников. Всё, что я видел в Петербургском округе, доказывало, что чины получались не по заслугам, а по мундиру. Дельными и понимающими военными были лишь сам Главнокомандующий Великий Князь Николай Николаевич, резкий вначале, но значительно сбавивший тон после революции 1905-го года, когда я его через год вновь увидал на разборах; хорошо понимал действия также и князь Трубецкой, командир стрелкового батальона. Все же остальные начальники делали, а потом говорили на разборках нелепости. Другие их молча слушали. Приходится удивляться, как мы могли столько времени вести войну на западе. Осенью я поехал в Ассик. В Эстонии было неспокойно. Агитаторы разъезжали по сёлам и возбуждали народ. Видя, что власти потеряли голову, я посоветовал Егору привлечь на свою сторону крестьян и лишить недовольных возможности подстрекать всю массу населения, отдавая часть земли на продажу по участкам и с уплатой через банк. Егор как будто понял, что это верный исход на будущее. Мы поехали к Грюнвальду-Койк и к барону Раушу-Хукас. Эта поездка останется у меня в памяти по волнениям при этих разговорах. Первый, видимо, пошёл бы на такие уступки; второй обещался предварительно поехать переговорить с Губернским Предводителем Дворянства. Будь я на месте Егора, я, не дожидаясь ответа, который никогда не пришёл, исполнил бы свой проект, и через 12 лет, то есть в 1917 году, значительная часть денег была бы выплачена крестьянами, так как уже при введении их во владение я потребовал бы ½ суммы наличными. В Ассике сообщили по телефону, что через Вальгоф прошёл агитатор. Я взял военную винтовку с патронами и с Савельевым и управляющим побежал через торфяное болото, чтобы его перехватить по дороге к винокуренному заводу. Я был в малиновых чакчирах. На поле за хлевом, привязанный к колу, пасся громадный бык, чистопородный фриз. Как только он увидел алый цвет, он пришёл в неистовство, стал с рёвом метаться во все стороны, наконец, вырвал кол и бросился за мной. К счастью, я был уже недалеко от опушки леса. Убегая, что только было мочи, я добежал раньше, чем он меня настиг. Перед лесом был забор. Я перескочил и спрятался за дерево. Бык добежал до забора, остановился и начал бодать рогами, разбрасывая землю и ревя, как лев. Идя на смертный бой с людьми, пришлось обратиться в бегство перед зверем; не мог же я его убить. Агитатора мы, однако, не встретили. Впечатление, которое он оставил в Вальгофе, было потрясающим. Крестьяне были готовы в любое время пойти и убить управляющего и зажечь усадьбу. Видя серьёзность положения, я посоветовал помещикам в случае приближения банд пускать сигнальные ракеты большой величины. Будучи потом в Петербурге, я с помощью подписей товарищей собрал несколько новых военных винтовок и большое количество патронов, и их вместе с ракетами послал в Ассик. Это потом спасло Ассик от разгрома, так как о нахождении там оружия стало известно населению. Вижу, как мы с мамой едем на станцию через лес около Талпика и я держу револьвер в руках, чтобы увидеть издали всякого встречного. Помню скользкое шоссе в 1 ½ верстах от Лайсгольма. По нему едут орущие во всю глотку хулиганы; четыре лошади наши, запряжённые рядом, скользят и боком взаимно жмутся. Доедем или не доедем? Остальные подробности ускользнули из моей памяти. Егор увёз свою жену за границу и больше не возвращался до середины 1906-го года, бросив всё на произвол судьбы. Моя мать, однако, вернулась в деревню. Воскресает у меня на памяти и другое мгновение; было ли то раньше или позже, не могу припомнить; вероятно, с этого начался мой приезд в Ассик. Я еду в санях с Савельевым, со станции Ракке в Ассик, и смотрю по сторонам, ожидая нападения по дороге. Отчего-то мне кажется, что в последней избе деревни Валила собрались мятежники. Я подъезжаю к избе и с радостью вижу, что в ней никого нет. Выстрел сзади. Оборачиваюсь и вижу человека, быстро уходящего с дороги в сторону. Останавливаю сани, вытаскиваю винтовку. Всё это делается мной столь медленно, что при необходимости быстрой обороны ружьё в таком виде ни к чему. Держать же наперевес тоже неудобно. Дорога пустая; решаю вновь сесть и ехать в Ассик… *** В Петербурге я поступил в офицерскую кавалерийскую школу, на один год, как то полагалось для офицеров Генерального Штаба, желавших идти по кавалерии. Если в принципе Академия имела смысл, но теряла его на практике, то про офицерскую кавалерийскую школу можно было сказать обратное. Какой смысл имело послать кавалеристов, будущих командиров кавалерийских полков, дивизий и корпусов, в школу, где учились ездить верхом и где вырабатывались отличные берейторы. Тот, кто это выдумал, был, может быть, влиятельным человеком, никогда не побывавшим в школе и не знавшим, что в ней делается. На практике школа имела на нас прекрасное влияние, так как от 45-ти часовой тряски, фехтования, гимнастики и вольтижирования у всех зазубрившихся мозги очистились, и тухлый багаж из головы вытрясся. 20-го декабря 1905-го года я был на занятиях в школе. Ко мне пришёл мой вестовой и сказал мне, что меня просит выйти старая барыня. Ко мне приехала мама. Она выехала накануне из Ассика и передала мне письмо моего Паюсского двоюродного брата Николая. Он мне писал, что население восстало, что почти все помещики покинули свои имения, бросая их на произвол революционеров. Он остался в Паюсе, собрал вокруг себя верных людей и предлагал родственникам присоединиться к нему, чтобы силой оружия защищать родовую собственность, без которой лучше умереть. Он предлагал мне не медля секунды приехать к нему на помощь с возможно большим количеством оружия. Я посмотрел на маму. Она мне ответила, что не вправе удерживать меня, если я захочу поехать. Упрекать за это мою дорогую маму не могу, так как она не отдавала себе отчёта о размерах движения в Балтийском крае. Моё решение было принято, не задумываясь. Я побежал к начальнику школы, генералу Брусилову (впоследствии – Верховному Главнокомандующему) и попросил разрешения уехать со своими лошадьми и казённым вестовым (восточным человеком), винтовками, револьверами и большим количеством патронов. Брусилов пошёл мне во всём навстречу: он посоветовал мне обратиться к Главнокомандующему, Великому Князю Николаю Николаевичу, с просьбой о назначении мне конвоя, так как без него ехать бесцельно – «не доедет до места». Я помчался в Штаб Округа. Генерал Раух, начальник Штаба Великого Князя, заставил меня ждать, так как одновременно со мной со всех сторон к нему приезжали люди с требованием о военной помощи. Среди них я увидел и графа Евгения Толя, из Аррокюля, нашего соседа по Ассику. Он мне сообщил, что получил срочное известие об опасности, грозящей Аррокюлю. Про Ассик он уверял, что он был захвачен утром мятежниками. В Ассике я оставил Савельева и боялся, что управляющего и его убили. Толь меня заверил, что он при всех обстоятельствах присоединится ко мне. Когда Раух к нам вышел и отказал в конвое, Толь ему сказал, что он забывает, что тогда погибнет его, Толевское, многомиллионное состояние. Раух его обрезал, но всё же направил нас на Итальянскую во дворец к Великому Князю. Там была суматоха. Адъютант вышел к нам и сказал, что Великий Князь всем отказал в помощи, и наше ходатайство бесцельно, так как только что подписан приказ не дробить военных частей. Он вошёл к Великому Князю и вернулся с отказом. Оставалось ехать одному. Я забрал своих лошадей и выехал на Балтийский вокзал. Комендант станции отказался погрузить лошадей, заявив, что поезда в Эстляндскую губернию не ходят. Путь, будто, разобран революционерами. Я всё же пошёл на товарную и обнаружил, что через 15 минут отходит молочный поезд. Движение поддерживалось только до Молосковиц. Тем не менее, я заставил моих двух лошадей погрузить в товарный вагон и прицепить к этому поезду: как ни как, на сто вёрст меньше ехать верхом. Товарные вагоны были не топлены. Толь и я сели в какое-то кондукторское отделение товарного вагона, единственное место, не занятое молочными сосудами. Ночь была ужасная. Мне стало так холодно, что я перешёл в вагон лошадей, где было немного теплее. Пока мы ехали по Петербургской губернии, всё было в порядке, лишь железнодорожные служащие готовились к забастовке, будучи на стороне революционеров. Поезд наш, однако, пошёл дальше, чем предполагалось, и мы доехали до Нарвы, то есть почти вдвое дальше Молосковиц. Тут нас догнал первый воинский поезд из Петербурга. После нашего выезда Великий Князь предложил провинившимся кронштадтцам поехать на усмирение Балтийских губерний; они с радостью приняли предложение искупления вины. Во главе эшелона был адмирал барон Ферзен; в качестве начальника штаба отряда при нём состоял бывший Кавалергард, полковник Генерального Штаба Николай Петрович Половцев, мой приятель. Я прицепил свой вагон с лошадьми к воинскому поезду и пересел в отделение к Половцеву. До этого мгновения мой выезд был столь же бессмысленный, как поездка на аэроплане на луну. Какие были шансы, чтобы я зимой при сильном морозе из Молосковец проехал 300 вёрст верхом вдвоём с вестовым по льду и снегу по дорогам, по которым двигались сотнями банды вооружённых революционеров, а вне дороги ехать зимой нельзя? Это тогда меня не волновало; напротив, я ехал счастливый, что нашёл исход – если не с пользой, то при столь интересных обстоятельствах – закончить свою жизнь. Кроме того, я не был уверен в том, что не доеду. Зато я не сомневался в том, что значительное число моих патронов будет разменено на жизни людей, гибели коих я жаждал. Я ехал на смерть с радостью. В Нарве положение значительно изменилось. Ферзен согласился взять меня с собой до Тапса, то есть ещё на сто вёрст дальше. По дороге я рассказал Половцеву, куда и как я еду. Он всплеснул руками. «Да ты не знаешь, что делается. Полное восстание. Усадьбы сожжены. Часть помещиков убита. Прочие убежали. Ты и одной версты не проедешь». Решение моё, однако, не могло измениться, не за тем я выехал. Половцев тогда пошёл к Ферзену и попросил мне назначить конвой из шести матросов. Ферзен колебался, так как имел вышеупомянутое категорическое приказание Великого Князя не дробить частей. Эти шесть человек были, по его мнению, обречены на гибель. Половцев, тем не менее, нашёл предлог к выделению этих людей, и Ферзен согласился. С этого мгновения я решил, что мой отряд достаточно силен, чтобы покорить не только население соседних имений, но и весь край. До Тапса было ещё далеко. Наш поезд шёл медленно – по 18 вёрст в час. В Везенберге нам навстречу пришёл другой поезд, сообщивший нам, что путь до Тапса свободен. Тут же был доставлен нам революционер, только что убивший человека в Везенберге. Его, связанного, погрузили в наш поезд и решили его расстрелять в Тапсе. Когда поезд из Везенберга тронулся, я обнаружил, что Толя не было. Оказалось, что он, не попрощавшись ни с кем и не сказав мне ни слова, сел на встречный поезд и удрал обратно в Петербург. В тот момент это было счастьем. Что бы он делал и как бы он задержал меня при всём последующем! В Тапсе уже царила революция. Начальник станции был архи-красный. Преступника, бледного, как окружающий снег, вывели и расстреляли; я не пошёл смотреть. Дальше эшелон Ферзена шёл на север на Ревель, я же должен был идти на юг на Ракке и Ассик. Из Тапса оставалось вёрст 50-60 – больше, чем можно зимой по снегу сделать верхом в сутки. Между тем, если Савельев и управляющий ещё не погибли, каждая секунда была дорога. Я попросил адмирала приказать меня послать по железной дороге до Ракке. Ему доложили, что путь дальше разобран. Я сказал, что доеду до разобранного места и там вылезу. Начальник станции заявил, что таких законов нет, по которым полагалось бы назначать поезда или паровозы для каких-то вооружённых не известно с какой целью и по какому праву терроризирующих население. Ему показали ближайшую берёзу и сказали, что если через пять минут не будет паровоз или если с паровозом что-либо случится, то он на ней будет висеть. Произведённый в это время расстрел вышеупомянутого революционера не оставлял сомнения, что это будет исполнено. Паровоз явился. Когда я собрал своих шесть матросов и захотел прицепить вагон со своими лошадьми и вестовым, оказалось, что он уже ушёл раньше на юг с другим паровозом! Как видно, страх перед смертью мобилизовал подвижной состав станции. Я подозревал, что тут злое намерение погубить моих лошадей или увести их без меня. Взяв одного матроса, я полез на паровоз рядом с машинистом. Матроса я поставил в углу площадки с притянутым к машинисту штыком, сам я стал рядом с ним, вынул револьвер и спустил предохранитель. После этих недвусмысленных приготовлений я сказал машинисту, чтобы он дал ход и что в случае остановки паровоза без разрушения или его порчи мы в причинах разбираться не будем. У машиниста не осталось тени сомнения в последствиях. Всё это уже было в темноте, часов в 8 вечера. Паровоз тронулся. Мы помчались. Когда машинист наклонялся, чтобы лопатой бросать уголь в машину, весь освещённый пламенем, наше оружие опускалось, следя за ним. Отсутствие перед нами моего вагона с лошадьми указывало на то, что путь только что был ещё исправен, так как вагон прошёл. Я приказал на станциях до Ракке не останавливаться, зная, что железнодорожники переговорили по линии и поэтому должны были знать о нашей малочисленности. Так мы прошли мимо Тамсаля и Асса. Нигде моих лошадей не было. Зато в лесу около Асса на полотно вышло человек 30 революционеров для разборки рельсов. Я приказал не сбавлять хода, идя на риск опрокинуться: ведь лошади проскочили, а между нами было лишь 15 минут хода. В 15 минут снять рельсы трудно, я это знал по манёврам. Поравнявшись с ними, я в них пустил пулю из револьвера. Они не ответили выстрелами, а рассыпались в лес. Мы проскочили в Ракке, где я должен был высадиться; на станции узнал, что лошади мои (под названием «воинского поезда», взволновавшего всю линию – в нём был один мой вестовой) не были остановлены, а пошли дальше. Я заявил начальнику, впрочем, приличному человеку, что, если лошади не будут возвращены через 15 минут со следующей станции, я буду вынужден принять репрессивные меры. Лошади из Лайсгольма были возвращены. В это время я успел, несмотря на поздний час, реквизировать с помощью начальника конно-почтовой станции розвальни, набрать соломы и погрузить своих 6 матросов – всё это около 11-12 часов ночи. Лошадей мне вывели в темноте из вагона не на площадку, а прямо на землю по доскам; потом с большим трудом ввинтили им в темноте острые шипы и с вестовым сели верхом, и отряд мой двинулся на МариенМагдалину. Проехав 15 вёрст, мы на почтовой станции этого пункта узнали, что из Вейсенштейна прибыл отряд в 25 человек, чтобы потушить восстание, центром которого явилось наше имение Вальгоф. Я не хотел верить. Как так! Отряд из Вейсенштейна? Других войск, кроме моряков Ферзена, не было выслано из Петербурга. Но всё же это оказалось правдой. За пять минут до меня мичман Михайлов с отрядом срочно из Вейсенштейна прибыл для усмирения мятежа в Вальгофе, где некий Сульц, объявив себя президентом Эстонской республики, набрал себе государственный совет и к 10 часам утра 24 декабря объявил о переносе штаба его квартиры из Вальгофа в Ассик. Ядром республики должны были служить имения Ассик, Руттигфер, Иммафер, Коик и Вальгоф. В темноте и суете приготовлений к выступлению я нашёл мичмана Михайлова и попросил его обождать пять минут, чтобы я успел согреться и выпить чаю. С ним был прапорщик Гарпе. Михайлов заявил мне, что ждать он ни секунды не может, ждать пять минут поэтому не согласен, так как получил сведения точные о том, что к семи часам на хуторе Пальзо назначен сбор революционеров; он обязательно желал к четырём часам утра успеть напасть на дом президента и его арестовать раньше, чем тот успеет выйти на сборное место. Я с ним согласился, и мы немедленно продолжали путь с 6 +25=31 матросами, усаженными на розвальни. Замок Аррокюля оказался цел. Зато со стороны Ассика и Вальгофа - наших двух имений – накануне вечером было видно зарево многочисленных пожаров. План действий был принят такой: список главарей был ещё до моего прибытия составлен мичманом Михайловым по сведениям, полученным им на Почтовой станции. Но места жительства их никто не знал, а названия хуторов нам не помогали, так как ночью нельзя было заняться расспросами дороги. Я предложил прямо поехать на нашу мызу Вальгоф и забрать с собой управляющего – будь он ещё жив; если же он убит, то арестовать кого-либо из лиц, живущих на дворе, и заставить быть нашим вожатым. Исполнение действий было решено предоставить Михайлову как прямому начальнику отряда: я не желал руководить, боясь упрёка в будущем, то есть что я являлся палачом своим крестьянам. Мы в два часа езды доехали до мызы Вальгоф, куда прибыли около трёх часов ночи. Управляющий, видя вооружённых, решил, что ему пришёл последний час. Насколько я помню, мы его нашли одетым, ходящим с фонарём в хлеву. Он, с одной стороны, почувствовал себя спасённым, с другой – был в страхе перед неизвестным исходом нашего предприятия. Мы его забрали и, не теряя времени, с его помощью свернули с главной дороги у хутора Кадак, чтобы нагрянуть на Сульца. Михайлов и два матроса побежали к избе, как только сани подъехали к воротам, в то время как остальные матросы бегом окружили избу. Я остановился с вестовым в 100 шагах, чтобы не участвовать при аресте, и охранял главный путь. Сульц, подошедший на стук к дверям, не успел выстрелить из ружья, которое он держал в руках. Оно оказалось заряженным. Его схватили, связали, выволокли, положили на розвальни и что есть духу поскакали в Пальзо. На углу, там где следующий хутор, мы остановились. Я остался с вестовым у пленного, Михайлов, Гарле и 30 матросов бросились к хутору Пальзо. Тут дело, однако, не прошло гладко. Матросы уверяли потом, что в них из дома раздался выстрел. Зная, что я с этой стороны сторожу, они оставили мою сторону свободной и побежали с двух сторон в обход хутора, а оттуда открыли стрельбу по дому. Через секунду сани, на которых лежал Сульц, забор, около которого я стоял, деревья – всё было простреляно. Свист пуль был вокруг нас, как будто мы попали под пулемёт. При стрельбе с обратной стороны в окно пули пробивали деревянные стены дома или вылетали в противоположное окно, по нашему направлению. Ни пленный, ни мы не были, слава Богу, задеты; трескотня через 2-3 минуты прекратилась. Зато я увидел поднимающееся около хутора громадное пламя. Матросы зажгли дом, боясь войти, а собравшиеся в доме люди боялись выйти. Тут пришлось вмешаться. Я подбежал ближе и, крича со всей силой, приказал немедленно потушить огонь; я ожидал, будет ли это ещё возможно. Матросы приказание исполнили. Дом был потушен. В доме были арестованы отец и сын Юрманы и мельник, уже успевший придти на сборное место. Их схватили и навалили на розвальни. Труднее <было> изловить остальных: стрельба в пять часов утра и начавшийся пожар разбудили людей в окрестности. Я не поехал в Ассик, а направился обратно в сторону Вальгофа, чтобы помочь арестовать остальных. < Однако, не удалось> больше захватить никого. Все удрали. Лишь революционер Резев не успел скрыться; матрос выстрелил в него раньше, чем тот спустил курок. Пуля ему пробила лоб. Я в это время был на мызе, и меня известие о первой <смерти> неприятно поразило. Михайлов подошёл ко мне и сообщил, что все остальные главари скрылись, но что он не может больше задержаться, а должен ехать к своему начальнику обратно в Мариен-Магдалинен. Я с него взял слово, что он Сульца ни при каких обстоятельствах не выпустит. Михайлов оставил мне Гарпе, сам же со своими 25-ю матросами и четырьмя пленными и одним убитым сел в розвальни и ускакал. Вечером того же дня, то есть в сочельник, Сульц, два Юрмана и мельник были расстреляны по приказанию морского начальника Михайлова в Аррокюльском лесу. Сульц поднял перед смертью кулак и выкрикивал проклятия. Как только Михайлов уехал, я сел верхом и помчался в Ассик, куда прибыл с Гарпем и шестью матросами к 9-10-ти часам утра. Мы не знали, кого найдём в живых, но барский дом, по слухам, ещё стоял на месте. Как сейчас вижу себя верхом на лошади, быстро едущим мимо винокуренного завода. Туманное, не очень холодное утро. Завод не работает. Уже три дня рабочие бастуют. Мчусь мимо рабочих конюшен к ферме. Встречные люди бросаются в стороны, видя мою громадную бобровую шапку с малиновым лацканом, восточного человека и матросов, и снимают шапки. Вот я подъехал к крыльцу. Дом на месте. Выбегает полузамёрзший Савельев и управляющий. Они без еды на морозе сидели два или три дня с винтовками на башне, ожидая нападения банд и восстания рабочих. Они не могут придти в себя от пережитых ужасов. Не теряя ни минуты, я арестовываю зачинщиков среди дворовых и рабочих: на ферме – самого заведующего фермой, на винокуренном заводе – двух рабочих. Управляющий имением Каргая даёт самые точные беспристрастные указания. Я приказываю собраться всем дворовым. Через час наша передняя полна. Хотя я не могу говорить по-эстонски как следует, но речь моя понятна: - Все на работу; малейшее сопротивление – и верёвка на шею… Особое слово я обращаю, после ухода прочих, к Вайну за его подозрительное поведение. Он бледен, как полотно. Люди расходятся со страхом. Они уже не устроят самостоятельного нападения на нас. Тем не менее положение серьёзное. Около Вейсенштейна концентрируются крупные банды. Отряд матросов в Вейсенштейне слишком слаб, чтобы защитить город от масс революционеров. Вечером зарево со всех сторон указывает на возрастающее восстание. Больше всего я озабочен положением в Вальгофе. Брат Сульца удрал. Не могли поймать и Блюма, однофамильца нынешнего французского депутатакоммуниста и столько же свирепого и решительного человека. Вальгофский управляющий может быть убит. Делить отряд из 6-ти человек я не могу. Между тем Вальгофский управляющий приговорён коммунистами к смерти и два раза лишь случайно избег гибели. Решение его убить было принято группой лиц, живших на хуторах и в деревнях Вальгофа. Во главе их стояли Блюм и Мунк. Я вызываю, по указанию Вальгофского управляющего, 13-тилетнего мальчика Нарица для допроса. Он боится, что его убьют за донос. Я его заставляю всё же рассказать то, что он случайно услышал, будучи подмастерьем в крестьянской семье. Он вечером лёг в избе хозяйки, и думали, что он спит. Пришёл Мунк и совещался с тремя другими разбойниками, как устроить нападение на управляющего и застрелить его. Было известно, что управляющий должен был вечером ехать в Ассик. Мунк с ружьём его поджидал в лесу перед «депутатистами». Каким-то чудом управляющий спасся. После этого Мунк на розвальнях въехал в Вальсгофский двор и выстрелил. Однако, и в этот раз не удалось убить управляющего. Ещё до моего приезда заведующий фермой в Ассике организовал восстание Ассикских дворовых. К нему должны были примкнуть мужики из деревни Пайнурме, что за нашей сельской школой. Деревня была разбита на районы, и каждый район имел своего начальника милиции. Даже «сёстры милосердия» на случай боя – спрашивается, с кем – были назначены и имели соответствующий перевязочный материал. Я сообщил добытые сведения Михайлову. Он в два приёма устроил нападение на организаторов и в Вальгофе арестовал 23-х человек, среди коих был и Мунк. В Ассике тоже были в деревне арестованы несколько человек, среди них мерзавец Юрий, бывший наш кучер. Заведующего фермой и двух рабочих винокуренного завода я отослал в Мариен-Магдалинен, откуда они были посланы вместе с Мунком и его товарищами в Вейсенштейн. Когда эти аресты были произведены, и весть о расстреле Сульца, Юрманов и мельника распространилась, на население напал ужас, и много семей убежало в лес, где провели в снегу несколько ночей. Из Ассикского села Пайпурме ко мне явилась депутация с просьбой помиловать Ассикских мужиков, арестованных накануне. Наказание их смертной казнью не отвечало их вине, так как фактически агрессивных поступков они не делали; избрание их начальниками милиции не указывало ещё на совершённые преступления. Я написал письмо к морскому начальнику в Вейсенштейне с ходатайством о том, чтобы он не расстреливал Ассикских мужиков, но и не присылал бы их обратно, а отправил бы их подальше. В конце письма я добавил, что, в отличие от Ассикских мужиков, я за Вальгофских не прошу. Получив это письмо, Вейсенштейнский моряк-начальник расстрелял Вальгофских разбойников; но он принял и наших дворовых, посланных через Вальгоф и Мариен-Магдалинен, то есть прибывших по тому же маршруту, тоже за Вальгофских мужиков и расстрелял и их. Тогда я не сомневался, что они первыми пошли бы на убийства и явились бы главарями при мятеже; всё же они лишь намеревались это делать, но ещё не совершали уголовных преступлений, как Мунк и компания, а лишь занимались пропагандой. Теперь же я жалею, что просил за кого бы то ни было. Поступки мужиков в 1917 и 1918 годах доказали мне, где была моя настоящая ошибка. Морской офицер в Вейсенштейне высек Ассикских революционеров и, за неимением возможности отправить виновных в дальние места, прислал их обратно в Ассик. Хуже нельзя было поступить, так как вернувшиеся не были усмирены, а лишь вдвойне озлоблены. Всякое милосердие в такие минуты является ошибкой… В сочельник, то есть на первый же день, как я прибыл в Ассик, я приказал запрячь себе маленькие сани, посадить с собой вооружённого револьвером и винтовкой матроса и поехал, сам правя, в Паюс к Николаю. Весь край был полон мятежников. Поездка вдвоём в области, куда солдат ещё не проник, была сопряжена с риском быть убитым из-за угла. Мы поэтому поехали не по большой дороге, а по зимнему пути вдоль реки. Около пяти часов, уже в темноте, мы благополучно добрались до двора усадьбы Паюс со стороны Луйка. Вооружённые люди, остановив нас в 100 шагах, потребовали наш пропуск – у нас никакого пропуска, конечно, не было. Кем занят Паюс нам не могло быть известно. Революционеры могли его захватить и там засесть. Решительное мгновение наступило, когда мы назвали себя. Часовые, приложившие ружья, могли бы нас убить раньше, чем мы могли защититься. Я назвал себя; нас сейчас же впустили. Николай с женой и детьми и несколькими храбрыми помещиками засел у себя, и <они> решили умереть в Паюсе, но не покидать имения. У него была допотопная пушка длиной в один метр. Он её зарядил, но стрелять из неё без того, чтобы самому не убиться, не мог бы, так как она была без лафета! Тем не менее весть о наличии в Паюсе артиллерии разнеслась по всей стране; в планах, захваченных нами потом у революционеров, мы нашли указания, что банды сперва должны были захватить все окрестности города и местечки и только тогда направиться на Паюс, так как там приходилось иметь дело «с пушками». Мы провели вместе сочельник; я забыл, что со всех сторон пожары и убийства. Николай подарил мне металлический складной стакан, который я хранил многие годы в память этого вечера. Перед людьми, как Николай, надо преклоняться. Рыцарь по понятиям и на деле. Будучи совершенно глухой, он не мог слышать выстрела под самым ухом. Как же при таком пороке мог он надеяться защититься, когда главным средством защиты при подобном положении является слух! Ночью я поскакал обратно, не желая оставить своих матросов без начальника; нападение на Ассик было весьма вероятно. Банды успели соединиться в крупные отряды в 500 и более человек и двигались по всем направлениям, сжигая имения и убивая собственников. Выше я упомянул о Герберте и его безобразном поведении в вечер лошадиной выставки в Юрьеве. Вот, однако, каким он себя показал героем в это ужасное время. Помещики образовали отряды самозащиты, в которые входили домашние учителя, гувернёры, лесничие и прочие верные, испытанные служащие. В состав такого отряда под начальством Мюлера-Эйкстфер поступил и Герберт. Банда более 100 человек напала на имение барона Таубе и разгромила его. Самозащита Мюлена, человек 10-15, не двинулась в это имение, а направилась по параллельной дороге в следующее имение, предполагая, что революционеры не будут их ждать, а пойдут дальше грабить следующую усадьбу. Розвальни самозащиты были запряжены английскими кровными лошадьми. Когда повстанцы увидали движение по параллельной дороге, они решили, что рядом двигается другая банда и захотели устроить скачку – благо у них были запряжены краденые у барона Таубе чудные лошади. Обе дороги сходились в одну точку около посёлка, окружённого каменным забором. Вопрос, кто успеет первым захватить забор и встретить из-за него противника в лоб, был вопросом жизни и смерти. Герберт, имея скаковую лошадь, с другим лихим молодым человеком, фамилию которого я забыл, - пустил лошадь полным ходом, доскакал первый, бросился за забор и первым выстрелом убил скакавшего во главе прочих, в красном парфорсном фраке барона Таубе, революционера. Упав, тот загородил остальным путь. Одни розвальни революционеров наскочили на другие. Получилась каша. В это время к забору подоспели остальные члены самозащиты и открыли огонь. Разбойники бросились из саней бежать в соседнюю деревню. Большинство из них было найдено и расстреляно. Ещё больший по храбрости подвиг совершил граф Сиверс, нарвавшийся с другими помещиками на заседание революционеров. Сиверс стал под окном, а другой вошёл с ружьём в собрание. При этом он споткнулся, упал и выстрелил, падая. Обезумев от неожиданного выстрела, революционеры стали выпрыгивать из окна, где Сиверс одного за другим убивал из автоматического ружья. Этот случай удивителен: собравшиеся были в полном вооружении, <но> никто в панике не защитился. В противоположность этому, граф Буксгевден, хранивший в замке Лоде с рвами, валами и подъёмными мостами исторические ценности, отобранные в 1812 году его предком у Наполеона, бросил свой замок. Его можно было с тремя людьми защитить против целого войска, если у противника не было артиллерии. В замок вошли два шестнадцатилетних подростка и сожгли его со всеми ценностями. Вернувшись в Ассик, я занялся подготовкой обороны на случай нападения. Усадьба построена безобразно. Подъезжая к имению, трудно поверить, что в доме 52 комнаты. Защита дома, состоящего из 6-7 флигелей, при наличии восьми защитников (шести матросов, меня и денщика) – задача трудная. Я пробил дырку из комнаты, что влево от передней через платяной шкаф. Благодаря этой бойнице я мог обстреливать анфиладным огнём из комнаты, в которой я спал, переднюю, красный салон, маленький салон, большой зал и одну оранжерею, а в другую сторону в деревянном флигеле – все комнаты до конца дома. Моё оружие хранилось в этой комнате. Матросы спали в конце в конторе. Сообщение с ними было обеспечено. Я ходил с револьвером в кармане, даже оставаясь в пределах дома, так как следить при подобном расположении частей дома <за тем>, что делается около прочих флигелей, было невозможно: один флигель закрывал вид на другой. Раз я вышел без револьвера в красный салон и сел за рояль, чтобы поиграть. Не успел я взять первых аккордов, как за мной раздался выстрел. Я повернулся и обнаружил, что выстрел произведён в моей спальне. Положение отчаянное. Что тут делать? Я бросаюсь с голыми руками в спальню и застаю плачевную картину. Савельев держит мой браунинг, а перед ним разбитая фаянсовая миска, кувшин и стол красного дерева. Он вынул патрон, чтобы посмотреть механизм, и забыл тот патрон, который находится в дуле. Ему от меня попало основательно, не столько за разбитые довольно ценные вещи, как за трогание моего оружия, несмотря на мой запрет. Минуты эти остались мне памятны. Ещё худшее случилось через несколько дней. Я собрал хозяев хуторов на совещание: как поступить, если банды нападут на них. Стоя в конторе среди толпы человек в 25, я потерял свободу передвижения. Я доверял хуторным хозяевам, которые, в сущности, сами те же, хотя и мелкие, помещики. Где были мои матросы, не помню; полагаю, что они были тут же припёрты толпою к стенам. Вдруг с треском раскрываются двери в комнату покойного отца, и на пороге стоит 3-4 человека с ружьями и револьверами. За ними вся комната полна вооружёнными с ног до головы людьми, одетыми в чухонские меховые шапки с закрытыми ушами, в полушубках. Вошедшие в двери властным голосом по-эстонски спросили, тут ли помещик. Толпа хуторных хозяев ринулась назад; я выхватил револьвер. Недоразумение сейчас же выяснилось. Отряд самозащиты под начальством моего двоюродного брата Штрика, которого я до этого не знал, получил сведения о готовившемся в этот вечер нападении на Ассик и поспешил защитить нашу усадьбу. <Мы> друг другу обрадовались. Народ самозащиты был аховый, но прекрасно дисциплинированный. Так как они проголодались, я приказал им приготовить ужин и предложил им остаться на ночь. Штрик и его люди, ожидая нападения, не сняли оружия, садясь за стол. Действительно, мы не встали с ужина, как пошла стрельба из Лехефера со стороны леса, что за хлевами. Самозащита выстроилась в темноте перед домом и побежала строем на окраину двора. Желая знать, куда и как наилучшим образом применить моих матросов, я побежал с самозащитой, думая, что за амбарами я узнаю, откуда идут банды, и тогда вернусь, чтобы отдать распоряжения. Придя на окраину двора, самозащита рассыпалась в стрелковую цепь и залегла за амбаром. Стрельба со стороны леса прекратилась. Полежав без движения минут 10, мы увидели двигавшуюся в темноте со стороны леса кучу вооружённых людей, чёрные силуэты которых всё более отчётливо выделялись на снежном фоне. Штрик скомандовал огонь, но потом вдруг остановил и окликнул подходящих. То оказались мои матросы, лишь благодаря случайности не убитые залпом самозащиты. Услышав, как и мы, выстрелы, они без меня бросились к лесу, но, не найдя в темноте никого, оттуда возвратились. Страшно подумать о несчастии, от которого мы были на волоске. Вернувшись домой, самозащита расположилась на ночь. Штрик повесил свою винтовку на крюк для полотенец. Крюк не выдержал. Ружьё, стукнувшись прикладом об пол, разрядилось и прострелило потолок, чем вновь подняло тревогу среди самозащиты и моряков. Прожив один несколько дней в Ассике, я начал скучать. Вдруг приехал взвод лейб-драгун с поручиком Гриммом. Правительство, растерявшееся сначала, с назначением министром Н.Н.Дурново решило подавить мятеж силой. В Балтийские губернии были двинуты карательные отряды: на севере – генерала Безобразова и на юге – генерала Орлова. Эскадрон драгун под командованием ротмистра Березина, от которого и приехал Гримм, стал в Вейсенштейне. Картина изменилась. От обороны можно было перейти к наступлению. Я присоединился к Гримму. Мы верхом со взводом поехали в Паюс; Николай знал организацию революционеров и мог дать нам ценные указания. Гримм по дороге арестовывал разбойников и расстреливал их. В Паюсе мы были встречены с большой радостью. Николай нам дал массу указаний. Дворовые девки влюбились в драгун за ту ночь, что мы простояли в Паюсе, и, когда мы на следующее утро покидали это имение, провожали со слезами своих возлюбленных, усмирителей их народа. Оттуда мы верхом, во главе взвода драгун поехали через Иммафер и ряд других имений до Вейсенштейна. По дороге мы сделали безрезультатный обыск у священника, главного революционера, подговорившего наших Ассикских крестьян поделить нашу землю между собой. Я предлагал его расстрелять, но Березин, с которым мы предварительно встретились в имении Койке, этому воспротивился. При обыске, после того как стало известно, что пришли войска и революция провалилась, конечно, ничего не нашли. Мерзавец остался безнаказанным, в то время как те, кого он подговорил, пали жертвой его пропаганды. В Вейсенштейне я встретил барона Шиллинга, товарища по школе. Будучи <сам> свеж и предприимчив, я был потрясён его придавленным настроением и ужасным видом. Он целый месяц не спал. 10-го января, когда всё было приведено в порядок и ферма вновь заработала, я уехал обратно в Петербург. <Через> полтора месяца после этого из-за границы приехал Егор. Спрашивается, на каком основании я должен был или, вернее, согласился поплатиться своей шкурой за наследство, которого я был лишён, а Егор, который получил всё, в минуту опасности оказался за тридевять земель и вернулся, лишь когда я ему спас его добро. Был ли он мне за это благодарен? Его жена подговорила его на то, о чём я писал выше. В течение двух лет Егор бывал при встречах со мной мил, но потом он и это бросил. Всем этим мы обязаны Маргарите. Зато некоторые соседи, имения коих были спасены мерами, принятыми в Вальгофе – очаге революционного движения, вернувшись в свои имения, перед крестьянами все упрёки свалили на меня. Барон Рауш и Кнорринг меня осуждали за слишком строгие меры. Как они поступили бы, если выехали бы 23-го декабря со мной, видно из поведения их, Егора и графа Толя. Если таково было отношение тех, кому я спас имущество, то крестьяне во мне увидели главного руководителя постигшего их наказания. Без меня подверглись бы расстрелу не 10, а 40-50 человек. Я встретил на Мариен-Магдалинине экспедицию Михайлова и заступился за Ассикских мужиков. Последний без меня сжёг бы хутор Пальзо, и матросы вошли бы во вкус и сожгли бы ещё немало других хуторов. Если Михайлова не было бы, я, может быть, сам принял бы в отношении революционеров ещё более строгие меры, не имея достаточного числа людей, чтобы забирать пленных и содержать их под стражей. Однако, на моё счастье, всего этого не пришлось брать на себя. Я являлся безответственным зрителем деятельности Михайлова, который производил аресты, конвоировал арестованных до места полевого суда и по приговору его расстреливал виновников. С формальной и юридической стороны я не отвечал за происшествия, не арестовав никого ни сам, ни через моих 6 человек. Вопросы экзекуции меня не касались и не зависели от меня более, чем от любого местного жителя. Через три года семьи пострадавших начали затевать жалобы по поводу расстрелов. Ввиду вышеизложенного, ко мне не пришли даже запросы. Со времени революции я не мог посетить Ассика, где ряд лиц ждут моего появления, чтобы отомстить за 1905 год. Со времени смерти отца и революции я потерял к Ассику, а в особенности – к усадьбе, - тёплое чувство любви к родному, которое было так сильно во мне в молодости. Вскакивание по ночам, хватание оружия и поджидание около бойницы при шорохе или лае собак, утро 24-го декабря, стрельба Савельева – не забываются. Зато Егор мог спокойно возвращаться из-за границы и пользоваться 12 лет всеми благами жизни. Я не жалею ни о моей поездке, ни о результатах. Если в 1905-ом году сгорели бы наши усадьбы, то было бы хуже, чем неприятности, о которых я упомянул. Те, кто думали иначе, чем я, в 1917-ом году переменили мнение. *** В Красном Селе жизнь моя была заполнена работой в школе. Меня изредка назначали на манёвры в качестве офицера Генерального Штаба. На разборках я видел несколько раз Великого Князя Николая Николаевича. Большое впечатление на меня произвела перемена его тона после революции 1905-го года. Его могучая внешность не отвечала внутренней силе. О политическом настроении высшего общества я писал: всё критиковалось, а не поддерживалось. Всё сгнило, и все толкали гнилое здание, чтобы его свалить. Главный недостаток русских людей был и есть, по отзывам посетивших <до> и после Россию, болтание языками и отсутствие дела. Офицеры Лейб-гвардии Гродненского Гусарского полка получили приглашение к Царскому завтраку в Петергоф. Дамы наши учились делать придворные реверансы. Накануне назначенного дня офицеры выехали во дворец и переночевали в нижнем этаже, а может быть, только переодевались после смотра, не могу припомнить в точности. Моя жена воспользовалась тем, что сестра её матери, баронесса Лаудон, жила на даче в Петергофе, и приехала накануне к ней переночевать. Утром за ней приехала царская карета, и она торжественно при стечении всех домашних и прочих соседей была подсажена царским лакеем в царской ливрее и треуголке в экипаж и привезена во дворец. В Петергоф к этому дню были приглашены все члены Императорской Семьи, а также масса придворных. Старшие полковые дамы (по чинам мужей) сидели рядом с Великими Князьями. Моя жена была дамой Дмитрия Павловича. Против неё сидели Принц Ольденбургский, beaufrire Государя. Завтрак был подан на золоте. Обстановка была весьма эффектная. После стола все придворные ушли, а Государь с офицерами нашего полка пошёл в зал рядом со столовой. Мы окружили Государя, который шутил и рассказывал, как он любит Петергоф. Особое удовольствие он испытывал при купании в море и с подробностями останавливался на этом своём развлечении. Обращение и манеры у него были как у милого, простого и сердечного хозяина. Офицеры вели себя вполне прилично. Только Лазарев что-то бухнул неловкое. Против нас, ближе к выходным дверям, собрались полковые дамы и некоторые Великие Княжны. Императрица Александра Фёдоровна, очень стройная, совсем не похожая по фигуре на себя, каковой она была во время бала 1903-го года, описанного мной раньше, должна была беседовать с нашими полковыми дамами, но, сконфуженная числом незнакомых лиц или же стеснённая незнанием русского языка, скоро отделилась от них. Полк, в свою очередь, пригласил Государя на полковой праздник. По ходу манёвров праздник был отпразднован около местечка <название нрзб> в палатках. Государь приехал с Великим Князем Николаем Николаевичем. Как эскадронный командир я сидел близко от Царя и мог участвовать в разговорах. Царь говорил мало и пил очень немного. Это я подчёркиваю в опровержение небылиц генерала Краснова. Во время обеда играли трубачи, балалаечники и пели песенники. Великий Князь Николай сидел против меня; он почти не говорил и держал себя скромно, что мало соответствовало его обыкновенному отношению к офицерам. После завтрака мы снялись. В то время, как мы стояли в деревне Николаевке, был выпуск молодых офицеров в полк. Ко мне в эскадрон назначили князя Тундутова, о котором бывший Германский Император Вильгельм упоминает в своей книге. Приехав в полк, Тундутов представился мне. Вид у него был такой же, как у всех азиатов. На следующий день я пошёл ему отдавать визит. Тундутову отвели маленькую тёмненькую избушку, недалеко от моей. Вошедши к нему, я увидел азиата в одной тужурке, каковую у нас часто носили наши офицеры вне службы. Желая ему показать отцовское покровительство, как то полагалось доброму «отцу-командиру», я его взял за локоть и усадил его рядом с собой, начав соответствующий разговор. Тундутов молчал и подобострастно улыбался, как свойственно азиатам в подобных случаях. Посидев с ним пять минут и видя, что я его стесняю, я ушёл, оставляя его сзади себя в комнате; вдруг мне навстречу в дверь входит тот же Тундутов в офицерской форме. Я беседовал так долго и сердечно с его вестовым, которого князю разрешили взять с собой в качестве постоянной прислуги, из числа бывших подданных. Китайцам все европейцы кажутся на одно лицо, как нам азиаты. Впоследствии к Тундутову, который по религии его народа считается сыном Солнца, приехала депутация. Она бросилась перед ним на колени, ниц головой, и долго лежала в таком положении, произнося положенные по их обетам молитвы. Их бог только что встал со стола в собрании Гусарского полка, где играл в карты. Впрочем, Тундутов был в те времена милый, симпатичный мальчик. Впоследствии он стал адъютантом генерала Янушкевича, деятельность коего он и разоблачил в разговоре с Вильгельмом II. Кончил он свою карьеру командиром антибольшевистской армии, выбранной из кочевых народов. Я его видал в Париже в 1920-ом году, перед русской церковью, где его представил принцу Бурбонскому. Перед Рождеством мне прислали вакансии в Генеральный Штаб. Как я писал в прошлых записках, я кончил 21-ым академию и поэтому, казалось бы, не мог рассчитывать на хороший округ. Но в России всё было странно организовано. Пехотные офицеры по окончании академии должны были командовать два года ротой. Кавалерийские же, кроме двухлетнего командования эскадроном, должны были ещё пройти через офицерскую кавалерийскую школу. Выходило, что ко времени разборки вакансий в Генеральном Штабе по окончании ценза на очереди стояли офицеры кавалерии, окончившие три года тому назад, и офицеры пехоты выпуском на год моложе. Поэтому первые вакансии получали кавалеристы, а потом только доходила очередь до пехотных. Хороша организация. Так оказалось, что выше меня стоял только один кавалерист моего выпуска, а именно Крузенштерн. Я выбирал вторым. В Петербургский округ попали мы оба, причём он в самый Петербург, а я в Ревель. Приехали в Ревель при ужасном морозе. Нас встретила милая моя мама, устроившая прекрасно при содействии моих кузин Жени и Харриет нашу новую квартиру в старинном доме Бреверна на Судебной улице на Вышгороде. С переездом в Ревель на должность адъютанта штаба 23-ей пехотной дивизии я снимал гусарскую форму и производился в капитаны Генерального Штаба – на десятом году моей службы в офицерских чинах. Если последние годы в полку уже были отказом от большого света, то с этого мгновения начинается период моей жизни, посвящённый почти исключительно личным делам. Оценивая мой второй Варшавский период со служебной точки зрения, <должен сказать, что> он оказался, несмотря на неблагоприятные условия в полку, всё же весьма удачным. В конце 1908-го года было назначено состязание по всем отраслям военной подготовки между эскадронами нашего полка. Мой пятый эскадрон, после двухлетнего моего командования, оказался во всех отношениях на первом месте. Начальнику нашей дивизии это стало известно, и он меня поблагодарил за столь блестящий результат. Командиру полка только и оставалось отдать мне при моём уходе благодарственный приказ. Ревель Со времени моего перевода в Генеральный Штаб служебное положение моё и сама служба изменились. Я уже не имел дела с солдатами, а лишь с бумагами, к которым я не привык и в которых мне сначала было нелегко разбираться. Главная же разница была в отношениях ко мне всех военных. Из блестящего гвардейского кавалериста я стал с одного дня на другой так называемым «моментом», которого за одну его форму принципиально ненавидели все строевые офицеры, боявшиеся штабной тёмной власти, и которого всякий высший штабной чин считал священным долгом эксплуатировать в смысле работы и притеснять, где только мог. Положение младшего офицера Генерального Штаба в России было действительно одним из самых странных. С одной стороны, офицер Генерального Штаба пользовался невероятной властью; молодой капитан распоряжался от имени начальника дивизии; от его доклада зависела зачастую служебная карьера какого-нибудь старого строевого офицера до генерала включительно; с другой – он не был в полной безапелляционной зависимости от ближайшего начальника по Генеральному Штабу; эта двойственность и делала большинство офицеров Генерального Штаба наглыми со строевыми чинами и раболепно заискивающими перед начальством. В России многое делалось шиворот навыворот. При повышении, казалось бы, материальное положение должно было улучшаться. Фактически же выходило обратное. На жалование командира эскадрона и законные остатки от эскадронного хозяйства я мог, при получении 100 рублей в месяц из дому, жить с женой в Гвардейском полку. На оклад капитана Генерального Штаба, даже в столь маленьком городе, как Ревель, было жить невозможно. Таким образом, из привилегированного общественного положения, которое делало одновременно и значительную служебную независимость, я за окончание академии и за успехи по службе попадал в крайне незавидное положение мелкого офицера Генерального Штаба, зависящего от случайного начальника. Первый лагерный сбор, отбытый мною при штабе корпуса, всё же был наилучшим. Командир корпуса, знаменитый генерал Лечицкий сразу же меня полюбил и всюду брал меня с собой, оживлённо беседуя со мной на всякие темы, чаще всего расспрашивая меня о тех или иных тактических вопросах. Он был из простых армейских офицеров, одним из тех исключительных людей, пробравшихся без академии Генерального Штаба до такой головокружительной высоты. Его желание учиться и работоспособность были поразительны. Второго такого человека среди военных я не видал. Лечицкий не любил своего начальника штаба генерала Фреймана и его игнорировал. Это часто принимало остентативный характер. Лечицкий меня, молодого капитана, всюду и всегда ставил в положение решающего тот или иной военный вопрос, а Фрейману приходилось после этого исполнять соответствующее решение. Мои отношения к Лечицкому сохранились на многие годы. Во время войны я специально поехал к нему в штаб его армии и погостил у него день. Он меня встретил, как старого друга. Ещё в начале лета я проездом через Петербург зашёл в Главное управление Генерального Штаба и просил меня за мой собственный счёт отправить на манёвры какого-нибудь иностранного государства. Осенью мне сообщили, что меня командируют в Англию. В Петербурге я сел на пароход и прямо доехал до Лондона. Поездка была очень приятная. Среди пассажиров был кавалергард Коссиковский, с которым я сошёлся. Прочие пассажиры были англичане, устроившие развлечения как-то: скачки Sprint и тому подобное. Кому-то пришло в голову написать сочинение в Робинзоновском духе, вложить в бутылку и бросить в море. Для этого было устроено похоронное шествие с музыкой и торжественное опускание трупа-бутылки в море. По вечерам устраивались концерты, на которых я выступал как главный музыкант. Потом говорились речи и рассказы, обращённые ко всем присутствующим. Дамы вечером появлялись в бальных туалетах, увешанные бриллиантами. Мужчины во фраках. В Лондоне я явился к генералу Ермолову, который был болен и поэтому передал мне свои полномочия во время манёвров. Таким образом, я оказался единственным представителем наиболее могущественного в те времена Государства. На время подготовительного периода к манёврам я поселился, по совету Коссиковского, на <нрзб по-англ.> около Hyde Park, где за сравнительно не столь большую плату я имел хорошую комнату и прекрасный стол. Через несколько дней я получил приглашение выехать в Оксфорд, где всем военным агентам отводилось казённое помещение. По дороге я познакомился с рядом представителей прочих восемнадцати государств, приславших своих офицеров генерального штаба или военных агентов на эти манёвры. Все ехали в военной форме. Поезд был экстренный и мчался с необыкновенной быстротой, никогда ни раньше, ни позже мной не виданной. В Оксфорде к нам прикомандировали офицеров английского генерального штаба, из коих старший был полковник Макдональд. Утром нас будили по сигналу. Мы спускались в столовую, где подавали первый завтрак, после чего нас сажали в автомобили и возили к месту манёвров; там нас ждали чудные верховые лошади. Всё это носило весьма торжественный характер. Месяц, проведённый мной в Англии, один из самых интересных периодов моей жизни. Любезность англичан превосходила всякие описания. Помимо обедов и ужинов, дававшихся нам ежедневно военными властями, Оксфордский Университет пригласил нас на большой торжественный обед. Профессора появились в своих допотопных костюмах. На манёврах не буду подробно останавливаться, отмечу лишь очень интересный факт обходного движения. Две армии, оперирующие друг против друга с двух сторон Темзы, решили сделать обход противника, причём случайно выбрали противоположные фланги. Вышло так, что каждый из противников, наступая своим правым флангом, тянул свои войска вправо, и таким образом получилось круговое движение. Когда оба старших командира, из коих один был генерал Френч, известный впоследствии по великой войне, заметили это оригинальное положение, то один решил остановиться; Френч же, напротив, продолжал начатый обход и поставил своего противника в положение побеждённого. Это характерно для военного дела. На войне оказывается победителем, несомненно, тот, кто упорствует в своём решении. Другой факт, который меня тогда поразил, была политическая игра, разыгрываемая англичанами, как будто они вели настоящую войну. На одном мосту я нашёл приклеенным воззвание одного из Главнокомандующих к населению противоположной стороны. В нём население возбуждалось к восстанию против своих угнетателей; Армия пришла освобождать его от гнёта правительства. Дальше следовало всё то, что впоследствии Вильсон высказал в своих знаменитых пунктах. Такой приём действеннее, чем оружие. Англичане практиковали его уже тогда на манёврах. Смешно было видеть, как целые народы через 10 лет попались на подобную детскую удочку, урвавшую от них результаты, достигнутые смертью миллионов храбрейших сынов Родины. Глупость толпы безмерна. Чем пошлее ложь, тем легче она подхватывается шумными массами непогрешимых идиотов. Вернувшись в Лондон, все представители иностранных государств получили приглашение Английского парламента на торжественный обед. Сперва нас повели на заседание парламента, а потом мы отправились на это торжество. Сидели за отдельными столами по двенадцать-пятнадцать человек. Моим соседом оказался с одной стороны красный депутат нижней палаты, а с другой – известный генерал сэр Гамильтон. Во время обеда встал Асквис и произнёс пацифистскую иезуитскую речь. Член <нижней палаты> парламента оказался фанатичным и невоспитанным человеком. Он в течение обеда доказывал мне, что монархии отжили свой век и царствующих лиц следует уничтожать. По отношению к офицеру, присягавшему своему императору, этот разговор был хамством. Несмотря на положение гостя, я дал это почувствовать своему собеседнику. Перед своим отъездом на <нрзб по-англ.> я попросил разрешение осмотреть казармы шотландского гвардейского полка. Меня встретили чрезвычайно любезно и показали мне много весьма интересного. Вернувшись в Петербург, я зашёл в Главное управление Генерального Штаба, не разработав доклада. Меня попросили к генерал-квартирмейстеру Данилову («чёрному»); пришлось экспромтом изложить виденное. Через некоторое время я предоставил подробный отчёт о моей поездке с массой рисунков, весьма интересный по содержанию. Этот доклад мной был найден без обложки через год в одном шкафу Генерального управления, вместе со всяким хламом. Кому-то понравилась довольно дорогая обложка, и он ею воспользовался для своих записок. Как и китайскую мою работу, так и большой последующий мой труд - перевод нового полицейского устава на русский язык – никто не читал. Эти несколько фактов показывают, насколько были неверны слова нашего бывшего начальника академии генерала Глазова: «Работайте дальше по военным вопросам и будьте уверен, что ни один ваш труд не пропадёт даром, а принесёт вам лично заслуженную пользу». Только труды, рассчитанные на вкус читателей, а не чисто научные работы, давали в Генеральном Штабе результат. Да и то лишь в тех случаях, когда автор их издавал сам на свой риск, а не отдавал бескорыстно весь свой труд на печатание в главное управление Генерального Штаба, рассчитывая на казённое издание без материальных выгод для себя. Английский устав был через год после моей передачи Главному управлению переведён другим лицом и издан им на свой риск у Березовского. Не знаю, окупился ли этот труд, но характерно, что именно этим фактом через год мне объяснили, отчего мою работу не напечатали; объяснение ничего себе! Вообще порядки в России были странные. Лица, сидевшие в главных учреждениях, исключительно только думали о своей карьере и палец о палец не ударяли ради дела. Революция была нами, правящим классом, хорошо подготовлена. При таких условиях работать не на свой риск, то есть не с целью издать книгу и на этом сделать афёру, было совсем бессмысленно. Я, к сожалению, много времени потратил на труды по военным вопросам, раньше чем это сообразил. Через два-три месяца меня пригласили в Штаб Петербургского Округа с просьбой прочитать лекции об Английской армии. Присутствовал весь Генералитет. Успех доклад имел большой. Он вышел не только гладкий, но интересный и оригинальный. Так я к 1913 году докатился до чина подполковника, а к 1915 году – до чина полковника Генерального Штаба. Последний, как и чин генерала, я получил на войне. Не потеряв ни года до академии и окончив её, будучи офицером гвардии, я забрал все существующие служебные преимущества. Наравне со мной службу прошёл один Крузенштерн. Я оказался 39-ти лет генералом. В бытность мою в штабе в Ревеле я ещё пустился на очень рискованное предприятие, в 1911 году, которое чуть не кончилось моей гибелью. Штаб Петербургского Округа готовил мероприятия на случай войны со Швецией. Ему нужны были точные карты с последними изменениями дорог в северной и средней Швеции. Офицеры Генерального Штаба были запрошены секретной бумагой, не хотят ли они участвовать в тайной рекогносцировке. Мы могли получить подложные паспорта. Нас предупредили, что если нас поймают, Русское Правительство за нас не будет заступаться. Я заявил о своём согласии поехать. Нам полагалось по пятьсот рублей за несколько дней работы. Хватало денег на поездку вдвоём. Моя жена была беременна и не могла поехать со мной, зато Елена изъявила согласие принять участие в этом рискованном деле. Своей фамилии, очень распространённой в Швеции и Финляндии, мне нечего было изменять; я попросил мне дать паспорт на моё же имя. Это было счастьем, иначе меня арестовали бы уже в мгновение оставления парохода в Стокгольме. Я сбрил усы и принял весьма иностранный вид. Уже в Ревеле мне пришлось разговаривать в таком виде с пароходным агентом, который меня знал. Мы спустились в каюту, и я решил не показываться больше на палубе, боясь встретить знакомых. Мой квартирант с женой и ребёнком, коренной швед Линдгрен, недавно выехавший из моего дома, оказался среди пассажиров. Он знал, что я офицер Генерального Штаба и что у меня личного дела не может быть в Швеции. Мой бритый вид мог заставить думать, что я брат того, которого он знал. В то мгновение, как я слезал с парохода, в дверях появился маленький Линдгренёнок и бросился мне с радостью в ноги. Всё это вышло настолько неудачно, что Линдгрен немедленно дал знать полиции. Я без карт ничего не мог сделать. Их мог достать, согласно указанию Штаба Петербургского округа, только Ассанович, в это время живший в Стокгольме для изучения шведского языка. За ним следили, так как его командировка была официальной и Шведскому правительству было известно, что он офицер Генерального Штаба. Когда я от Ассановича вышел, то я заметил, что за мной идёт рыжий тип. Его же я встретил у входа в гостиницу. Я переменил весь план и выехал не на место своей работы в Гефле, а в Норвегию, зная, что там слежка за мной прекратится. На вокзале мой рыжий вновь появился и сел на мой поезд. Но в Христиании его уже не было. Он, очевидно, вышел, убедившись, что я выехал за границу. Мы поехали в Тронтьем, где успели прокатиться на моторной лодке по фьорду и поесть чудную норвежскую рыбу, осмотреть старинную церковь, даже побыть на водопаде, а оттуда мы ночью вернулись с севера в Швецию. Я нанял автомобиль, и мы в один день пролетели не без инцидентов по подлежащим исследованию дорогам; я всюду снимал нужные мне виды и мосты. Шофёру должно было казаться крайне подозрительным, что я в незнакомой мне местности ему на каждом повороте давал указания куда ехать. Мы временами ехали по таким дорогам, по которым никто никогда не ездил. Некоторые шоссе были покрыты травой, так как были построены шведским правительством только со стратегической целью. Сперва мы думали ночевать на станции, с которой надо было ехать на Стокгольм, но потом я решил, что это опасно и приказал усилить ход, чтобы попасть на курьерский поезд, шедший раз в сутки. Вышла рискованная скачка. Произошла остановка на песчаной дороге в лесу. Бензин вышел. Шофёр, торопясь, перелил пол-бидона через край прямо в автомобиль. Мы подъехали в двадцати верстах от станции к шлагбауму через рельсы в то мгновение, когда его опустили, чтобы пропустить наш же поезд. Мы видели, как уходила от нас возможность избежать вероятную неприятность. Шофёр, однако, объявил, что догонит курьерский поезд. Последний останавливался на нашей станции лишь на одну минуту. Надо было на бешеном ходу ехать через несколько деревень, что строго запрещалось. Я боялся задавить кого-нибудь; при протоколе могло выясниться и всё остальное. Вместе с тем я не мог приказать сократить ход. Эти мгновения останутся незабвенными. Поспели мы в минуту отхода и успели вскочить. Я сто крон бросил шофёру на чай, не будучи в состоянии ждать размена. С поезда мы попали прямо на отходящий пароход. Через две недели во всех шведских газетах были подробности моей поездки. Шведы следили за мной, но потеряли мой след при переходе на Норвежскую территорию; они вновь напали на него, лишь когда я был на море. Глупо и не из чего я мог попасться уже женатым и немолодым человеком. Отчёт я представил прекрасный, но благодарности никакой не получил, так как округ был недоволен, что из-за меня обнаружили русские приготовления к войне. В том же году, а может быть, то было летом 1909-го года, я поехал лечить на казённый счёт своё колено в Старую Руссу. Сырость этого места, казалось бы, должна была повлиять отрицательно на сустав. Но я там видел многие примеры поразительного излечения. Скука в Старой Руссе была ужасная. Я жил в отвратительной маленькой комнатке и считал минуты до отъезда. Свободное от ванн время я ходил по старьёвщикам, а часто заходил к частным лицам, закупая за гроши старинные вещи, которых была там масса, притом – самых отдалённых эпох. Потом мне прислали целый вагон сломанной мебели в Ревель и Ассик, где в течение многих месяцев Клад, взятый мной из Варшавы в качестве денщика, чинил их. Всё это, за исключением двух ломберных столов Елизаветинского времени, потом мной было продано, как и часть вещей, привезённых с собой из Варшавы. Во время одного из переездов из Владимирского лагеря в Петербург со мной случилось происшествие. Я вошёл в открытое отделение второго класса и положил свои вещи на сидение; против этой скамьи лежал человек, прикрывший, как бы от мух, лицо газетой. Я не люблю ездить спиной. Поэтому я вошёл в следующее отделение и там лёг, оставив свой портплед в первом. В нём были секретные бумаги Генерального Штаба. Я проснулся в то мгновение, когда поезд остановился на станции и вновь тронулся, и был немало удивлён увидеть незнакомого мне господина, вносящего снаружи в первое отделение мой портплед. Я вскочил и спросил, в чём дело. Он ответил, что носильщик по ошибке вынес за пассажиром мои вещи и, вернув их в вагон в мгновение отхода, просил положить их на первую скамью на их прежнее место. Объяснение толковое. Почему-то, однако, у меня возникло беспокойство за секретные бумаги. Я отстегнул ремень и увидел, что их нет и что все остальные вещи скомканы; бросив портплед, я побежал за господином, вышедшим в дверь. Его на площадке не оказалось. Пробегая в этом направлении, я его в четвёртом вагоне нагнал; он застрял между двумя вагонами, так как двери в следующий вагон испортились и не сдвигались. Схватив его за шиворот, я его потянул обратно. Началась отчаянная борьба. Он старался меня скинуть в промежуток между вагонами и потом – с площадки на полотно дороги. Я оказался гораздо сильнее его. Тогда он попытался что-то вытащить из кармана. Но и это ему не удалось. На мой крик на помощь прибежали кондуктора. Публика начала толпиться и требовать, чтобы «невинного пассажира» освободили бы из рук «насильника-офицера». Так мы с криком и угрозами доехали до станции, где жандармы обыскали молодца и нашли у него восемь кошельков и шестнадцать перочинных ножей. Револьвер, который он хотел при борьбе со мной вытащить, застрял в краденном им шёлковом платке. Все кошельки были пустые, что указывало на то, что он был не один. На вопрос, куда он положил мои бумаги, он ответил, что в вагон под вторым диваном. Я так и нашёл их. Когда же я допытывался, не украл ли он ещё чего из моих вещей, он расхохотался, уверяя, что я с собой вожу такую дрянь, на которую не найдётся вора. Через год мне прислали запрос из суда с приложением его карточки в арестантской куртке. При нём было оружие при краже, поэтому его присудили к каторге. По делу Абибулы мне пришлось в ноябре того же 1913го года ехать прямо из Самары в Алупку. На Рождество я снова приехал в Ассик на две недели. Как было хорошо зимой на севере. Сочельник мы провели очень счастливо. Вижу жену в голубом широком платье в дверях большого зала, освещённого громадной ёлкой, мою маму на ломком зальном стуле, откинувшуюся назад и смотрящую на сотни свечей, а перед ней наших детей, прыгающих от восторга по паркету. На Новый год устроили крюшон и гадали. Потом все стали целоваться, и мама обняла мою жену особенно сердечно, желая ей благополучно перенести предстоящие роды. Потом все разошлись, дети легли спать, и мы почти заснули, как вдруг в наше окно раздался громкий стук. Жена вскочила и села на кровать. Стук повторился. Тогда она, дрожа вся от ужаса, сказала мне: «Это смерть пришла за мной». После этих слов громкий стук повторился в третий раз. Я вскочил с кровати и подбежал к окну. Никого перед окнами не было. Жена долго не могла успокоиться. В ней жило предчувствие близкой смерти с самой осени. После праздников я вернулся в Самару, а к середине февраля я вновь приехал в Ассик к родам жены. Сначала было решено, что она поедет в Ревель в ту же клинику, где родилась три года до этого Ната. Но сносного санного пути не было, и мы решили остаться в Ассике. Мы часто гуляли в парке, причём я ей расчищал места, где было много снега. Время, по нашим подсчётам, пришло, а роды всё не начинались. Накануне мы с женой сделали далёкую прогулку в «торфяное болото». Она уже ходила с трудом. На следующий день начались роды. Вызвали доктора, милого Газенегера из Оберпалена. Акушерка была уже давно налицо. Оля появилась на свет благополучно в моём присутствии, но усилия очень переутомили жену. У неё в последующие дни были круги под глазами и плохой вид. Думаю, что остальные дети её слишком часто беспокоили. Накануне своего отъезда я сделал один далёкую прогулку в лес около реки. Там я сел на пень, обдумывая свою жизнь и будущее. Всё казалось так хорошо. Когда я вернулся, жена была недовольна, что я так долго отсутствовал, и плакала. У неё был накануне сон, обозначавший, по её убеждению, человека, преследующего её: чёрный бык её забодал. Этот сон у жены бывает неизменно перед смертью того лица, на которое бык нападает. Сыч все предшествующие ночи прилетал из сада и своими криками не давал ей спать. Всё это заставляло её сильно тревожиться. Мне очень тяжело было с ней расстаться на следующий день; я трижды возвращался из передней к её кровати; она горько плакала. В Ревеле вечером у меня было тяжёлое предчувствие. Была давящая пасмурная погода. Утром я пошёл к Эдгару, куда мадам Бахштейн протелеграфировала мне, что моя жена заболела и меня зовут обратно в Ассик. Я поехал в Акциенклуб и вызвал Егора по телефону. Он мне сообщил о смерти моей жены. В один день рухнуло всё, вся моя жизнь. Ночью я в 12 часов приехал в Ассик. Жена утром встала, очень сердечно поговорила с моей мамой, поцеловала ей руки и поблагодарила её за заботы во время её болезни. Потом она пошла в детскую и стала возиться с Натой, почувствовала себя плохо, вышла в красную гостиную и упала мёртвая на кушетку. Сгусток крови закрыл ей клапан сердца. Я через несколько дней уехал обратно в Самару с пустой жизнью впереди. <2. Гражданская война. 1918-1919 гг.> Тетради № 4-9 В начале апреля 1918-го года я с фронта кругом с <новой> женой приехал в Ревель, где я впервые с точностью узнал, что в Ассике все живы и что лишь один Егор увезён большевиками в Сибирь, откуда со всеми прочими сосланными баронами возвращается обратно, согласно условию Брестского договора. Я был неописуемо счастлив, что мои опасения не сбылись, и, устроив свои дела в банке, поехал в Ассик. С одной стороны, этот приезд обозначал для меня возвращение к моим детям, к матери, в прежние условия жизни, вне военной и революционной обстановки, с другой же – полное фиаско всей моей жизни. Служба, на которую я отдал всю свою свободу в молодости, оказалась сведённой по результату на ноль. Генеральский чин и 10 наград, полученных за войну, служили лишь помехой для получения места в стране, занятой германскими войсками – невольными бывшими противниками. Состояние, составленное мной столькими лишениями в течение последних 9 лет, когда мы с моей покойной женой отказывали себе в самом необходимом, - всё это рухнуло, так как имение в Крыму было обесценено политической конъюнктурой. Д и всегда раньше оно было лишь забавой, а не источником доходов, а Ревельские дома вследствие закона 1914-го года о неповышении квартирной платы, тогда подтверждённом германцами, из доходной статьи превратились в источник расходов и забот. Из первых в России я сделался последним в Эстонии, и из независимого хозяина своего поместья я превратился в ничего не значащего, бесправного и совершенно обедневшего тунеядца. Пока я был уставшим от всех предшествующих передряг и чувствовал жгучую потребность отдыха, перемена положения меня не так тяготила. Но когда прошла через несколько дней страшная усталость, я ещё тягостнее понял, что жизнь разбита, и я вернулся в родительский дом с чувством, которое должно было быть у «блудного сына», да ещё без видимой возможности как-либо создать вновь сносную жизнь. Ко всему этому примешивался ещё и страшный контраст в моём семейном положении: я привёз с собой новую жену, и когда она встретилась с моими детьми, я с такой ужасной ясностью понял, что моё личное счастье погибло со смертью незаменимого друга – покойной первой жены. Оставаться в бездействии при таком настроении я не мог. Через 2 месяца бессонных ночей я вырвался из Ассика и выхлопотал в Ревеле разрешение проехать через оккупированные части России и Украины, чтобы посетить своё имение в Крыму. Каким-то чудом мне дали это разрешение, за которое впоследствии попало начальнику, майору <фамилия нрзб>. Кроме меня никто этого путешествия не делал, потому оно небезынтересно. Я ехал через Ригу, Гомель и Киев. Меня поразило отсутствие в поездах русских, поляков или немцев. Пассажиры, все без исключения, на всём расстоянии до Гомеля были жиды. Все вагоны были набиты ими битком. Проезд по железной дороге разрешался с величайшими трудностями. Тут могло быть лишь 2 объяснения этому явлению: взятки – и, стало быть, подкупность германских чиновников и военных – и страшное развитие спекуляции. То и другое не соответствовало тому понятию о германских порядках, которое было у меня ещё до войны и которое укрепилось у меня вследствие доблестных действий германских войск. Я увидел, что произошла перемена, что переменившаяся Германия развращает население и сама развращается и, стало быть, рухнет. На какой-то станции в мой вагон ворвался немецкий солдат с нагайкой и с криком «Haus!». Жиды встали и начали галдеть. Но солдат с неистовым криком размахивал нагайкой, повторяя слово «Haus». Евреи бросились к противоположному выходу вагона и посыпались на полотно. Солдат подскочил ко мне и поднял плётку, но был обруган мной, после чего вытянулся, думая иметь дело с начальствующим лицом. Он, извиняясь, сказал, что сейчас сюда сядут офицеры, и ему приказано очистить вагон. Потом, опомнившись, он потребовал мой пропуск. Увидев, что я генерал, он извинился и оставил меня в покое. В вагон после этого село два офицера, заняв, таким образом, вдвоём 36 мест. Странное явление!! Страна от Балтийского до Чёрного морей, озверевшая в порыве большевизма, сбросившая с себя прежнюю власть и превратившаяся в неописуемый хаос. Но в руках иностранцев, пришедших буквально одиночными людьми на громадном пространстве, она не только сразу притихла, но немедленно приступила к отправлению культурных функций. Железные дороги, почта, сельскохозяйственные работы, правовые отношения – всё восстановилось и шло спокойнее, чем когда-либо прежде. Поезда уходили и приходили минута в минуту. Население, не терпевшее авторитета своих, беспрекословно подчинялось гипнозу иностранной, при этом фиктивной, власти. Иностранцы и местные жители были уверены, что это так и должно быть и не может быть иначе. В этот самый вагон недавно ещё не посмел бы сесть член русского правительства или чиновного класса. Его вытолкнули или убили бы, не считаясь с тем, что тут могли присутствовать сотни таких же представителей этого правящего или чиновного класса, запуганные до подлости, - а тут 2 иностранных офицера сели одни в вагон, выгнав через одного безоружного солдата всех пассажиров. Те и другие находили, что это естественно. Варяги являются необходимостью для России, и причина падения власти состоит в том, что Рюрики перестали быть варягами. Из Гомеля в Киев шли одни товарные вагоны, набитые пассажирами самого разнообразного происхождения. Было много большевиков. Ночью у меня украли довольно большую сумму денег, кажется, 250 или 1000 рублей, - непонятно как. (У меня были очень большие суммы с собой, т.к. я хотел поменять русские деньги на румынские, что тогда казалось мне выгодным.) Между прочими пассажирами ехал со мной украинец, который рассказывал мне, что он за 6000 рублей купил теперь у помещика землю: «Хотя и говорят, что потом землю мы получим даром, но это всё же вернее, даже если дадут даром». Он мне говорил, что многие так думают, только денег у них не у всех хватает. В Киеве я решил зайти к Скоропадскому, не как к Гетману, а как к бывшему командиру полка. Попав во дворец, я увидел суматоху и таких типов, что я переменил намерения и, расписавшись, ушёл. Впечатление у меня осталось самое отрицательное: в такой атмосфере ничего хорошего из гетманства не могло выйти. Власть опиралась лишь на авторитет немцев. Зашёл к генералу Ханукову, Киевскому Градоначальнику. Как это он в украинцы попал – не знаю. Он рассказал мне, как и кому он отдал в Одессе мои 10 000 рублей, которые он должен был ½ года тому назад переправить в Крым для уплаты закладной Акчевской. Из Киева я в Одессу поехал во втором классе с приличным господином и в культурных условиях, что было особенно чувствительно после предшествующего переезда. В вагоне я пересчитал свои деньги и, видимо, прикрыл часть их газетой. Во всяком случае, тут я потерял 4000 рублей, которые я на следующий день пошёл искать в нашем вагоне; видимо, их украл сторож на станции. В Одессе я с трудом добился возвращения моих – Хануковских – денег, на которые какой-то жидок в банке спекулировал. Часть этих денег была дана Ханукову «царскими», но я получил их обратно от жида думскими. Это было мне неприятно, т.к. деньги были не мои, а моего beaupere’а и подлежали или уплате за закладную, или же возвращению. В Одессе я отыскал моего племянника Германа фон Валя и, выдав ему денег, послал его в Тирасполь привезти мне мои вещи из Татарского корпуса. Потом оказалось, что он ходил вокруг них – их не нашёл, а штаб корпуса их через несколько месяцев повёз в Севастополь, где всё моё имущество военное и часть вещей моей жены, в общем на 30 000 рублей золотом, пропали благодаря непростительной неряшливости полковника Генштаба Аметистова. В Одессе я у садовника ботанического сада нашёл свою лошадь в блестящем виде, но на моё несчастье цена на лошадей с 5000 рублей упала на 1000, и мне эту чудную лошадь пришлось продать за 2500 австрийских крон на рынке; девать её мне было некуда, а садовник не соглашался оставлять её дольше у себя. Мне тяжело об этом вспоминать до сих пор. Это была лошадь, которая стоила бы в то же самое время 10 000 – 15 000 марок в Эстонии. Попала она в хорошие руки – под офицерское седло в австрийскую артиллерию. В Одессе меня поразила всеобщая игра на бирже. Жидки всего города как будто превратились в биржевых спекулянтов. В кафе за всеми столиками сидели типы подозрительного вида и покупали и продавали марки, кроны, рубли, карбованцы и румынские леи. Меня предупредили, что в Крыму цена лей больше, чем в Одессе, и я имел неосторожность купить 21 000 лей, которые Алчевская, однако, в Ялте отказалась принять по казённому курсу, благодаря чему я их отправил в Бухарест через почтового чиновника германской полевой почты, ехавшего со мной на пароходе. Последний, по фамилии Арнольд Quos (Куос), дав мне расписку, денег не отправил, а украл, и лишь в 1920 году мне удалось его найти с помощью берлинского офицера <фамилия по-нем. нрзб>, который его заставил начать расплату, но в такое мгновение, когда марка ничего не стоит и этот долг мне может быть уплачен таким способом через 10 000 лет (по 50 марок в месяц). Пароходное движение между Одессой и Севастополем было регулярное, и я ехал с обычными удобствами. На пароходе со мной ехали гр. Б.Нирод, гр. Сперанский, кн. Волконский, генерал Лукомский и несколько немецких офицеров, из коих я познакомился с майором Бюмлером и гауптманом Болином. Последние принимали Волконского за Великого Князя Николая Николаевича и не хотели верить, что это не он, настаивая на своём заблуждении. В Севастополе Нирод, Сперанский и я взяли автомобиль, и я без задержки приехал в Кекенеиз; лишь у Байдарских ворот мы остановились, чтобы позавтракать. В Биюк Савва я принялся за расследование произведённого там грабежа и выяснил, что Ахмет принял несомненное участие в нём. Поэтому, забрав Хамилла с собой, я поехал в Алупку к местному немецкому коменданту и изложил ему все обстоятельства дела, после чего Ахмет был арестован и с тех пор стал моим смертельным врагом. Его потом выпустили, когда немцы уходили из Крыма. Из цветника перед домом я выкопал драгоценности жены. Хамилл так обработал сад, что не перекопал цветника; это спасло вещи. Там были бриллиантовые серьги, бриллиантовый браслет и прочее. Всё это представляло большую ценность. В свободный от хлопот день я поехал к Государыне Императрице Марии Фёдоровне. Пока Её Величеству докладывали, ко мне вышла графиня Менгден. В разговоре с ней я сказал ей, что я воспользовался разрешениями и пропусками немцев, что графиня просила не говорить императрице, которая так ненавидела немцев, что этим была бы недовольна. Я не нашёл Государыни изменившейся. Она просто и ласково меня приняла и с жаром рассказала мне, что она пережила за время Временного Правительства и большевиков. Наиболее безобразным было проведение комиссии Верховского. Члены её ворвались ночью в спальню Государыни, приставили солдат к постели Императрицы и стали рыться в письменном столе, откуда выкрали переписку Александра Ш и другие бумаги. Государыня на них кричала и потребовала, чтобы убрали солдата, стоявшего у постели, и чтобы дали ей встать. К ней тогда приставили большевичку женщину, и Государыня сама оделась за ширмой. Члены комиссии были настолько необразованными, что искали тайные документы под матрацем постели Императрицы! Государыня топала ногами и кричала им: «Я не хочу, как вы смеете!» На членов комиссии это имело воздействие. Я выше писал, что в своё время <Государыня> пережила во время большевиков; но начальник приставленного к ней большевистского караула заступился за Царскую Семью, когда банда приходила требовать их выдачи, под предлогом, что он отвечает перед большевистским правительством, и так и не выдал Императрицы хулиганским бандам из Ялты. Самое сильное впечатление на Государыню произвели волнения за Великую Княгиню Ольгу Александровну, которая была разлучена с нею после перевода её на дачу Великого Князя Николая Николаевича и которая пешком побежала к ней. Государыня это увидела из окна и страшно заволновалась. Во время этого рассказа вошла Великая Княгиня Ольга Александровна со своим сыном от Куликовского, здоровым, краснощёким мальчиком; мать и сын имели цветущий вид. Императрица с любовью смотрела на них. Я вынес впечатление о семейном счастье, которое окружало эту часть Царской Семьи, несмотря на всю неизвестность участи остальных членов Императорского Дома. Великая Княгиня с жаром рассказывала о своих приключениях, причём, говоря о каком-то штатском, показала пальцем на мою очень непрезентабельную шляпу и сказала, что «на нём была такая же штука, как у Вас». Мы все рассмеялись. Я забыл на столе в передней свои перчатки, которые были номером ниже моей шляпы, и не без улыбки думал, что Великая Княгиня сказала, когда она их увидела после моего ухода!! Императрица дала мне поручение передать доктору Римеру, написавшему ей письмо из Юрьева (Dorpat), несколько слов, что мною и было исполнено через мою сестру Фриду, поехавшую в Юрьев через несколько дней после моего возвращения в Ассик. На обратном пути я снова на пароходе встретился с вышеназванными двумя немецкими офицерами и передал им 25 000 рублей для пересылки через Германию, ибо боялся такие крупные деньги возить обратно через полубольшевицкую часть пути Киев-Гомель. Они это исполнили, и я на этом несколько выгадал, но кража 21 000 лей меня совсем разорила, и я к осени оказался в очень тяжёлом денежном положении. В Одессе я зашёл к генералу Клингенбергу, у которого лежал больной испанкой полковник. В дверях на меня подуло смрадным запахом. У меня было предчувствие, что я заразился. Действительно, через два дня у меня вдруг поднялась температура до 39,8. Когда я доехал до Киева, то был совсем болен. На моё несчастье не оказалось ни одного извозчика; я пошёл со своим чемоданом в гору до самой гостиницы. Дальше из Киева я поехал уже полумёртвый. По пути из Гомеля в Вилейку я был временами без сознания. На этой станции я подошёл к зеркалу и не мог себя узнать. Губы мои были тёмносиние и газа мутные и стеклянные. Тут произошла задержка, и я вынес стул на улицу и в полулежачем положении посидел так несколько часов. В Ревеле, куда я всё же добрался, наконец, сердце моё совершенно ослабело, но грипп и жар прошли; я лёг в кровать и послал телеграмму моей жене в Ассик. Доктор Якобсон, которого я пригласил для лечения моей печени, выслушал сердце и отказался сделать что-либо до приведения сердца в нормальный вид – было сильное расширение сердца. Думаю, что я спасся благодаря тому, что я приехал. Оставайся я в Одессе, я там же и умер бы. Перемена климата меня спасла, но гора в Киеве страшно повредила моему сердцу. Через несколько дней Якобсон передумал, и я проделал балаган с его чудотворным лечением. Имело ли оно какое-либо на меня действие, сказать трудно, во всяком случае, у меня припадков печени с тех пор не было, - но, может быть, без этого лечения их тоже не было бы. Несмотря на мою болезнь, я в Киеве с большим трудом получил каракуль моей жены от Сорокоумовского и через все новые государства провёз его. Впоследствии я вторично спас его из Ревеля и привёз в Париж с ещё большими трудностями (через Германию, Данию, Англию во Францию), и тут он ей очень пригодился, т.к. она его продала за 2 500 фр. – по нынешним временам, громадную сумму. В Ассике я надеялся отдохнуть, но Георгий (Georg) <Егор>, приехавший из Сибири, затеял весьма странное дело. <Далее выпущены сугубо личные подробности о денежном споре братьев: Георгий потребовал, чтобы Эрнест выплатил матери проценты на полученную им 8 лет назад часть наследства>. Подобные споры, как известно, в лоне семьи хуже, чем судебное дело с посторонними. Здесь играет роль не справедливость, а личные отношения. Старик барон Рауш, будучи в дружбе с Георгием, стал на его безумную точку зрения, которая приняла, таким образом, принудительный характер. Понятно, что пребывание в Ассике превратилось для меня не в отдых, а в сплошное отвращение, и я решил уехать со всей своей семьёй в Крым, объявив, что я выплачу матери потребованные проценты не в силу обоснованности подобного требования, а исключительно ради ликвидации этого вопроса. Для того, чтобы раз навсегда покончить с подобными разногласиями, я подарил свою часть денег за гобелены, оставленные моим отцом моему брату и мне, моим сёстрам, о чём уезжая сообщил барону Траубенбергу. Как всегда бывает, всё это совпало с тем мгновением, когда я фактически потерял всё, что имел. Результат моей карьеры – отставной генерал без пенсии в чужом государстве. Мои дома в Ревеле сведены на ноль благодаря квартирному закону Керенского, подтверждённому германским оккупационным начальством. 21 000 лей украдены. 10 000 марок, которые я вложил в торговое предприятие, тоже пропали. Источников для жизни никаких, а тут такие осложнения. Между тем, доходность имений в этот период была фантастическая и, по отзыву моей Паюсской кузины, исчислялось сотнями тысяч марок в месяц. Эту несправедливость, сделанную моей семьёй по отношению ко мне в такое тяжёлое мгновение, трудно забыть. Но труднее всего простить, что в это была втянута моя милая любящая меня мать, которая не могла понять, что тут совершалось нехорошее дело как бы от её имени: она видела, что мы ссоримся, но не могла разобраться в этом вопросе. Я, не будучи в состоянии ей объяснить положение устно, написал ей всё это на бумаге, чтобы она могла подумать над каждым словом; но она увидела в этом лишь моё заблуждение и в сущность не вникла. С бесконечными трудностями я достал жене, двум детям, Кларе Оттовне и мне разрешение выехать, в качестве беженцев, на юг в товарном вагоне, куда поставили кровати для детей и устроили себе целую квартиру. Елена и мать Клары Оттовны пошли нас провожать на место погрузки, где-то за городом. Другой причиной того, что я решил уехать из Эстонии, было то, что я всё яснее чувствовал, что Германия погибла и что с уходом немцев в Эстонии наступят страшные времена. Известия о том, что <в> Германии плохо, доходили до нас. Немецкий кавалерийский отряд, стоявший в Ассике, весьма приличный и воспитанный, был отозван, как и прочие отряды, стоявшие по деревням и имениям. (Он построился и проехал мимо крайней усадьбы, причём старший выехал вперёд и поблагодарил за хорошее обращение и отношение, после чего поезд с песнями в конном строю уехал.) Наконец, к мадам Бахштейн в августе приехал германский солдат из Нарвы и сказал ей, что войска вышли из подчинения начальству и рассказал ей несколько характерных случаев, которые указывали на разложение в войсках. Ехали мы в большом, весьма разношёрстном обществе: тут в нашем товарном вагоне был офицер с красавицей женой и маленьким ребёнком, и какие-то подозрительные типы, и две кокотки. Нас сперва повезли в Псков и далее через Ковель в Одессу. На стоянках нас иногда кормили солдатской пищей. Всюду царил порядок на железных дорогах. Дисциплина была примерная. На одной из маленьких станций мы стояли долго. Я решил согреть воду, зажёг насколько стружек рядом с полотном дороги. Пришёл комендант, камерный полковник, и грубо ругался. Он был прав, но грубость была ничем не вызвана. Сейчас же после этого собрались вокруг нас несколько немецких солдат и стали осуждать своего начальника – все признаки близкого разложения. Как только мы попали на Украинскую территорию, я использовал свой чин. Нам стали оказывать реальные поблажки. Товарный вагон, из которого все вылезли, был прицеплен к пассажирскому поезду, и мы без задержки докатили до Одессы, где вагон поставили на удобном месте и где мы продолжали жить до отхода нашего парохода. В Ялте с вещами были затруднения. Подводы были невозможно дороги. Я перегрузил вещи на маленький пароход, который их доставил до Симеиза, откуда мой друг, собственник древесного склада, по любезности доставил их до Биюк Савва. Пока немцы занимали Крым, было спокойно в политическом отношении и не бывало грабежей. Население находилось под гипнозом всемогущества немцев и их уважало. Татары были довольны немцами и их обожали, видя в них союзников турок, своих одноплеменников. Татарин считает себя турецким подданным: его отечество – Турция. Когда Германия рухнула, население было уверено, что французы займут Крым и заведут в нём ещё более строгий режим. Это мнение держалось до декабря. Но когда распущенность добровольческих частей и безнаказанность царили в городах, а французские власти не оккупировали Крыма, население познало прелести анархии. Это произошло, когда у меня лишь остались две пары лошадей и я перестал ездить каждую неделю. К Рождеству было необходимо поехать за провизией для нас и для соседей. Мы с К.О., несмотря на предупреждение о риске такого предприятия, пустились на одном вороном и гнедой кобыле в далёкую поездку через горы на БахчисарайСимферополь – в немецкую колонию в 25 верстах к северу от этого города и обратно – через Симферополь и Севастополь. На Ай-Петри мы чуть не замёрзли. Пока мы ещё были в горах, в Кокозе и прочих глухих местах, дело было ничего. Но когда мы подъехали к Альме, нас предупредили, что без нападения не обойдётся и ехать дальше немыслимо. Я был в бараньем полушубке и в офицерской кожаной фуражке с кокардой. Когда я после водопоя в речке въехал на дорогу, какой-то встречный крикнул мне, чтобы я снял кокарду. Это было показательно. Страна официально была занята добровольческой армией, а население, вернее, красные были уверены в своей силе. Останавливаться и ночевать на дороге было невозможно. Каждая минута была рассчитана, и мы должны были к ночи быть в Симферополе. У меня был револьвер и любовь к риску. Действительно, мы добрались благополучно, без инцидентов до Симферополя. Я пошёл в штаб, где начальником штаба дивизии был мой старый приятель Дубяга, товарищ по штабу 10-й армии. Белая армия и режим были сплошное недоразумение. Всё находилось в разложении. Я тут увидел и услышал потрясающее. Существует старая пословица, что камень клином вышибают. Безнадёжно <нрзб> умеренный порядок, когда противная сторона борется крайними средствами. Можно быть каких угодно социальных убеждений, но перейти к умеренному режиму можно лишь после уничтожения крайности крайностью. Эта аксиома не была понята руководителями добровольческого движения. Драконовские меры могли привести страну в повиновение. Для этого надо было проявить силу и решимость, свойственные крайним течениям. Вместо этого провозглашались лозунги либерализма. Полумеры и полувзгляды. Активные элементы контр-движения сковывались бессилием <либеральных лозунгов>, чем воспользовались те, кто не боится проявить силы. Либеральное направление подготовило большевизм у себя же в тылу. Сами добровольцы, развращённые войной, по нравственному уровню стояли не выше большевиков. Они не имели ясного политического облика, в то время как большевики смело выставляли своё политическое лицо. В штабах шло пьянство, разврат и интриги. Администрация, будучи в руках социалистов, дискредитировала войско, на которое она сама опиралась. Последнее висело на воздухе и имело лишь там почву, где было сосредоточено в массе. Всё население проклинало реквизиции и прочие беззакония, производимые отдельными решительными добровольцами, не желающими ожидать бумажных переписок враждебных армии гражданских учреждений. Отчего видел это я и знал, что армия рухнет, и не видели это те, кто держал в своих руках бразды гражданского правления? К чему было вести дело, которое не могло кончиться благополучно? В военном управлении царил хаос неописуемый. В Симферополе был штаб Корвина Курконского, человека решительного и видящего, что делается, но бессильного, как и все зрячие в то время. Для того, чтобы его лишить власти, ему на голову посадили командира корпуса Барсова с начальником штаба корпуса без наличия другой какой-либо части в их подчинении. Начальник со штабом над начальником со штабом. Оба друг друга возненавидели. Началась внутренняя война между двумя приговорёнными к смерти. В низах дым стоял коромыслом. Офицеры, коих было бесчисленное количество в этих штабах, кутили и безобразничали. Солдат у всех, вместе взятых, было не то 6000, не то 12 000 на весь Симферопольский округ. Выходя из дверей штаба, я увидел в ярко освещённом подъезде разукрашенных орденами пьяных офицеров и кокоток в сестринском одеянии. Хотел ли бы честный человек, чтобы эти люди забрали бы в свои руки власть во всей стране? Нет, тысячу раз нет. Большевики? Керенщина? Где же выход? Только варяги могут установить человеческие нравы и порядки в народе, неспособном организоваться самостоятельно. Для русского русский не авторитет. Без авторитета не может быть власти, а без власти – порядка, а без порядка не может быть общественной жизни. Переночевав в корчме на рынке, мы на следующее утро поехали, чтобы закупить провизию, в богатую немецкую колонию, где жили знакомые К.О., пастор с семьёй. По дороге мы проехали мимо русской деревни Зои. Я обратился к громадного роста парню лет 25-ти и спросил, как проехать дальше. Он любезно ответил – надо было тут же свернуть с шоссе на грунтовую дорогу. В этом месте стояла группа мужиков из пяти человек. Когда я поравнялся с ними, один показал на мою подводу и сказал во всеуслышание: «Ишь, ведь это румынская подвода – значит, едет на краденом». Я соскочил с подводы и, подойдя к нему вплотную, сказал: «Ну-ка, повтори, что ты сказал». Все 5 человек скисли. Я в это мгновение неожиданно получил удар сзади по голове, приплюснувший мою кожаную фуражку, хорошо меня защитившую. В ту же секунду я повернулся и ударил кулаком в лицо того самого громадного парня, который во время моего разговора с мужиками подбежал и нанёс мне удар сзади. Мгновение было довольно решительное – шесть человек против одного. К счастью, те 5 оказались робкие и остались на месте. Я сделал пять шагов назад лицом к противнику и поднял кулак: «Только посмейте!» Парень остановился после полученного удара. Я этим воспользовался, чтобы вскочить на подводу. Лошади по этой дороге лишь с трудом могли двигаться шагом. Так шли мы минут пять. Когда дорога стала узкая, парень подошёл вплотную к подводе, схватил громадный остроконечный камень и размахнулся, крича во всю глотку неистовые ругательства. Я сидел глубоко в подводе, вытянув ноги вперёд, так что не мог изменить положения тела. Удар эти камнем переломил бы мне с одного маха все кости, а попади в живот – вывернул бы мне кишки. В это мгновение спереди бросился к лошадям другой хулиган и схватил их за поводья. Мы были во власти двух отчаянных убийц-большевиков. Я потянул руку за револьвером, спрятанным в саквояже, но движение рук с камнем меня остановило. В этом отчаянном, безнадёжном положении я увидел вдали на горе какого-то ничего не значащего старика, и, как, погибая, хватаются за соломинку, во всё горло закричал, маша ему руками: «На помощь!» Эффект был молниеносный. Оба хулигана моментально исчезли. Я крикнул К.О. по-немецки: «Fahren sie los», и лошади вновь с трудом двинули вперёд. Я себя чувствовал не очень уверенным, пока были в этой деревне. Через два часа при чудной погоде мы доехали до цели в немецкую колонию и были радушно встречены семьёй пастора, которая нас водила по деревне для закупки продуктов, но без результатов. Население придерживало запасы на близкий чёрный день. Восстание большевиков было подготовлено. Немецкие колонии сговорились с ними, что они останутся нейтральными. Среди немцев поселился и один эстонец, немного в стороне от прочих. Хозяйство было у него богатое и в примерном порядке. Мы рассказали о случившемся. На следующий день, погрузив кое-что на подводу, поехали обратно не через эту деревню, а кругом. Служащий у пастора накануне ездил в Зою за почтой и слышал рассказы о «немце, который напал на крестьян и ударил такого-то». Он предложил нас сопроводить верхом мимо места, где ежедневно происходят убийства и ограбления. Когда мы спустились в лощину у злополучного места, мы увидели в стороне двух людей, но не обратили на них внимания. Потом мы стали подниматься по песчаной дороге на холм. Наш всадник, разговаривая, ехал слева от нас. Справа от меня сидела К.О. В это время два вышеназванных человека, идя быстрее тянувших повозку в гору лошадей, догнали нас, один справа, а другой слева от повозки. Мы обернулись на них. У них были лица, каких я никогда в жизни не видал. Один был бледный, как смерть. Оба прошли мимо. Когда они были впереди лошадей, я увидал негодующий взгляд, брошенный тем, кто прошёл мимо К.О., тому, который прошёл мимо меня. Это было неспроста. Я вытянул голову в сторону и увидел у обоих револьверы в правых руках, вложенных в левые рукава. Середина их с барабаном была видна. Они, очевидно, сговорились выстрелить в нас, поравнявшись. Прошедший мимо меня не исполнил это. Я приостановил лошадей, как бы давая им отдохнуть, и этим дал убийцам отойти. Они поднимались в это время на бугор, остановились и сели за двумя камнями, решив нас атаковать с фронта. Я мигом повернул лошадей, и с горы мы скатились на рысях. Обогнув гору снизу, мы попали на хорошую полевую дорогу и дальше на шоссе. Приехав в Симферополь, я пошёл к Дубяго и предупредил его о движении в русских деревнях. Так как мне очень хотелось повесить того парня, то я сам предложил с 20 солдатами окружить деревню и забрать всех для расследования. Начальник дивизии сейчас же согласился – но нужно было доложить штабу корпуса. Штаб корпуса объявил, что без гражданских властей нельзя, - надо вызывать прокурора. Прокурор сказал, что нужно следователя. Следователь оказался известный социалист, который меня расспрашивал вовсе не с целью помочь принять меры, а напротив – чтобы найти возможность задержать дело. Я плюнул и уехал. Под носом у войска готовилось выступление большевиков – и такая комедия. Всё равно погибнут; не могло же спасти дело частичное действие, когда на всём пространстве была та же картина. Когда мы выехали из Симферополя, уже определённо говорили, что на Альме всех грабят. Мы к вечеру подъехали к корчме у Альмы, где хозяин нам рассказал, что «грабить-то грабят, да неизвестно, кого назвать-то грабителями». Накануне к нему пришла партия добровольцев, забрала у него весь лошадиный корм – т.е. то, чем он жил, и, пригрозив ему расстрелом, с хохотом уехала. «Вот те и блюстители порядка!» Мы рискнули, не потому чтобы было весело ещё раз попасть в переделку, а потому, что и расчёт денег, и корм заставляли нас спешить, - мы не могли оставаться. Ехать в тёмную ночь было не так страшно, т.к. попасть можно было в нас, лишь стреляя в упор. Можно было защититься, имея хороший револьвер. Когда мы уже проехали через самые опасные места, вдруг к нам выскакивает вооружённый винтовкой и шашкой верховой. «Кто едет?» Я за револьвер: «А кто спрашивает?» «Охрана». Какая тут стража, когда известно, что нигде никакой охраны нет. Положение кажется пиковым. Наездник ещё других конных к себе подзывает. «Что же это вы по ночам в такое время вздумали ехать?» «А мы бедные люди и по необходимости к себе домой спешим». Слово за слово, а он едет всё вплотную рядом. Меня несколько успокаивало то, что вблизи были дома, а разбойники сторонятся жилых мест. Так он ехал с нами целых ½ часа, и мы не знали, охраняет ли он нас или выжидает удобное мгновение, чтобы пристрелить. Когда мы выехали в поле, он с нами попрощался, и мы поехали дальше до утра. На следующий вечер мы доехали до перекрёстка шоссе на Севастополь и дороги, ведущей на противоположный берег Севастопольской бухты, куда надо было заехать. Мы попросили знакомую нам по прежним поездкам даму нас принять, но её не было дома, и мы должны были опять в тёмную ночь ехать через пространство, весьма небезопасное, как все окрестности Севастополя в те времена. Уже через ¼ часа мы сбились с пути и, остановив подводу, стали пешком искать верную дорогу, причём прислушивались, не идёт ли кто. Подошла какая-то подвода и нас в темноте направила. Перед самым Севастополем мы сбились с пути и поднялись на бесконечную гору, где была артиллерийская позиция. Я боялся, что караул нас арестует. Поздно ночью мы разыскали квартиру капитана, к которому надо было заехать за вещами. И его не оказалось дома. Пришлось ночевать в сильный мороз на подводе. В сене, прикрывшись брезентом, бывало хорошо, в особенности в эту ночь, после стольких приключений. На следующий день мы дали отдыхать лошадям, закупили недостающее и на второй день поехали на Байдары. Когда были на высоте мельницы, что в 15 верстах от Севастополя, мы услышали стрельбу в двух верстах впереди нас. Что делать? Остановились, подождали. Я рассчитал, что там, где стреляли, спуск, и можно будет в темноте на полном ходу проскочить. Но в то время, как мы ехали рысью, с тяжёлым грузом, дорога спускалась очень круто. Подвода стала катиться всё быстрее и быстрее. Лошади пустились в галоп, а потом в карьер, и я увидел, что мы через секунду перевернёмся. Было одно спасение – одним колесом въехать в канаву с шоссе. Но в темноте да на карьере! Как только я взял в сторону, одна лошадь на полном ходу повалилась, и груз в 150 пудов должен был её раздавить насмерть. После страшного толчка мы оказались в канаве примерно на том месте, где происходила 15 минут до этого стрельба Мы вылезли и боялись говорить. Упавшая лошадь была жива. Я её распряг. Встанет ли или кости поломаны? Встала! Мы сели на краю дороги и стали прислушиваться. Какой-то странный храп был слышен близко от нас. Я осмотрел подводу. Она была цела. Запрягли лошадей и покатили дальше. Кто там храпел? <Неизвестно.> Мы не смогли доехать до дому и в 7 верстах от Кекенеиза на месте, где шоссе шире, остановили лошадей и спали до утра. Когда утром нас увидел знакомый татарин, то не хотел верить, что мы действительно рискнули посреди гор остановиться на ночлег. Было чудом, что мы тогда проделали благополучно этот громадный путь и вернулись домой живы и здоровы. Когда я вспоминаю эти чудные дни, то кажется, что это было не на этой серой земле, а где-то в сказке. Полились хрустальные ручейки с гор, и я, как, бывало, мальчиком в Ассике, целыми днями занимался направлением воды, рыл канавки и радовался чудесной погоде. Это было в первых числах марта. К нам приходили татары, говорили, что большевики близко, но я тогда держался ошибочного мнения, что большевики не тронут тех, кто своим трудом зарабатывает на земле насущный хлеб. Кроме того, у нас не было денег, и мысль об отъезде мне не могла прийти. Но вот вдруг ночью просыпаемся от удара по нашей железной крыше и после этого слышим, как ходят по ней. Было около двух часов ночи. Объяснение могло быть только одно: на нас совершается нападение, и часть нападающих залезла по лестнице на крышу. Когда нас заставят выйти из дома, то застрелят выстрелами сверху. Я схватил два револьвера и бросился к выходным дверям. Кларе Оттовне я приказал тихо повернуть ключ и сразу распахнуть двери, сам же я спиной прислонился к противоположной стене, чтобы оттолкнуться и вылететь из дверей до ближайшего куста. Если это удалось бы, то у меня были 16 выстрелов, которые могли нас спасти. Так мы и сделали, и громадным прыжком я оказался в кустах, после чего двери закрыли на ключ. В кустах я просидел несколько мгновений и прислушивался, - никого не было видно. Я стал в кустах делать круги вокруг дома. Ничего. На южной стороне дома я слышал, как что-то звероподобное зашумело в кустах, но ничего не мог разобрать. Покружив с полчаса вокруг дома, я решил влезть на крышу, что казалось риском, но и на крыше никого не было. Весь инцидент – сверхъестественное явление, спасшее нам жизнь. После бессонной ночи мы пришли к некоторым новым убеждениям, а именно: я всегда был очень самоуверен при мысли о нападениях. Когда же пришлось на практике проверить, то оказалось, что я не смог бы оказать сопротивления, т.к. один человек на крыше и другой – в кустах могли меня с лёгкостью уничтожить. Стало быть, надо было увезти детей в город. Всюду шли слухи о приближении большевиков. В 7 часу утра я сел на гнедую кобылу, единственную оставшуюся до конца лошадь, и в сопровождении Клары Оттовны, шедшей пешком, поехал к Императрице. Только она одна в точности должна была быть ориентирована, и если дела обстоят плохо, то она могла оказать мне содействие. На горе Кошка мы встретили знакомых греков, которые с гордостью рассказывали нам, что греческие войска участвовали в отражении большевиков и нанесли им поражение. Настроение у нас поднялось. Но, когда мы были в Симеизе, то со всех сторон слышали тревожные известия о полном развале добровольческой армии и об изменническом поведении французов. Я удвоил ход, и К.О. бежала целые вёрсты. Около забора Императрицы я слез, сказал К.О., чтобы она пока подержала бы лошадь, и пошёл пешком, но, не доходя до входных ворот, встретил группу приличных дам, громко говоривших об отъезде Императрицы. Я узнал, что всё брошено, что никого уже нет в доме Императрицы, и что английские броненосцы, взявшие на борт членов Императорской Семьи, ушли на рейд. Мы сейчас же двинулись дальше. В Ливадии старик сторож нам открыл ворота и на мой вопрос развёл руками. «Добровольцы такими трусами оказались, - ведь как только пошёл слух о большевиках, так сразу все из Ливадии выскочили, а вот», - он указал на подводу с вещами, - «последние их пожитки увозятся. Никого больше не осталось; все убежали и нас стариков бросили на верную смерть». Доехали до Ялты. Там паника. Я в транспортную контору. Встречаю генерала Дибича. «Скорее садитесь на последний пароход, иначе поймают и замучают». В транспортной конторе был и комендант города Ялты. Он, весьма энергично атакованный мной, почти сразу же согласился мне дать два автомобиля для вывоза моей семьи, после чего «мы, может быть, если приедем до наступления темноты (что было исключено), попадём на последний пароход». «Куда идёт этот пароход?» «В Новороссийск». «А английские броненосцы?» «С Императрицей, членами Императорской Семьи и «избранными» - за границу, кажется <на> Принцевы острова, Мальту или Англию». «Когда уйдут?» «Хотят выждать ухода последних пароходов и защитить их погрузку». Я бросился к берегу, взял моторную лодку и поехал в море на броненосец «Malborough». Меня пустили на борт. Я попросил доложить Императрице. Но тут на моё несчастье Императрица, всю ночь не спавшая, только что легла и заснула. А ведь каждая минута была вопросом жизни и смерти. Разбудить Императрицу при таких обстоятельствах было немыслимо. Я узнал, что Великий Князь Николай Николаевич на борту. Действительно, на задней палубе сидела его гигантская фигура с обычной трубкой во рту. Он её кусал, показывая большие зубы и искривляя, по обычаю, лицо в презрительную гримасу. При нём был ординарец кн. Орлов. Я подошёл к Орлову и попросил его доложить Великому Князю, что я со своей семьёй застрял и прошу меня взять на борт. Орлов подошёл, что-то сказал и, получив в ответ одно слово, должно быть, «к чертям», вернулся и сказал: «Великий Князь приказал Вам передать, что всё на броненосце занято до последнего места и за Вас просить он не может. Вам надлежит поехать в Новороссийск». Всё это в тоне снисходительной небрежности и некоторой насмешки, что приписываю, помимо его хамства, своему костюму. Тут не было времени долго думать. Я сбежал с палубы, сел в лодку и вернулся на мол. В то мгновение, как я причаливал, от мола отчаливала моторная лодка с массой «избранных», и среди них я, к моей радости, увидел кн. Долгорукова, обер-гофмаршала Императрицы. Выскочив из своей лодки, я подбежал к тому месту, против которого он сидел в лодке, и окликнул его, быстро говоря ему, в чём дело, уверенный, что он, зная отношение ко мне Императрицы, обо всём доложит и мы всё же уедем не на гибель в Новороссийск, а за границу. Каково же было моё удивление, когда Долгоруков только развёл руками, а потом, не ответив мне ни слова, повернулся ко мне спиной и стал разговаривать со своим соседом. Лодка в это время отчаливала и быстро ушла. Я на мгновение остолбенел. Человек зверь проявился во всей наготе. Делать было нечего и терять время тоже нельзя было ни секунды. Я побежал к коменданту за автомобилями и настоял, чтобы немедленно сделали бы наряд добровольцев для сопровождения автомобилей. Это было исполнено. Прошло несколько времени, но сами автомобили не подъезжали. Вдруг подбегает ко мне комендант и говорит: «Вы уже простите, но автомобилей дать не могу, начался бой на окраинах Ялты, и все машины заняты». Но тут он у меня не вывернулся, и я сам реквизировал себе первых два подъехавших автомобиля, - если не дал бы, убил бы его. Нашёл какого-то добровольца, которому комендант приказал с винтовкой сопровождать меня. К.О. я сказал ждать с лошадью на улице, пока я вернусь. Но уже дисциплины никакой не было. Когда мы подъехали к окраине Ялты, тот автомобиль, в котором я не ехал сам, остановился, и шофёр объявил, что у него испортилась машина, а доброволец, который сидел в моём автомобиле, заявил, что дальше ехать нельзя, и сам слез. К счастью, мой шофёр оказался более храбрым и согласился поехать со мной вдвоём. Через населённые пригороды мы давали полный ход, если кто попался бы, раздавили бы, - тут уж нечего было смотреть. Но самое страшное было, что в Кекенеизе шофёр оставался один (я должен был спуститься в Биюк Савва – 4 версты туда и 4 – обратно в гору) и мог повернуть и уехать. На него могли напасть и отнять у него автомобиль. Было 12 часов ночи. Все в деревне спали. Я побежал в избу Эмирвали, мы захватили ещё его брата чёрного Халила и побежали вниз. Жена уже учла необходимость отъезда и всё, что ей казалось нужным, собрала в чемодан и тюки. Я побежал, спрятал в лесу бумаги, закопал кое-какие вещи, написал бумагу для подписи Эмирвали, которому я предоставлял пользование имением за время моего отсутствия, и мы через 10 минут, забрав детей, побежали с вещами в гору, оставив дом с открытыми окнами, дверьми, корову, лошадь… Всё… Будет или не будет автомобиль?? На наше счастье, шофёр оказался честным и храбрым. Навалили вещи, погрузили детей. Тут вдруг чёрный Халил выходит и говорит: «Теперь давай мне 150 рублей; время, что мы были у вас, господ, рабами, прошло, недаром тебе таскали сто пудов в гору, давай деньги». Я дал из скудных денег 80 рублей, на что Халил сказал, что остальные он «в таком случае сам возьмёт» с дачи, «не беспокойся, сумею взять своё, не те теперь, слава Богу, времена настали». Шофёр тронул и мы покатили. Однако, несмотря на поздний час, большевики в деревнях решили захватить власть, и всюду стояли люди группами на улице и в воротах. Мы полным ходом проскакивали, причём я в обеих руках держал револьверы. До Ялты доехали. Пароход не ушёл. К.О. нашли. На какой-то французский пароход нас пустили, который рано утром должен был уйти – куда, мы не знали. Нам казалось, что мы пока спасены, но я знал, что это ещё не спасение, а скорее лишь начало гибели. Тут для нас оставалось три возможности: поехать в Новороссийск, оставаться в Ялте или уехать на пароходе, уходящем в Севастополь, т.е. в другой пункт Крыма, находящийся в том же положении, как и Ялта. При моём понимании того, что добровольцы не в состоянии удержать власть, поездка в Новороссийск казалась мне верной гибелью, и мне оставалось выбирать между Ялтой и Севастополем. На мол пришёл бывший «маргариновый» Гродненский гусар Ковако, Ялтинский земский начальник. «Что Вы будете делать?» «Я остаюсь». «Как же, ведь Вас убьют?» «Это лучше, чем умереть с голоду». «Это верно». «А может и не убьют». «Не думаете ли Вы, что и мне следовало бы остаться?» «В деревне нельзя, а в городе? отчего же?» «Если бы было какое-нибудь место пролетарское, я бы поступил бы». «А у меня дворник на днях ушёл. Хотите поступить в дворники?» Искушение было большое. Наконец, я решил испробовать последний шанс в Севастополе, а если оттуда не удастся уехать за границу, то на подводе вернуться не в Биюк Савва, а в Ялту к Ковако. Так мы и сговорились. Около 10 часов мы ушли в море. Второй раз мы спасались с этого же места от большевиков, - но какая разница в положении. Тогда это был настоящий бой и игра ва-банк – зато впереди верное спасение. В этот раз это было бегство от невидимой опасности, но на верную гибель со всем семейством. Т.к. слух о захвате власти в деревнях не оправдался, и т.к. мы забыли сделать несколько важных распоряжений в Биюк Савва, наконец, т.к. лошадь наша была в Ялте, то мы отправили К.О. верхом на Биюк Савва. Оттуда она на подводе должна была поехать на Севастополь, где мы должны были встретиться на молу. Такая комбинация казалась нам не слишком рискованной, т.к. население Байдар и прочих деревень было нейтрально и политикой не интересовалось в отличие от городов на южном берегу. Каков же был мой ужас, когда мы пришли в Севастополь, и я узнал, что французский комендант объявил Севастополь в осадном положении и приказал никого через заставы не впускать, а открывать огонь по приближающимся. Вместо заботы о спасении семьи появилась ещё и ответственность за К.О. Я после бесчисленных поездок добился того, что на заставу передали приказание её пропустить, - но ведь ясно было, что она, узнавши о приказе, даже не посмеет подъехать к Севастополю. Что же касается нашего отъезда, то дело приняло совершенно безнадёжный оборот. Французы объявили печатными листами, что французское правительство распорядилось никого из русских не пускать за границу, и лишь французские подданные, получившие специальное удостоверение, могли грузиться на пароход, отход которого, однако, был назначен на один день после того срока, к которому французы объявили переход власти к большевикам. Единственное спасение было попасть на такой пароход или на броненосец. Это было с детьми невозможно. Однако, я решил делать невозможное. Меня никто не знал. Значит, я так добиться ничего не мог бы, нужны были бумаги. Поехал к коменданту крепости. Он объявил, что ничего сделать не может: бумаги не имеют никакого действия. Я сел за его стол и написал сам на русском и французском языках общее обращение ко всем властям с просьбой оказать исключительное содействие генералу фон Валь, едущему по особому приказанию в Париж. Когда эта бумага была мною написана, я заставил коменданта крепости её подписать, а адъютанта – скрепить её и приложить все печати. С этой бумагой я побежал на берег, сел на моторную лодку и выехал на французский адмиральский корабль «Jean Bart». Меня беспрепятственно пустили. Я вошёл в каюту начальника штаба французского флота и сказал ему, что еду по особому делу в Париж и прошу меня взять на броненосец или на французский корабль. Начальник штаба ответил, что он эту просьбу должен отклонить, т.к. только что получено приказание французского правительства, категорически запрещающее въезд русских во Францию. Я ему говорил, что моё дело совершенно особое, и я прошу меня пустить поговорить с Адмиралом Франше д‘Эспере. Он пожал плечами и, уходя к адмиралу, повторил: «Только я Вас предупреждаю, что это совершенно бесполезно». Минуты, которые я ожидал, казались мне вечностью, да и надежды никакой не было. Но я всё же сунул ему в руки написанную мной самим бумагу со штемпелями. Через пять минут он вернулся и, ни слова не говоря, сел в своё кресло, опять пожимая плечами. Мы оба молчали. «Адмирал, ввиду особой Вашей бумаги, счёл возможным приказать дать Вам визу. Отправляйтесь во французское консульство». Я чуть не подпрыгнул, но надо было благодарить его сдержанно, т.к. надо было делать вид, что это моё законное право. Поехал на берег с чувством спасённого. К этому времени К.О., каким-то чудом спасшись от татар, тоже приехала в Севастополь, и я её увидал на молу. Побежал в консульство. И то, что я тут увидел, не поддаётся никакому описанию, - да я и не сумею передать того безобразия и той распущенности, которая там царила. Всем распоряжалась красивая намазанная молодая кокотка, которая вела себя с публикой, как только может зазнавшаяся публичная женщина. Бумаги бросались в лицо публике. Почтенные люди, пришедшие за спасением, выгонялись с подлыми и постыдными шутками. Простояв 1-2 часа и не добившись очереди, я понял, что только взяткой можно чего-либо тут добиться. Французский солдат получил на чай и, простояв ещё за какой-то дверью во дворе, я был как-то обходом введён в комнату. После страшной ругани я вырвал визу себе и всем ехавшим со мной, в том числе Кларе Оттовне. Каково же было моё неописуемое разочарование, когда я вдруг узнал, что отход французского парохода отменяется. Пароходы должны были остаться, т.к. с большевиками вошли в соглашение. Публику на пароход было приказано не пускать; бывшие тут французские пароходы должны были уйти не за границу, а в Одессу. Надо было найти другой выход. На рейде далеко в море стояли англичане. Но как к ним добраться? Узнал, что без содействия командира русского флота нельзя обратиться к англичанам. Побежал в штаб флота. Тут происходило столпотворение вавилонское. Я подошёл к графу Келлеру, только что вышедшему ко всем собравшимся и объявившему, чтобы никто к нему с просьбой о выезде не обращался, т.к. он имеет категорическое приказание и т.д. Схватив его за рукав, я потащил его в сторону и сказал: «Я такой-то, тот самый, который только что выручил Вашу bellesoeur <невестку – франц.>. Я думаю, что гр. Келлер сумеет ответить мне, когда я прихожу с просьбой спасти мою семью». «А что же я могу сделать, ведь мне запрещено». «Вы мне дайте Вашего адъютанта и прикажите мне оказать содействие от Вашего имени, а я сам сумею». Он подумал секунду и потом сказал: «Хорошо». Через секунду я бежал с адъютантом к берегу, чтобы сесть в катер и поехать к английскому адмиралу. Недалеко последние добровольцы грузились на пароход в Новороссийск. Я увидел Маришкавича в шубе с белым барашковым воротником, который хлопотал и распоряжался. Но на катерах уже все матросы перешли пассивно на сторону большевиков, впустили холодную воду в котлы катеров, - мы бегали от одного к другому; они лишь смеялись над нашим отчаянием. В это мгновение мимо пристани проехал какой-то иностранный катер. Я замахал руками. Он приостановил машину и спросил по-гречески, в чём дело. Я ему дал знаки, чтобы он подъехал. Он в недоумении исполнил моё желание, видя адъютанта коменданта в форме. Мы с адъютантом сели и спросили, куда он едет. «На греческий корабль». Я ему сейчас же ответил, что мы тоже едем на греческий корабль. Итак, вместо английского адмирала мы увидели через несколько минут греческого капитана, от которого я в самой категорической форме потребовал, на основании французской визы, вопреки приказам никого из русских не брать, взять меня с собой и тут же отдать об этом распоряжение. При всём этом, наличие адъютанта командующего флотом сыграло решающую роль, т.к. всё, что я говорил, подтверждалось им от имени Командующего флотом. Как только пароход подошёл к молу, я, не слезая с парохода, подозвал к борту жену и детей и через борт перетащил детей на пароход, после чего последовали наши вещи, жена и Клара Оттовна. От. Тут мы действительно оказались спасёнными. Но страхи вскоре возобновились. Команда объявила, что забастует, если не исполнят ряда её требований. Пароход вместо того, чтобы уйти, продолжал стоять. Тут наша кухарка Марта, участвовавшая в перетаскивании тяжёлых вещей и предполагавшая, что ещё много предстоит передряг, объявила, что желает вернуться в Биюк Савва. Я её проводил на постоялый двор, дал ей письмо для Эмирвали и сам побежал обратно на пароход. Наконец, мы всё же тронулись. Первый рейс всё шло хорошо. Нам дали места в Ш классе. Матросы были милы с нами и с детьми. Мы вскоре узнали, что кроме нас на этом пароходе едут ещё Мятлевы (муж, известный своими стихами, с женой), гр. Толстая с дочерью и её мужем Башкировым и детьми и ещё несколько других. Те все ехали в I классе и платили, в то время как мы ехали даром. Никто не знал, куда мы едем, и все были убеждены, что нас всех высадят в Константинополе. Но, простояв на рейде в Константинополе, мы получили к великой нашей радости известие, что идём дальше на Волос. Мы попали в бурю. Пароход качало страшно. На пароходе были беременные женщины. Две дамы родили в эту ночь. Одно время с нами шёл болгарский пароход с 600 болгарских пленных. Он потонул со всеми этими несчастными. Никто не спасся ни из экипажа, ни из пленных. По морю плавало довольно много мин, но от них погибнуть было мало шансов. Наконец, мы приблизились к берегам, увидели греческие горы и въехали в Волосскую бухту. Против города нас высадили, устроили нам при ужасных условиях и сквозняках дезинфекцию и баню и пропустили наше платье через дезинфекционные машины, испортив вещи и вызвав инцидент с одной русской дамой, забывшей, что ей спасли жизнь, и устроившей такой скандал, на какой лишь способны публичные женщины в Москве. С приходом в Волос мы могли считать себя спасёнными. Конечно, мы могли попасть в бедственное материальное положение, но греки гостеприимны. Они не дали бы умереть нам с голоду. Бывшая ещё столь великой в Константинополе опасность, что нас французы или англичане отправят обратно в Новороссийск, миновала. Зная участи всех тех, кто не попал на наш пароход, приходится признать, что из всех возможностей мы попали на ту, которая одна могла нас спасти. При другом направлении мы все или часть из нас погибли бы. Нам не повезло сначала. Если бы я приехал на 1 или 2 дня раньше в Ялту, то мы все уехали бы с комфортом и на «казённый» счёт без забот в приятном обществе на Мальту, а оттуда перебрались бы в Париж, или же я просто отправил бы из Мальты свою жену в Париж. Этот исход, может быть, был бы в семейном отношении самый лучший. Но раз этот шанс был пропущен, мы должны были погибнуть. Остался бы я в имении, как намеревался до инцидента со зверем на крыше, или поступил бы я в дворники у Ковако, как думал в Ялте, или остался бы в Севастополе, как решил после невозможности уехать на французском корабле, - как мы теперь точно знаем, меня со всеми прочими зарезали бы большевики, не пощадившие ни стариков, ни женщин. Без меня дети погибли бы с такой мачехой. Если бы мы поехали из Ялты в Новороссийск, то часть семьи там умерла бы от сыпного тифа или погибла бы при последующих эвакуациях. Если, наконец, я выехал бы на французском корабле, чего так добивался в Севастополе, то, приехав в Константинополь, я с семьёй был бы перегружен на другой пароход и из Константинополя опять-таки отправлен в Новороссийск и не избег бы вышеописанной участи. Итак, случай и судьба нас спасли. В Волосе нас против нашего желания поселили в большой шикарной гостинице, и за это мы должны были платить большие деньги. Сперва сказали, что на следующий день повезут дальше, а потом всё откладывали отъезд, который становился неопределённым. Первые дни мы были бодры и делали прогулки в чудесные окрестности. Была весна. Казалось, мы не на земле, а в каком-то раю в доисторические времена. Но вскоре все по очереди стали заболевать испанкой. У меня с моим слабым сердцем она приняла особо острый характер, и я задыхался в сильном жару. Расходы шли, а исхода не было видно. Когда я немного поправился, я стал приставать к властям и ходил на все корабли, уходящие из Волоса в море с просьбой захватить нас с собой хотя бы до Афин. На одном японском пароходе я чуть не устроился за колоссальную плату, которую обязался уплатить в Лондоне, но, к счастью, в последнюю минуту пришёл уполномоченный японец и отказал. Он это сделал в грубой форме, не свойственной этому вежливому народу. Наконец нас пустили на какой-то пароход, и мы уехали, и с нами Мятлевы. Гр. Толстая с семьёй осталась. По приезде в Пирей нас поселили сперва на какой-то пароход, на котором кроме нас жил и бывший командир Дунайской транспортной флотилии, адмирал <оставлено место для фамилии>, с которым наши семьи подружились. Но вскоре всех выселили, и нас любезно приютил русский консул в Пирее. Днём наши пожитки убирались, а ночью раскладывались матрацы на пол, и мы спали удобно. В первые дни, пока мы ещё жили на пароходе, Нина заболела сильной формой испанки, которая в Греции зачастую принимала смертельный исход. Без ума от страха за неё я побежал в ближайший русский лазарет и вне всяких правил устроил ей разрешение поступить. Ей стало лучше. <Эта история> сыграла большую для нас роль. Дело в том, что я с первого же дня стал хлопотать о выезде в Париж. Французская виза, данная мне в Севастополе, в Афинах считалась недействительной, и надо было добиться другой визы, после чего, в случае её получения, можно было на свой счёт поехать в Марсель и дальше. Это стоило бы больших денег, которые пришлось бы взять в долг. Когда я попал в вышеописанный лазарет в Пирее, то узнал о том, что там лечится адмирал Канин, бывший командующий Черноморским флотом, и пошёл к нему. У него была раньше целая история с прочими властями в Крыму, и т.к. он узнал, что я поеду в Париж, где был представитель флота адмирал Хоменко и генерал Тервачев, то ему захотелось добиться назначения на должность командующего теми частями флота, которые спаслись в Турцию и Грецию. Он поручил мне об этом хлопотать и при этом рассказал мне массу подробностей о той роли, которую сыграли англичане при защите Перекопа. Всё <это>, конечно, как мы впоследствии видели ещё раз и в армии Юденича, была предательская и изменническая комедия со стороны англичан. Тут я узнал при довольно частых посещениях, что рядом в доме живёт французский комендант какого-то морского французского учреждения, имеющий в своём ведении пароходы, идущие через известные промежутки времени с военным грузом во Францию. Мне пришла мысль обратиться к нему. И этот милый человек, из чувства симпатии к тому тяжёлому положению, в котором мы были, сделал совершенно для меня до сих пор непонятную вещь. Он в тот день, как вышла мне, наконец (с содействием телеграммы Щербачёва), виза, посадил нас всех со всеми вещами на свой военный пароход, и мы даром, не заплатив ни одного гроша, были отправлены через Сицилию на Марсель. Из всех необычайных историй это, пожалуй, самый необычайный факт. Пока мы были в Пирее, я часто ездил в Афины. Здесь жил бывший военный агент ген. Гудим-Левкович с семьёй. Тут же был в посольстве мой товарищ по корпусу Ван-дер-Гюхт <?>, с которым я несколько раз встретился при хлопотах о визе и который очень мило отнёсся ко мне. С Гудимом и его женой, англичанкой, мы ходили смотреть Акрополис, причём он нас поражал своими познаниями всех исторических подробностей. В общем, это запущенное место, что мало вяжется с понятием об уважении к истории. За Акрополисом музей, где подобрана масса интересной мелочи. Самое красивое в Афинах – парк, граничащий с садом Короля, один из самых роскошных по разнообразию растений, которых я видел. Мы туда однажды поехали с Кларой Оттовной и детьми, но я куда-то ушёл на минуту и не мог потом найти их, а они, походив долгое время, одни вернулись в Пирей. Переезд во Францию был удачен в смысле погоды. На борту была масса французских офицеров, из которых один балагур, устраивавший всякие штуки и даже детские шалости. Он переодевался в женское платье и изумлял нас своим поведением. Ещё больше, однако, меня удивили какие-то чрезвычайно подозрительные личности, поступившие во французский иностранный легион, - это были русские, настоящие разбойники. Из разговоров их между собой (они, конечно, никак не могли подозревать, что я их понимаю) я узнал о совершённых ими убийствах, грабежах и прочих преступлениях, причём они то служили у большевиков, то в добровольческой армии. По дороге мы видели Этну со своей снежной вершиной, Мессину, прислонённую к крупной, не очень высокой горе, с разрушенными домами и дворцами, и перед ней массу лодок по всему порту, с nefl’ами, апельсинами и кричащими торговыми итальянцами. Ночью мы проехали мимо нескольких островов, с огнедышащими кратерами, причём один имел вид конуса с огненной вершиной. В Марселе нас задержали при поверке на таможне всего нашего скарба. Я побежал к русскому консулу Гамелла, которого искал на разных улицах, - всё было закрыто, т.к. был праздник. В тот же день мы выехали в Париж, куда прибыли вечером, не зная адреса Щербачёвых. В кондитерской, однако, мы нашли № посольства, а там не без труда узнали и № Щербачёвых. Насколько мне неприятно было с моими детьми приехать к Щербачёвым, хотя я тогда был очень уверен в своих силах и в том, что я сейчас же смогу самостоятельно устроиться, может понять лишь тот, кто знает эту семью. Личности Щербачёва как выдающегося политика, ловкого дипломата, твёрдого и талантливого крупного военного начальника я тут не буду касаться. Скажу лишь про семейную роль этого странного, одностороннего, симпатичного человека. Людей можно разделить на две категории, хотя в жизни нет ничего абсолютного, и тому же самому человеку свойственны зачастую одновременно диаметрально противоположные качества. Всё же есть то или другое общее направление. Одни люди ищут удовлетворения в непосредственном пользовании жизнью и элементами собственной души. Другие, напротив, видят весь интерес в достижении того или иного преимущества среди людей и от людей, и только успехи среди и посредством этих людей составляют для них смысл и интерес жизни. Такие люди, предоставленные самим себе, чувствуют себя окружёнными пустотой. Первые, напротив, видят в обществе людей лишь средство провести время, не желая от людей ничего, и, будучи одни, находят удовлетворение и счастье в общении с природой, или в чтении или мыслях, или в исполнении своего долга. Поэтому и мнение прочих людей о них их не занимает, т.к. они обходятся без этих людей, независимо от их материального положения. Людей второй категории они избегают, т.к. они им кажутся опасными. Вторые же, напротив, ищут именно первых, т.к. их считают более лёгкими для использования. (Зачастую дружба между двумя людьми объясняется именно этим взглядом вторых.) Принадлежность к той или другой категории не зависит от умственных способностей, - однако, мудрецы и мыслители принадлежали всегда к жившим независимо от мнения общества. В зависимости от этого различается и коренным образом и отношение ко всем прочим вопросам. Религия для вторых превращается в своего рода формализм: Божество является удобным помощником при всех стремлениях. Вопросы нравственности существуют, поскольку с ними приходится считаться во мнении окружающих. Познания лишь имеют значения для утилитарных целей. Такое же отношение к искусству или природе. Члены семьи Щербачёвых (состоящей из Д.Г., его жены Н.А., старшей дочери Китти, моей жены, сына Шурика и младшей дочери Муни) являются типичными представителями этой категории людей. У Д.Г., Китти и моей жены это отношение к жизни принимает характер карьеризма. <Вычеркнуто> Если Н.А. и Муне, а пожалуй, и всем остальным сказать, что Платон – главный город Китая, и что планета – форма бактерий, живущих в желудке, и что американец Микель Анджело изобрёл во время тридцатилетней войны Рентгеновские лучи, - то они не будут знать в точности, правда это или нет. Но зато все они знают в точности, кто какую должность занимает, какое он оказывает влияние на дела или политику, какая у него жена и любовница, какие шансы на его дальнейшее выдвижение, как к нему надо подойти, что его интересует, где он бывает и какую из него можно извлечь выгоду. Приведу для характеристики два мелких факта. Я купил в 1904 году имение в Крыму и до 1918 года лишь знал от татар исковерканные фамилии моих ближайших соседей. Что они собой представляют, мне, может быть, и рассказывали, но я этим не интересовался, не прислушивался и о них не имел представления. Татар я знал, лишь поскольку мне приходилось с ними возиться, когда они нарушали мои права кражей дров или потравой скота. Когда приехала моя жена, она через месяц не только знала всех людей, живущих в окрестностях, с их именами и отчествами, но знала всю их семейную обстановку, всё их родство, их положение – одним словом, решительно всю жизнь не только ближайших соседей, но даже таких, кто жил в 10-15 верстах от нас. Когда я оказался без денег, она их сейчас же достала, т.к. знала, когда, где, как и у кого через кого попросить. Также она знала и всех татар, их отношения между собой и к нам. Зато она не знала, какие части принадлежат к моему имению, сколько у меня лошадей и красив ли бывает восход или заход солнца, и ни разу не подошла к морю, и ни разу не посмотрела на облака или синее небо, не читала ни одной книжки, не задумалась ни над одним отвлечённым вопросом. Другой, мелкий, но характерный пример - следующий. Когда я поступил в 1899 году в гусарский полк, там служил Принц Бурбонский. Меня крайне заинтересовала его личность. Он был старший потомок Людовика XV и законный наследник и претендент на французский и испанский престолы. Мы с ним подружились, - я нашёл в нём честного человека, сохранившего традиции своей династии. С тех пор у нас сохранились товарищеские отношения, и я был рад с ним встретиться во Франции и повлиять на его решение купить участок земли в Ницце, в то время как я сам поселился в St.Jean. Как-то прихожу к Д. Г-чу. «Я не понимаю, отчего Вы не попросили денег у Бурбонского?» «Да я и не думал его просить». «Позвольте, ведь он Вам друг». «Какое это имеет отношение?» «Как какое? Для чего же Вы с ним дружите?» «Потому что он ко мне так же относится, как я к нему». «Но, позвольте, какая же от этого Вам польза?» «Да я и не ищу никакой пользы». «Что Вы, действительно, разыгрываете за комедию, у него, значит, верно ничего и нет». Что касается Н.А., то следует о ней ещё сказать два слова, как и о Китти и её муже. Н.А. вышла замуж за Д.Г., будучи очень молодой. Она не может и не желает понять, что с тех пор её возраст изменился. Она делает движения туловищем и повороты головы, свойственные подросткам, как 15-летняя девочка. И улыбку старается сделать такую же, какою, ей кажется, надлежит сопровождать обращение к взрослым, а главное – придать необыкновенную наивность выражению глаз и рта. Она страдает недугами, которые лечить могут только самые дорогие профессионалы и массажистки, не дешевле 25 фр. в час. В гостиницах она может жить только в самом дорогом номере, и платье она может шить только из самого необычайного материала. Если её спросить – отчего, то она ответит, что это необходимо по двум причинам. Во-первых, она так привыкла. Во-вторых же, жена ген. Щербачёва не может опозорить положение и доброе имя своего мужа, живя или одеваясь, как нищая. В этом отношении Китти и Шурик мыслят тождественно, подстрекая членов семьи к тратам, лишь бы всегда во всём показываться достойными членами семьи Щербачёва. Зная эту семью, можно представить, с каким чувством я приезжал к ним. Они набросились на Соню, со мной были любезны. Но с первых слов объявили, что места у них нет и что недалеко гостиница, в которой нам дадут комнаты. Китти пошла сейчас же со мной искать, но не нашла той гостиницы, зато я нашёл два номера в маленькой гостинице Pension d’Angleterre на rue de la Boet <?>. Мы все там переночевали. На следующий же день моя жена намекнула, что мои дети стесняют своим приходом к еде её родителей (что в первый день приезда ими не было сказано). Я поехал по рекомендации прислуги Щербачёвых в Fontainbleau, нашёл там Pensionnat Jeanne d’Arc и в тот же день вечером сообщил Щербачёвым, ошеломлённым быстротой, об отъезде на следующий день моих детей. После этого К.О. переехала на 5-й этаж Щербачёвского дома, где были комнаты для прислуги, я же оставил себе маленькую комнатку в Pension d’Angleterre. Не прошло 2-3-х дней, как Щербачёв мне заявил, что находит невозможным, чтобы К.О. оставалась бы у них, намекая на мои дружеские отношения с ней, и что он просит меня ей сказать, чтобы она искала себе место. Моё положение в чужом доме меня ставило в тупик. Церемониться, однако, не приходилось, раз затрагивали вопрос об оставлении товарища по опасностям и нашего спасителя. Я потому в любезной, но решительной форме ему ответил, что я не допускаю двусмысленных намёков, что К.О. поручена мне её матерью, и если мне ставятся подобные условия, то я одновременно с ней оставляю их дом. Приятный разговор через три дня после приезда! После этого я позвал свою жену. Она свалила это на Китти и её прислугу. Произошёл решительный разговор в гостинице. Я заявил, что при таких обстоятельствах я бросаю жену и уезжаю с первой партией добровольцев на Дальний Восток (тогда как раз Головин, начальник штаба Щербачёва, делал подобные отправления). Дело выходило из пределов интриги. Произошла обычная сцена раскаяния, слёз и прощения. Этот исход, временный, для меня был более разумен, чем отъезд на дело, которое было мне не по душе, с оставлением на произвол жены моих детей и на неизвестность – К.О. Во время этого разговора выяснилось и то ошеломляющее впечатление, которое и на неё саму, отвыкшую от общества своей семьи, произвела обстановка и поведение матери и сестёр. Будучи по натуре жадной и скупой, она в Крыму поняла цену деньгам и трудностям их добывания. Когда она увидела, как Щербачёвы выбрасывали деньги, держа квартиру в 4 ½ тысячи франков (не в год, а в месяц!!!), одевая на себя не только самое дорогое, но ища во всём Париже место, где бы подороже заплатить, и когда посмотрела после трудовой жизни в Крыму на то, как её старая мать и сестра, в объятиях каких-то авантюристов, танцуют сладострастный фокстрот и прочие виды общественного разврата, и посмотрела, что за столом каждому подают отдельные блюда – самые дорогие, то она почувствовала стыд за них и отчуждение к ним. Высказав мне это откровенно и хорошо, - как она умеет в редкие минуты раскаяния, - она меня тронула. Через несколько дней начались поездки для осмотра на лето дачи. Все найденные дачи были раскритикованы и исключены. Щербачёв попросил меня найти. Я в Севре отыскал неудобно расположенный громадный дом, меблированный помещански, имеющий большой сад и теннис выше на горе, где начинался Севрский лес. Он стоил 10 000 франков за лето. Этот дом, наименее подходящий, был взят Щербачёвым, после бесконечных споров за столом и после еды, как то водилось в этой семье. С первых же дней моего приезда я стал присматривать себе должность, - но и француз сам не может устроиться, - где же иностранцу, да кроме того «русскому», которого они считают большевиком или же изменником. Щербачёв мог – чего я совсем не желал бы – меня устроить в штабе, но так как его упрекали, что он всюду пристроил своих родственников, то он медлил, и я, подождав с неделю, решил, что попусту терять время не буду, и поступил в академию художеств «Julien». Я уезжал из Севра в Париж рано утром, работал с 8 до 12 дня. С 12 до 1 я завтракал на улице, съедая кусок хлеба без масла – «всухую» и экономничал на кофе, в 40 сантимов, и с 1 до 5-6 часов вечера продолжал работу. Это было так увлекательно, что для меня этот период оставил воспоминания самые светлые. Ужасы, которые творились в это время в Севре, прошли мимо меня далеко, не непосредственно. Между тем, в Севре Щербачёвы жили, как миллиардеры. По вышеприведённым причинам члены высшего общества не бывали у них, а иностранцы не могли бывать из-за языка; поэтому Щербачёвы устремились на чиновников из посольства, которые были рады поесть даром. Они сами не имели ни общественного положения, ни средств. Шурик старался приглашать своих товарищей по Пажескому корпусу, но те отвиливали. В результате делались громадные затраты и угощения без результата. Пользовались этим лишь ближайшие родственники, которых нельзя было обходить (два племянника Гриша и Гриля Щербачёвы, последний с женой и ребёнком) и Оля Щербачёва, все жившие в Управлении и получавшие там хорошее содержание, да из посольства какие-то поповичи Изразцовы, полуеврей Карсов (впрочем, воспитанный и симпатичный малый), да чиновник Латур с женой и Мещеринов, адъютант Черногорского Короля, с женой. В месяц проживалось около 10 000 франков, т.е. столько, сколько проживали 20 французских семей в этот срок. Больше всего толкали родителей на подобную безумную жизнь Китти с мужем, лишённые понимания хорошего тона или общества. Я вечером остался в столовой с Китти и поговорил с ней, указывая ей на то, что должность Щербачёва не вечная, когда-нибудь он её оставит. Что тогда? Я ей предсказал близкую гибель положения и средств. Китти, выслушав меня с большими глазами, вдруг махнула головой, как бы сбрасывая кошмарное видение, и, передразнивая моё выражение, сказала: «А я вижу и предсказываю, что ты будешь в таком положении». Пойди, посоветуй таким! Приближался срок разрешения от бремени моей жены. Её стремления, проявленные в Крыму, «показаться доктору», были мной не допущены. Когда она приехала в Париж, то время Н.А-вне «позаботиться о Сонечкином здоровье» было пропущено. Выкидыша, как в первый раз, пользуясь моим отсутствием, уже нельзя было устроить. Пришлось готовиться к родам. Я объявил, что согласен лишь на разумные расходы. Н.А. поискала, где можно истратить побольше. Я устроил всем сюрприз, заявив, что сам устрою Соню на это время в городе. Это предложение было поддержано детьми – её присутствие мешало бы их ежедневным танцам. В «Maternite» я заручился местом, - не так, как все думали, за большие деньги, а даром, за казённый счёт, и заявил, что доктор сказал, что на автомобиле страшно тряско. Поэтому я на извозчике повёз жену на вокзал и оттуда на поезде в город. Там взяли автомобиль и доехали до «Maternite». Сцену, которую мне сделала Н.А. в городе по поводу случайного отсутствия на вокзале автомобиля может понять лишь К.О. Она на прогулке с моей женой и мной поскользнулась на горе в лесу, сломала себе ногу и теперь уже две недели как лежала в кровати. Она по моей просьбе, чтобы иметь предлог оставаться во Франции и поддерживать меня, согласилась остаться при будущем ребёнке. Это решение стоило ей большого усилия, не столько из-за отвратительной работы, но потому, что она становилась в зависимость от моей жены. Этим Щербачёвы воспользовались, чтобы её понемногу из положения равной поставить в положение прислуги. Н.А. позволяла себе несколько раз её третировать. Выдержка К.О. выше похвалы. Надо преклоняться перед ролью, которую она сыграла в моей жизни. Пускай этого мои дети не забудут. Без неё я пропал бы в Крыму и без неё в Париже Щербачёвы затёрли бы меня и погубили бы моих детей. Во время родов и после них моя жена вела себя хорошо. Видно было, что опасность пробудила в ней сознание. Она посмотрела на жизнь с более серьёзной стороны, чем остальные Щербачёвы. Родила она здоровую девочку, которую мы назвали Мариной. Вскоре после этого моя жизнь совершенно изменилась. Мне пришлось бросить живопись и поехать в Ревель за деньгами. Для пояснения несколько слов о Щербачёве. После Брестского договора Щербачёв расформировал Румынский фронт, порвал с Украиной, сформировал и расформировал офицерские батальоны и отправил татарский корпус в Крым. После этого он оставил свой пост и поселился в Румынии. Когда Германия была разбита и немецкие войска ушли из южной России, большевики захватили власть. Щербачёв предложил Бертело сформировать русско-французскую армию и двинуться на Москву. Он гарантировал успех, если ему дадут хотя бы один французский корпус. Бертело согласился, но должен был запросить своё правительство. Щербачёв выехал в Яссы и сделал предварительные работы. Клемансо, однако, не одобрил этого плана. Он предложил выждать ассигнования денег, чтобы сформировать (для этой же цели) наёмную армию на Румынской территории. Ею должен был командовать французский генерал фиктивно, имея при себе, в качестве решающего голоса, Щербачёва. Однако, часть войск была уже направлена Бертело до получения этой директивы (которая никогда не была осуществлена, т.к. денег никогда на это не было прислано). Пресловутая французская дивизия, которая себя опозорила в Одессе, и была частью этого корпуса. Начальник штаба этой дивизии, еврей Фрейденберг, вошёл в соглашение с большевиками. Получив от них хороший куш денег, он заставил начальника дивизии допустить позорный уход французов из Одессы. После этого Щербачёв по просьбе Деникина поехал в Париж. Члены бывшего Временного правительства и глава правительства кн. Львов согласились с Деникиным для объединения военных вопросов назначить Щербачёва Военным представителем Армии при союзном командовании. Деникин сам просил Щербачёва помочь в Париже. Личное доверие к нему маршала Фоша способствовало тому, что Щербачёв стал руководителем всей белой политики. Сазонов, Министр Иностранных Дел, и Маклаков, Посол в Париже, при военном положении в России становились на второй план. Щербачёв делал, что сам считал полезным. В важных вопросах Щербачёв обыкновенно звал на совещание близких себе старших офицеров и в том числе меня. В Сибири действовал Колчак, а на юге России – Деникин. Действия их не согласовывались, т.к. не было общего начальника. Каждый из них считал себя главным. При каждом из них сформировалось правительство, которое собиралось в случае успеха стать «Всероссийским правительством». Колчак и Деникин считали себя будущими диктаторами России. Необходимость подчинять одного другому была очевидна. Вместе с тем появилась необходимость заставить одного отказаться от власти – но не только его <самого>, но и его правительство, т.е. тысячи жаждущих власти людей. У кого же мог быть для этого нужный авторитет? Решающую роль сыграл вопрос денежный. Бывшее Русское правительство имело громадные суммы за границей. Кто из двух правителей имел право ими распоряжаться? Кому из них банки должны были выдавать деньги? Надо было, чтобы государства, хранящие вклады, признали бы официально одно из этих правительств. Пока что ни тот, ни другой не могли получать деньги – тем менее эмигранты министры, сидевшие в Париже. Щербачёв заставлял Сазонова принимать свои решения. В данном случае он, приняв решение, поехал к Деникину и убедил его подчиниться. Деникин уступил. История должна ему многое простить за этот подвиг. На обратном пути Щербачёв при свидании с маршалом Франше д ‘Эспере его проучил, как мальчишку, за его уступки большевикам. Маршал перед ним трепетал, зная его влияние в Париже. Колчак был признан союзными правительствами за главу Русского правительства. Колчак, не возбудивший этого вопроса, узнал обо всём этом постфактум из Парижа. Другой вопрос, решённый тоже при мне, был вопрос о Северо-Западном фронте. Действия корпуса Родзянко, отряда кн. Ливена и прочих формирований (<2 фамилии нрзб>) надо было объединить под начальством лица, которое не навлекло на себя подозрения в германофильстве, - иначе не было бы поддержки со стороны французов. В это время ген. Юденич в качестве частного человека, эмигранта, мирно жил в Финляндии. Об этом было известно Щербачёву. Дать знать Юденичу о своих планах Щербачёву было невозможно, т.к. связи с Севером не было. Щербачёв решил, что он в своих бумагах к союзникам будет писать об «армии Юденича», который своевременно об этом узнает и тогда и выступит. На совещании я возразил против этого <в том смысле>, что роль Юденича на Кавказе была не столь уж блестящая. Я указал на то, что недостаточно назначить Юденича, не действующего на Севере, на должность Командующего, раз тут себя уже проявили другие. Но решение было принято против моего голоса. Изумлённый Юденич узнал, что уже целый месяц пишут и получают снаряжение на его армию, которая фактически не существовала. Продолжали существовать ничем не связанные между собой группы Родзянко и т.д. Такова была тогда власть у Щербачёва. Я избегал совместной службы с Щербачёвым, чтобы не пользоваться родством. Поэтому я не служил в своё время ни в 7-й армии, ни в штабе Румынского фронта. Лишь большевики заставили меня изменить поведение. В конце 1917-го и начале 1918-го года я стал Генералом для поручений при Главнокомандующем. В Париже я не захотел поступить на должность в Управлении Щербачёва. Усугубляли ещё эту точку зрения мои политические убеждения, о которых я писал раньше, описывая мои отношения к добровольческому движению. Я очень рад теперь, что я не занял никакого поста в Париже. Масса лиц обращалась ко мне с просьбами в надежде, что я повлияю на Щербачёва. Я этого принципиально не делал. Но приходилось выслушивать, прочитывать и давать тот или иной совет. Я не видел причины не исполнять отдельные поручения, если это не противоречило моим взглядам. Из близких Щербачёву я один только говорил по-английски. В этом направлении Щербачёв пользовался мной. Начальником штаба Щербачёва был Головин, человек умный, талантливый, хитрый и тщеславный. Уже будучи в Академии Генерального Штаба, а потом в 7-й армии на роли помощника Щербачёва, Головин стремился затемнить своей деятельностью личность Щербачёва. В Париже он столкнулся с другим помощником Щербачёва Адмиралом Кононицыным <?>. Между ними произошла «руготня». Щербачёв должен был вмешаться, причём адмирал оказался прав. Головин после этого стал открыто в оппозицию Щербачёву. Штаб, чувствуя в Головине восходящую, а в Щербачёве – нисходящую – звезду, принял сторону Головина, в том числе племянники Щербачёва Гриша и Гриля, всю жизнь пользовавшиеся положением дяди и ставшие людьми благодаря ему. Правительство Деникина не могло забыть Щербачёву подчинения Деникина Колчаку. Принятый с царскими почестями Деникиным, Щербачёв уехал тогда от Деникина под знаком всеобщей ненависти. Это чувство захватывало всё большее число людей на фронте, когда стали ходить слухи о безумных тратах Щербачёва и о его капризности и бездеятельности. Много лиц во Франции придерживались того же мнения. Это происходило потому, что масса сановников и прочих лиц, попавших в тяжёлое материальное положение, обращались к Щербачёву за казённым вспомоществованием, - у Щербачёва же кредиты были ограничены. Он не мог удовлетворить этих просьб. Это создало ему на месте врагов. Дурные толки приняли такие размеры из-за жизни его семьи, что на фронте решили прислать А.Драгомирова посмотреть, что делается в Париже. Драгомиров в Париже на улице и в соборе в сопровождении казаков выступал в кавказской форме. Это раздразнило и так уже недовольных русскими французов. Вследствие этого и нетактичностей по отношению к Щербачёву Драгомиров провалился во французском мнении. Он увидел, что не так просто ревизовать Щербачёва, а потом его удалить. Щербачёв, делая вид, что он не замечает невоспитанностей Драгомирова, позвал его со всей свитой в Севр. Я жалею, что не был в этот день дома. Тут происходило обычное угощение с подчёркиванием роскоши и гостеприимства – именно того, в чём миссия Драгомирова и должна была уличить Щербачёва. По возвращении Драгомирова на фронт один из членов его штаба сделал сообщение всему обществу офицеров о личной жизни Щербачёва, сопоставляя её с лицензиями на фронте. В то время как Париж был центром мировой политики, там заседал Верховный Совет, - фактическая сила была вся у Англии. Только Англия могла давать снаряжение и припасы белым армиям. Военный агент в Англии, престарелый Ермолов, милый, популярный у англичан старик, обангликанился. Он давно уже не знал, для чего служат военные агенты, и не мог оказать давления на Английское правительство. Щербачёв поэтому отправил туда Головина. Это было большой ошибкой. Головин, гораздо менее разборчивый, чем благородный Щербачёв, понял, что в Париже лишь разговаривают, а в Лондоне делают дело. Где дело, там и сила, почему туда же перейдёт в конце концов власть. Обставив с помощью Щербачёва свою поездку в Лондон так, что военнополитический мир не мог не обратить на эту поездку внимания, и зная значение такой предварительной пропаганды, Головин добился приёма у Черчилля и очаровал его ясностью своей мысли и простотой своих взглядов. Головин умел убедительно говорить. Вместо того, чтобы вернуться в Париж, Головин задержался. Вскоре выяснилось, что Головин обосновался окончательно в Лондоне и не считает себя более в подчинении Щербачёва. Он выбрал себе помощником талантливого, но беспринципного генерала Геруа, приехавшего представителем Юденича из Финляндии, и профессора Гарднера, хитрого, ловкого человека, искусного интригана. Наконец, тут же работал и ген. Хольмсен, невозмутимый по наружности человек, но тонкий политик. У Щербачёва же не было в те времена ни одного выдающегося помощника, т.к. полковник Мельчаков, который своей честностью и своим несложным, но ясным умом сослужил большую пользу Щербачёву, отсутствовал. (Он застрял в Румынии.) Борьба при таких обстоятельствах склонилась бы на сторону более молодого и деятельного Головина. Но поддержка Фоша, популярность Щербачёва во Франции и честолюбие Головина оставили победу на стороне первого. У Колчака не было настоящего Начальника Штаба. Колчак в качестве адмирала не мог обладать познаниями, нужными для крупных операций. Головин, обеспечив нужное для победы над тогда ещё слабыми большевиками, решил оставить за себя Геруа, думая им заменить вскоре Щербачёва, а сам поехал к Колчаку, чтобы взять в свои руки операцию. После победы он, по-видимому, думал захватить и всю власть. Как только он уехал, Щербачёв принял меры, чтобы уничтожить самочинно создавшееся Управление в Лондоне, – он это делал осторожно, но умело и тонко. Вследствие длительности переезда на Дальний Восток расчёт Головина уволить Щербачёва от имени Колчака не удался; ещё менее удалось ему создать для самого Щербачёва затруднения в Париже, пользуясь было гр. Игнатьевым, бывшим военным агентом, известным негодяем, ставшим после революции на сторону большевиков и продолжавшим быть во Франции военным агентом. Не было власти, которая назначала бы или могла сменить военные кадры России. Игнатьев продолжал существовать рядом с Щербачёвым, хотя никто уже с ним не считался. Но это положение создавало Щербачёву много затруднений, которые и Головин не преминул использовать через Геруа. Когда выяснилось, что моя семья уцелела и живёт в Ассике, и что мои дома в Ревеле на месте, я захотел поехать в Ревель, чтобы достать деньги и устроиться самостоятельно вне дома Щербачёвых. Расхода на подобную поездку я не мог понести. Добыть визы, когда мир ещё далеко не был проведён в жизнь, было невозможно. Для осуществления поездки нужна была поддержка французского и английского правительств. Нужно было найти серьёзный повод. Щербачёва побудили пойти мне навстречу два соображения: 1) то, что у меня в банке в Ревеле лежали его русские деньги, ещё не потерявшие тогда цены; 2) необходимость устроить уход Геруа. Геруа на предложение покинуть Лондон мог сказать, что он представитель Юденича, командированный последним для обеспечения снабжения С.-З. армии, что Юденич не подчинён Щербачёву и что он, Геруа, поэтому не обязан исполнять требования Щербачёва. Оставаясь на месте, он мог продолжать работу Головина и ждать удаления Щербачёва. Щербачёв решил попросить Юденича отозвать Геруа. Т.к. не существовало средств сообщения, он захотел воспользоваться мной и дал мне командировку к Юденичу. Это мне давало возможность устроить мои денежные дела и привезти деньги Щербачёва. Хотя из Эстонии в последнее время и выбрался во Францию какой-то офицер с письмами, - но он это сделал на торговом судне, случайно проскочив через английский контроль. Из Франции же никому до меня не удавалось уехать в Эстонию. Между тем, туда шли военные грузы и, казалось, можно было устроить сопровождающих груз. Так мы и решили. Однако выяснилось, что соответствующие пароходы идут сперва в Англию и от англичан зависит, кому сопровождать груз. Без англичан обойтись нельзя было. Военным представителем Англии в Париже тогда был молодой генерал Спирс. Щербачёв ему написал письмо. Я поехал к нему. Он работал в штабе Фоша. Спирс любезно меня принял и ещё более внимательно меня выслушал, когда разговор зашёл о делах в России и о моих взглядах на дела. Я подчеркнул, что они являются взглядами личными и ничего общего не имеют со взглядами других людей. Спирс думал почти как я. Мы с ним стали в дружеских отношениях. Спирс обеспечил мне поездку из Лондона на пароходе с грузом для Юденича в Ревель. Я поехал к назначенному дню в Лондон и, согласно указанию Спирса, пошёл в военное министерство к Черчиллю. Там меня заставили ждать полчаса, а потом адъютант Черчилля попросил меня прийти через день. Через день мне сказали, что пароход уйдёт через 10 дней. Я вернулся во Францию. Через 10 дней я вернулся. В английском министерстве мне сказали, что пароход ушёл без меня, т.к. мне на нём не могли предоставить места. Когда я указал на переговоры с ген. Спирсом, адъютант мне ответил, что этот вопрос от представителя во Франции не зависит, а решается в Английском Военном министерстве. Не помню, сколько раз я ездил в Англию и приходил за билетами, но только выяснилось, что я никогда билетов или виз для поездки в Эстонию не получу. Спирс рвал и метал, - Англия не желала, чтобы Париж сносился непосредственно с Юденичем. При поездках я посещал Геруа и Брюллова и выяснил ряд таких вопросов, которые бросали свет на готовящуюся измену англичан. Собранное и систематизированное мной в обширном докладе открывало Щербачёву глаза на готовящуюся катастрофу белой армии. Мой доклад Щербачёву был для него неожиданным и убедительным. Он меня попросил поехать к Сазонову и изложить мой материал и мои доклады. В Русском Посольстве состоялась моя встреча с этим человеком, погубившим Императорскую Россию и счастье и мир всего земного шара. Мы сели рядом на диван. Я вытащил свой материал и, на основании ответов Английского Военного министерства на запросы С.-З. армии и окраинных государств и числа и состава военного груза, отправленного или подлежащего отправлению на С.-З. фронт и окраинным государствам, показывал, что англичане не настроены поддержать русские интересы и собираются использовать русские отряды, чтобы совместно с войсками Эстонии, Латвии и Литвы обеспечить этим трём государствам самостоятельность в ущерб России (но в интересах Англии), после чего прекратить помощь как непосредственную, так и посредством этих окраинных государств, оказать на них давление и дать русской смуте углубиться. Цель Англии была – на многие годы вывести Россию из числа опасных соседей. Сперва Сазонов смотрел материалы, потом начал возражать, потом оспаривать, наконец, мы стали кричать друг на друга, ставши красные, как раки. Кончилось тем, что Сазонов сказал: «У Вас чисто немецкая точка зрения». И, сухо попрощавшись со мной, ушёл. В этой фразе крылась угроза: «Вы, может быть, защитник русских интересов, но одновременно и интересов балтийских баронов, а потому я постараюсь Вас обезвредить как «германофила»». У меня создалось убеждение, что Сазонов состоит на службе у англичан и всегда был на их службе. Потому-то он и настаивал в 1914 году на войне, потому-то Россия была им направлена, вопреки желанию Государя, изменническими приёмами на дело, которое в результате не могло не кончиться падением Монархии и гибелью государства. Я в Сазонове увидел не патриота, а купленного англичанами изменника. С тех пор у меня накопилось столько убедительного в этом отношении материала, что сомнения никакого быть не может в правильности взгляда. Да разве может быть чистый человек виновником мирового развала. Он произошёл на почве всемирной войны, созданной Сазоновым в интересах Англии. Моя оценка намерений Англии была верна. Мне пришлось на месте увидеть то, что никто кроме меня не видал и не слышал. Когда Щербачёв получил на руки post factum документы английской измены на фронте, он спросил Сазонова, что же тот на это теперь скажет. Сазонов ответил фразой, достойной быть записанной в историю России: «Ну да, что же делать! Это ведь теперешние англичане, а не прежние». Уехать с помощью англичан было невозможно. Я на трамвае в Севре ехал с Щербачёвым и спросил его, не лучше ли при таких обстоятельствах отказаться от поездки, т.к. результаты – как в денежном, так и в отношении Геруа – были сомнительны, если я даже доберусь до Ревеля. Обстановка могла измениться. Попасть туда я мог лишь через ½ месяца. «Ну, нет, раз уж начали дело, то надо довести до конца», сказал он, как-то подскочив. У меня мелькнула мысль, что это неспроста и что тут есть что-то другое, и я сейчас же убедился в правильности этой догадки. Щербачёв, не подумав, прибавил: «Вы, может быть, даже найдёте место у Юденича». Вот оно, значит, в чём было дело! К чести моей жены, должен сказать, что она о планах Надежды А. и Китти, подготовлявших мою командировку основательнее меня самого, ничего не знала. В это время приехали из Ревеля два «инженера» для «закупок» во Франции для армии Юденича. Они заявили, что «умеют поехать обратно». Оказались эти инженеры двумя ревельскими жидами без должности – некий Пумпиальский и некий <пропуск для фамилии>, - которые нелегальными путями приехали для личной спекуляции. Они от какого-то отдела Управления Юденича действительно имели поручение узнать о погрузке во Франции материалов для армии. Я их отыскал не без труда и узнал, что американцы посылают один из пароходов <от> «Food commission» в Ревель, на котором везётся бензин и 12 грузовых автомобилей для Юденича. С большим трудом я нашёл то американское учреждение, которое ведало этим делом. Дальше дело пошло по-американски. Решающий этот вопрос молодой человек за свою ответственность решил мне позволить поехать с этим пароходом. Меня же посадили в автомобиль и повезли с одного американского учреждения в другое, без просьб с моей стороны. Через час у меня было всё, что нужно для американцев, - но ни одной визы ни в одно государство. Американцы мне заявили, что этого, пока я у них, и не нужно. Так я и уехал в St. Nazaire, где отыскал пароход «Lake Fray» и пошёл к капитану, вместе с «инженерами»-жидами. Он на нас посмотрел и спросил, умеем ли мы варить, хотя знал, что я генерал, а те – «инженеры». Получив ответ, что нет, он ответил, что это жаль, т.к. ему нужен повар. Я решил, что он не совсем нормален. Место нам было обещано, причём один из евреев, молодой и наглый, был помещён в одну кабину со мной, а другой решил ехать сухим путём и исчез. Это большое для меня счастье, т.к. оставшегося было достаточно, чтобы испортить мне нервы своей наглостью. Уехать пришлось не сразу. Погрузка затягивалась. Я вернулся на несколько дней в Севр. Такой жары, какая была в St.Nazaire, я никогда не испытывал. За день до нашего выхода в море были обнаружены адские машины в соседнем пароходе, грузившем тоже военное снаряжение для белых армий. Было очень много рабочихбольшевиков. Имея громадные грузы бензина, такая возможность была для «Lake Fray» неприятной перспективой. Мы первые дни были несколько озабочены. Через 1 ½ дня мы прибыли после основательной качки в Англию. Там надо было грузить уголь, чем надеялись изменить положение центра тяжести. Благодаря тому, что груз прибыл разновременно и капитан не знал, какой ещё придёт груз, тяжесть попала наверх, а лёгкий товар лежал внизу, что называется «top hary». Пароход, по мнению капитана и команды, мог опрокинуться при сильной качке, если хотя бы часть груза сдвинулась бы с места. Дальше мы попали в Гамбург, где нагружали часть груза для Данцига. В Данциге мы его нагружали для польской «Food commission», и только через 20 дней мы, наконец, добрались до Ревеля. Имея слабое сердце, я уже от одной качки должен был устать, но к этому ещё прибавлялось волнение, которое возрастало по мере длительности поездки. Когда же я вернусь? Если на дорогу в одну сторону прошло столько времени, что за это время могло случиться с моими детьми, женой, К.О.? Я должен был пойти к Розену, там забрать Щербачёвские деньги и повидаться с Юденичем. Всё это возбудило меня пойти на риск и проникнуть в город. Взяв от капитана записку, в которой было сказано, что мистеру Валю разрешается оставить корабль на несколько часов (что, конечно, не могло иметь никакой силы для эстонцев), я под руку с настоящими американцами пошёл к посту, который неоднократно уже смотрел бумаги остальных и знал их в лицо; нас пропустили. Побежав к Розену и выяснив, что у меня в банке нет ни гроша собственных денег, а, напротив, срочный долг в 20 000 марок, дав знать Елене о своём приезде, я пошёл к Юденичу. Адъютант отнёсся очень подозрительно к моему заявлению, что я приехал для личных переговоров с Командующим армией, но, взяв моё предписание и исчезнув на некоторое время, он вновь появился и меня повёл в комнату, куда вскоре пришёл большой тучный генерал Юденич. Он понравился мне своей простотой и отсутствием фанфаронства. Это содействовало тому, что мы через ½ часа стали разговаривать, как старые знакомые; он мне весьма ясно охарактеризовал отчаянное положение, в котором находились части, составлявшие – скорее, фиктивно входившие в – его армию. Тут было эстонское правительство, танцевавшее под дудку англичан Гофа и Марча; тут же сформировалось либеральное С.-З. правительство с Лианозовым и некоторыми весьма подозрительными социалистами министрами; тут же и было противодействие всех фиктивно подчинённых начальству, создавших свои отряды и не желающих признать авторитета откуда-то взявшегося Юденича. Фактически можно было говорить только о корпусе Родзянко, как о чём-то действительном. Выходило, что штаб армии сидел над штабом корпуса: начальник на начальнике без других функций. При таком положении фронт и правительство были обречены на неминуемую гибель. Всё, что я слышал, подтверждало моё убеждение относительно предательской роли англичан в отношении русских. Юденич это высказывал открыто; - но что было ещё делать? Он зависел от англичан. За громадные деньги англичане достали партию аэропланов Юденичу и эстонцам. Эстонские аэропланы были в порядке, аэропланы Юденича имели моторы, не принадлежащие к аппаратам. Русский приёмщик отказался принять их. Назначили комиссию. Через большой срок было решено передать дело английским лётчикам. Последние заявили, что аэропланы великолепны. Когда же потребовали от них, чтобы они сделали полёт, англичане отказались. Кончилось тем, что аэропланы не сделали ни одного полёта. То же было и со снарядами, и с грузовыми автомобилями, с танками и всем прочим. Никто не смел и не имел возможности об этом заявить, т.к. высшей инстанции не существовало. Между тем эстонцы получали всё в полном порядке и смеялись над идиотской ролью, которую приходилось разыгрывать русским, вынужденным делать вид, что англичане их союзники. Англия была заинтересована в том, чтобы никто не ездил из Парижа в Ревель и обратно. Я был единственным военным, проникшим туда и обратно. Поручение Щербачёва относительно Геруа Юденич обещался исполнить. По просьбе капитана «Lake Fray» я попросил Юденича, чтобы за доставку американских грузовиков он дал бы этому капитану мелкий орден. Несмотря на то, что американцам запрещено принимать, а тем более – носить – иностранные ордена, капитан с этим приставал. Юденич согласился. Было решено, что я с ним приду на следующий день и его представлю. Он получил награду. С адъютантом я переговорил относительно того, как обставить мой приезд законным образом, не может ли штаб Юденича мне выдать какой-нибудь вид. Это оказалось настолько сложным при весьма натянутых отношениях штаба с Эстонским правительством, что адъютант настоятельно отсоветовал и уверял, что и так сойдёт. Действительно, вечером я вернулся на «Lake Fray» без инцидента. Елена приехала в Ревель, и я узнал обо всех ужасах, которые пережили члены моей семьи. Вот что случилось с моей семьёй, когда немецкие войска ушли и большевики нахлынули в Эстонию. Когда стало опасно оставаться в Ассике, все на санях или телегах поехали с вещами в (Юрьев) Дорпат <Dorpat>. Там заболела старшая дочь (Nora) моего брата (Егора). Елена решила с ней остаться, вместе с моей дочерью Ольгой. За примером Елены последовала моя мама, а за нею и дядя Карл с женой и мой зять Артур с дочерью. Егор с женой и младшей дочерью Бриттой, Фрида и Гюнтер перебрались в Ригу. Большевики нагрянули на Юрьев, нашли моих и, за исключением моей матери и дочери, всех посадили в подвал, из которого вытаскивали и расстреливали пленных. Остальные, в ожидании подобной участи, подвергались насмешкам и оскорблениям. Этому безобразию воспротивились бабы на рынках и устроили большевикам бой. Приостановив расстрелы, они спасли часть заключённых, ожидавших смерти. Самоохрана и эстонские белые части отогнали большевиков. Наши узнали от кучера, который приехал из Ассика с провизией для них, что в Ассике уже не было опасно, как в Юрьеве. Мои вернулись в Ассик, где было неспокойно, но где они не рисковали умереть с голоду. Егор с Маргаритой и дочерью и Фрида с Гюнтером при занятии большевиками Риги разъехались. Егор, забрав свои вещи на салазки, побежал на мост к Двине. Под пулемётным огнём, распростившись с женой, он побежал вперёд, потерял салазки с вещами, вскочил на подводу, с которой упал убитый пулей германский обозный и, взяв вожжи, доехал до Митавы, где встретил Фриду. Она нашла его в бессознательном состоянии лежащим на улице. Обогрев его и протерев ему тело, она его привела в чувство. Они добрались до Берлина, куда попал из самоохраны и Гюнтер. Жена, Софа <?>, долго сидела под властью большевиков – ей пришлось питаться одной крапивой. Она, наконец, выбралась с дочерью в Берлин. Таким образом, все члены моей семьи спаслись. В это время брат К.О. и сын Эдгара Гвидо были убиты в бою за обладание Ригой. Положение в Ассике было тяжёлое. Власти никакой не было. Ожидалось отчуждение собственности. Егор бедствовал в Германии. Мои дома в Ревеле, как и вся городская недвижимость, перестали давать доходы. Квартирная плата была зафиксирована ещё русским правительством по ценам 1914 года. Это было подтверждено Керенским и осталось в силе во времена немецкой оккупации. Так же и при самостоятельной Эстонии. Между тем, 1 эстонская марка, приравненная к русскому рублю и германской марке, равнялась тогда уже лишь 1/7 франка и продолжала падать. Вот та безотрадная картина, которая была у меня дома, в то время как в Париже выбрасывались Щербачёвыми миллионы эстонских марок. Как было обещано, я с капитаном на следующий день приехал к Юденичу, служа и тому, и другому в качестве переводчика. После торжественной передачи ничтожного ордена и слов благодарности мой капитан заявил, что докажет свою готовность служить С.-З. армии необычайным образом. Он узнал про безобразную поставку аэропланов англичанами и предложил за ничтожную сумму в 14-дневный срок доставить в самый Ревель не то 10, не то 15 аэропланов самой последней системы. Юденич заинтересовался столь важным перед выступлением вопросом. Капитан объяснил ему, что он уже сговорился с германской фирмой об этом, и что английское командование в Ревеле согласно закрыть глаза на это нарушение Версальского договора. Запросили англичан. Оказалось, что это правда. Через день Лианозов и начальник снабжения генерал Х. с одной и капитан – с другой стороны, опять-таки при моём содействии в качестве переводчика, заключили договор, согласно которому капитан брал с собой начальника воздухоплавательного отделения Штральборна в качестве стюарда. Штральборн должен был осмотреть аэропланы, дать шифрованную телеграмму из Берлина, и тогда в Стокгольме выплачивалась ½ стоимости для передачи заводу. Другая половина денег подлежала уплате при сдаче в Ревеле аэропланов. На расход капитан должен был получить 250 фунтов в Данциге. Во избежание мошенничества банк в Стокгольме должен был исполнить ордер, только если будет вставлено слово, известное лишь штабу и банку, но неизвестное капитану. Через несколько дней на «Lake Fray» прибыл Штральборн и занял место в моей каюте. Человек он оказался очень милый и порядочный. Мы с ним сошлись и подружились. У меня, однако, было предчувствие, что капитан затеял нечистое дело. Мы с Штральборном условились друг друга информировать телеграммами. Я был убеждён, что С.-З. армия потерпит крушение, и боялся за участь Ревеля. Поэтому я решил взять с собой моё серебро, уложенное в громадный деревянный ящик. Как же это было протащить через пост? Ясно было, что серебро эстонцы не выпустят. Я попросил адъютанта Юденича за ¼ часа до отхода «Lake Fray» подъехать в автомобиле к шпитфабрику, где был этот ящик, забрать его и полным ходом пройти через пост, рассчитывая, что пост не остановит военных. На «Lake Fray» мною было всё подготовлено, чтобы ящик поднять на борт. Там он немедленно исчез бы. В назначенный час я стоял в подъезде шпитфабрика в большом волнении. Что если пароход уйдёт без меня? Адъютант действительно опоздал, но всё же подъехал. Громадный ящик был взвален на автомобиль. Мы подоспели к пароходу в минуту отхода. Проскочили мы на полном ходу мимо часовых. В Данциге я купил два чемодана, переложил серебро в них и благополучно вынес из гавани через таможню. После неимоверных усилий мне удалось получить от американцев, а потом и от англичан, пропуск через их оккупационную линию на Рейне. Распрощавшись с моими американскими спутниками, я выехал в Берлин. Но предварительно я в Данциге убедился, что весь экипаж «Lake Fray» состоял из мошенников. В Берлине я у военного агента Бранта выяснил, что французской визы мне никак не достать, и решил ехать без визы, на основании английской, чего, как я потом судил неоднократно, было достаточно. Тогда же мне это казалось слишком рискованным. Я запросил Щербачёва. Тут же я написал Щербачёву доклад обо всём, что я видел, сущностью которого было, что С.-З. армия непременно обречена на гибель и что Англия делает всё, чтобы её погубить. Перед отъездом я зашёл в гостиницу, где жил Штральборн. Тут я нашёл его, представителя аэропланной фирмы и капитана в страшном волнении: деньги в Стокгольмский банк не были внесены. Фирма отказывалась выдать аэропланы. «Lake Fray», на которую капитан собирался погрузить аэропланы противозаконным образом (все немецкие суда отказались взять военный груз из Германии в Эстонию: это было против Версальского договора), не могла откладывать рейса, предписанного «Food commission». Капитан заявил, что он в таком случае бросает Штральборна в Германии и, забрав свои 250 франков, отказывается от дела. Все набросились на меня, умоляя их спасти. Я всё же отказался бы, если бы не два соображения. 1)Риск не быть пропущенным через Рейн. <2) вычеркнуто редактором> Наконец, в Ревеле меня просили, если я паче чаяния не уеду по железной дороге, а вернусь обратно в Ревель, привезти для Красного Креста медикаменты из Германии. Я ведь предпринял эту утомительную и рискованную поездку, чтобы из Ревеля привезти деньги и стать в Париже на собственные ноги. Вместо этого я нашёл дома ещё более, чем моё в Париже, тяжёлое положение. Так я возвращался с пустыми руками, если не считать деньги Щербачёва, которые я взял с собой. Но то были русские царские рубли, т.е. ничтожная сумма, из-за которой поездка не могла считаться успешной. Переменив планы и оставив серебро у Фриды, я поехал закупать медикаменты. Вышло запрещение продавать таковые за границу. Пришлось отыскать аптекаря, который согласился. Тот содрал с меня втридорога. Медикаменты были уложены в чемоданы. Я на автомобиле в сопровождении Фриды их доставил на вокзал. Весь вопрос был не будет ли ночью ревизия вещей. Мне повезло. Часть чемоданов я отдал в багаж. Когда я в Данциге, где бывал менее строгий контроль, пошёл получать их из багажа, я к своему ужасу увидел рядом с моим чемоданом лужу лекарственной жидкости. Помимо того, края чемодана были в проникшем изнутри белом лекарственном порошке. Чемоданы лежали на самом видном месте! Один из чиновников ходил кругом и с подозрением смотрел на чемодан. Я въехал в Германию без визы, а тут такая штука! Я побежал на улицу, нашёл какого-то мальчика, пришёл с ним обратно, навалил на него два чемодана и с двумя другими вышел на главную улицу. Но идти дальше было невозможно, т.к. выливающаяся жидкость должна была попасть на остальные медикаменты и испортить всё. Я втащил чемодан в ворота обождать и поехал купить новый чемодан, чтобы переложить в него неиспорченное. Прибегаю обратно и обнаруживаю, что не приметил номер дома, где оставил мальчика. Мальчик мог уйти и украсть вещи. Но я его, к счастью, нашёл и без дальнейшего инцидента переложил вещи. От моих чемоданов пахло страшно. Идти так на таможню значило попасться. Я взял номер в гостинице и сказал, что я доктор, чтобы предупредить вопрос о запахе. Хозяин решил использовать столь удобный случай, чтобы получить рецепты на все болезни для себя и всех знакомых и родственников. Положение моё делалось весьма неприятным. Как я, наконец, оттуда выбрался и доставил вещи на пароход – я забыл, только помню, что это было сопряжено с величайшим риском. Когда я очутился в конце концов на пароходе, я почувствовал, что совершенно истрепал свои нервы. Меня ожидали сюрпризы, каких и свежий человек не выдержал бы. Я узнал из достоверного источника, что капитан с участием всех чинов «Lake Fray» украл значительную часть казённого американского груза и продал его частным лицам в Данциге. Когда это выяснилось и я хотел слезть, поручив купленное старшему «офицеру» с просьбой продать всё Балтийскому Красному Кресту, на пароход поднялся капитан с девицей – писаной красавицей – и приказал отчалить. Допущение на казённый пароход девицы указывало на то, что капитан решился на что-то отчаянное. Этот поступок обеспечивал ему судебное следствие и тюремное заключение. Я не сомневался в том, что капитан, бросив Штральборна в Германии, постарается получить деньги для расплаты не с фирмой, а для себя лично, и со своей возлюбленной исчезнуть. В Ревеле капитан меня потащил к Начальнику снабжения для перевода его претензии. Т.к. он ни слова не понимал, то я, делая вид, что перевожу, с подходящим выражением лица рассказал отдельными фразами, что я знаю. Отказаться от условия нельзя было. Капитан в своё время обеспечил себя гарантиями, коих терять было невозможно. Я указывал на отсутствие средств доставки аэропланов и на противозаконность погрузки на казённый американский пароход. Начальник снабжения на это ответил не без основания, что это дело капитана, - он пускай разбирается со своим начальством, как хочет. В результате задержка в деньгах, происшедшая из-за каких-то общих правил со всеми кредитами С.-З. армии, была устранена, и деньги должны были поступить в Стокгольмский банк. Это случилось, когда мы уже вышли из Ревеля в один из финляндских портов. В Ревеле я с помощью английских солдатшофёров вывез свои медикаменты, но Красный Крест сказал, что они слишком дороги, несмотря на представление счетов. Я накинул лишь 10%. Моё требование считаю скромным, если прописать в расчетах риск. Мне пришлось всё оставить в Ревеле фирме Трийблют, благодаря чему я остался без денег. Всё было рассчитано на эстонские деньги по твёрдым ценам. Трийблют уплатил за всё это через много месяцев, когда эстонская марка упала в 10-20 раз. Таким образом, моя спекуляция кончилась потерей всех денег. Деньги пошли на уплату моих закладных в Ревеле, тоже упавших вместе с валютой, - таким образом, это было не так обидно. В Ревеле я с помощью англичан забрал свои ковры на «Lake Fray». Англичане не выгрузили все вещи, а оставили у себя в автомобиле самые лучшие два ковра и одну портьеру ценою в четыре тысячи франков. Я ехал с ними обратно в город. Когда я наклонялся вперёд, чтобы разговаривать с шофёром, его помощник, привставая, закрывал своей спиной краденые ковры. Я обнаружил кражу лишь на следующий день, когда мы уже вышли в море. Т.к. капитан сносился английскими телеграммами, то я ему не нужен был в качестве переводчика. Я, следовательно, не знал, как обстоят переговоры. Вдруг я случайно пронюхал, что капитан покидает «Lake Fray» и уезжает. Догадаться было нетрудно, что он бросает «Lake Fray», едет со своей девицей в Стокгольм и забирает там деньги (очевидно, состоялось какоето соглашение, которого я не знал) – и потом исчезает. Я побежал на телеграф и послал нашему поверенному в Стокгольме телеграмму, другую – в Ревель Начальнику снабжения, третью – в Берлин Штральборну, предупреждая их о намерениях капитана. Но телеграммы могли запоздать, а капитан мог приехать в Стокгольм через 12 часов. Я решился на действенное средство. Воспользовавшись минутой, когда девица была одна, я к ней подошёл и сказал ей, что имею ей сказать важную вещь. Она была удивлена. В несколько минут я ей сказал, что все их планы известны, что финляндская, шведская и русская полиции следят за каждым шагом известного вора, капитана, что они будут на днях арестованы в то мгновение, когда капитан с ней поедет в Стокгольм получать краденые деньги, и что я, чувствуя к ней симпатию, желая её спасти от верного позора, советую ей отказаться от брака с этим мошенником и уехать в свой родительский дом, который она иначе опозорит навсегда. Она стала трястись всем телом и, схватившись за мою руку, умоляла её спасти; она говорила, что сама чувствовала, что тут что-то нечисто, но что она верила капитану; теперь же ей стало всё ясно. Меня она клялась никогда не забыть и всю жизнь быть мне благодарной. Я потребовал, чтобы она неожиданно заявила бы капитану, что она поедет не сегодня, а лишь завтра, и завтра сядет на пароход, уходящий в Германию, а не на железную дорогу в Стокгольм. Ночью между ней и капитаном произошла драма. На следующий день она села на пароход, сопровождённая капитаном и мной. Хороша история! Для меня дело приняло серьёзный оборот. Капитан, чтобы уехать, должен был поделиться краденым со старшим «офицером», который с его отъездом должен был принять начальство над оставленным пароходом. Чтобы не иметь свидетеля происшедшего, капитан поручил этому старшему офицеру меня удалить. Тот позвал меня к себе в каюту и сказал мне: «Милостивый Государь. Нам известно, что Американское правительство оказало Вам любезность, допустив Вас на борт американского парохода для поездки в Ревель и обратно. Вы после этого слезли в Данциге и получили визу для возвращения в Париж. Не откажите мне сообщить, на каком основании Вы находитесь вновь на этом пароходе, кто Вам это разрешил, и в случае, если такового распоряжения моего правительства не имеется, то не откажите оставить пароход». Хорош я был бы в Финляндии без гроша денег (за исключением Щербачёвских царских рублей, не имеющих никакой цены) и без визы или какой-либо бумаги, уполномочивающей моё пребывание в Финляндии или возвращение во Францию! Действительно, бумагу Американской «Food commission» о том, что мне надлежит отправиться в Ревель и на пароходе же – обратно, имел в руках капитан, а не я. Но когда мы выезжали из St.Nazaire, с нами ехал американский офицер, которому было поручено оказать мне всяческое содействие. В Гамбурге он неожиданно получил телеграмму, отзывавшую его а Америку. Я тогда, обеспокоенный его отъездом, попросил у него две бумаги – одну мне, а другую – американскому начальнику в Ревеле. В них он и сообщал о приказании меня доставить обратно во Францию на «Lake Fray». Конечно, старший офицер мог не признать этой бумаги и меня высадить, но тут мной были приняты другие меры, очень энергичные и решительные. Тут вопрос шёл о том, быть мне или не быть. Первое, что надо было сделать, - помешать капитану уехать, т.к. он один отвечал за мою доставку обратно. И сделал я это следующим образом. В Данциге, после обнаружения кражи части груза, местный отдел «Food commission» посадил на «Lake Fray» своего человека для «сопровождения» своего груза. Я понял, что в нём моё спасение. Подружившись с ним с самых первых дней так, чтобы никто нас не видал вместе, я теперь рассказал ему про всё дело с аэропланами, про намерение бегства, про историю с девицей и попросил немедленно со мной поехать в Гельсингфорское отделение «Food commission», доложить обо всём, представить меня и арестовать капитана. Мы так и сделали. В результате капитан был лишён возможности покинуть пароход и должен был ехать обратно в Ревель для отдачи показания на назначенном по его делу следствии по поводу несвоевременного выхода в море в Данциге. В Ревель же была послана телеграмма с просьбой меня принять в «Food commission» и меня выслушать. Как бы это всё скрытно ни делалось, но капитан догадывался, что дело веду против него я, - он меня встретил с агентом в то мгновение, как мы вместе вышли из телеграфного отделения, резко остановил меня и спросил, что я тут делаю. – «Я послал телеграмму своей жене». Но он был не дурак; агент не случайно было шёл со мной. Я знал, что в Ревеле конец моему пребыванию на «Lake Fray» и решил в таком случае пойти на рискованное дело. У меня был друг, матросамериканец с Сандвичевых островов, единственный честный человек на пароходе, и агент. Если капитан меня высадил бы, то я решил спрятаться в трюме, где мой друг мог меня кормить до Данцига, а в Данциге я мог воспользоваться прежним пропуском и поехать через Рейн. В Ревеле я вместе с агентом попал на Вышгород в «Food commission», и мы обсудили, что делать. Т.к. пароход должен был зайти в Ригу, а не в Данциг, как мы думали, а оттуда в Лондон, где должен был состояться суд над капитаном, то американцы дали мне бумагу в «Food commission» в Риге с просьбой меня принять и оказать мне содействие. Как я и предвидел, капитан в Ревеле заявил мне, что он должен меня оставить в Ревеле для дальнейших переговоров, пока аэропланы не прибудут. Но я лишил его этого предлога, пригласив Васю Валя, который принял на себя обязанность действовать в Ревеле за меня. Это было столь неожиданно для капитана, что он потерялся. Я поехал дальше. Но для капитана было ясно, что я ни в коем случае не должен был доехать до Данцига или Лондона, ведь я же был единственным свидетелем, который должен был погубить его. Я знал, что со мной должно было случиться что-то катастрофичное, и следил за всем, что брал в рот, на подходах к борту и старался сидеть у себя в каюте. О грозящей мне опасности меня предупредил агент, не имевший во время переездов средств оказать мне содействие. Для смены положения остановлюсь на том хаосе, который тогда царил. С.-З. армия, не будучи подготовлена и не имея нужных снарядов и технических средств, была вынуждена англичанами двинуться на Петербург, причём английский флот должен был, по обещанию, данному Юденичу, принимать участие, действуя на Красную Горку и на Кронштадт. В это время отряд Вермонта, входивший (на бумаге) в состав армии Юденича, был Англией поставлен в такие условия, что устремился на ближайшего врага – латышей, которые должны были действовать против большевиков, и, таким образом, имелся (для англичан) предлог повернуться тылом к России и фронтом – на Вермонта. Английский флот вышел в море, но там, как я далее расскажу, получил приказание не содействовать С.-З. армии. Как я доложил в своё время Щербачёву и сказал Сазонову, Англия таким образом создала и использовала условия, обеспечившие одновременно ослабление Советской России на пользу окраинных государств, и в то же время уничтожала добровольческое движение и этим освободила окраинные государства от остатков русского влияния, отдав их в руки Англии. Армия Юденича была уничтожена большевиками, а отступающие части были, по указанию Англии, обезоружены эстонцами, увезены в лагеря и исчезли. Т.к. с Вермонтом дело было сложнее и латыши должны были защищаться на два фронта, то Англии пришлось вмешаться с оружием, и для политической пропаганды она привлекла к этому и французов. Союзники, таким образом, под предлогом, что вермонтовщина преследует цели германской политики, напали на последние остатки русских добровольческих частей на севере и их уничтожили, и одновременно была объявлена блокада Германии. В тот день, когда мы вышли из Ревеля на Ригу, уже обозначился катастрофический исход наступления С.-З. армии на Петербург, и было известно, что наступление Вермонта на Ригу, которая обстреливалась артиллерией и систематически разрушалась снарядами, в полном разгаре. В американской «Food commission» поэтому были почти убеждены, что отдел «Food commission» в Риге покинул Ригу, но, указав об этом в Лондон для изменения рейса «Lake Fray» , не получили ответа и, боясь ответственности, не пустили нас в город, где кипел бой. Всё это создавало условия, при которых с русской, да и вообще с человеческой жизнью можно было не считаться. Голод заставлял, однако, меня выйти в столовую и попросить стюарда дать мне что-то поесть. Об этом сообщник сейчас же доложил капитану, и он пришёл, сел рядом со мной и начал разговор. Я знал, что сейчас будет нечто решительное. И, действительно, капитан сказал мне, что он знает, что у меня английские фунты, которые ему завтра нужны в Риге, и просит меня их ему одолжить. Никаких фунтов у меня не было. Я так ему, конечно, и сказал. Тогда он созвал в кают-компанию массу уже подговорённых им помощников и, указывая на меня пальцем и неистово ругаясь, сообщил им, что он возит такого негодяя, как меня, целых два месяца, и что я в ответ на это осмелился его, капитана, оскорбить, отказывая в доверии на какие-то гроши. Я вынул кошелёк и, положив его на стол, сказал: «Напротив, милый капитан, я вам доверяю все свои деньги», - и вышел в свою каюту (и заперся на замок, взяв револьвер в руку), воспользовавшись мгновениями смущения. Утром мы подошли к обстреливаемой Вермонтом Риге. Агент быстро побежал в «Food commission» и привёз двух американских офицеров. Они меня посадили в автомобиль и повезли меня по обстреливаемому артиллерией городу к себе. В то мгновение, как я сидел, окружённый американцами, и рассказывал им обо всём, неожиданно открылась дверь и в ней показался капитан, остолбеневший при виде меня. Его попросили уйти в другую комнату. Решено было взять все мои вещи (в том числе громадные тюки с коврами) на следующий день в «Food commission»; отчего не сразу, - я не помню, но это почему-то было невозможно, и я вернулся на пароход, что, конечно, было неблагоразумно. Капитан, вернувшись на «Lake Fray» , попросил меня зайти к нему и тут у себя в каюте полез на меня с кулаками. Но уже команда знала, что я победил и что власть у меня в руках, а не у капитана, который попадёт под суд; и капитан знал, что он один против меня, и, побесновавшись и попрыгав, опустил кулаки и в бессилии бросился на кресло. Я спокойно вышел к себе в каюту, но весьма был счастлив, когда после бесконечного ожидания на следующий день подъехал автомобиль и я, не прощаясь ни с кем, был со всеми вещами увезён в охваченный громом боя город. План капитана вызвать инцидент и въехать в Ригу, где, как он был убеждён, не будет «Food commission», и сдать меня латышам на расстрел (он прекрасно знал политическое положение), не удался, и я оказался совершенно неожиданно для него спасённым. Но что же будет дальше со мной?? «Lake Fray» был последний американский пароход, ушедший без меня. «Food commission» прекращала свою деятельность. Рига находится в руках латышей, стоящих в смертельном бою с русскими, поддержанными немцами. Всё сообщение в руках англичан, а как они содействуют русскому офицеру сообщаться или проезжать в пределах их территории или власти, - я знал точно. На что мог рассчитывать я дальше? Иногда мне казалось, что уже дальше ничего быть не может, иногда же я брал себя в руки и старался себе внушить, что я могу бороться, т.к. я могу создать положение, в котором я буду нужен американцам, - ведь с человеком считаются и только считаются, когда он нужен. А ведь капитан украл груз в Данциге. Доказательства были у американцев, также было ясно, что мы не выехали своевременно из Данцига в ожидании аэропланов и что мы везли девицу. Но живого свидетеля у них не было. Вот я и понял, что только это может меня спасти. И, говоря обо всём случившемся, так излагал факты, что заставлял их нуждаться в моих личных, а не письменных показаниях, которых я всячески избегал, всё время подчёркивая, что я это лично скажу на суде. Т.к. суд над капитаном должен был произойти сейчас же после его прибытия в Лондон, а он в Лондон должен был прибыть через неделю, то я и настаивал, чтобы американцы в своих интересах меня отправили бы в Лондон, откуда я, конечно, уже знал, как выбраться в Париж без всяких бумаг: слишком часто я там ездил. Американцам всё возможно, но это организовать и им оказалось крайне трудно, т.к. единственное средство выезда из Риги в те дни боя были английские миноносцы. Предвиделся бой у Либавы. Все силы англичан сосредоточивались именно туда, и никакие суда дальше не шли. Тогда американцы решили послать меня в Либаву и поручить тамошнему «Food commission» выхлопотать мне быстрое дальнейшее движение. При таких обстоятельствах возможны всякие случайности. Я потому обзавёлся в них целым рядом писем и записок. Случай мне благоприятствовал. Меня устроили американцы в доме их Управления, где жили и две дочери князя Ливена – воспитанные, милые, красивые барышни, столовавшиеся вместе с американцами, как и я. Тут в Ригу приехал американский военный агент и обедал с нами. Весьма заинтересованный моим взглядом на положение в России и роль англичан, - я знал, что с американцами <оправдан> расчёт говорить весьма откровенно про англичан, - он попросил меня в Копенгагене остановиться и зайти к американскому послу и высказать ему то, что я думаю о положении. Я попросил соответствующие lettres d’introduction и после этого сразу почувствовал некоторую почву под ногами, т.к. там упоминалось об исключительном содействии для показания на суде по делу капитана. Лишь бы добраться до Копенгагена, а там я имел за что уцепиться. Английский миноносец, который согласился меня доставить в бой под Либавой, нашёлся, но я настаивал, чтобы капитан обещался бы мне, помимо местного Либавского американского заступничества, отправить меня из Либавы в Копенгаген на первом туда направляющемся пароходе. Вещи мои американцы (в том числе все громадные тюки с коврами) тоже направили на миноносец. Но тут дело оказалось не так просто, как я думал. Весь берег обстреливался Вермонтом, и катер, который шёл ½ часа по Двине до миноносца, находился под самым действительным артиллерийским огнём. Со мной ехала какая-то дама и молодой человек, – тоже почему-то на миноносец, - которые высунули головы из каюты катера и с ужасом смотрели на взрывы попадающих то впереди, то сзади, то сбоку катера снарядов, некоторые – в 2-3-х шагах. Но, к счастью, стрельба шла гранатами, и нужно было попадание в самый борт, чтобы нас потопить, вместо того, чтобы пустить несколько шрапнелей, чего было достаточно, чтобы убить механика и капитана. Я сидел в каюте, закутавшись в свой полушубок, т.к. на Двине был ледоход и страшный холод, и думал о том, как глупо благополучно проделать войну, избежать общей участи гибели от большевиков и тут в конце 1919 года быть пущенным к ледяному дну русской гранатой. Под сильным огнём мы пристали к миноносцу и вылезли. Оттуда шла, в свою очередь, канонада по Вермонту, тоже положение, для меня не лишённое оригинальности. Только на следующее утро мы вышли на Либаву, и тут для меня был решающим вопрос, высадят ли меня или увезут нас сразу на другой миноносец, который находился в бою. Это был день атаки Либавы Вермонтом, когда английский и французский флот расстреливали наши чудные пластунские батальоны, уничтожив в некоторых ротах весь состав казаков. Артиллерия Вермонта стреляла хорошо и даже потопила миноносец, и одним снарядом убило 8 французов на другом миноносце. Вообще попадание снаряда в борт ниже ватерлинии обозначает потопление его, т.к. переборок в миноносце нет. Проделав весь бой под Либавой, где нельзя было сообщаться с «Food commission», я после томительной неизвестности узнал, что мы идём на Копенгаген. Если приговорённый к смерти узнаёт о помиловании, то должен испытать то чувство, которое мной овладело. При ясной, холодной погоде миноносец, разрезая волны, увозил меня от гибели к жизни. Дальше мне было обещано содействие. Нас, однако, предупредили, что миноносец идёт только до Копенгагена. Тут все ехавшие на миноносце пассажиры (было около 10 человек) были доставлены на берег с вещами, и я, благодаря какому-то предчувствию, попросил свои вещи оставить на миноносце. В Копенгагене мы пошли узнавать об отходящих пароходах на Англию и неожиданно все оказались арестованными. Потребовали от нас предъявления датских въездных виз и сообщили, что всех прибывших без визы отправят обратно, откуда приехали. Я объявил, что я принадлежу к составу служащих агентов на английском миноносце и лишь пришёл на берег для сопровождения русских беженцев. Мне такая выдумка не удалась бы, но со мной в билетную кассу пошёл настоящий англичанин, Mister Addisson, действительно имевший бумаги, который оказался настолько благороден, что подтвердил мои лживые слова; нас двух схватили, посадили в лодку и повезли обратно на миноносец, там же были и все мои вещи. Дело сильно осложнилось. <Но> произошло событие, о котором ни один писатель приключений не посмел бы написать по степени невероятности. Жизнь не раз проделывала с людьми фокусы. В моей жизни ничего до сих пор случавшееся с этим не может сравниться. Рядом с миноносцем стояло английское сторожевое судно «Sandhorst». На нём был полицейский английский пост. Я, в своём отчаянии, зная, что некоторые русские уже ½ года ждут визы, попросил капитана спровадить меня на это судно, чтобы помочь мне изыскать средство добраться без бумаги до Англии, т.к. на берег сойти и просить содействия Американского посла было невозможно. Капитан согласился, и мы с моим новым другом, англичанином Addisson’ом поехали на «Sandhorst» к английскому начальству. Я рассказал ему необходимость быть срочно на суде в Лондоне, но т.к. это было дело американское, то англичанин слушал одним ухом, и я видел уже готовый отказать во всём его жест. Наконец, я вытащил своё предписание штаба Щербачёва, написанное на французском языке, и сказал, что я генерал Валь, зная, конечно, что это ничего для того не значит, а в руках английского министерства лишь обеспечило бы мне верный отказ в пропуске. Но я надеялся повлиять на офицера своим генеральским чином, прописанным в предписании. Тут неожиданно вдруг изменилась физиономия моего собеседника. Видно было, что он был потрясён, потом он вдруг протянул мне обе руки и высказал свою чрезвычайную радость, что я наконец приехал. Моё удивление шло крещендо по мере того, как я узнавал подробности и никак не мог сопоставить их с действительностью. Вот что случилось. Когда я 1 ½ месяца тому назад хотел ехать из Берлина через Рейн на Париж, я послал об этом телеграмму жене. Щербачёв, больше всего боявшийся подозрений в сношениях с Германией, немедленно дал мне телеграмму, чтобы я ни в коем случае не ехал в его штаб прямо из Германии, а направлялся бы через Копенгаген, где мне дальнейшее путешествие обеспечено. Я этой телеграммы, вследствие отъезда в Данциг, не получил. Одновременно Щербачёв обратился к Спирсу с просьбой оказать решительное содействие тому, чтобы меня из Копенгагена направили бы в Англию и дальше <во> Францию. Спирс, зная, что проделало со мной английское военное министерство, и симпатизируя мне лично, а также желая оказать любезность Щербачёву, телеграфировал энергичное требование прямо в своё адмиралтейство, а последнее, не запросив министерства, дословно послало распоряжение в Копенгаген, откуда оно попало на сторожевое судно, передававшее всякие распоряжения адмиралтейства. Честный служака, капитан «Sandhorst’а» первое время ждал, что к нему явится этот самый генерал Валь, но увидев, что его нет и что он, таким образом, не исполняет данного ему поручения, начал искать тщетно этого загадочного человека. Запросив во всех портах и получив ответ, что такого не знают, он уже решил запросить Адмиралтейство. А тут вдруг явился я сам. Его радость была чрезвычайна. Он мне сообщил, что все английские броненосцы и суда в моём распоряжении, - и я могу на любом поехать за счёт английской казны, но тут же добавил, что, к сожалению, раньше двух недель не будет отправлений на Англию, и предложил мне у него пожить это время. Я этого не пожелал и попросил меня за мой счёт устроить на пассажирский пароход и вместо визы взял распоряжение Адмиралтейства, зная, что в Английском консульстве в Копенгагене начнут спрашивать, как и что, если я попрошу визу даже через S…<нрзб>, и в результате я не получу её. Билет мне был сейчас же взят, и на следующее утро мне подали отдельный маленький пароход и отправили на пассажирском пароходе на Hull вместе с моим другом Addisson’ом. Т.к. этот пароход немного запоздал, то мы второпях не убедились, что механик знает, куда ехать. На «Sandhorst’е» тоже не знали. Надо было спросить. Никто по-датски говорить не мог. Механик повёз нас в обратном направлении. Посмотрев на часы, я увидел, что опоздал, а ведь у меня уже денег не хватило на билет, очень дорогой, и я истратил часть царских денег Щербачёва. Билет же терял силу с уходом парохода, и деньги пропали бы. Когда мы обнаружили, что ошиблись, то по времени было уже поздно. Начался сильнейший ветер прямо в лицо. Мне кажется, что я редко так волновался, как тогда, разве при скачке в Швеции, когда мы ехали рядом с курьерским поездом. Но в бухте мы увидели дым дымящегося парохода на пристани. Нас подняли и ковры мои забрали, и мы поехали по чудесным, но ледяным датским берегам. В море нас буря трепала так, как я этого ещё не видал. Мы прибыли в Hull, где моего адмиралтейского пропуска не признали. Я был в отчаянии, но английский чиновник оказался человеком с доброй душой, и меня впустили В Лондоне я оставил свои ковры в клубе Addisson’а и, за неимением места в гостинице и денег, поехал к коменданту Victoria Station, как я это делал всегда. Он устроил мне комнату в военном бараке. Но тут я чем-то вызвал подозрение. У меня похитили револьвер и все мои бумаги. Подумавши основательно о положении, я вышел к американцам и заявил, что по делу капитана Martin’а все показания буду давать не я, уже отставший от событий, а Штральборн, который официально заведует этим вопросом, и на следующий день проехал в Париж, где встретил всех в живых, но где началась та драма, которая кончилась моим разводом. Об этом напишу в следующей книжке, если до того доживу. Следующий том №10: 1919-1922 украден германскими офицерами в 1945 г. в Кенигсберге. Я вкратце воспроизвёл его содержание на немецком языке за неимением русской пишущей машинки. 1948 г. Подпись Э. фон Валь.