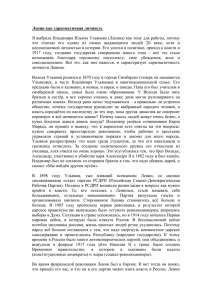ИЗ ЧЕГО СДЕЛАН ЛЕНИН В «ВЫСОКОЙ БОЛЕЗНИ»
advertisement

Анна Сергеева-Клятис (Москва), Олег Лекманов (Москва) ИЗ ЧЕГО СДЕЛАН ЛЕНИН В «ВЫСОКОЙ БОЛЕЗНИ» ПАСТЕРНАКА? ИЗ КОММЕНТАРИЯ К ПОЭМЕ Тема «Ленин и Пастернак» была подробно и всесторонне рассмотрена в специальной работе Л. С. Флейшмана1. В нижеследующей статье мы попытались сделать некоторые дополнения и уточнения к этому содержательному исследованию. Один из самых нестандартных литературных портретов В. И. Ленина советского времени был создан Б. Пастернаком во второй редакции поэмы «Высокая болезнь». Эта, увидевшая свет в 1928 г. (Новый мир. №11), редакция пастернаковской поэмы завершается развернутым (48 строк) изображением вождя. Все остальные образы «Высокой болезни» «отступают в тень, чтобы высветить только двоих — Автора и Ленина. Созерцателя и Делателя»2. Чем мне закончить мой отрывок? Я помню, говорок его Пронзил мне искрами загривок, Как шорох молньи шаровой. Все встали с мест, глазами втуне Обшаривая крайний стол, Как вдруг он вырос на трибуне, И вырос раньше, чем вошел. Он проскользнул неуследимо Сквозь строй препятствий и подмог, Как этот в комнату без дыма Грозы влетающий комок. Тогда раздался гул оваций, Как облегченье, как разряд Ядра, не властного не рваться В кольце поддержек и преград. И он заговорил. Мы помним И памятники павшим чтим. Но я о мимолетном. Чтó в нем В тот миг связалось с ним одним? Он был как выпад на рапире. Гонясь за высказанным вслед, Он гнул свое, пиджак топыря И пяля передки штиблет. Слова могли быть о мазуте, Но корпуса его изгиб Дышал полетом голой сути, Прорвавшей глупый слой лузги. И эта голая картавость Отчитывалась вслух во всем, Что кровью былей начерталось: Он был их звуковым лицом. Когда он обращался к фактам, То знал, что, полоща им рот Его голосовым экстрактом, Сквозь них история орет. И вот, хоть и без панибратства, Но и вольней, чем перед кем, Всегда готовый к ней придраться, Лишь с ней он был накороткé. Столетий завистью завистлив, Ревнив их ревностью одной, Он управлял теченьем мыслей И только потому — страной. 2 Я думал о происхожденьи Века связующих тягот. Предвестьем льгот приходит гений И гнетом мстит за свой уход. (Пастернак. I, 259 – 260) Из каких составляющих фрагментов складывается в «Высокой болезни» мозаический ленинский портрет? Цель нашей заметки — ответить на этот вопрос. Начнем с фактов. По-видимому, Пастернак имел возможность долго и пристально наблюдать Ленина воочию только один раз — на IX Съезде Советов. Съезд проходил с 23 по 28 декабря 1921 г. в Москве, в Большом театре. Финал «Высокой болезни» изображает вождя, читающего доклад о международной и внутренней политике Советской России. Его Ленин сделал поздним вечером 23 декабря, в первый день работы съезда. Вполне очевидно, что Пастернак посетил съезд именно в этот день, а не «сутки на вторые» (как поэт мистифицирует читателя в «Высокой болезни»), потому что главным его впечатлением от съезда стала именно ленинская речь. Маловероятно, что Пастернак писал о ней, основываясь на газетных отзывах, опубликованных позднее — 24 и 25 декабря. Из пастернаковского описания со всей ясностью следует, что он видел и слышал главного оратора съезда лично. Гостевой пропуск, по которому поэт прошел в зал заседаний, был предоставлен его семье художником И.И. Бродским. Бродский познакомился с Л.О. Пастернаком, задолго до революции, они оба участвовали в Товарищеских передвижных выставках. Специализируясь после 1917 г., в основном, на портретах большевистских лидеров и уже умея оценить всю выгоду этого положения, Бродский пытался привлечь приятеля к сходной работе. Аналогичное предложение последовало и от представителей новой власти. Художник согласился и сделал несколько рисунков в Кремле во время заседаний различных комитетов, комиссий и советов. Среди них — одна из зарисовок, которую Л.О. Пастернак сделал в 1921 г., незадолго до своего отъезда в Германию, изображающая Ленина. В семье художника к вождю мирового пролетариата относились в это время более чем лояльно. Много лет спустя об этом вспоминала сестра поэта, Ж. Пастернак: «… Отец не был социалистом, хотя и восхищался Лениным. В Ленине он видел что-то аристократическое. Ленин был представителем настоящего российского дворянства. Об этом говорили его манеры, движения, естественность, даже звук его голоса и произношение. Также особое чувство юмора и какое-то добродушие, отличавшее его от других революционеров. Он живо на все реагировал, не следовал какой-то определенной доктрине, избегал скучной тенденциозности: гениальный человек»3. Мы не знаем наверняка, предназначался ли пропуск в Большой театр для отца, уже покинувшего пределы Советской России, или И.И. Бродский решил предоставить возможность стать свидетелем этого исторического события сыну. Так или иначе, на открытие IX Съезда вместо художника отправился поэт и оставил для нас портрет Ленина, но выполненный не красками, а словами4. 1. Первый слой, который легко выявляется в ленинском портрете, — уже канонические для словесных изображений Ленина той поры приметы его облика и языковой манеры, а, именно: картавость, наклон корпуса вперед, и привычка закладывать пальцы за жилет или пиджак. Последняя из перечисленных примет описывается, например, в зачине девятой главки «Уляляевщины» (1924) Ильи Сельвинского, начинающейся с упоминания о IX Съезде Советов: Ильич шагал по ковру, Стараясь ступать по линии клеток, 3 Засунув пальцы лапчатых рук За проймы губсоюзского жилета… Сравним в «Высокой болезни»: «Он гнул свое, пиджак топыря…». Ходовая деталь, часто использовавшаяся прозаиками и поэтами, писавшими о Ленине — это несоответствие его более чем скромного облика его же внутренней мощи. Об этом афористически писал Маяковский в поэме «Владимир Ильич Ленин» (1924): Ведь глазами видел каждый всяк — «эра» эта проходила в двери, даже головой не задевая о косяк. И: Сюда с того конца коридорища бочком пошел незаметный Ленин. Сравним в «Высокой болезни»: «Как вдруг он вырос на трибуне, // И вырос раньше, чем вошел. // Он проскользнул неуследимо // Сквозь строй препятствий и подмог…»5. Еще сравним в статье видного журналиста Петра Александровича Подашевского «На съезде (впечатления)», напечатанной в «Правде» от 25 декабря 1921 г. и посвященной преимущественно портретированию Ленина, выступающего на IX Съезде: «Не только содержание речи захватывает слушателей, захватывает еще и самая манера Ленина говорить <...> Ленин настолько весь ушел в историю, стал исторической фигурой, так растворился в мировых легендах, из человека превратился в тип, в идею, просто в термин, что иногда видя и слушая его не верится, что это “сам Ленин” <...>. От всей фигуры Ленина, от всей его своеобразной манеры говорить отдает Россией, черноземным полем, лесом и весь он напоминает лесной “боровик”, — гриб коренастый, крепкий, плотно сидящий в земле, гриб стойкий <...> Опасный это оратор для противника, может легко переломать у него все взгляды и даже изувечить его убеждения»6. Заметим, впрочем, что своими впечатлениями от выступления Ленина Пастернак, в отличие от Подашевского, поделился с читателем не по свежим следам событий, а только через 7 лет. Отчасти сходным образом поступил и Н. Асеев, который в своей октябрьской «Поэме» (1927) перечислял важнейшие события прошедшего семилетия: За эти семь лет — качнуло Японию, умер Ленин. Напомним, что описание страшного японского землетрясения 1923 года в качестве важнейшей приметы времени предшествует в «Высокой болезни» ленинскому фрагменту7. 2. 4 Второй слой цитат в портрете вождя из «Высокой болезни» — это автореминисценции, в первую очередь, из стихотворения «Русская революция» (1918), в котором напористый ленинский монолог стилизуется интонационно: Он, — «С Богом,— кинул, сев; и стал горланить,— к черту! — Отчизну увидав: — черт с ней, чего глядеть! Мы у себя, эй жги, здесь Русь, да будет стерта! Еще не все сплылось; лей рельсы из людей! Лети на всех парах! Дыми, дави и мимо! Покуда целы мы, покуда держит ось. Здесь не чужбина нам, дави, здесь край родимый, Здесь так знакомо все, дави, стесненья брось!» (Пастернак. II, 225) В этом стихотворении, написанном по живым впечатлениям от только что совершившихся исторических событий, тишина ранней весны 1917 г. («а здесь стояла тишь») была сочувственно противопоставлена громогласным призывам Ленина («стал горланить»): бескровная февральская революция — кровавому Октябрю8. Начиная с «Русской революции», Ленин в произведениях Пастернака, в том числе и в «Высокой болезни», представлен прежде всего своим «голосовым экстрактом». Автор описывает в большей степени звучание ленинской речи («голая картавость», «звуковое лицо» фактов, «полоща им рот», «история орет»), чем ее содержание: «слова могли быть о мазуте» — в докладе Ленина на IX Съезде, действительно, был весьма обширный фрагмент, посвященный топливной промышленности, но среди разных видов топлива мазут не назывался. «Голосовой экстракт Ленина стал звуковым лицом событий, происходящих в России, и “орущей” истории», — резюмируют в комментарии к «Высокой болезни» Е.В. и Е.Б. Пастернак (Пастернак. I, 517 – 518). Так, вырастающая на трибуне Большого театра фигура Ленина становится вполне внятным объяснением отсутствия в современной литературной жизни лирики — главной темы «Высокой болезни»: когда орет история, поэзия молчит. Пастернак акцентирует внимание читателя на тех чертах Ленина, которые имели особое значение лично для него, автора «Высокой болезни»: на внезапности и напоре вождя («выпад на рапире»)9, его обращенности к существу событий («дышал полетом голой сути»), органической связи Ленина с революционной эпохой («лишь с ней он был накоротке») и его громком голосе, перекрывающем все остальные звуки («Его голосовым экстрактом // Сквозь них история орет»). Этот образ ленинской речи практически без изменений воскресает во вставной главке позднейшего автобиографического очерка Пастернака «Люди и положения» (1957): «Ленин, неожиданность его появления из-за закрытой границы; его зажигательные речи; его в глаза бросавшаяся прямота; требовательность и стремительность; не имеющая примера смелость его обращения к разбушевавшейся народной стихии; его готовность не считаться ни с чем, даже с ведшейся еще и неоконченной войной, ради немедленного создания нового невиданного мира; его нетерпеливость и безоговорочность, вместе с остротой его ниспровергающих, насмешливых обличений, поражали несогласных, покоряли противников и вызывали восхищение даже во врагах» (Пастернак. III, 531). И далее — о родстве Ленина с исторической эпохой революции: «Ленин был душой и совестью такой редчайшей достопримечательности, лицом и голосом великой русской бури, единственной и необычайной. Он с горячностью гения, не колеблясь, взял на себя ответственность за кровь и ломку, каких не видел мир, он не побоялся кликнуть клич к народу, воззвать к самым затаенным и заветным его чаяниям, он позволил морю разбушеваться, ураган пронесся с его благословения» (Пастернак. III, 531 – 532). Сравним также с репликой, 5 доверенной в «Докторе Живаго» антиподу главного героя и автора Павлу Антипову (Стрельникову): «… весь этот девятнадцатый век со всеми его революциями в Париже, несколько поколений русской эмиграции, начиная с Герцена, все задуманные цареубийства, неисполненные и приведенные в исполнение, все рабочее движение мира, весь марксизм в парламентах и университетах Европы, всю новую систему идей, новизну и быстроту умозаключений, насмешливость, всю, во имя жалости выработанную вспомогательную безжалостность, все это впитал в себя и обобщенно выразил собою Ленин, чтобы олицетворенным возмездием за все содеянное обрушиться на старое. Рядом с ним поднялся неизгладимо огромный образ России, на глазах у всего мира вдруг запылавшей свечой искупления за все бездолье и невзгоды человечества» (Пастернак. IV, 459). Тон пастернаковских высказываний о Ленине и оценка его деятельности с годами могли решительно меняться. Однако набор ключевых для автора «Высокой болезни» ленинских качеств, в совокупности составляющих языковой портрет вождя, как мы видим, не претерпевал серьезных изменений. Впрочем, такое свойство поэтической системы Пастернака, как устойчивость и неизменность описывалось и анализировалось исследователями многократно. Именно поэтому привлечение автореминисценций очень часто помогает прояснить те или иные темные места пастернаковских текстов. Выразительным примером в нашем случае может послужить стихотворение Пастернака «Образец» (1917), сопоставление с которым делает более понятными следующие строки «Высокой болезни»: Но корпуса его изгиб Дышал полетом голой сути, Прорвавшей глупый слой лузги. В «Образце» находим фрагмент, образно предвосхищающий это место поэмы: О, бедный Homo Sapiens, Существованье — гнет, Былые годы за пояс Один такой заткнет. Все жили в сушь и впроголодь, В борьбе ожесточась, И никого не трогало, Что чудо жизни — с час. <…> Он незабвенен тем еще, Что пылью припухал, Что ветер лускал семечки, Сорил по лопухам. Ленин «Высокой болезни» подобен ветру из «Образца». Он накрепко связан с революционным временем, одной из устойчивых примет которого становится лузга семечек. Сравним реалии пастернаковских революционных текстов со следующим фрагментом из воспоминаний Лидии Волконской, заставшей время октябрьского переворота в Петрограде: «Проехав мост через Неву в грязном, заплеванном и засоренном лузгою семечек трамвае, я с любопытством глянула направо. Уже несколько раз, проезжая мимо, я наблюдала на балконе Дворца Кшесинской, казавшуюся издали черной и маленькой, фигурку человека. Он качался из стороны в сторону и дрыгал как паучок, руками. Первый раз, когда я его увидела, толпа перед ним была небольшая, но с каждым разом она увеличивалась, а теперь вся площадь, все кругом было сплошь залито массою людей. — Что это за митинг там? — спросил кто-то в трамвае. 6 — А вы не знаете? — это Ленин говорит, — отозвался другой голос»10. Пастернаковский Ленин встроен в эпоху, он становится ее неотъемлемой частью, не только ее внешним выражением, но и ее голосом. Вождь «накоротке» со всей мировой историей: «Столетий завистью завистлив, // Ревнив их ревностью одной», и это дает ему право властвовать. Концовка поэмы возвращает читателя к ее началу. Размышления автора о «тяготах», связывающих века в единую цепь, вновь приводят к троянской теме, которая возникает и звучит здесь имплицитно. Сравним со сходным фрагментом из поэмы Пастернака «Лейтенант Шмидт», где также обыгрывается мысль о подспудной, неявной для современника, связи времен: О государства истукан, Свободы вечное преддверье! Из клеток крáдутся века, По колизею бродят звери, И проповедника рука Бесстрашно крестит клеть сырую, Пантеру верой дрессируя, И вечно делается шаг От римских цирков к римской церкви, И мы живем по той же мерке, Мы, люди катакомб и шахт. (Пастернак. I, 296 – 297) Последние слова поэмы указывают на то, что вторая редакция создавалась уже после смерти Ленина, поскольку исторические события, предшествовавшие и сопровождавшие его уход, были уже известны Пастернаку: и «предвестье благ», и «гнет» в полной мере реализовались в российской действительности того времени. Существенным представляется и то обстоятельство, что при чтении финальной строки этой редакции вспоминается революционная песня Глеба Кржижановского «Варшавянка», вероятно, олицетворявшая для автора поэмы ленинскую эпоху: «Вихри враждебные веют над нами, // Темные силы нас злобно гнетут. // В бой роковой мы вступили с врагами, // Нас еще судьбы безвестные ждут». 3. И, наконец, третий, самый неожиданный и интересный слой цитат, выявленных нами в финале «Высокой болезни» — это микрофрагменты, так или иначе сближающие фигуру Ленина с «зеркалом русской революции» (по ленинской же формуле) — Л. Толстым11. Для начала еще раз внимательно перечитаем те строки финала «Высокой болезни», в которых Ленин уподобляется грозе: Я помню, говорок его Пронзил мне искрами загривок, Как шорох молньи шаровой. <…> Он проскользнул неуследимо Сквозь строй препятствий и подмог, Как этот в комнату без дыма Грозы влетающий комок. Это сравнение находит себе частичное соответствие в более раннем стихотворении Н. Клюева «Ленин на эшафоте…» (1918): «Волга с Ладогой — Ленина жилы. // И чело — грозовой небосклон <…> // Мчатся образы, турья охота // В грозовую страничную сень»12, а также в более позднем стихотворении О. Мандельштама «Если б меня наши враги взяли…» (1937): «Прошелестит спелой грозой Ленин». Тема грозы, характерная для 7 творчества Пастернака вообще («Наша гроза», «Душная ночь», «Гроза, моментальная навек»), теперь ассоциируется с Лениным и его появлением на трибуне съезда. Неслучайно наблюдательный Н. Тихонов, описал ленинскую сцену из «Высокой болезни», воспользовавшись словами самой поэмы: «беглая, как пробег шаровой молнии, зарисовка слепящего мгновения» (Пастернак. I, 517). Но чрезвычайно сходный образ Пастернак использует и в очерке «Люди и положения», рассказывая об умершем Л. Толстом, которого он видел юношей на станции Астапово: «В комнате лежала гора, вроде Эльбруса, и она была ее большой отдельною скалою. Комнату занимала грозовая туча в полнеба, и она была ее отдельною молнией» (Пастернак. III, 320). А подтекстом пастернаковского фрагмента «…как разряд // Ядра, не властного не рваться // В кольце поддержек и преград», возможно, послужил известный отрывок из «Войны и мира» того же Толстого, описывающий взрыв ядра и смертельное ранение Андрея Болконского: «— Ложись! — крикнул голос адъютанта, прилегшего к земле. Князь Андрей стоял в нерешительности. Граната, как волчок, дымясь, вертелась между ним и лежащим адъютантом, на краю пашни и луга, подле куста полыни. “Неужелиэто смерть? — думал князь Андрей, совершенно новым, завистливым взглядом глядя на траву, на полынь и на струйку дыма, вьющуюся от вертящегося черного мячика. — Я не могу, я не хочу умереть, я люблю жизнь, люблю эту траву, землю, воздух...” — Он думал это и вместе с тем помнил о том, что на него смотрят. — Стыдно, господин офицер! — сказал он адъютанту. — Какой... — он не договорил. В одно и то же время послышался взрыв, свист осколков как бы разбитой рамы, душный запах пороха — и князь Андрей рванулся в сторону и, подняв кверху руку, упал на грудь»13. Нельзя ли предположить, что и зачин пастернаковской строки «Сквозь строй препятствий и подмог» намекает на соответствующий фрагмент рассказа Толстого «После бала»? Симптоматичное сближение Ленина с Толстым, к которому прибегает Пастернак в «Охранной грамоте», рассказывая о своем университетско приятеле Д. Самарине, подмечено Л. Флейшманом, а следом за ним — К. Поливановым: характеризуя особенности его устной речи, он использует образ шара, катящегося с лестницы, и употребляет выражение «округлая картавость». Ленин здесь впрямую не назван, но стиль его выступлений узнается безошибочно. Параллель с Толстым тоже выявляется легко: «Замечательным явлением этого круга был молодой Самарин. Прямой отпрыск лучшего русского прошлого, к тому же связанный разными градациями родства с историей самого здания по углам Никитской, он раза два в семестр заявлялся на иное собрание какогонибудь семинария, как отделенный сын на родительскую квартиру в час общего обеденного сбора. Референт прерывал чтенье, дожидаясь, пока долговязый оригинал, смущенный тишиной, которую он вызвал и сам растягивал выбором места, взберется по трескучему помосту на крайнюю скамью дощатого амфитеатра. Но только начиналось обсужденье доклада, как весь грохот и скрип, втащенный только что с таким трудом под потолок, возвращался вниз в обновленной и неузнаваемой форме. Придравшись к первой оговорке докладчика, Самарин обрушивал оттуда какой-нибудь экспромт из Гегеля или Когена, скатывая его как шар по ребристым уступам огромного ящичного склада. Он волновался, проглатывал слова и говорил прирожденно громко, выдерживая голос на той ровной, всегда одной, с детства до могилы усвоенной ноте, которая не знает шепота и крика и вместе с округлой картавостью, от нее неотделимой, всегда разом выдает породу» (Пастернак. III, 164). В первой редакции «Охранной грамоты», опубликованной в журнале «Знамя» (1928. № 8), сближение Самарина с Лениным и Толстым было проведено гораздо более прямо: «... Потеряв его впоследствии из виду, я невольно вспоминал о нем дважды. Раз, когда перечитывая Толстого, я вновь столкнулся с ним в Нехлюдове, и другой, когда на девятом съезде Советов впервые услыхал Владимира Ильича. Я говорю, разумеется, о последней неуловимости, то есть позволяю себе одну из тех аналогий, на почве которых делались аналогии с лукавым хозяйственным мужичком, 8 и множество менее убедительных»14. Л. Флейшман комментирует: «...Отсылка к Толстому ориентировала читателя на “нравственный” аспект культуры, тогда как дикое сходство Ленина с Самариным (“отпрыском лучшего русского прошлого”) намекала на место гения в истории»15. Заметим, что «Охранная грамота» писалась и готовилась к печати почти одновременно с новой финальной частью «Высокой болезни», посвященной выступлению Ленина на съезде. Итогом этого «толстовского» микрофрагмента и всей нашей заметки в целом пусть послужат слова Пастернака о сходстве речевых построений Ленина и Толстого, которые прозвучали во время выступления поэта на Минском (III) Пленуме Правления Союза писателей СССР в феврале 1936 г.: «Когда Италия открыла военные действия против Абиссинии, “Известия” напечатали выдержки из толстовского дневника девяносто шестого, вероятно, года, времени первого нападения Италии на Абиссинию. Я эти выдержки прочел и был потрясен сходством языка Толстого с языком Ленина по таким же вопросам. Я об этом упоминаю потому, что мне дорого это сходство, пусть обманчивое по сути и мнимое, но разительное по тону, по простоте толстовской расправы с благовидными и общепризнанными условностями мещанской цивилизации и империализма» (Пастернак. V, 231). _______________________________ Флейшман Л.С. Пастернак и Ленин // Флейшман Л.С. От Пушкина к Пастернаку. Избранные работы по поэтике и истории русской литературы. М., 2006. 2 Архангельский А.Н. У парадного подъезда. М., 1991. С. 270. 3 Пастернак Ж.Л. Хождение по канату: Мемуарная и философская проза. Стихи. М., 2010. С. 177 – 178. 4 По версии Флейшмана, посещение Пастернаком съезда «стало возможно, благодаря, очевидно, лефовским связям: “пропуск в оркестр”, упоминаемый в поэме, мог быть получен через Осипа Брика и близкого друга Маяковского заведующего Центропечатью Бориса Малкина, который сам участвовал в съезде в качестве делегата» (Флейшман Л.С. Пастернак и Ленин. С. 646). 5 Отметим, что Флейшман акцентирует несхожесть ленинского портрета работы Пастернака с изображениями Ленина у Маяковского (Флейшман Л.С. Пастернак и Ленин. С. 650). 6 Известия. 25 декабря. 1921. С. 2. 7 Подробнее см.: Сергеева-Клятис А., Лекманов О. «Агитпрофсожеский лубок». Из реального комментария к Пастернаку // Новый мир. 2010. № 6. С. 155 – 162. 8 Стихотворение «Русская революция» сопоставляет с комментируемым фрагментом «Высокой болезни» и Флейшман (Флейшман Л.С. Пастернак и Ленин. С. 647 - 648). 9 Сравнение «выпад на рапире», по-видимому, восходит к одному из фрагментов романа А. Белого «Московский чудак» (1926), который Б. Пастернак слушал в исполнении автора: «Подбоченился правой рукой; указательным пальцем левой он сделал стремительный выпад в профессора, точно исполнил рапирный прием, именуемый “прима”, и будто воскликнул весьма укоризненно, бесповоротно: “J’accuse!”». Приведем неожиданную перекличку в позднейшем стихотворении О. Мандельштама «Ламарк» (1932): «Кто за честь природы фехтовальщик? // Ну конечно, пламенный Ламарк». 10 Волконская Л. Прощай Россия! (Моя жизнь) // www.vgd.ru/VLKNSK/glava4.htm. Ср., например: «Наводнивших город торговок семечками в шутку называли “мусорщицами” — учитывая, что сразу после переворота улицы, сады и скверы покрылись лузгой от семечек. Семечки — атрибут “народности” революции, заменивший обычные для былых праздничных гуляний “барские” орехи» (Архипов И. Смех обреченных: Смеховая культура как зеркало короткой политической жизни «Свободной России» 1917 года // Звезда. 2003. № 8). 11 О пастернаковских сопоставлениях Ленина с толстовскими героями ср. и у Флейшмана: Флейшман Л.С. Пастернак и Ленин. С. 663 – 664. 12 Другое клюевское стихотворение в связи с финалом «Высокой болезни» цитирует Флейшман: Флейшман Л.С. Пастернак и Ленин. С. 657 – 658. 13 По сходству круглой формы светящегося шара сравнения ленинской речи с шаровой молнией и разрывающимся ядром могут быть полемически связаны с предшествующими, здесь нами не анализируемыми строками «Высокой болезни» о восходе и заходе солнца самодержавия: «Два солнца встретились в окне. // Одно всходило из-за Тосна, // Другое заходило в Дне». Ср. в стихотворении Н. Асеева «Машина времени» (1923): «Бабахнет весенняя пушка с улиц, // завертится солнечное ядро»). Метафору пушечного ядра Пастернак дважды использовал в «Спекторском». Первый раз при описании танца: «Ядро кадрили в полном исступленьи // Разбрызгивает весь свой фейерверк» (гл.1); второй раз — для воссоздания атмосферы Гражданской войны: «Дырявя даль, и тут летали ядра, // Затем, что воздух родины заклят…» (гл.8). 1 9 Цит. по: Поливанов К.М. «Правнук русских героинь»: Дмитрий Самарин в судьбе и творчестве Пастернака // Поливанов К.М. Пастернак и современники. М., 2006. С.45 – 46. 15 Флейшман Л.С. Борис Пастернак в двадцатые годы. СПб., 2003. С.249. 14